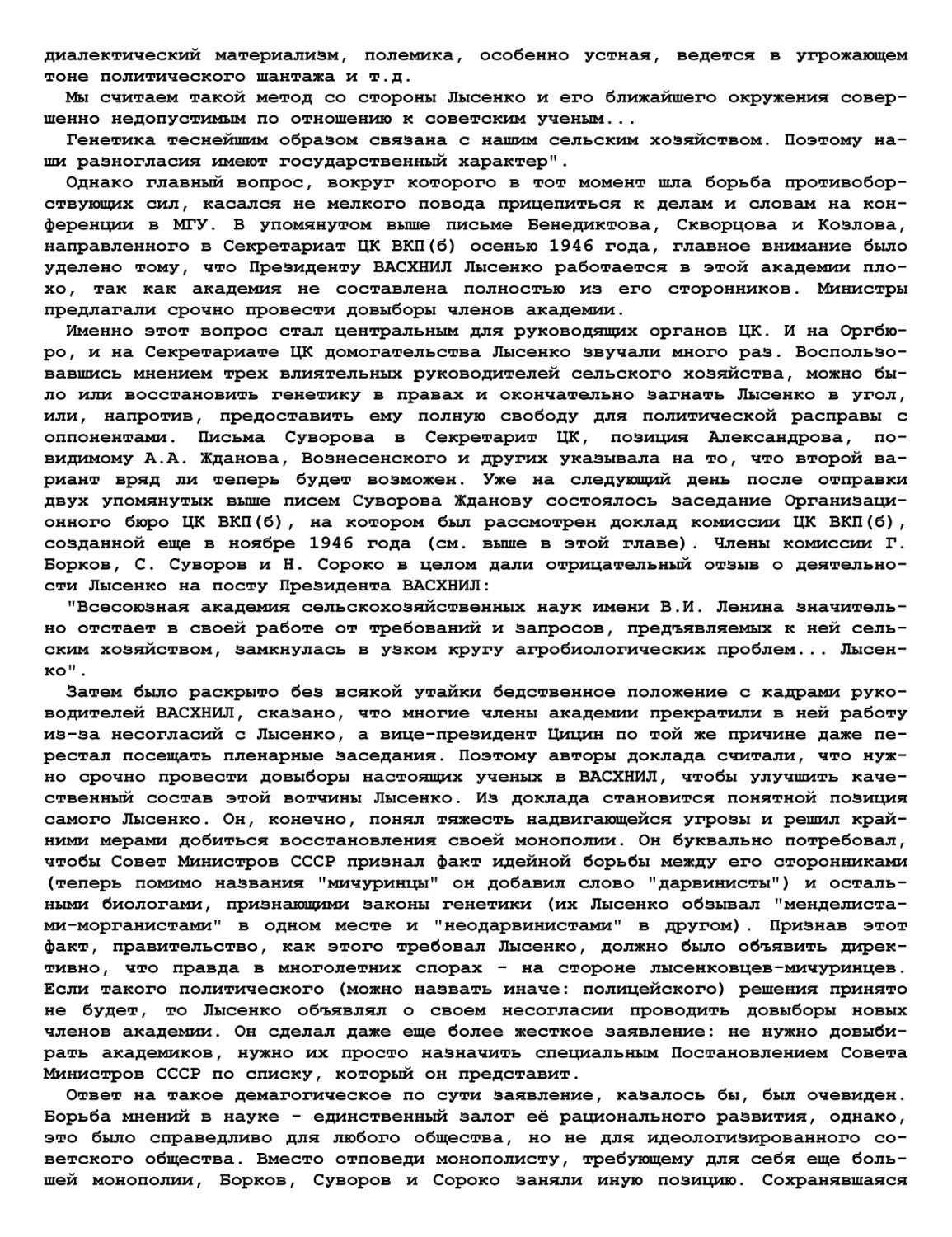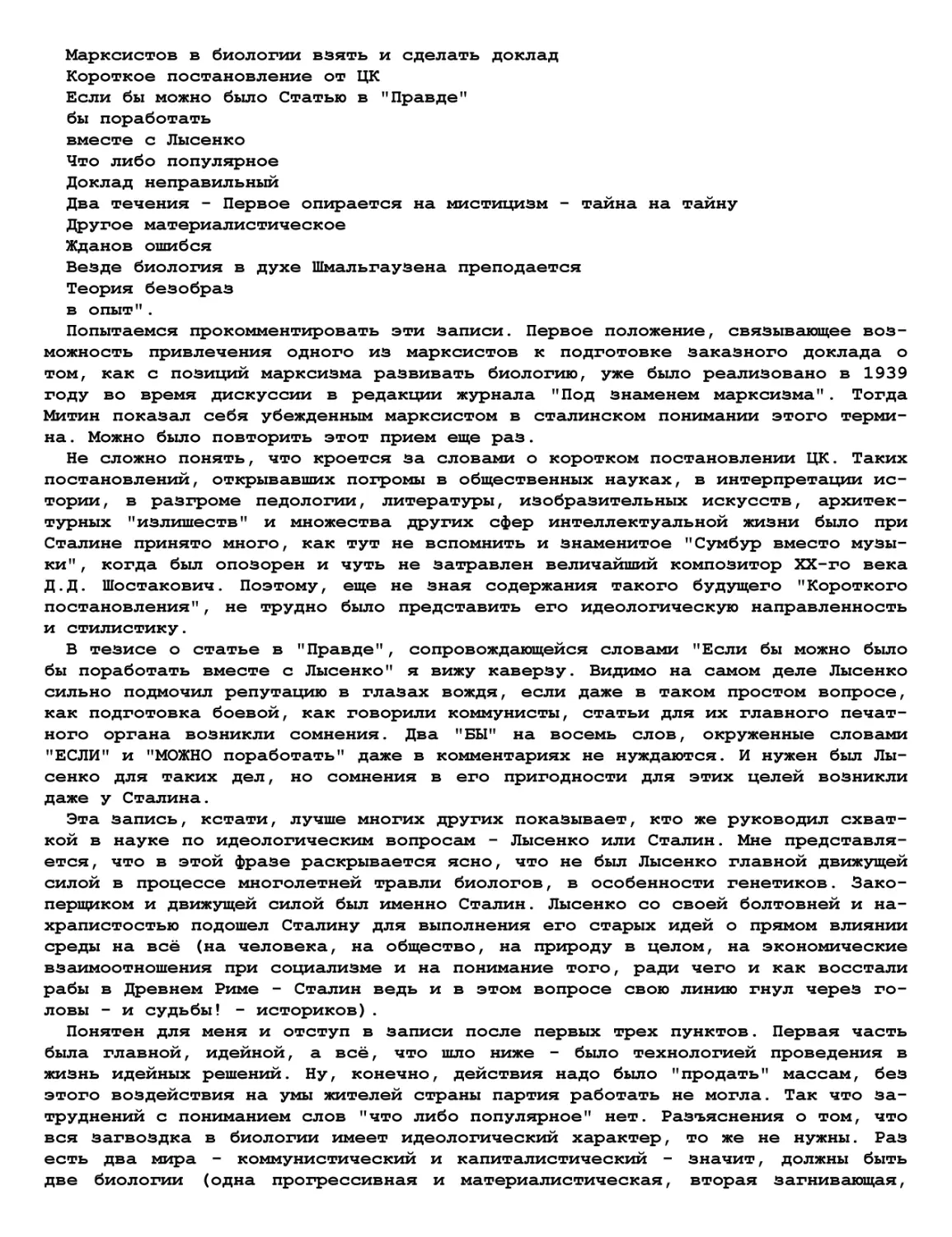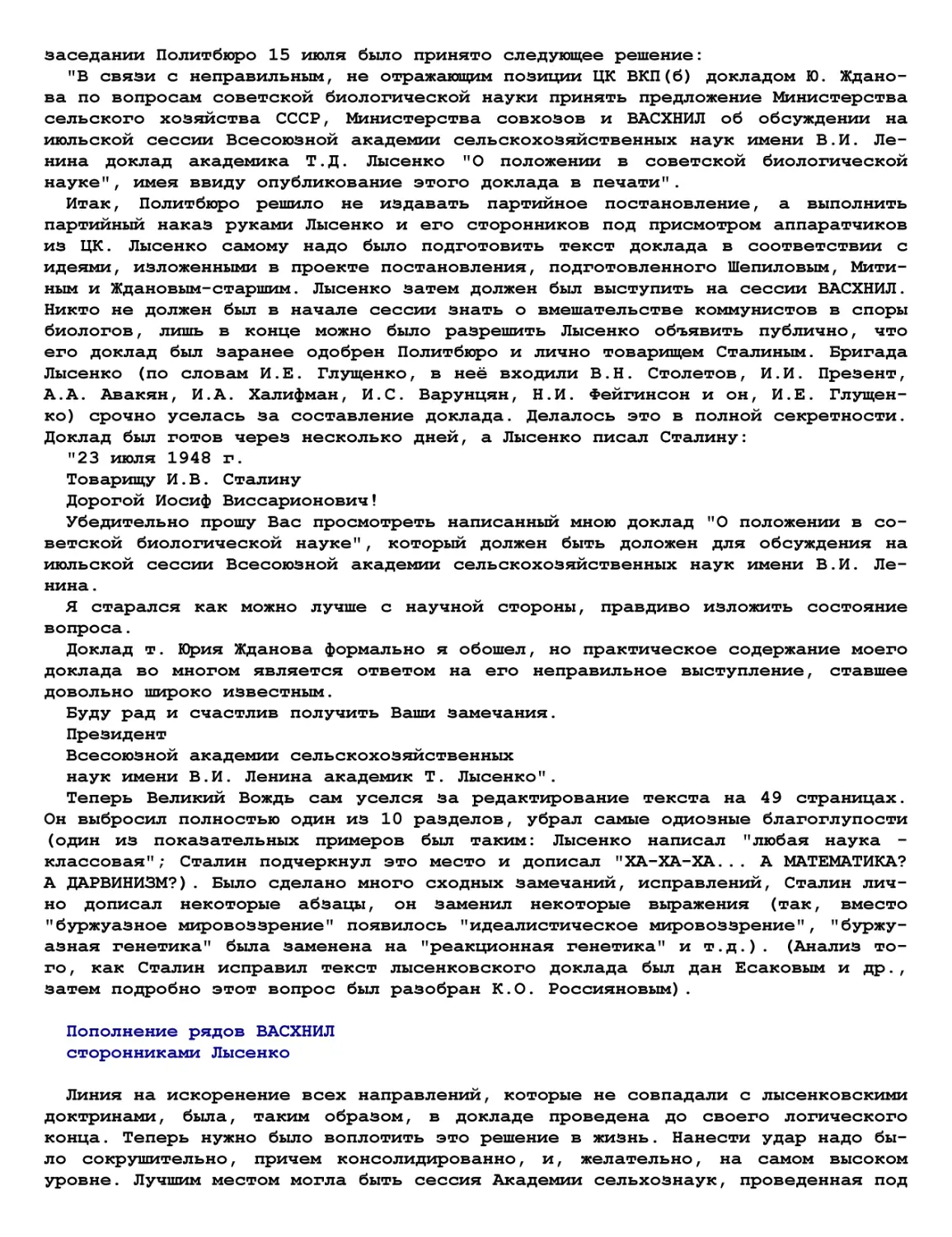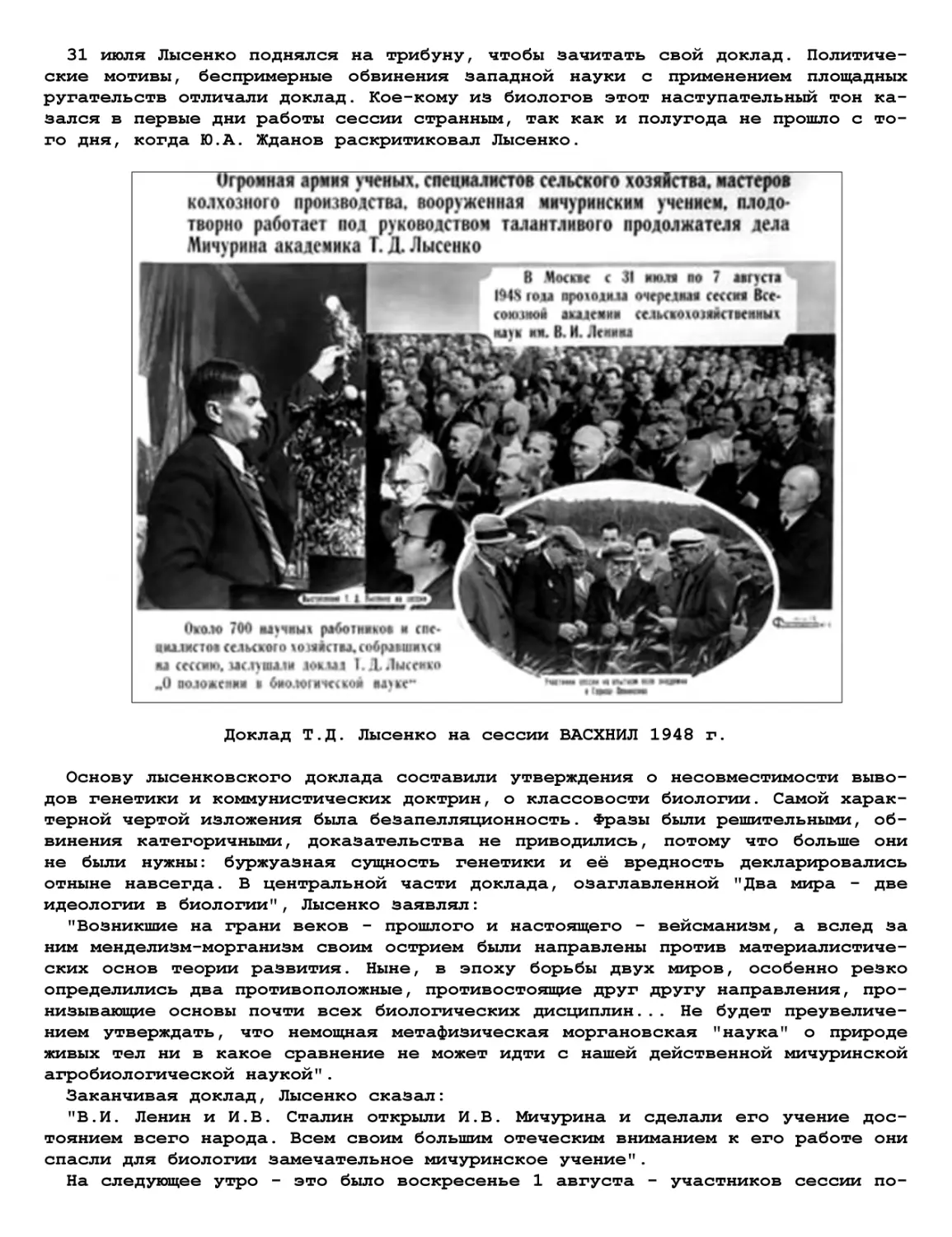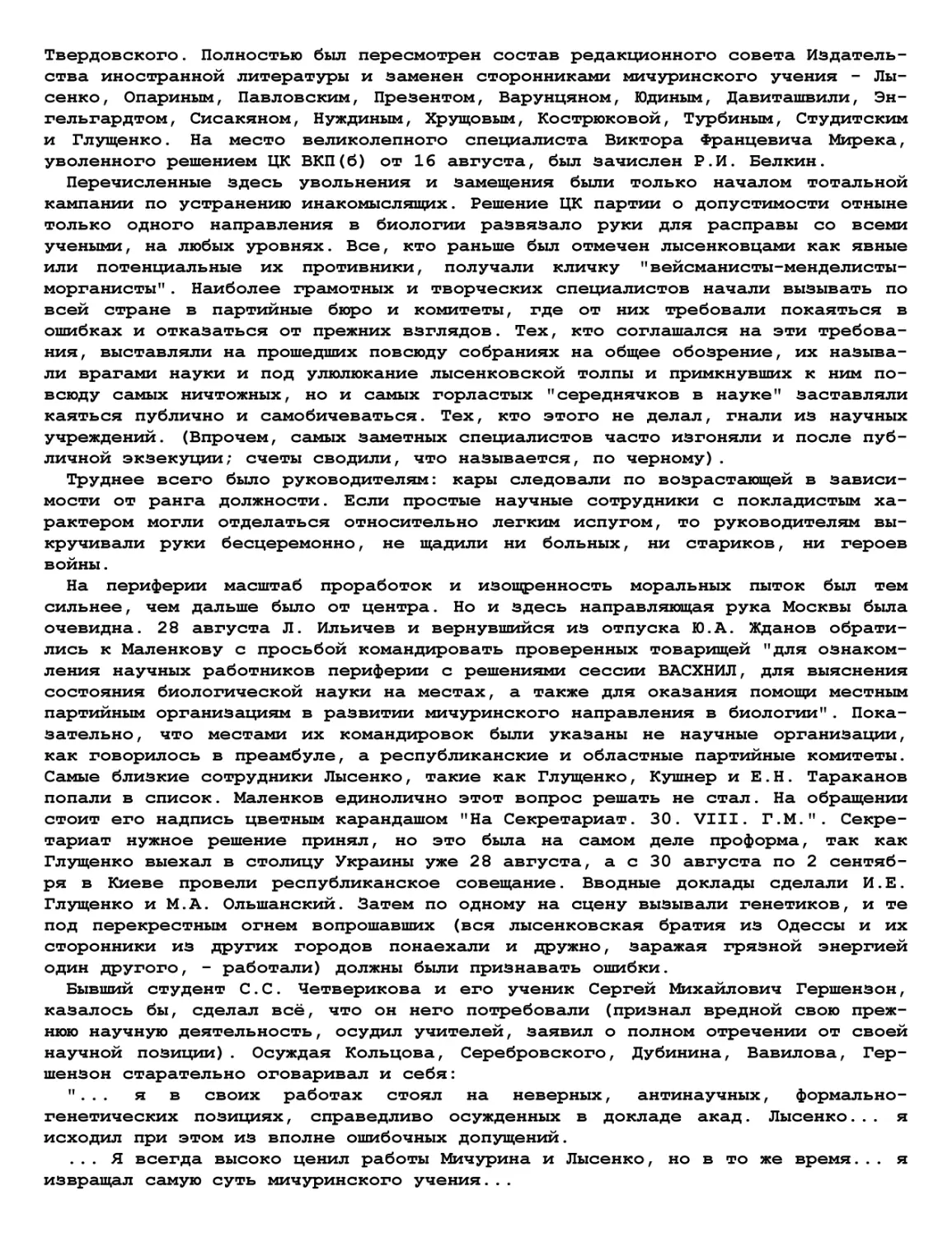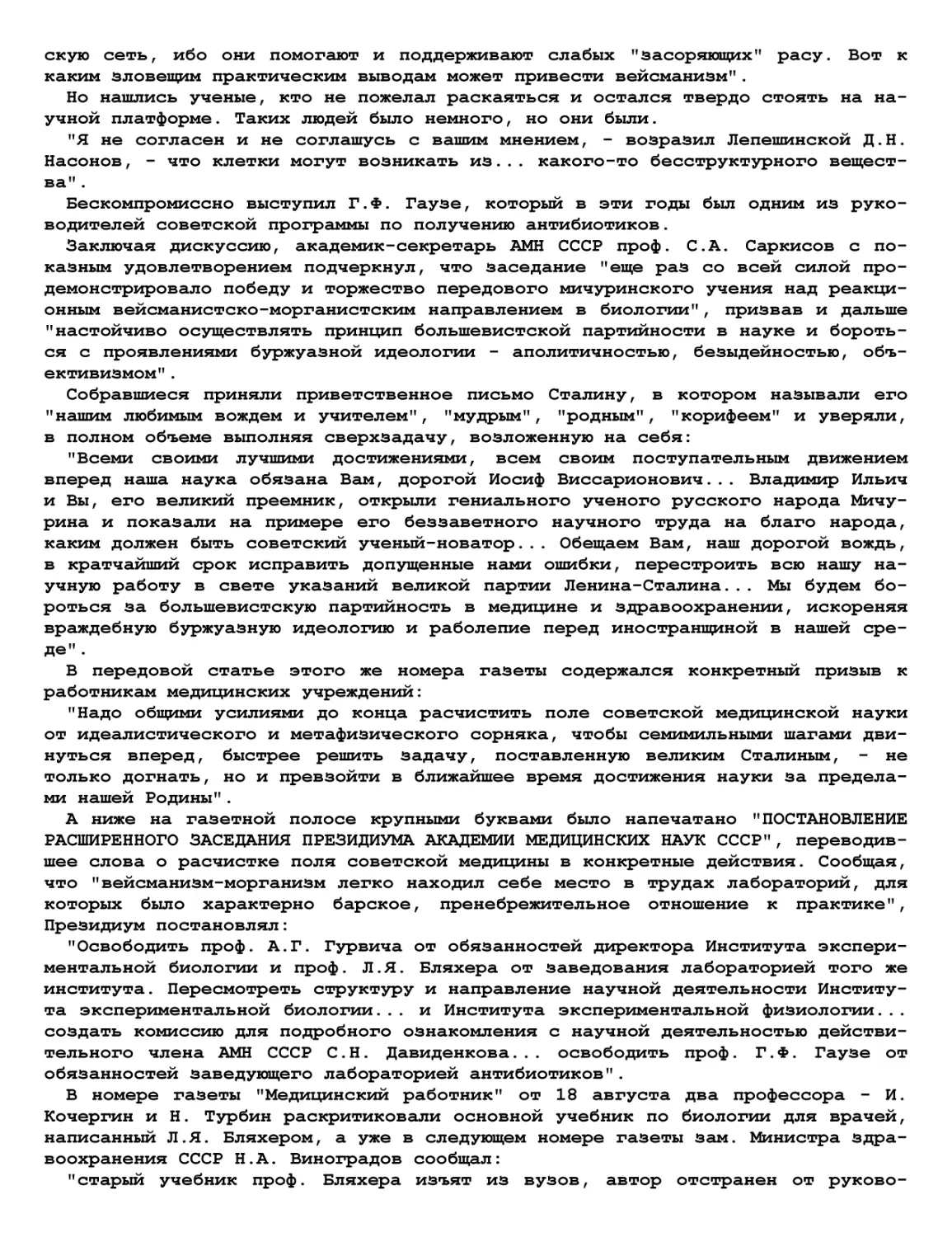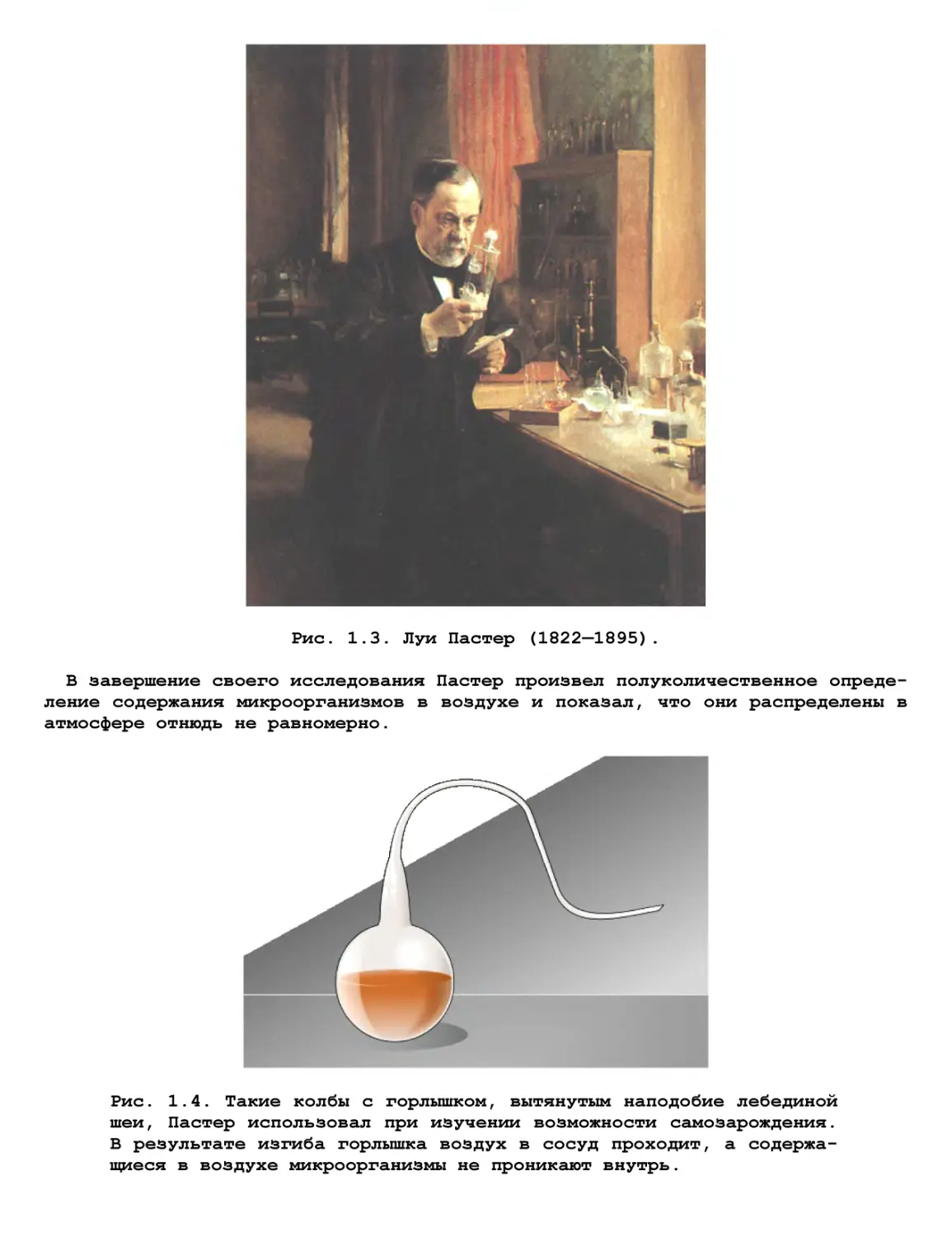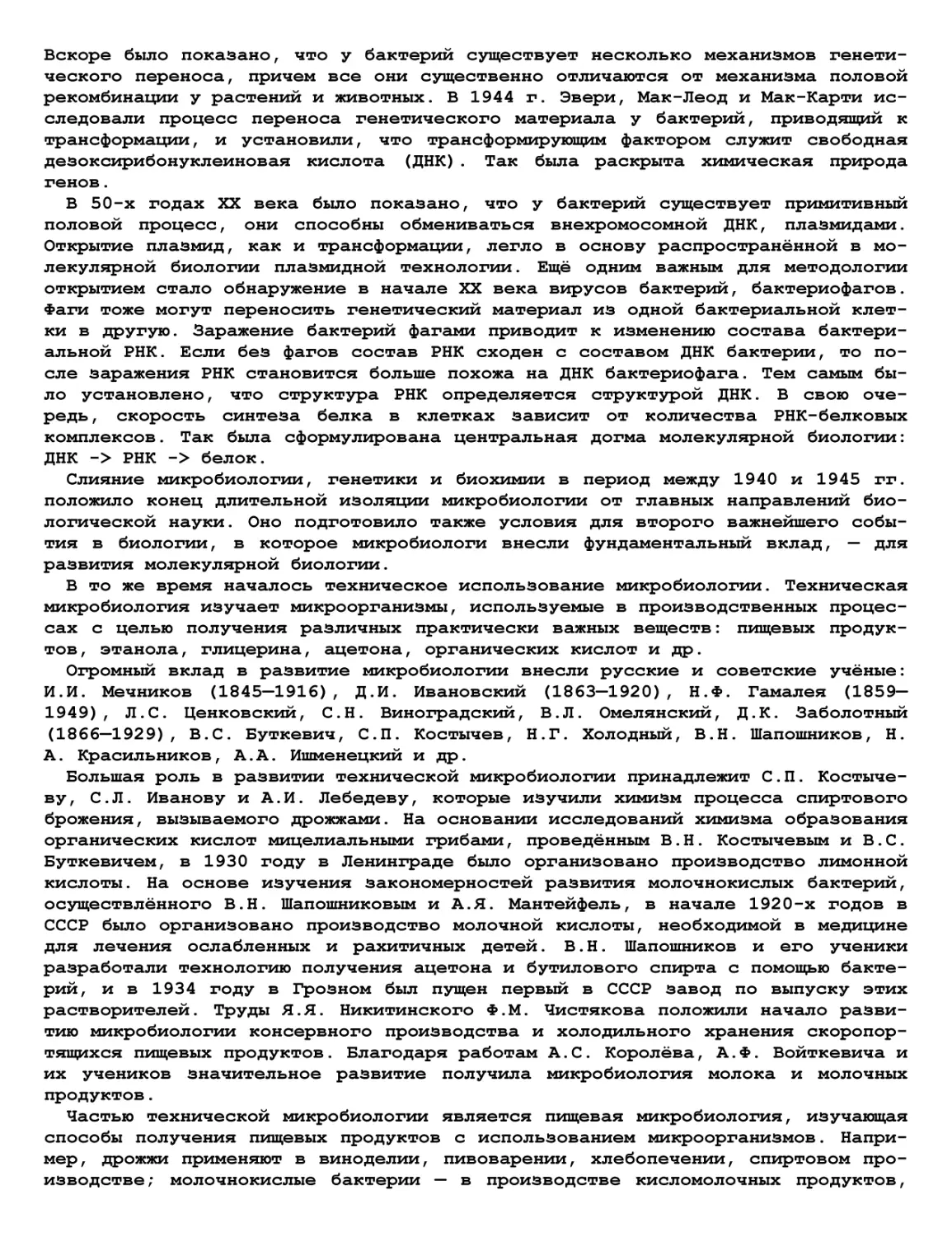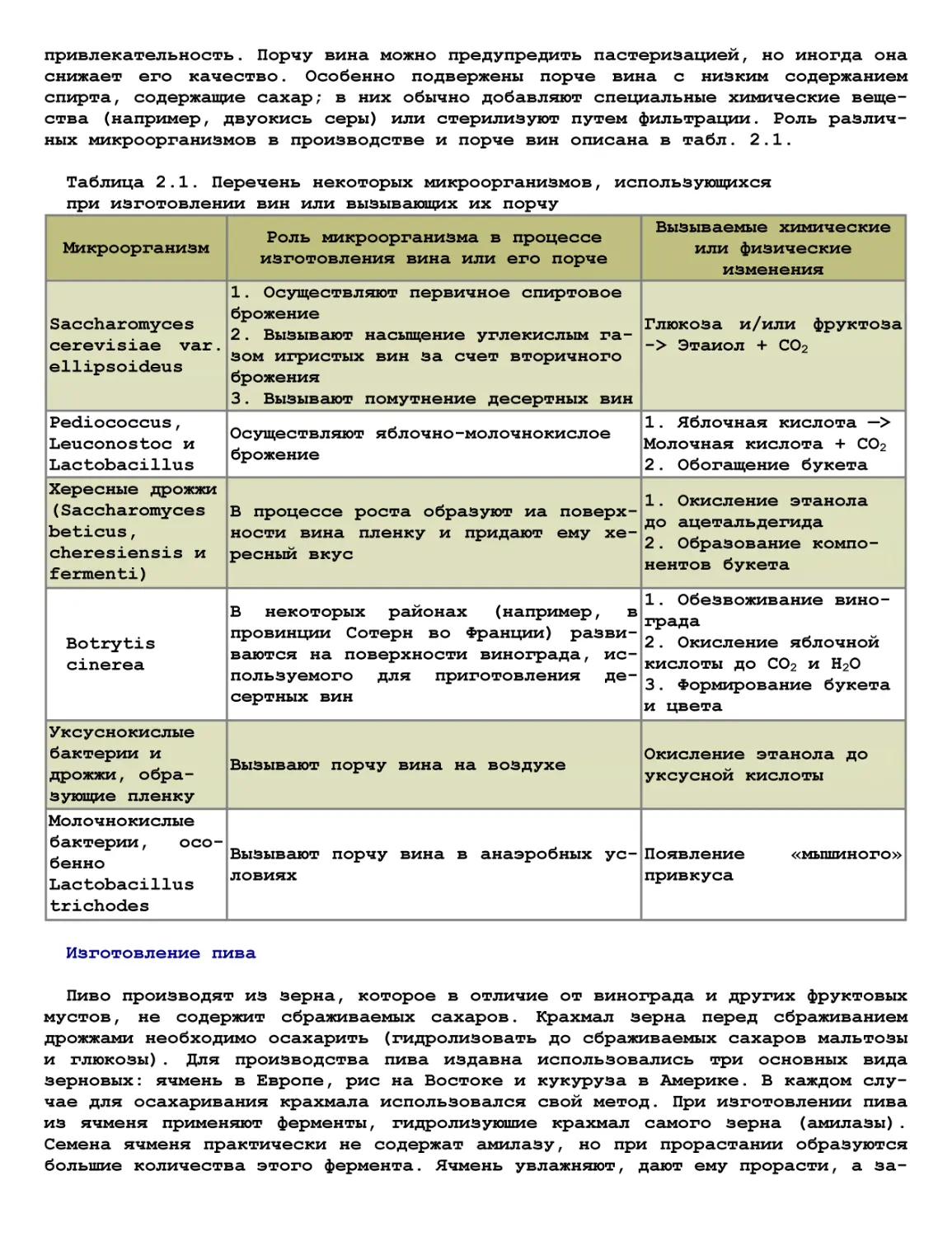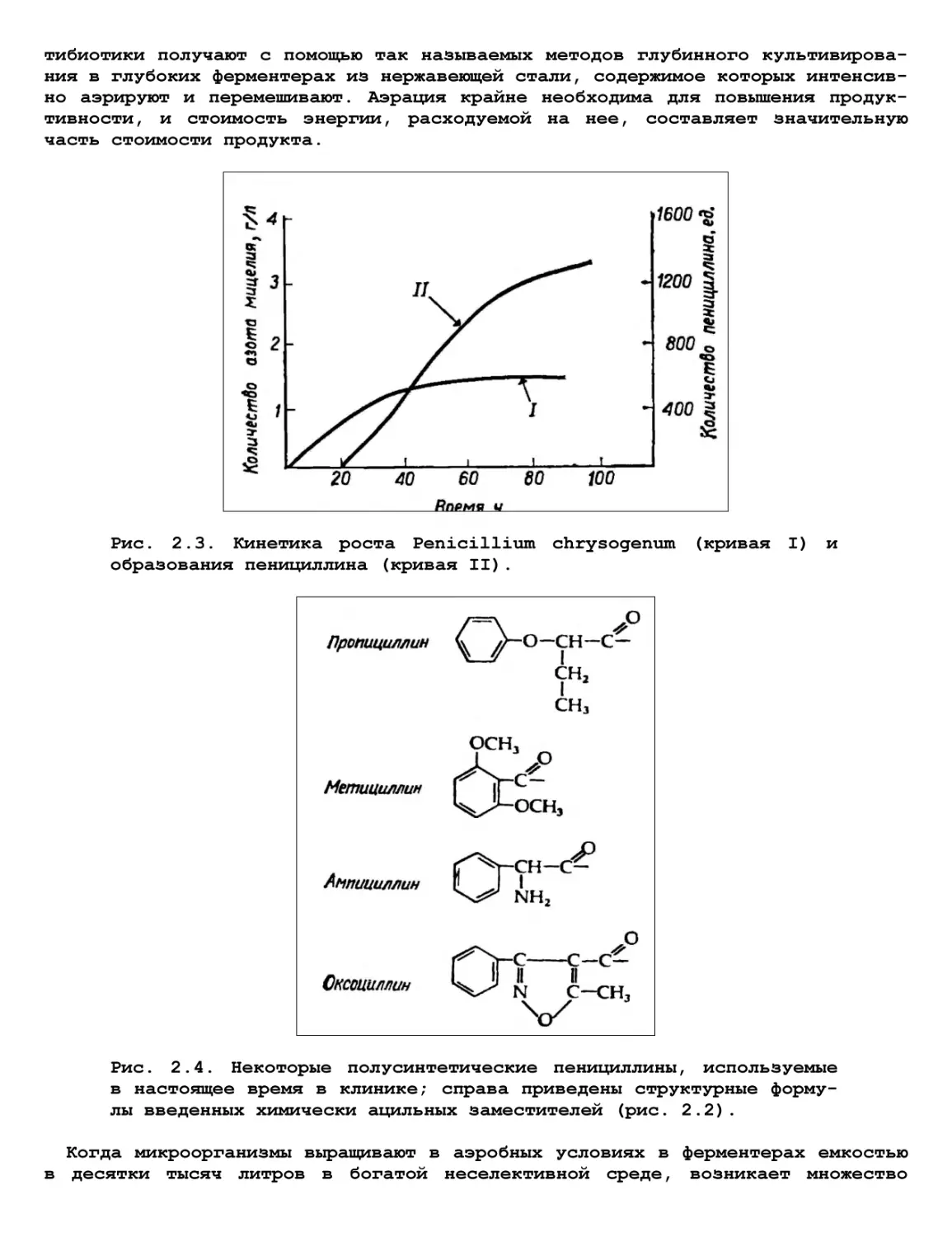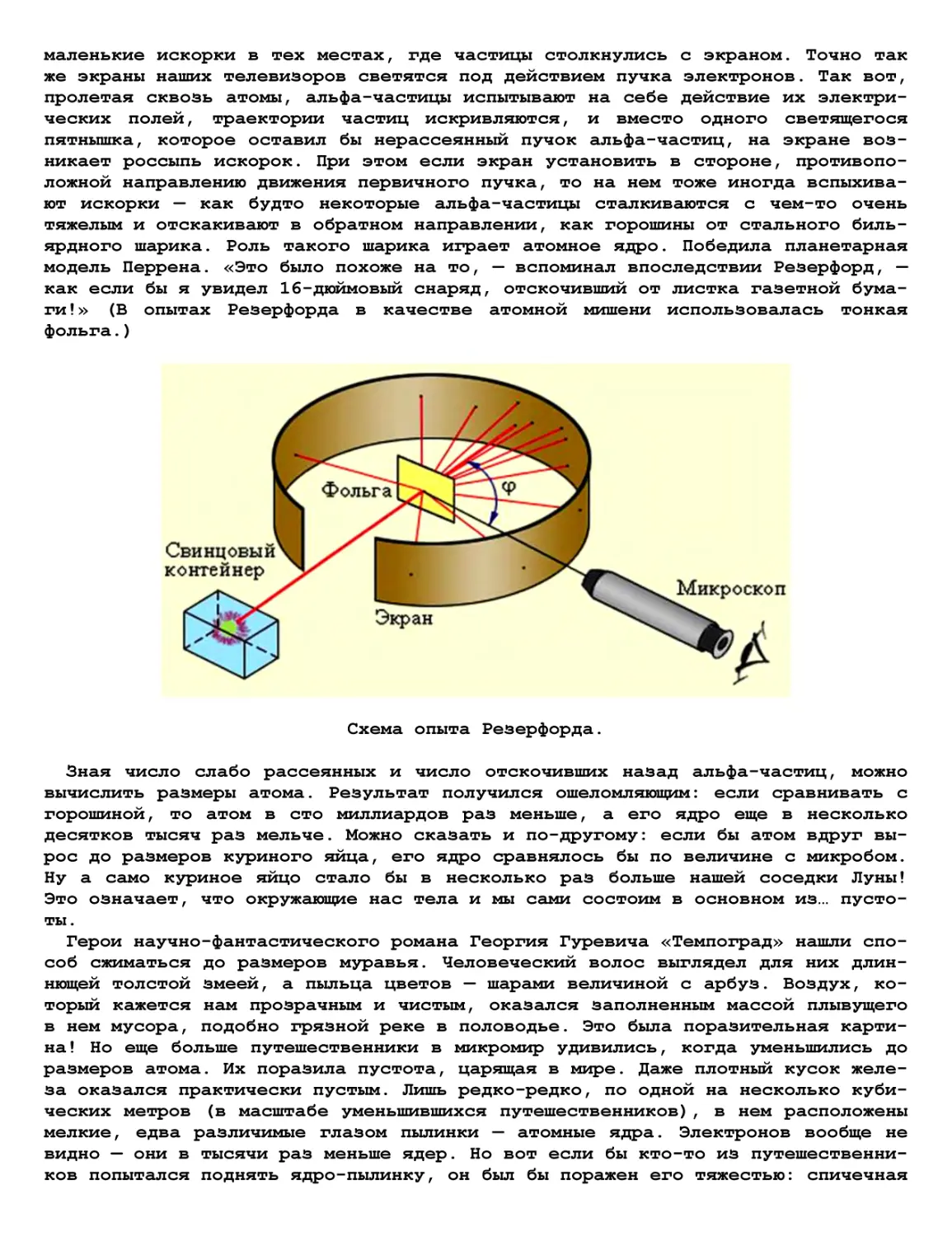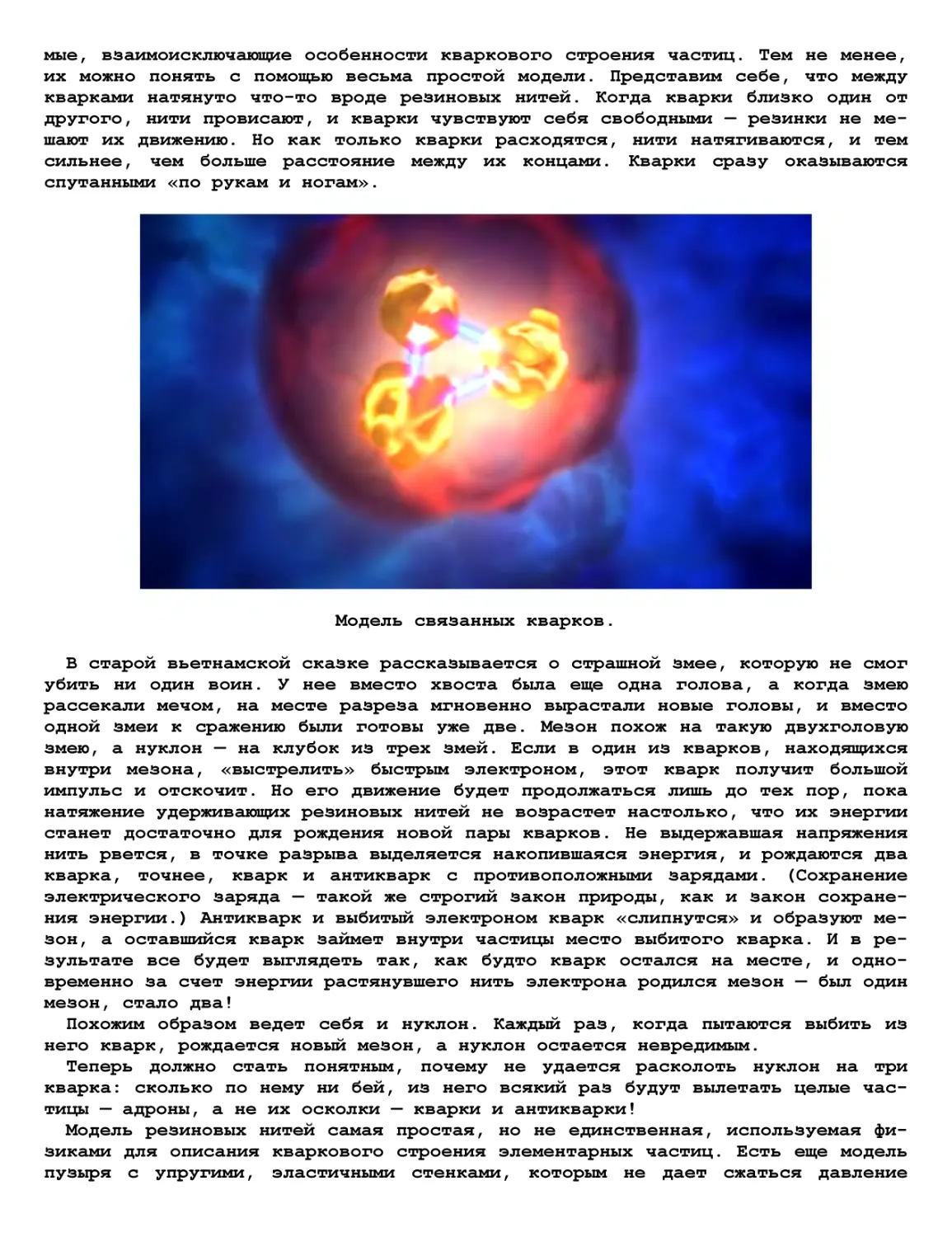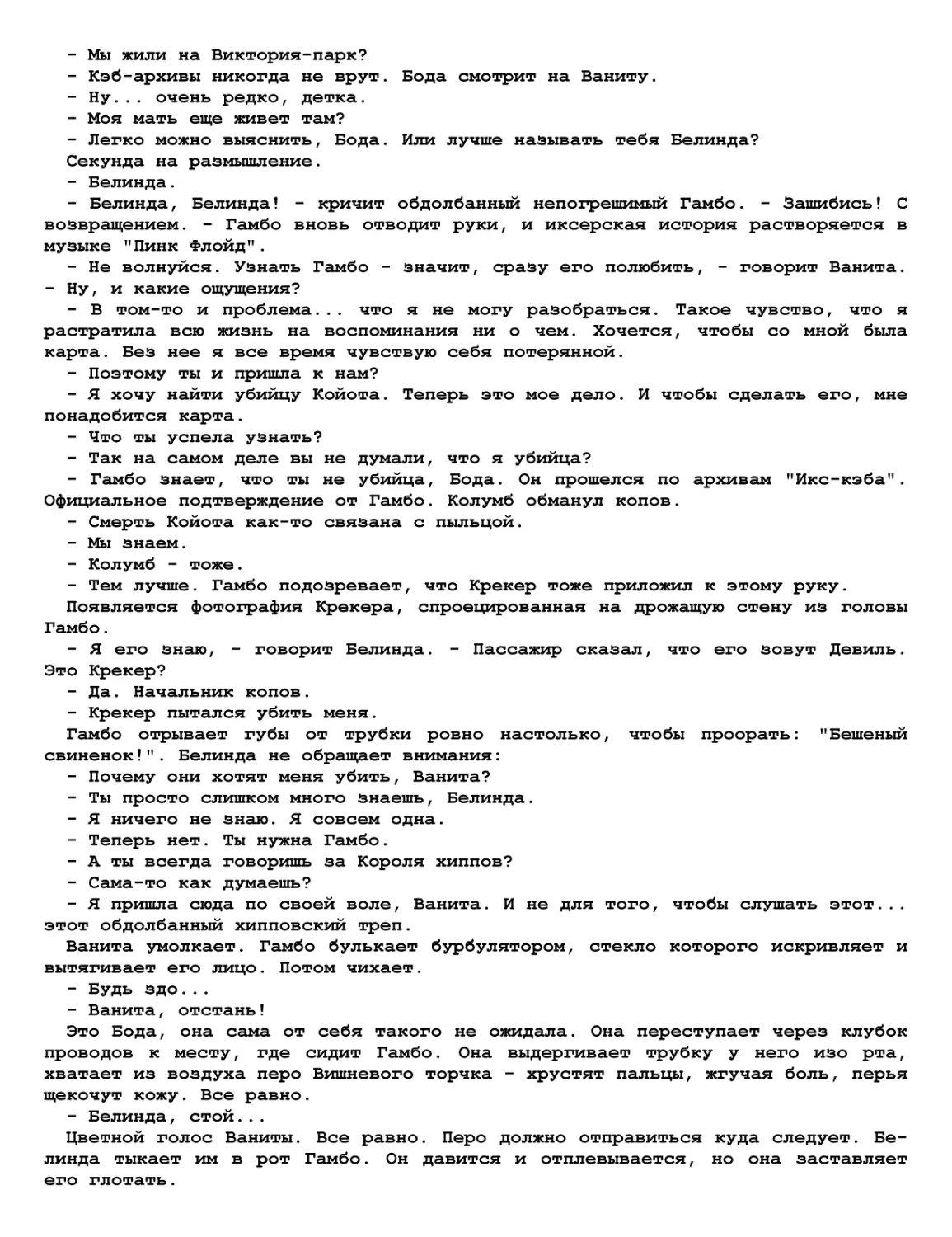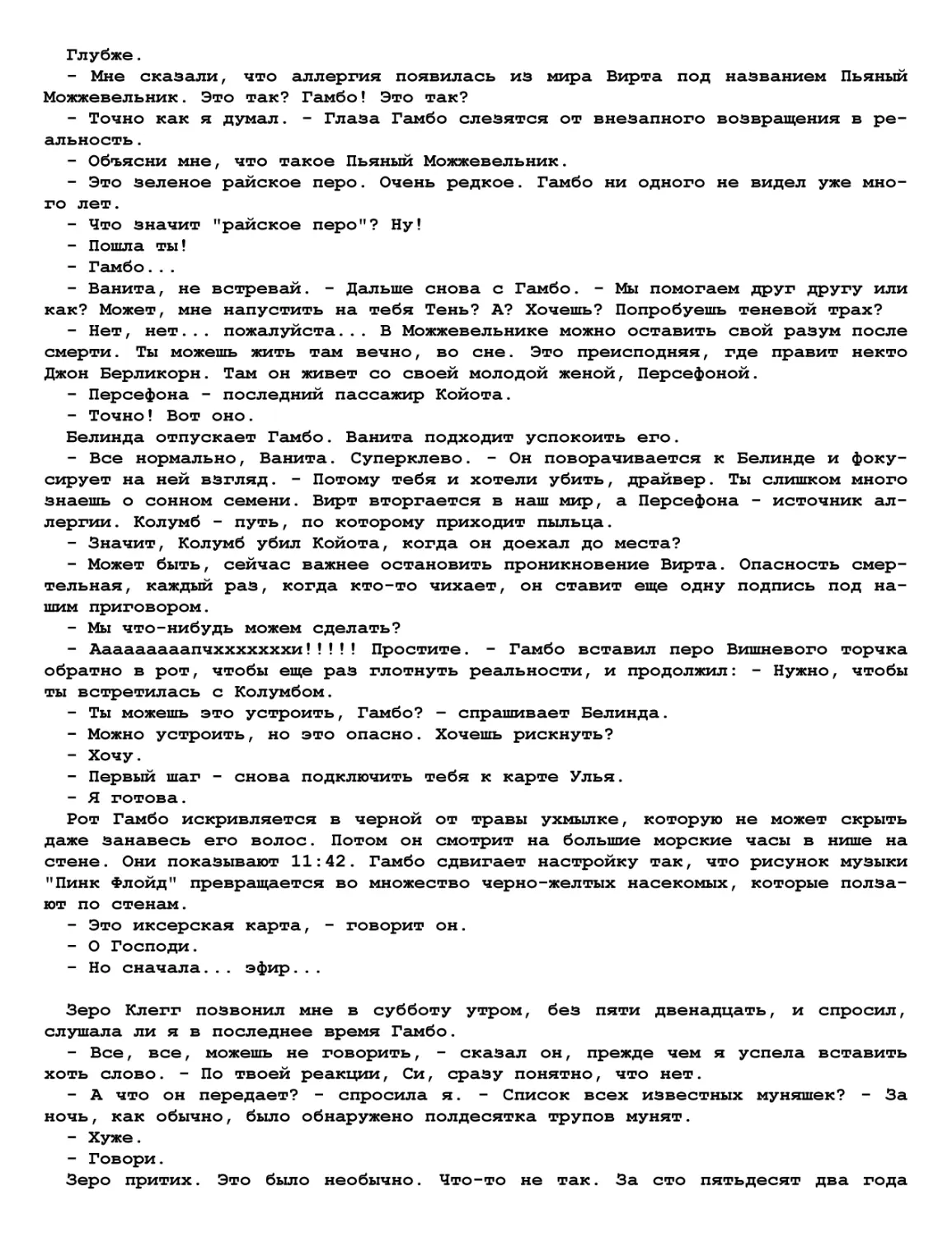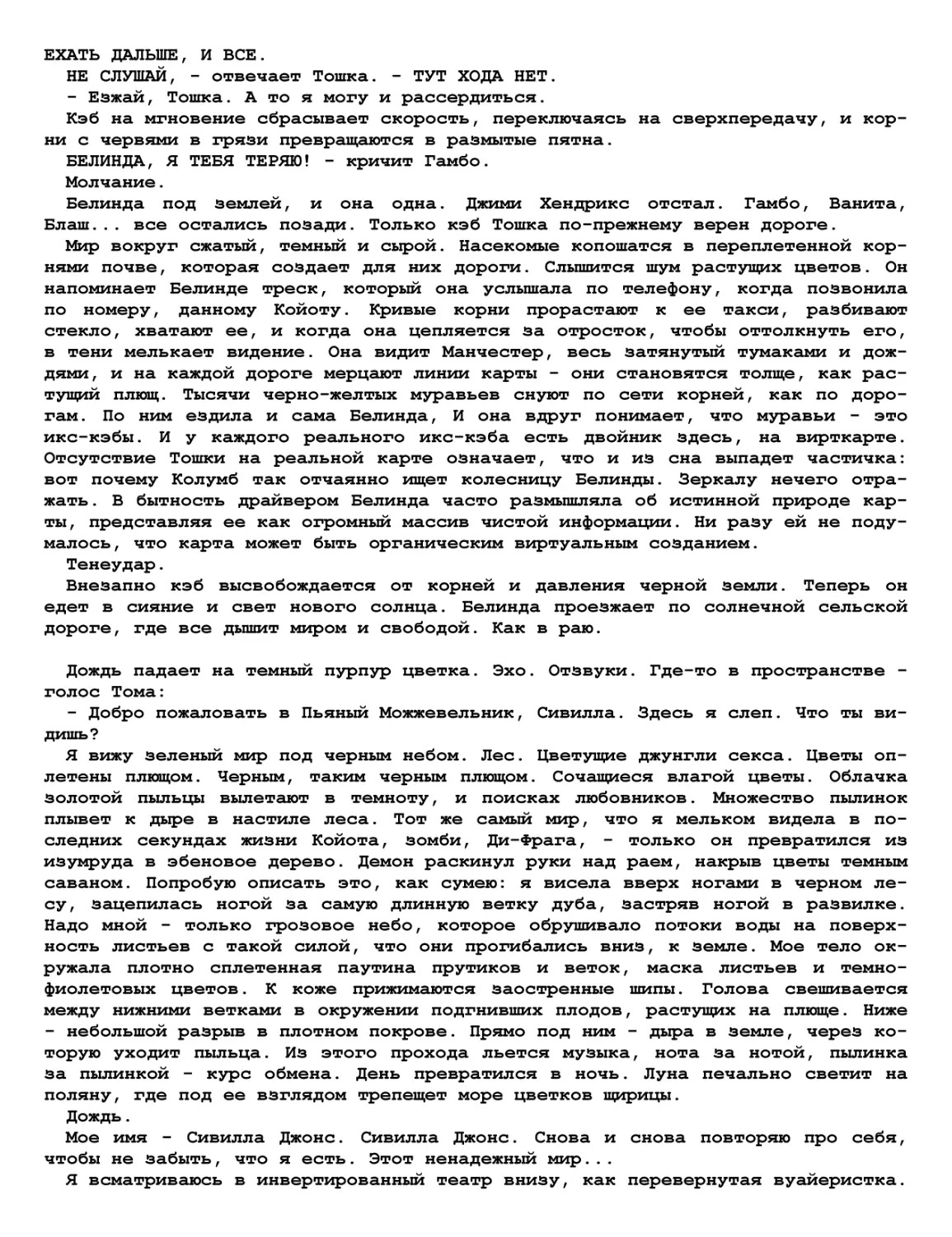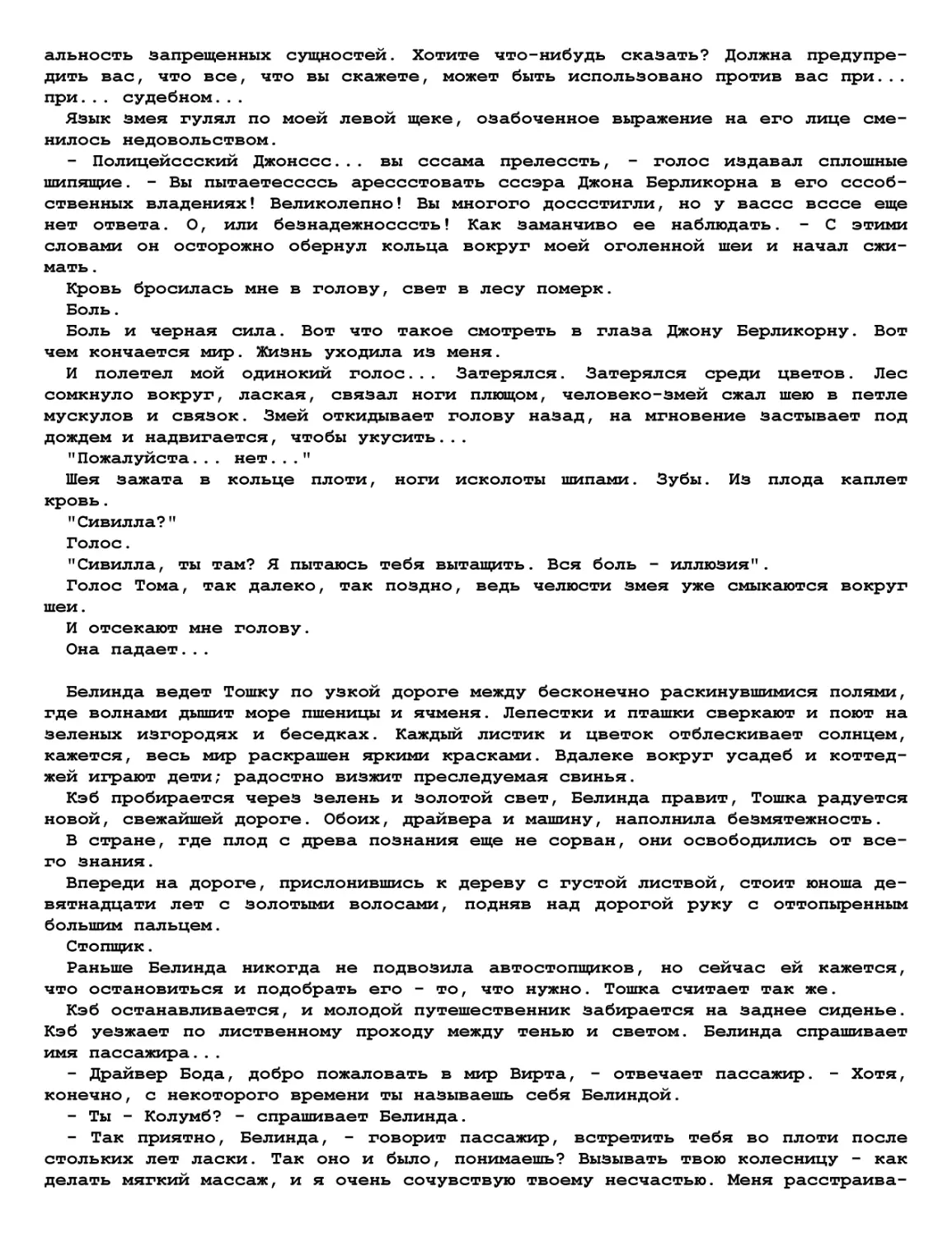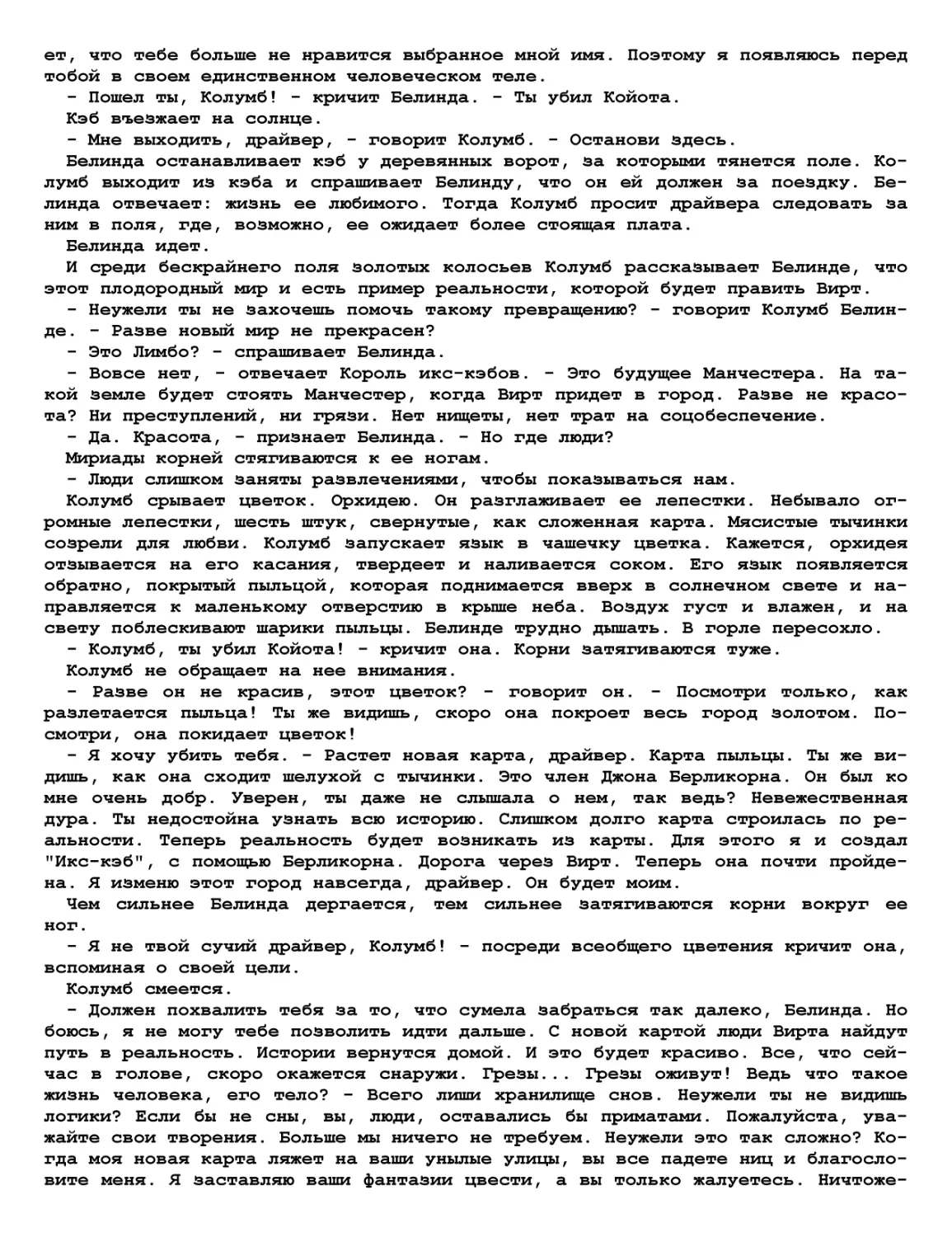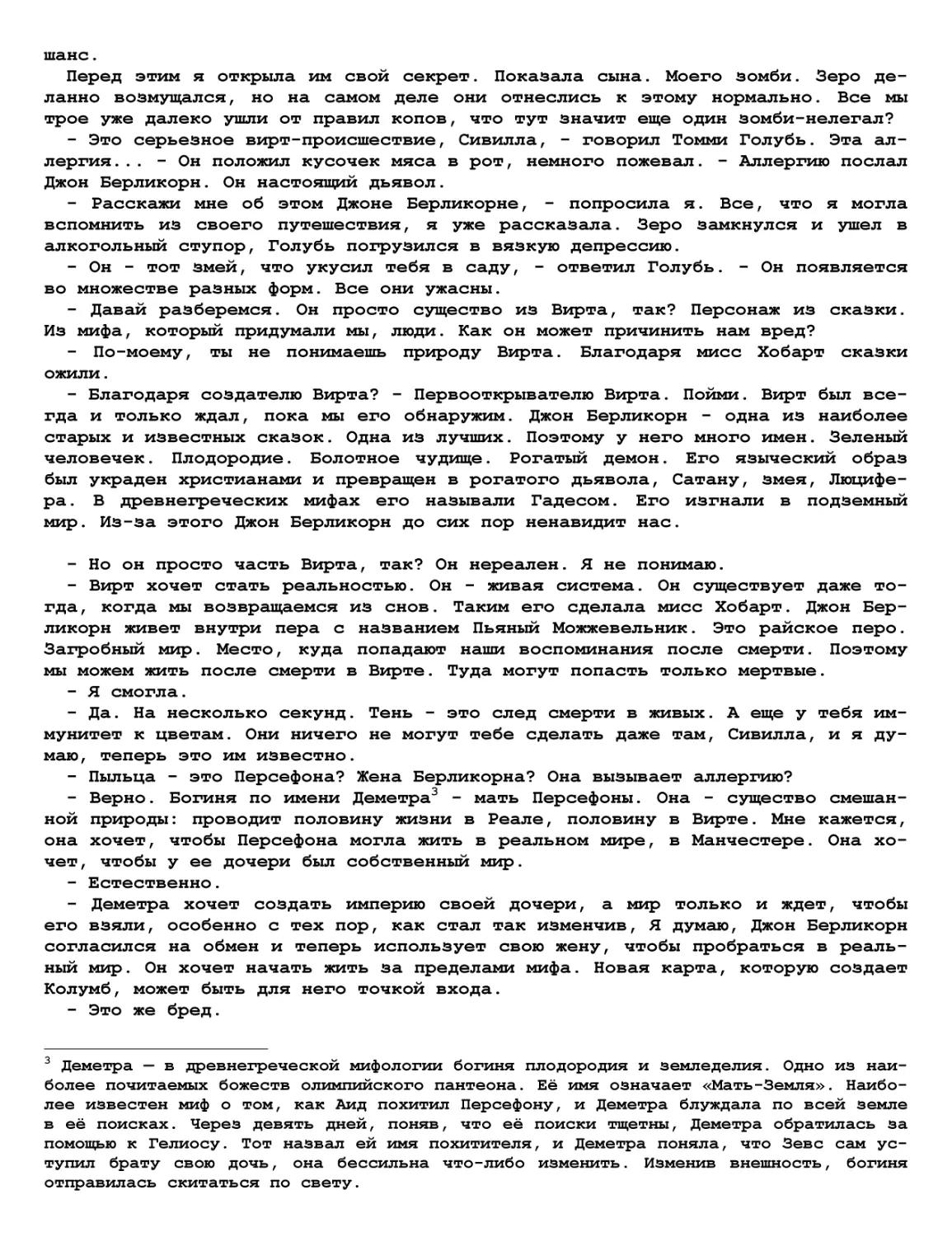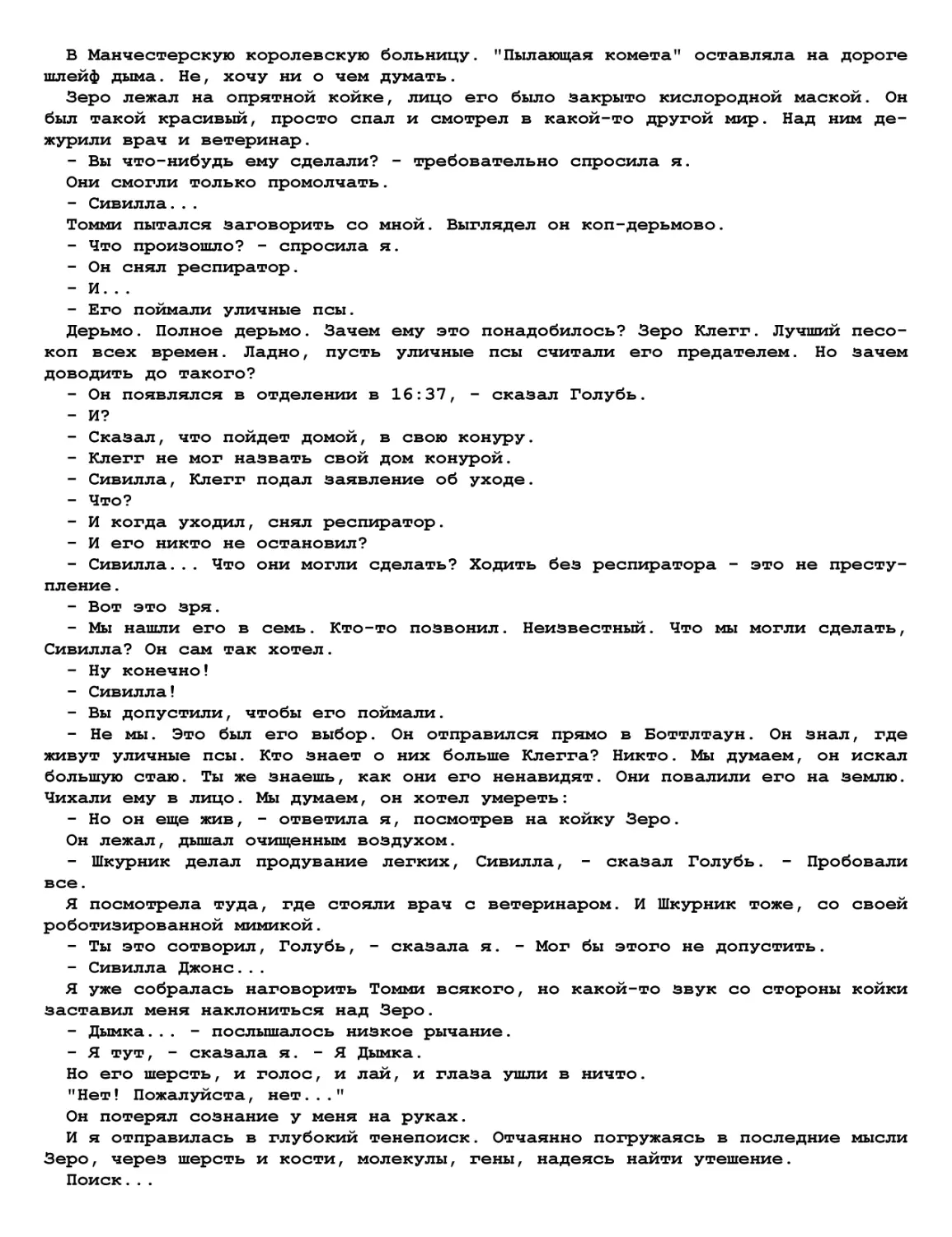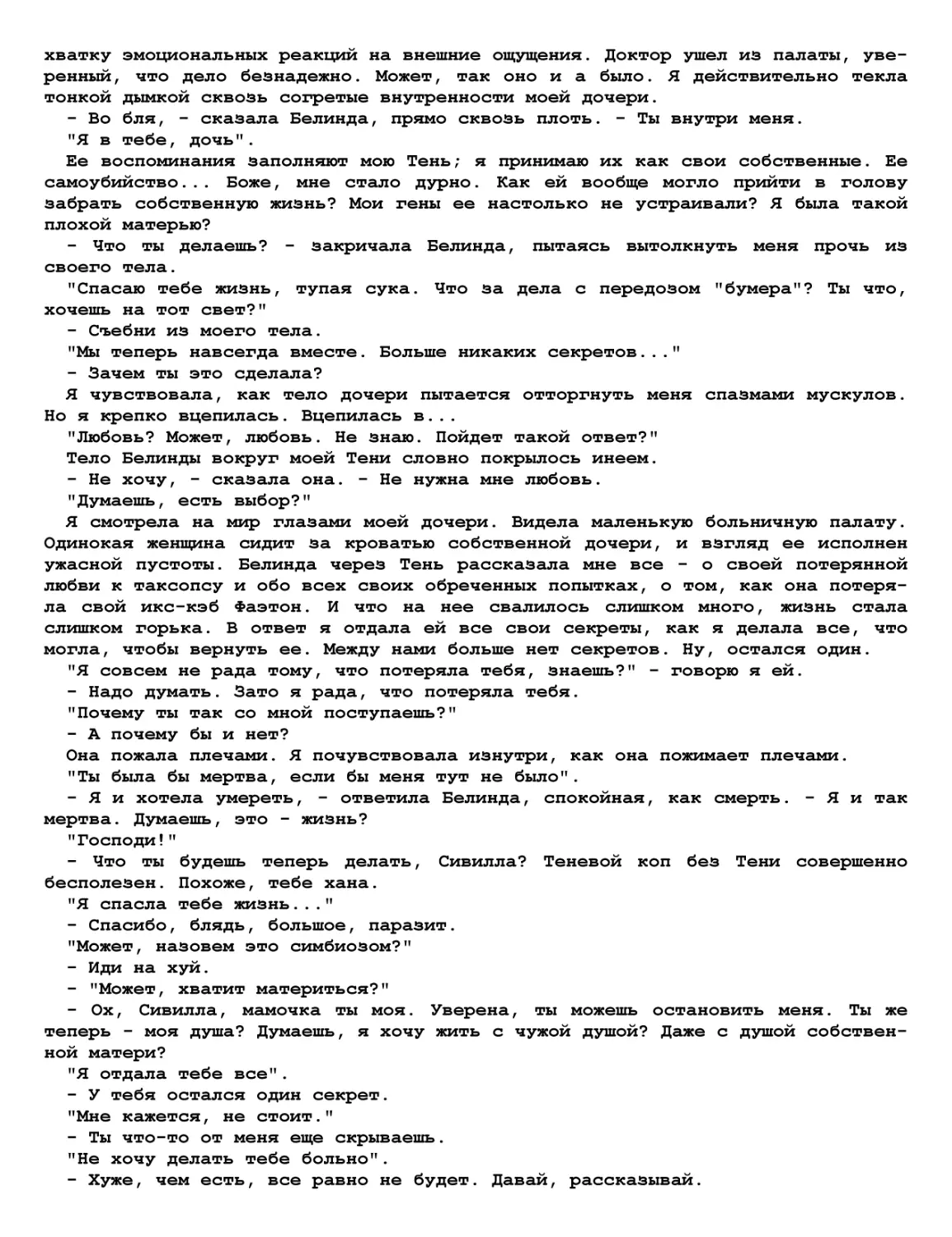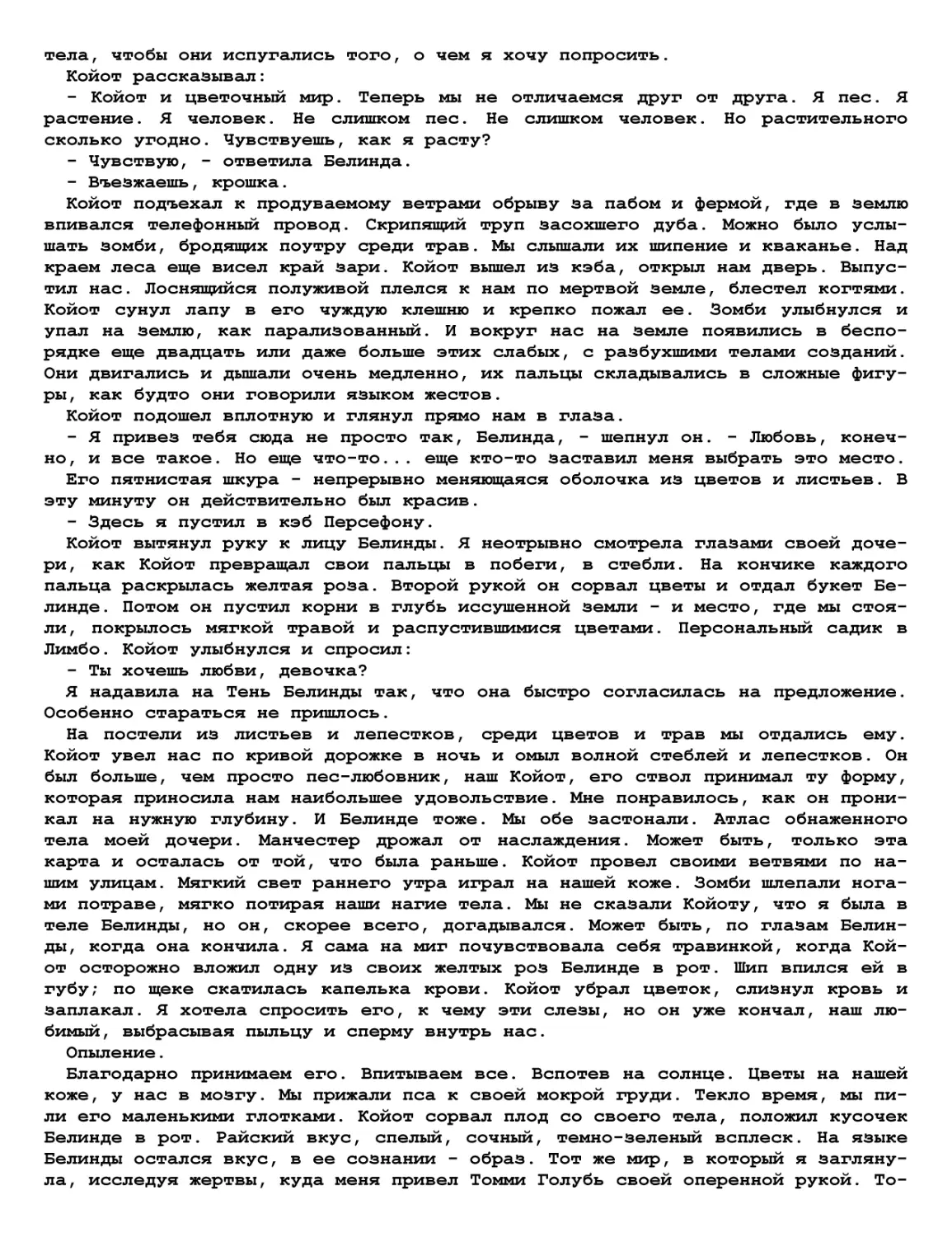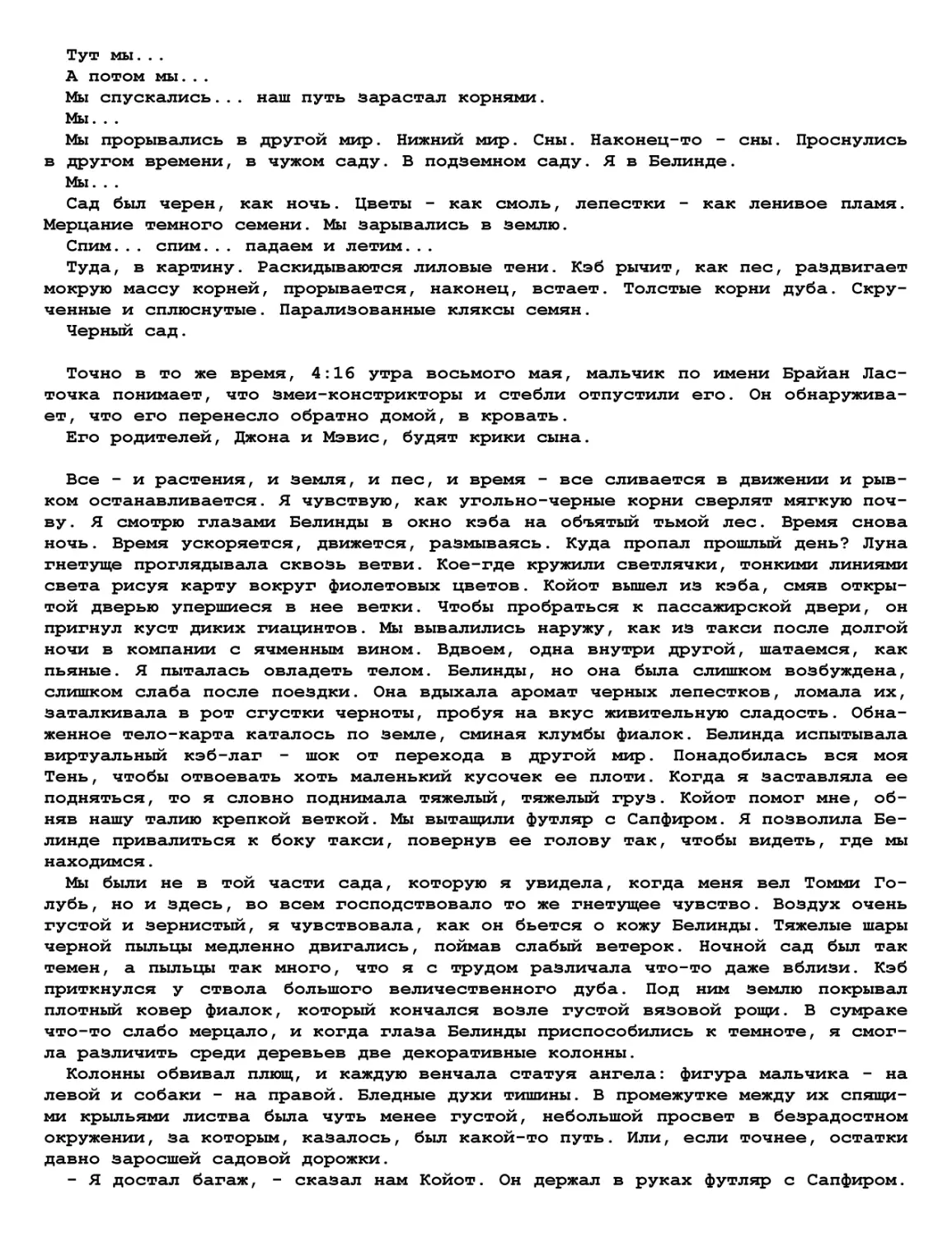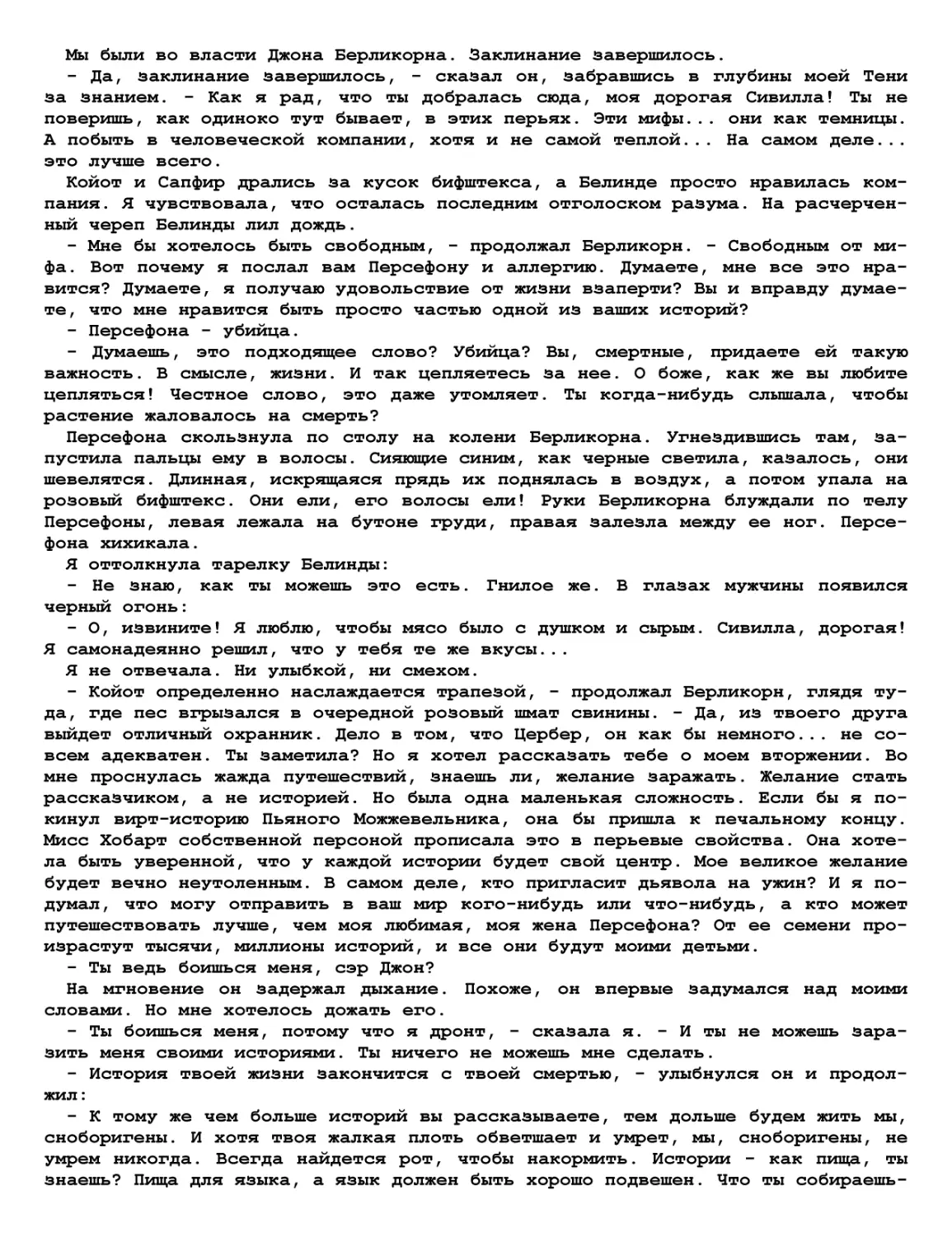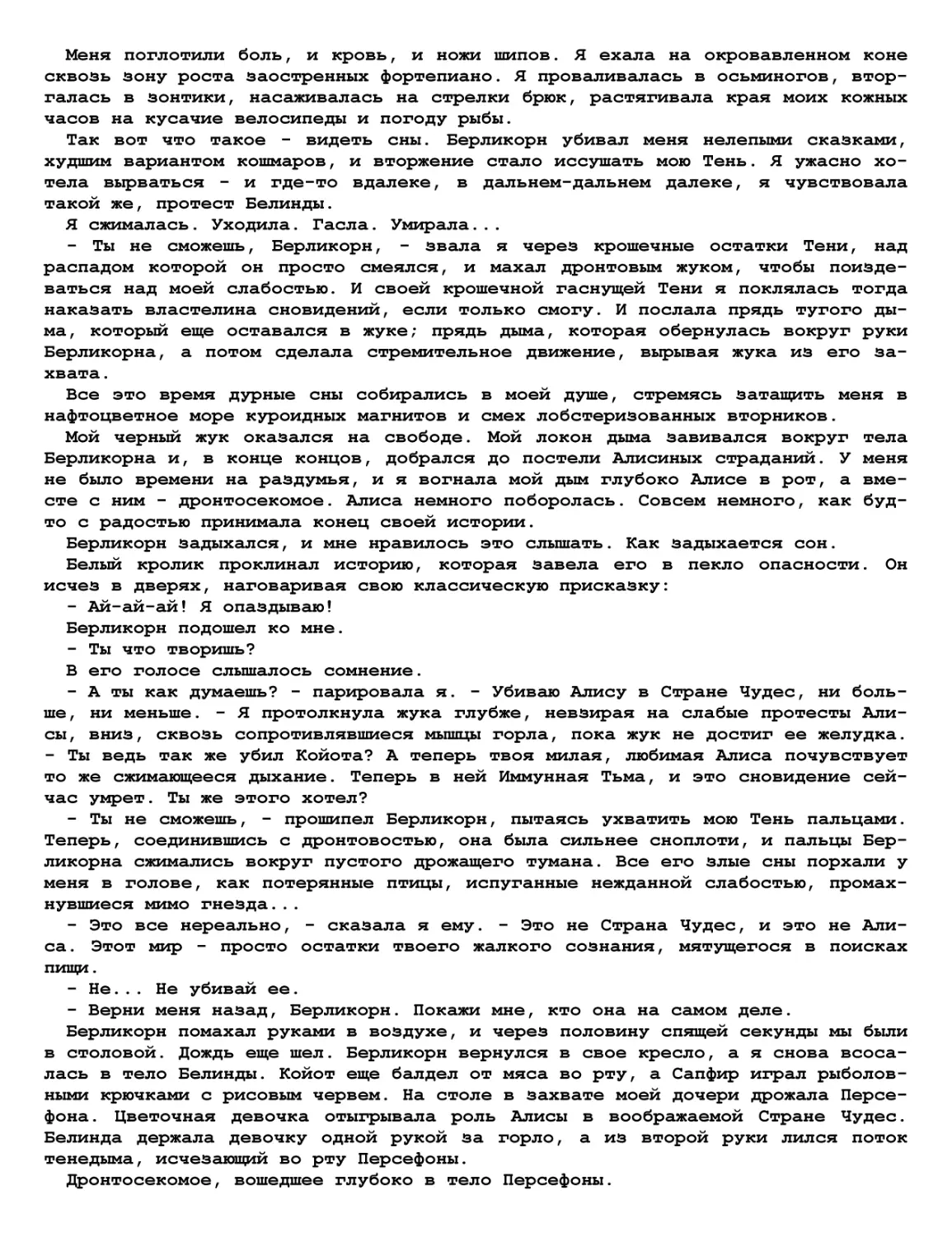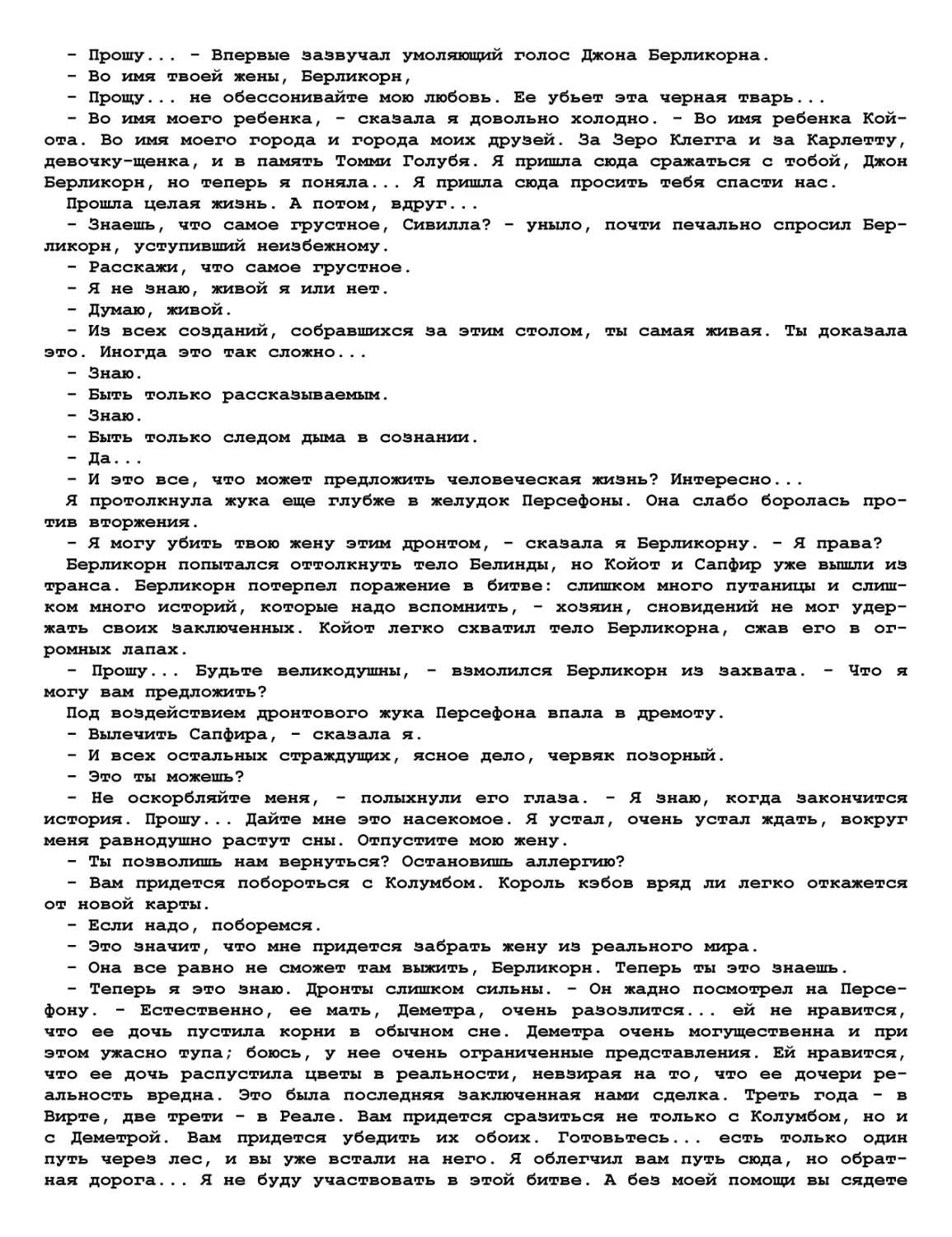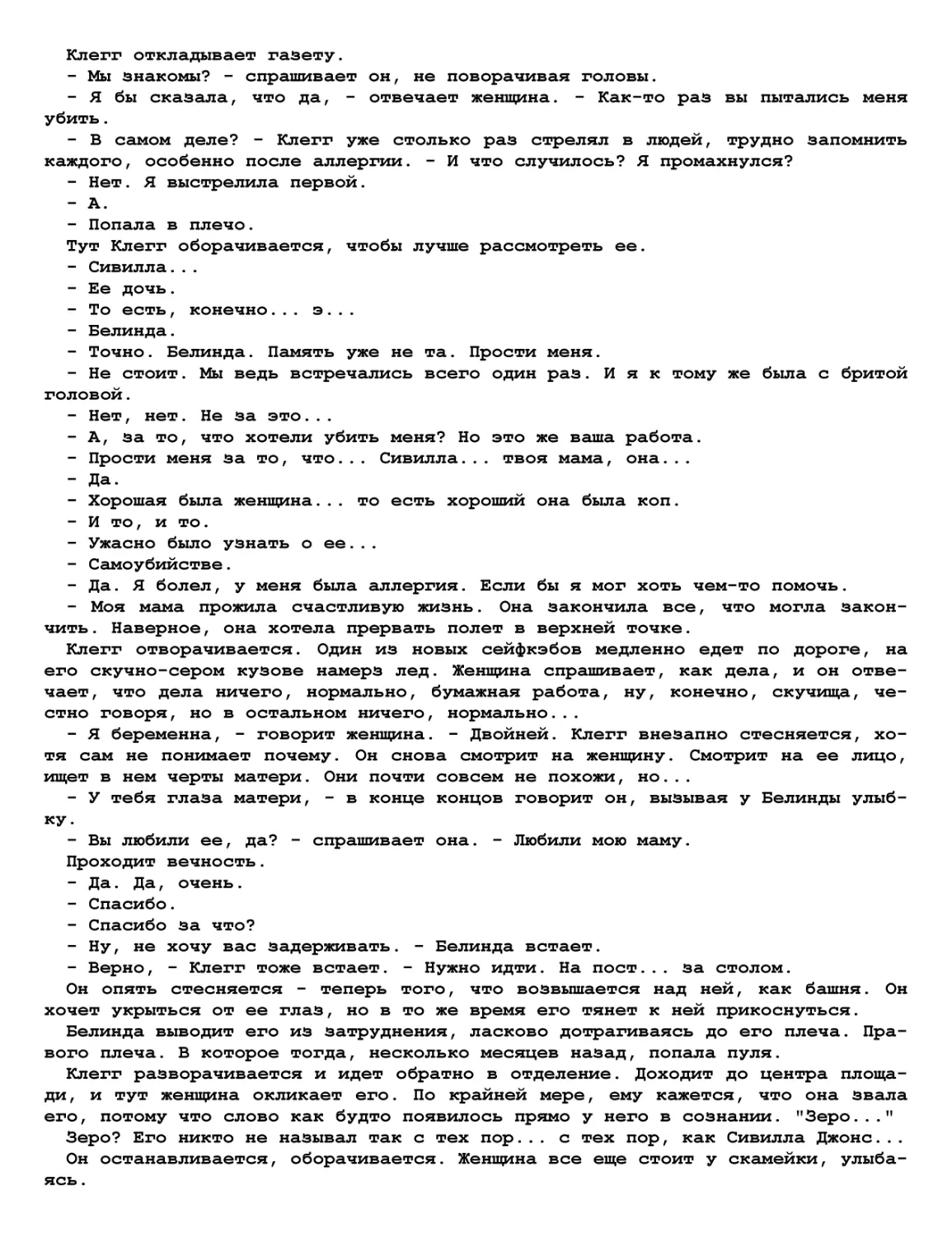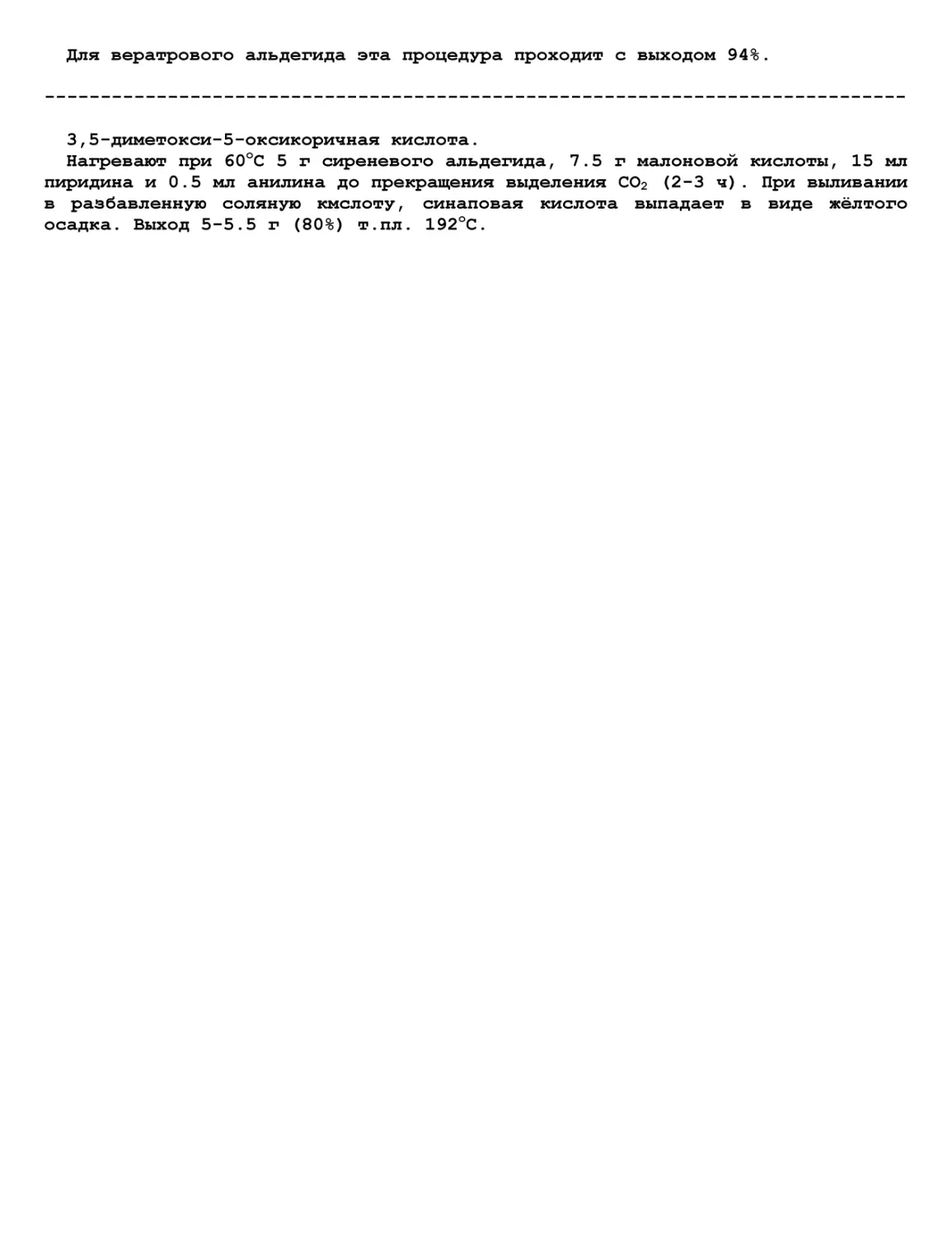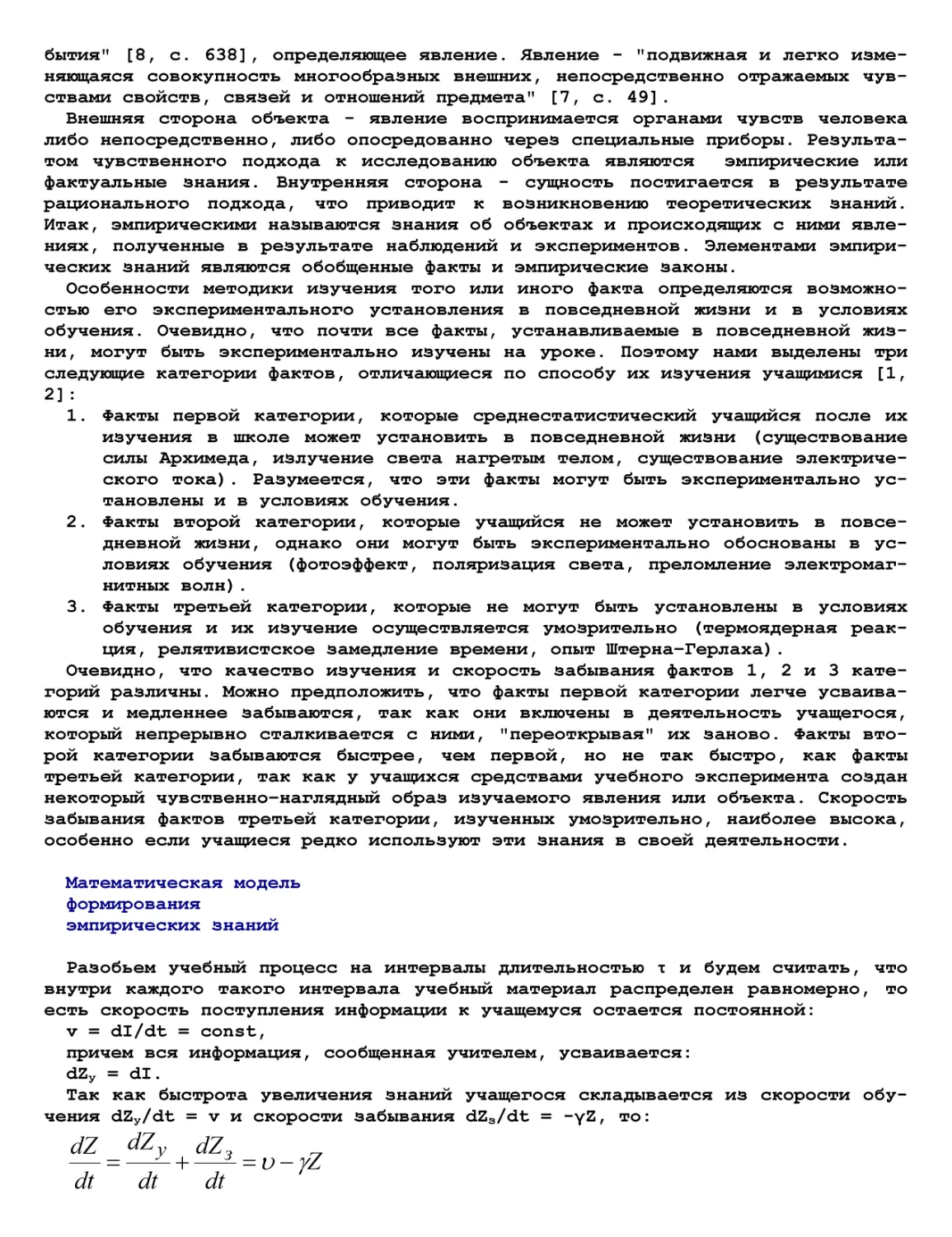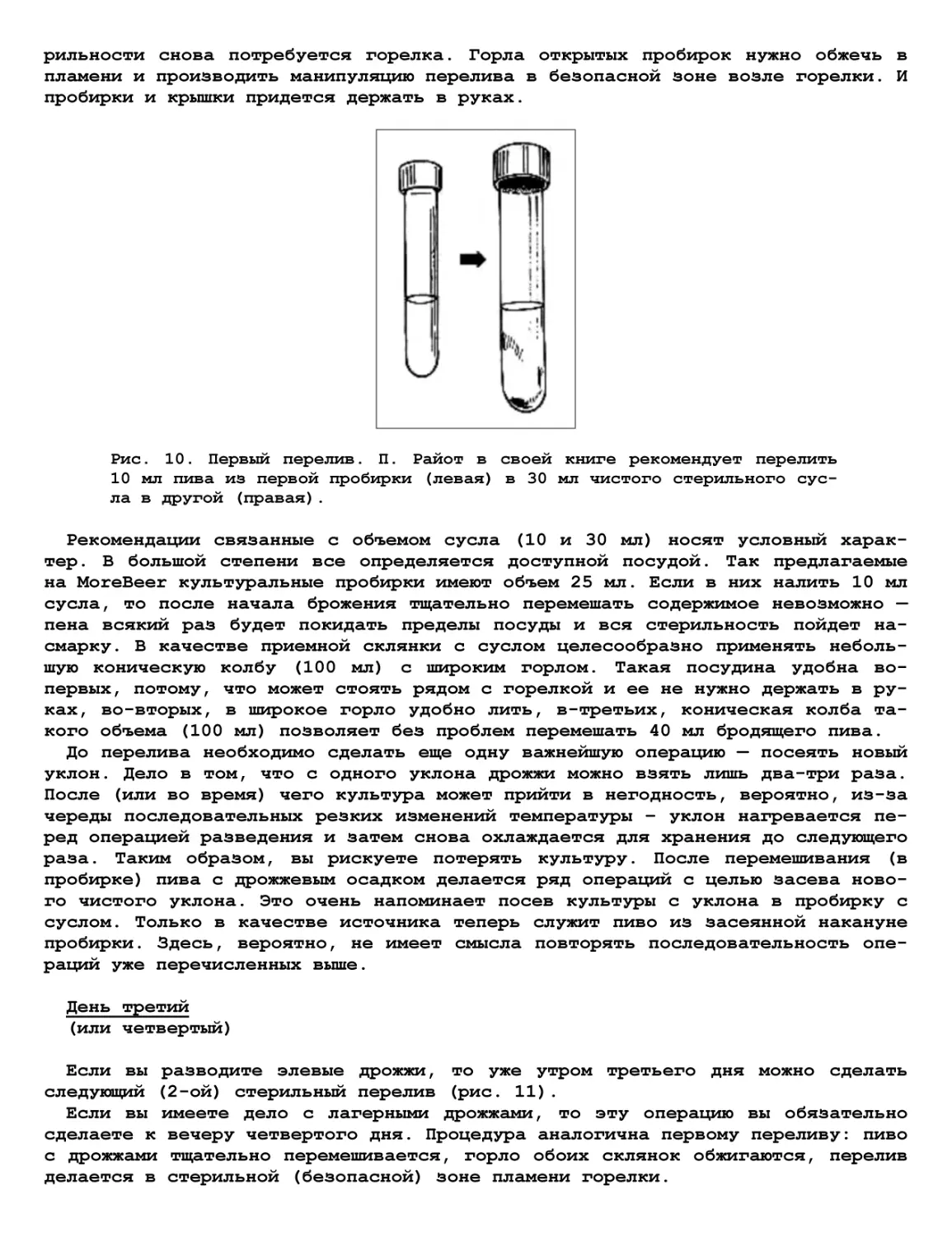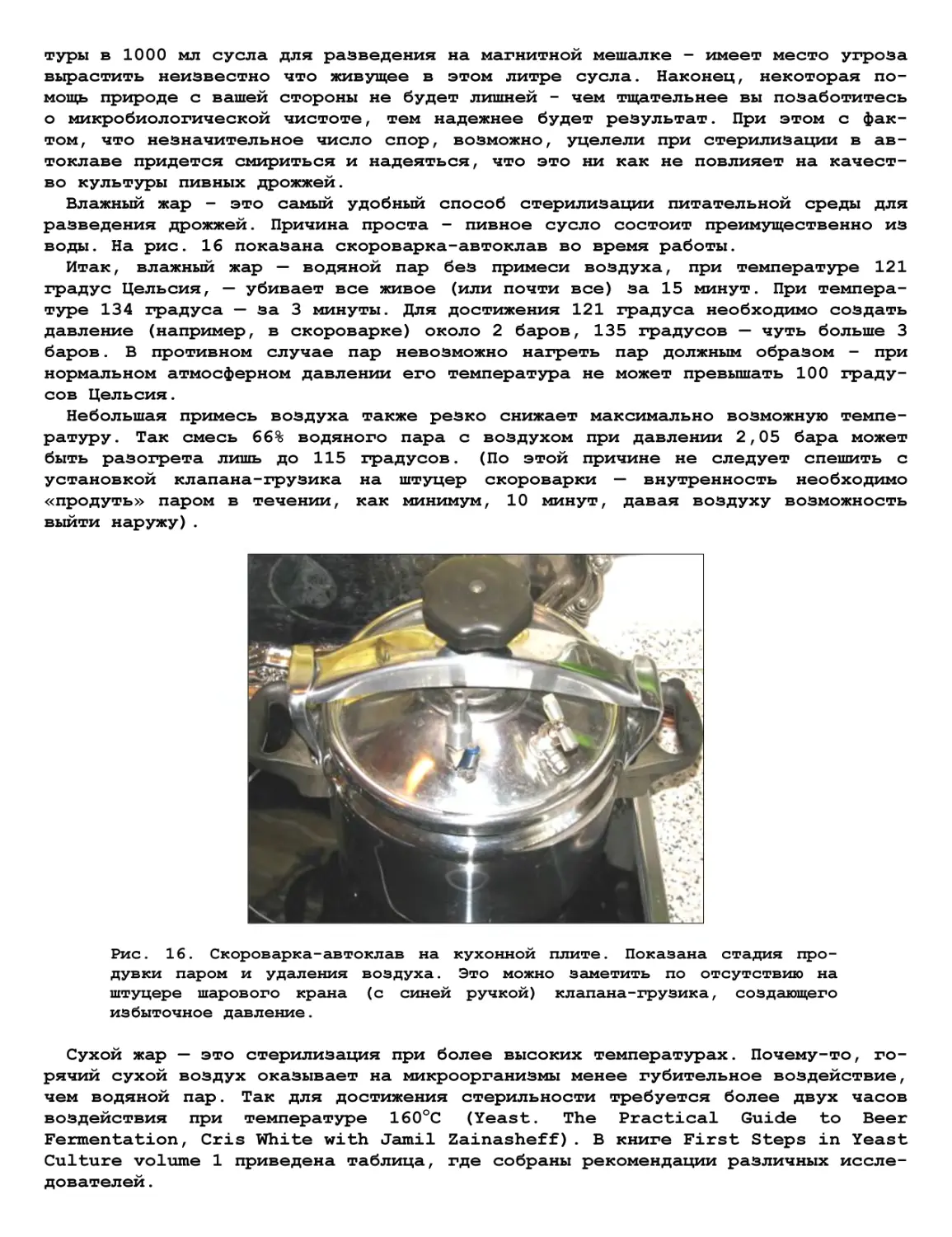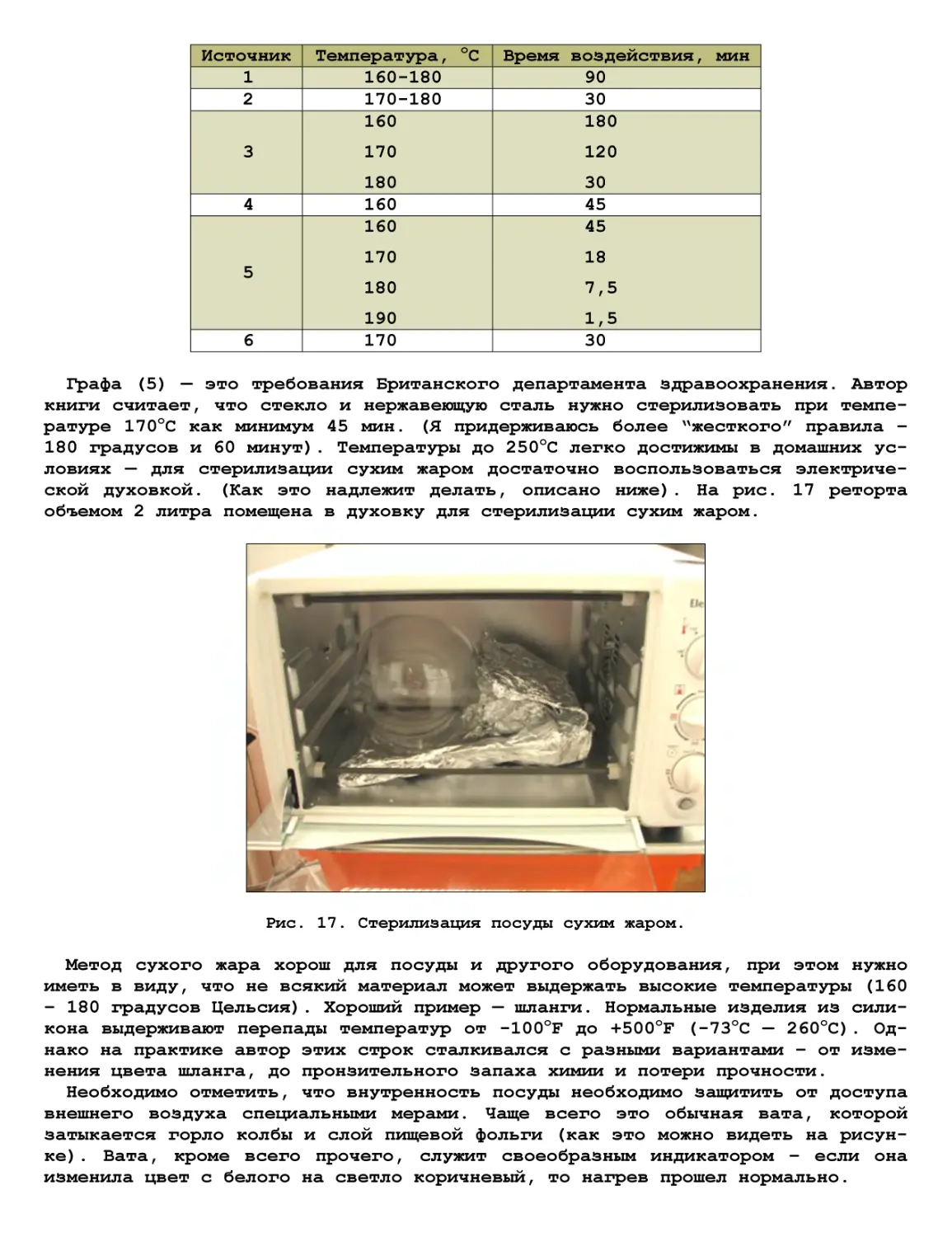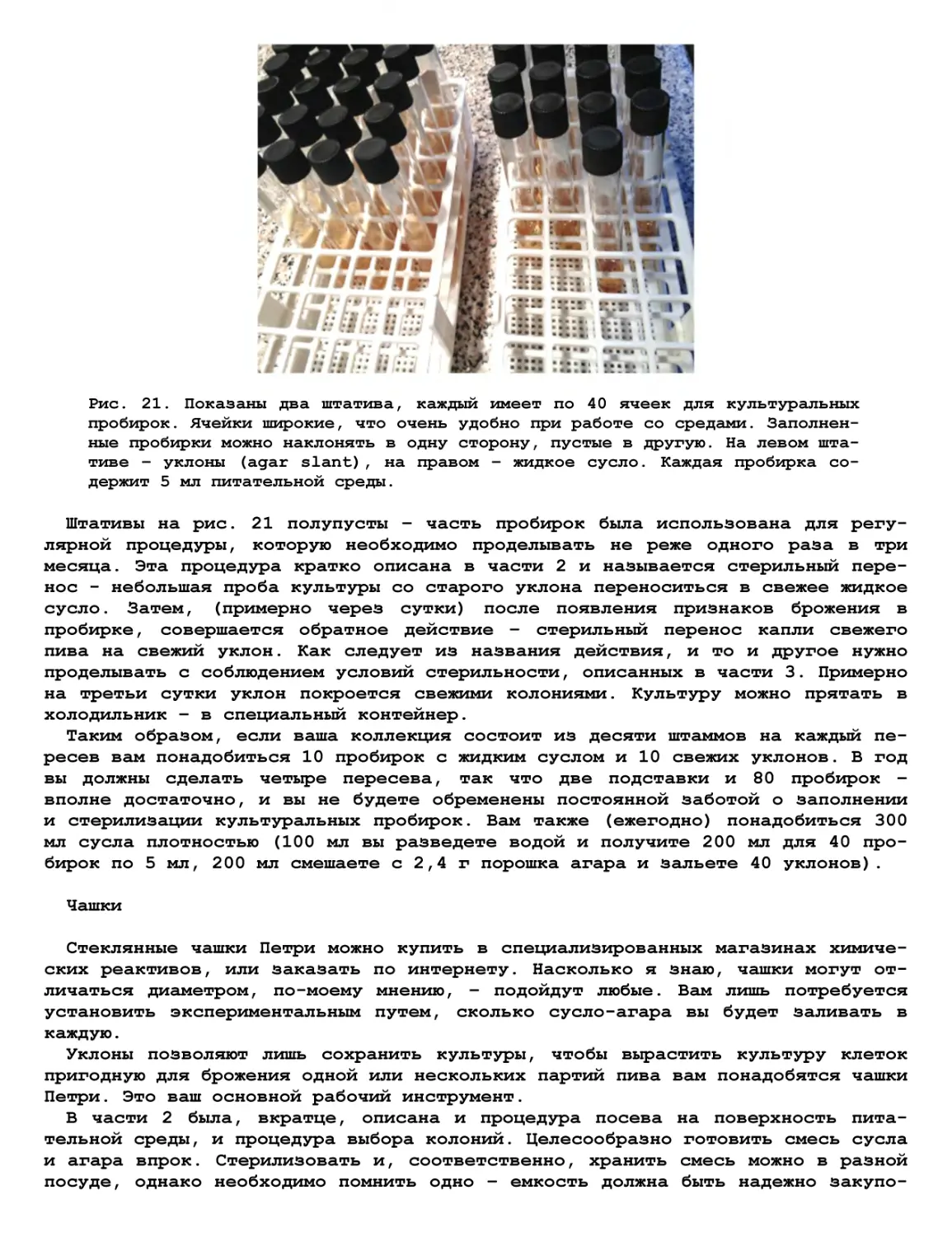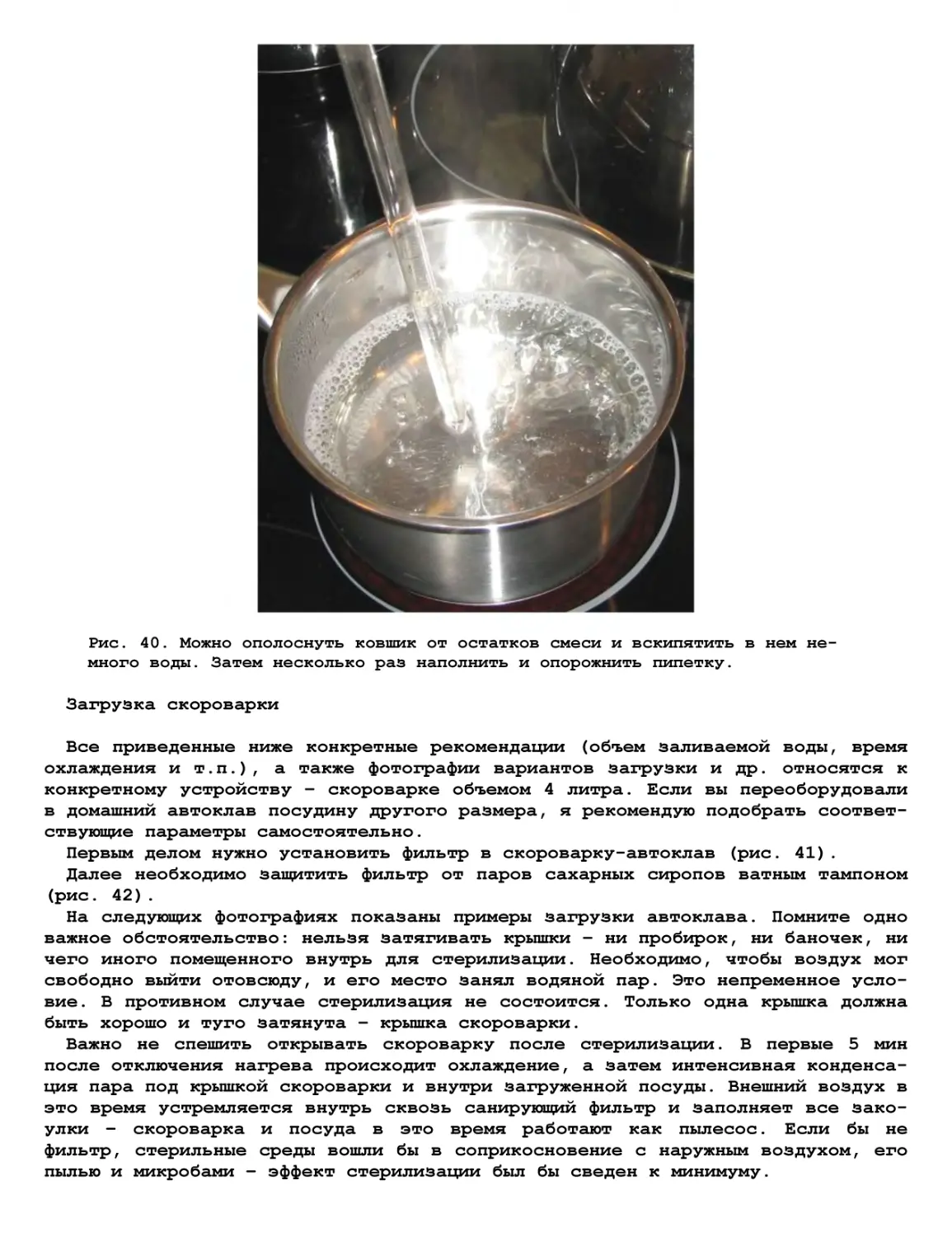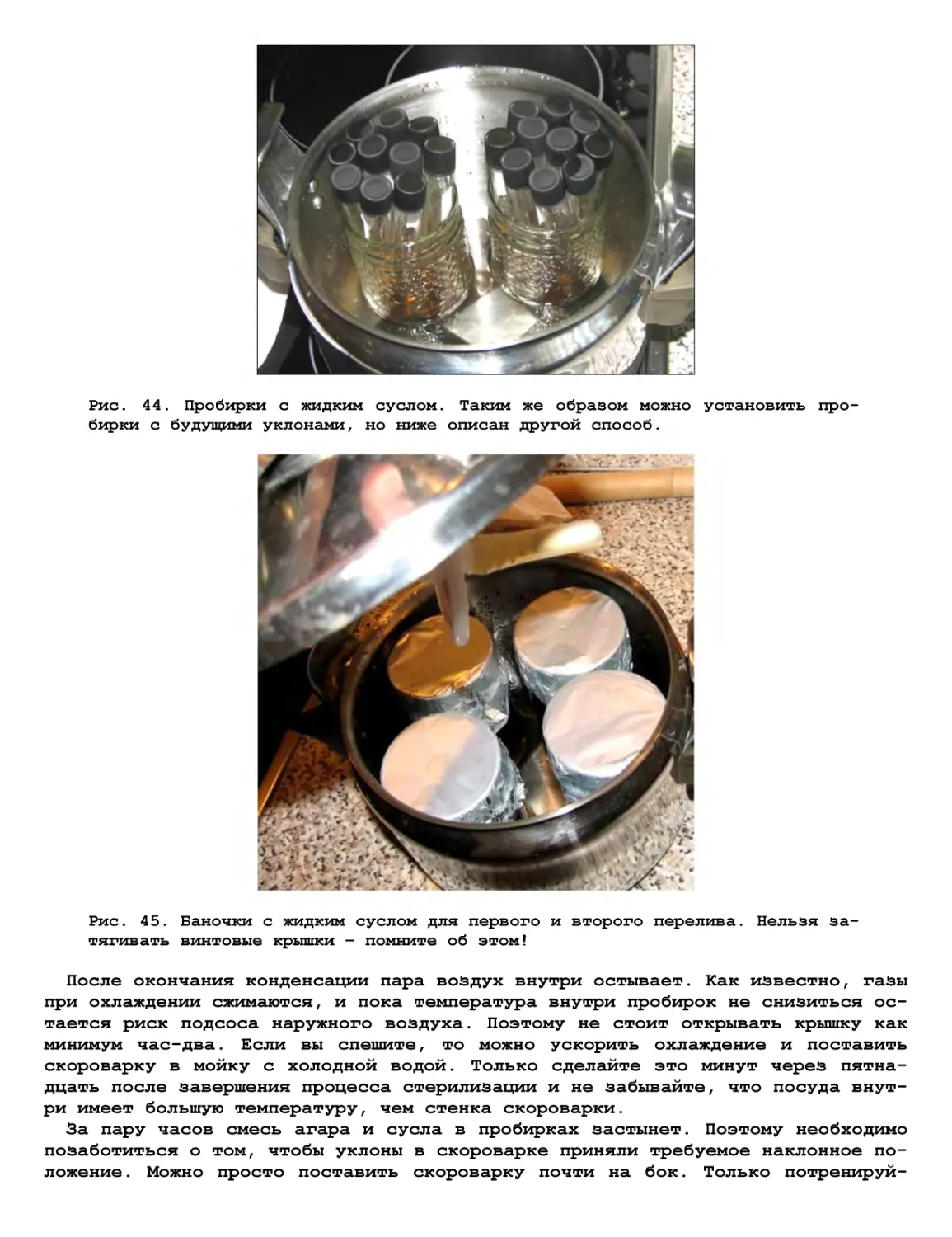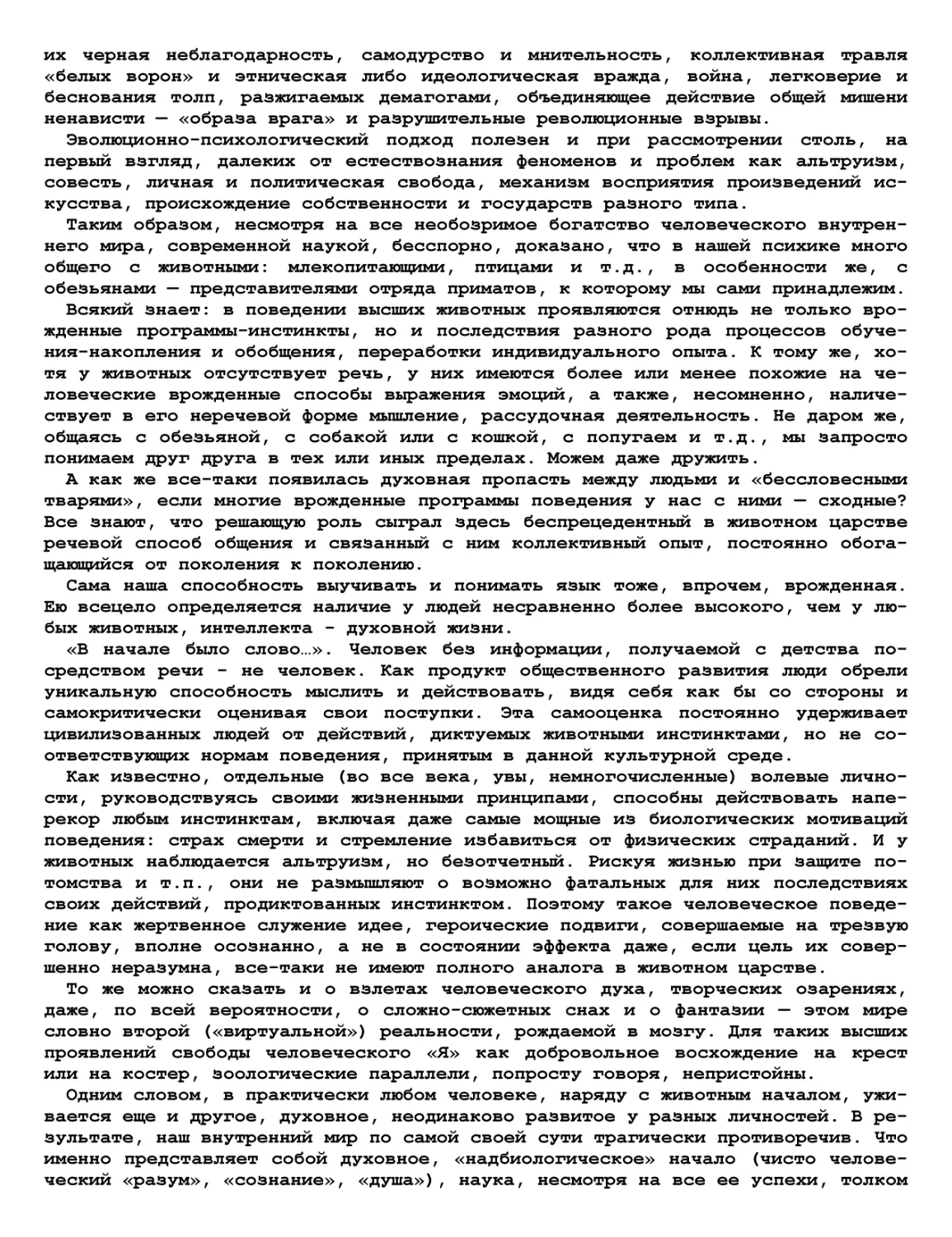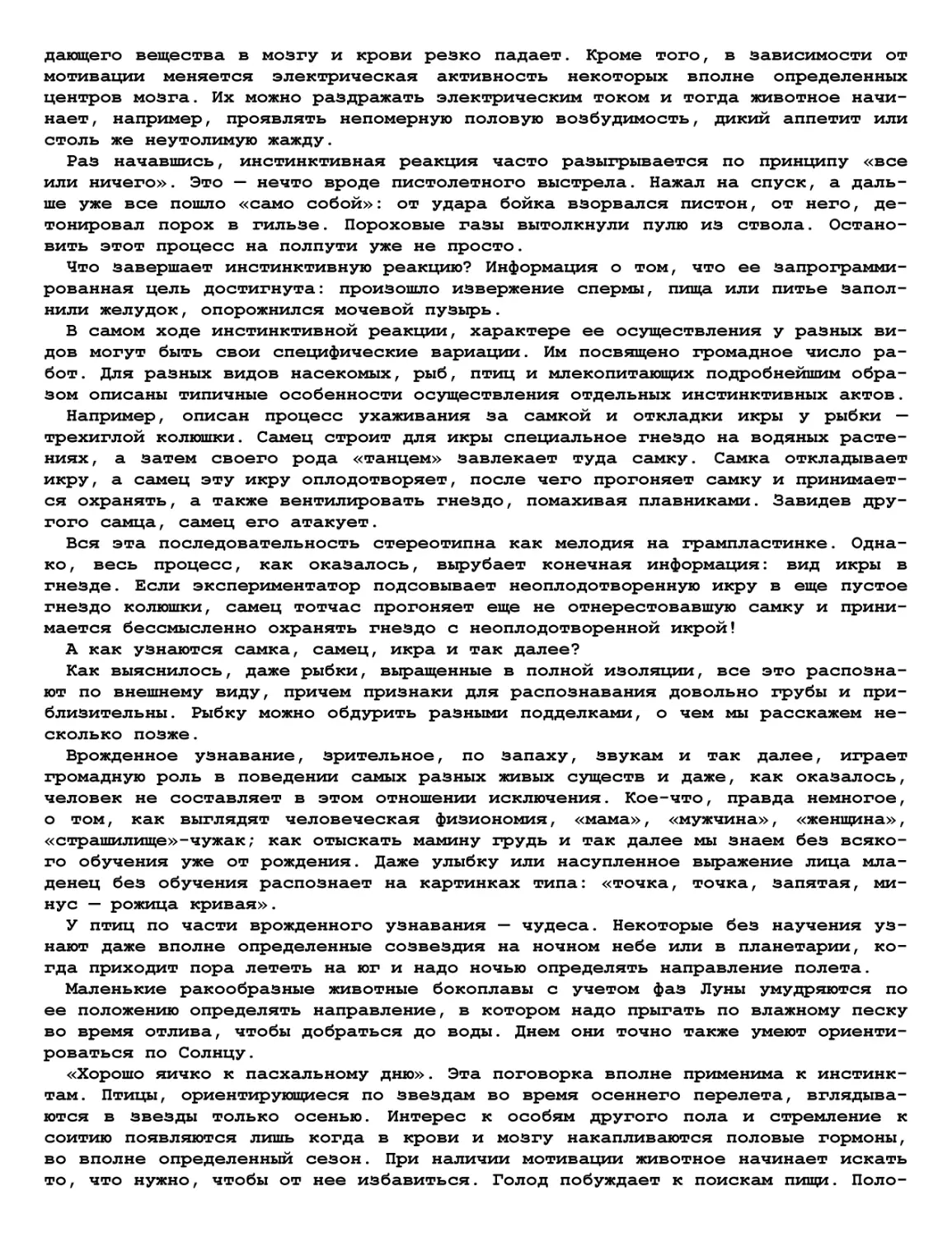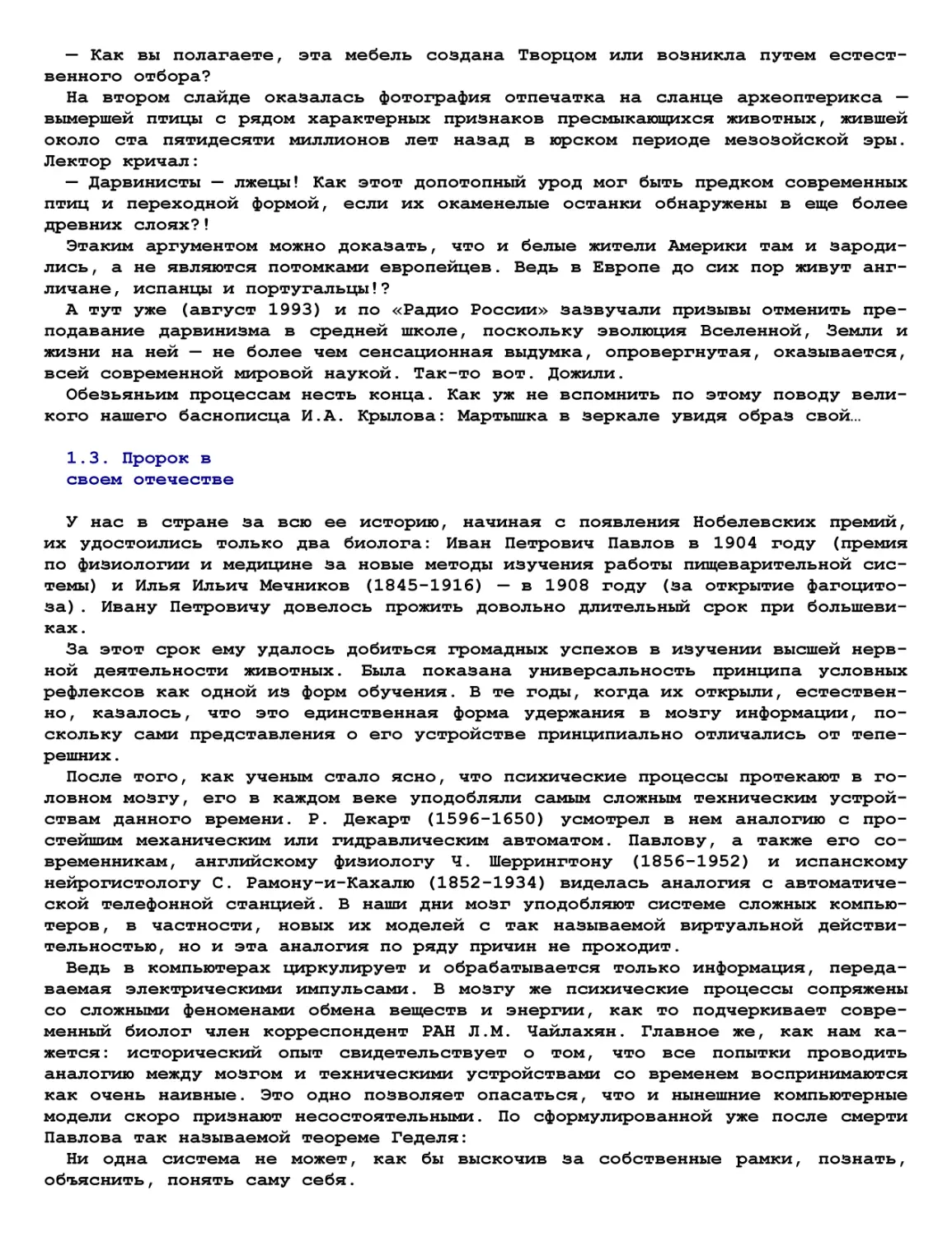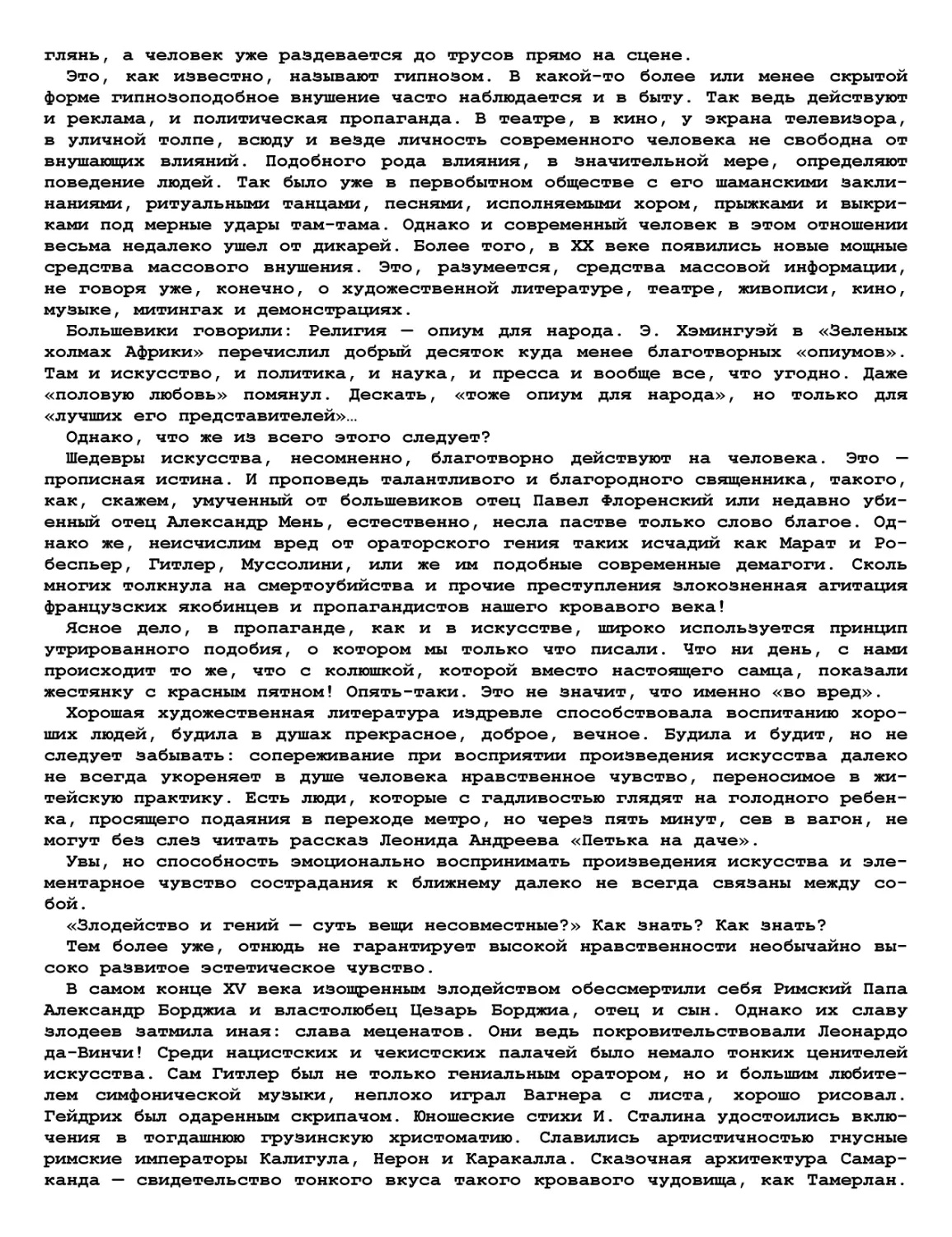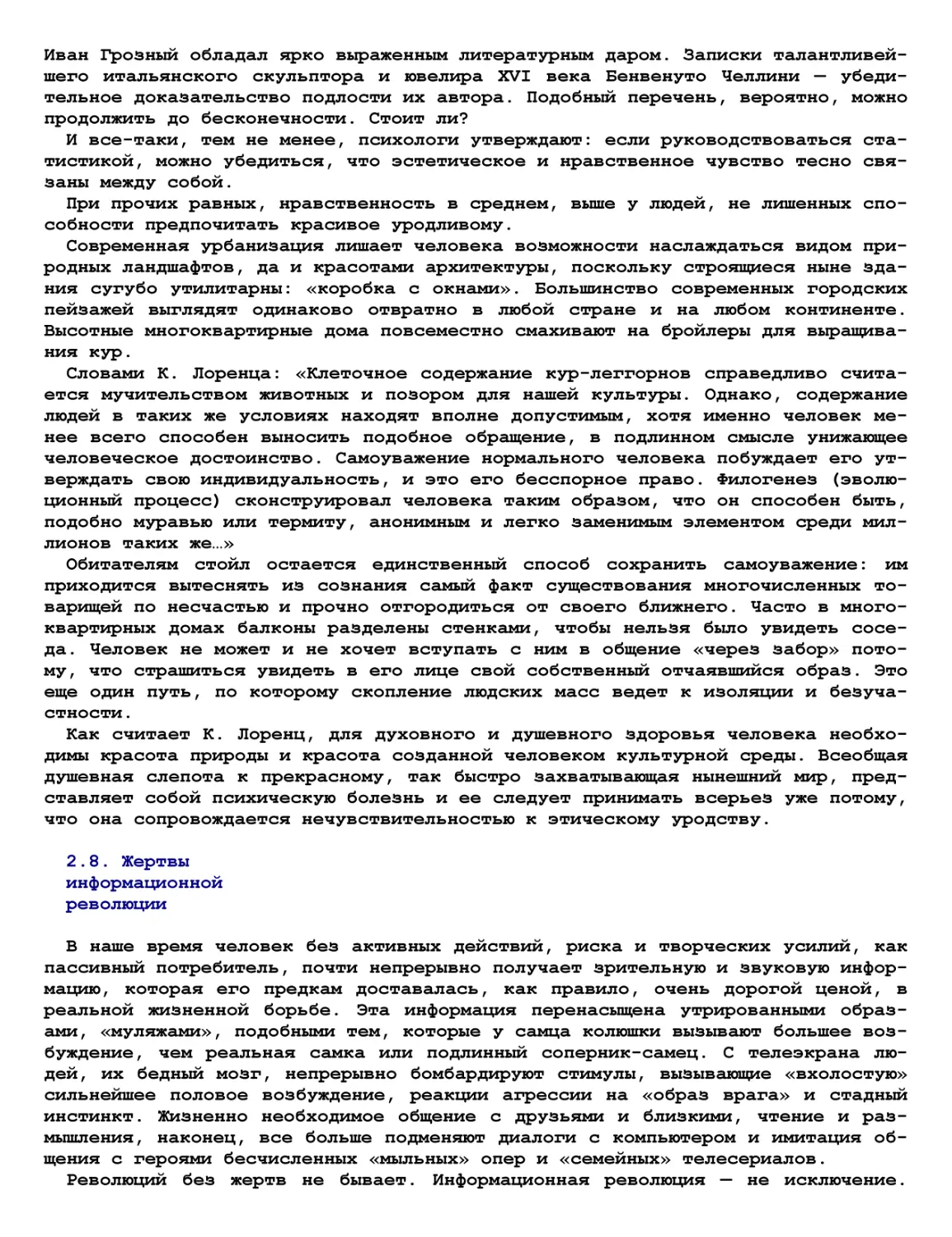Теги: журнал домашняя лаборатория
Год: 2013
Текст
ИНТЕРНЕТ-ЖУРНАЛ
МАИ 2013
\л}' *
ДОМАШНЯЯ
ЛАБОРАТОРИЯ
Научно-практический
и образовательный
интернет-журнал
Адрес редакции:
domlab@ inbox.com
Статьи для журнала
направлять, указывая в теме
письма «For journal».
Журнал содержит материалы
найденные в Интернет или
написанные для Интернет.
Журнал является полностью
некоммерческим. Никакие
гонорары авторам статей не
выплачиваются и никакие
оплаты за рекламу не
принимаются.
Явные рекламные объявления
не принимаются, но скрытая
реклама, содержащаяся в
статьях, допускается и даже
приветствуется.
Редакция занимается только
оформительской
деятельностью и никакой
ответственности за содержание статей
не несет.
Статьи редактируются, но
орфография статей является
делом их авторов.
При использовании
материалов этого журнала, ссылка
на него не является
обязательной, но желательной.
Никакие претензии за
невольный ущерб авторам,
заимствованных в Интернет
статей и произведений, не
принимаются. Произведенный
ущерб считается
компенсированным рекламой авторов и
их произведений.
По всем спорным вопросам
следует обращаться лично в
соответствующие учреждения провинции
Свободное государство (ЮАР).
При себе иметь, заверенные
местным нотариусом, копии всех
необходимых документов на
африкаанс, в том числе,
свидетельства о рождении, диплома об
образовании, справки с места
жительства, справки о здоровье
и справки об авторских правах
(в 2-х экземплярах).
Nft
ЩжШ П-П
- - ^
СОДЕРЖАНИЕ
Бурьян (продолжение)
Тропой микробов
Вселенная в электроне
Пыльца (окончание)
Бациллус террус
Некоторые методы органической химии
Выпрямители с тиристорным регулятором
Формирование эмпирических знаний у учащихся
Май 2013
История
з
95
Ликбез
146
Литпортал
195
284
Химичка
291
Электроника
300
Матпрактику-
325
Разведение дрожжей
Десять тысяч лет с дрожжами
Мир глазами зоопсихологов
Фотогалерея
Переписка
Лаборатория
334
Разное
378
382
448
449
НА ОБЛОЖКЕ
«Когда б микроб
Какой-нибудь сейчас
Смотрел бы в мир
сквозь линзу микроскопа -
На том конце
увидев чей-то глаз
Сказал бы всем -
Всевидящее око!!!»
Владимир Селецкий
Читаем «Тропой микробов».
Валерий Сойфер
ГЛАВА XII. ТРОН ПОД
ЛЫСЕНКО ЗАШАТАЛСЯ
"Да и с какой же стати буду робче я
Машин грохочущих и певчих птиц -
История есть достоянье общее,
А не каких-нибудь отдельных лиц."
Л. Мартынов. Первородство.
" . . . в пещере этой лежит книга, жалобная книга,
исписанная почти до конца. К ней никто не
прикасается, но страница за страницей прибавляется
к написанным прежним, прибавляется каждый день.
Кто пишет? Мир! Записаны, записаны все
преступления преступников, все несчастья страдающих
напрасно".
Евгений Шварц. Дракон.
1 Журнальный (сокращенный) вариант книги «Власть и наука». Все комментарии и ссылки
на источники пропущены.
Лысенко в
Горках Ленинских
Став Президентом ВАСХНИЛ в 1938 году, Лысенко собрался переезжать в Москву.
Приходилось бросать насиженное место, любезную сердцу Украину, прощаться с
красавицей Одессой. И самое главное - думать о том, как и где разворачивать
собственную научную работу. Конечно, он сохранил за собой так называемое
руководство Одесским институтом, но надо было что-то заводить и в Москве. Ведь
он много раз распространялся с трибуны и в печати, что при "врагах народа"
Академия сельхознаук превратилась в бюрократическую контору, а надо, чтобы
она стала настоящим центром науки. Понятно, пример должен подать "голова" -
Президент. Первая задача стала ясной - искать базу для опытов вблизи Москвы.
В его понимании опытами должны были быть отнюдь не общепринятые в науке
сложные манипуляции с растениями, всякие там физиологические, биохимические и
прочие лабораторные разработки - упражнения, как он считал, теперь уже никому
ненужные. Следует быть к земле поближе: сеять и пересевать. Для опытов
потребны не приборы, не техника, а ухоженные поля, где-то поблизости от
столицы, с удобными подъездами, с хорошей землей, с водой для полива. Такую базу и
стал искать для себя Лысенко. Выбор пал на место, известное многим в стране,
- Горки Ленинские.
В дальнейшем нам придется не раз встречаться с "опытами", проводившимися в
Горках Ленинских. Поэтому уместно рассказать об этой примечательной
экспериментальной базе.
Вблизи Москвы, километрах в 20-30, было несколько старинных дворянских
усадеб, названных одинаково - Горки. Были Горки и по Нижегородскому тракту, и по
Варшавской дороге, и на север от Москвы. В 35-ти километрах на юго-восток от
столицы еще в XVIII веке на берегу реки Пахры был построен комплекс красивых
домов. Перед революцией усадьбой владел генерал А.А. Рейнбот (Резвой - 1868-
1918) - московский градоначальник в 1906-1907 годах. От Москвы туда вела
прекрасная дорога, рядом темнел лес. К усадьбе протянули нитки проводов -
градоначальник имел прямую телефонную связь с правительственными учреждениями.
Словом, это было живописное, благоустроенное поместье. В комфортабельных
дворцах была стильная мебель, висели дорогие картины, лежали красивые ковры,
стояли по углам залов заморские вазы.
После революции и переезда большевистского правительства из Петрограда в
Москву хозяева сменились. Комплекс облюбовал под загородную резиденцию Ленин.
Тяжело заболев, он жил здесь уже безвыездно и здесь умер в январе 1924 года.
Горки с тех пор стали именовать Ленинскими. Неподалеку, еще при жизни Ленина,
нашел себе аналогичную усадьбу председатель ЦИК советской республики М.И.
Калинин .
А чтобы обслуживать нужды обеих правительственных дач, на прилегающей
территории было создано специальное хозяйство Управления делами Совета Народных
Комиссаров. Хозяйство было не маленькое (около полутора тысяч гектаров).
Естественно, содержалось оно образцово, имело прекрасные надворные постройки,
было электрифицировано, к нему вели хорошие подъездные пути, и была сеть
дорог внутри хозяйства. После смерти Ленина оно оставалось в ведении Совнаркома
до 1938 года, став чем-то вроде подсобного хозяйства для подкармливания
кремлевской верхушки.
Вот оно-то и приглянулось Лысенко. Вряд ли следует говорить, что и
экономически и политически Горки Ленинские, одно название которых в уме каждого
советского человека будило ассоциации с Лениным, вполне удовлетворяли амбициям
Лысенко. С тех пор, как хозяйство Горок, выделенное в самостоятельную
единицу, отделенную от Музея Ленина (дворцов и парка), перешло в управление
Лысенко, оно часто упоминалось в печати в сочетании с его именем и одновременно с
именем Ленина. Многие в СССР знали, что в Горках творит новую биологическую
науку великий Лысенко.
В то же время, пользуясь и своим высоким постом и ссылками на то, что это
не ординарная деревня, а все-таки ГОРКИ ЛЕНИНСКИЕ, Лысенко постоянно
добивался для своего хозяйства всевозможных привилегий: освободил его от
обязательной в СССР сдачи почти всего урожая государству, продавал продукцию не по
государственным (закупочным), а по рыночным ценам, обеспечивал мощной техникой,
удобрениями и т.п. Хозяйство всегда имело много рабочих рук, из него не
сбегали правдами и неправдами работники, ведь оно в должниках перед государством
никогда не ходило, а, следовательно, зарплату и приплаты за выполнение планов
начисляли вовремя, а не так, как в большинстве сельских хозяйств в стране,
где иногда по полгода никаких выплат не производили. Немудрено, что поля были
всегда ухоженными, посевы радовали глаз. А предприимчивые лысенкоисты всегда
были готовы приписать это правильности теоретических предпосылок их шефа,
которые якобы и предопределяют высокий уровень ведения сельского хозяйства в
Горках Ленинских.
В течение последующей жизни Лысенко обосновывал свои рекомендации
получаемыми в Горках результатами, рассматривал эту базу как эталон, как образец для
подражания. В сравнении её с колхозами страны было заложено то же ядро
неправды, какое несли с собой анкеты одесского периода. Во всех отношениях база
Горок Ленинских была не похожа на колхозы - ни по площади земель, ни по
объему посевов, ни по насыщенности машинами, ни по использованию собранного
урожая , а отсюда - и по жизненному укладу работников.
К тому же, как и с анкетами в Одессе, в Горках ежечасно творили обман. В
1965 году было документально доказано, что лысенковские помощнички норовили
всюду смухлевать - внести загодя побольше навоза и удобрений в почву, а потом
присыпать землю ничтожной по питательности своей, "патентованной смесью" и
начать трубить, что смесь эта - чудодейственна; или раскормить коров выше
всякой меры, а объявить погромче, что кормили скот умеренно, как кормят в
средней руки колхозах. Но был и другой вид подтасовки. Как сказали бы
статистики - была заложена основа для постоянно присутствующей систематической
ошибки: здесь хозяйствовали по иным, несоциалистическим меркам.
Чтобы не быть голословным, приведу выписку из официального документа -
"Доклада комиссии АН СССР о результатах проверки деятельности
экспериментальной научно-исследовательской базы "Горки Ленинские" и ее подсобного научно-
производственного хозяйства":
"По главным показателям - площади пашни и численности дворов - хозяйство
"Горки Ленинские" в 5 раз меньше среднего совхоза Московской области и в 2-
2,5 раза меньше среднего колхоза имени Владимира Ильича (земли колхоза
окружают территорию базы с трех сторон).
... Значительно лучшая обеспеченность хозяйства фондами, кадрами и
предоставленное ему право реализации продукции по розничным ценам делают показатели
базы "Горки Ленинские" несопоставимыми с показателями рядовых колхозов.
Здесь на 509 га пашни имеется 10 физических (15,5 условных) тракторов, 11
автомашин, 2 бульдозера, 2 экскаватора, 2 комбайна, что с избытком
перекрывает потребности хозяйства и обеспечивает резервы.
По расчету на 10 га пашни здесь в 9 раз больше основных фондов, в 3 раза
больше производственных фондов, почти в 2,5 раза выше энергообеспеченность
хозяйства, чем в среднем по совхозам Московской области".
... Наконец, следует отметить, что хозяйство "Горки Ленинские" практически
освобождено от продажи зерна государству.
... Пшеница обменивается хозяйством через заготовительные органы на
концентрированные корма. Это означает, что почти вся продукция растениеводства
остается в хозяйстве и используется на собственные нужды, в основном как кормо-
вой фонд. Кроме этого, хозяйство закупает зерно, комбикорма, которые
составляют 1/3 всех потребляемых концентратов".
Конечно, в таких условиях можно было добиваться результатов, невозможных в
условиях других хозяйств страны...
Разворачивать работу в Горках Лысенко начал в 1939 году. В Москву были
переведены его любимые сотрудники - Презент, Долгушин, Авакян, Ольшанский.
Отвели делянки и поля также тем, кто стал работать с Лысенко в Институте
генетики (прежде всего Глущенко и Бабаджаняну). Под началом Президента ВАСХНИЛ им
предстояло теперь трудится по-новому: Лысенко хотелось начать в Москве иное
дело, открыть еще одну яркую страницу в жизни. Он понимал, что на старых
достижениях долго удержаться вряд ли удастся.
Первый год после переезда ушел, вполне естественно, на обживание нового
места. У самого Трофима Денисовича почти все силы растрачивались на ту самую
канцелярскую деятельность, которую он раньше столь решительно осудил,
витийствуя о порочном, вражеском стиле его предшественников по Президиуму ВАСХНИЛ.
Но оказавшись в кресле Президента Лысенко буквально всеми клетками кожи
чувствовал замогильный холод, исходивший из Кремля, жизнь повернулась иначе.
Страх лез из каждой щели, провокацией мох1 показаться любой звонок, ошибкой -
любой разговор. Провинциальному, но в то же время цепкому, изворотливому,
эгоистичному крестьянскому мужику, на плечи которого легла такая
ответственная поклажа, сбросить которую было равносильно тому, чтобы самому свалиться с
ней в могилу, - первые месяцы в Москве показались ужасными (один из его
помощников об этом однажды мне проговорился).
И хоть нравилось ему бывать в Горках (как-то он сказал нам в лекции в
Тимирязевке , что каждый раз, проезжая мимо ворот ленинского музея, улыбался своей
потаенной мысли - такой приятной: надо ведь, в таком месте работаю, по одной
земле с Лениным хожу: не каждому дано) , но времени на поездки туда вечно не
хватало. Да еще этот смещенный график работы: днем крутишься, крутишься, и
ночью до 3-4 часов утра сиди в кабинете. Вдруг Сталину понадобишься, он по
ночам звонит. И тут уж держи ухо востро, соображай мгновенно, отвечай
солидно, со знанием дела, но и с оптимизмом в голосе, а то - не ровен час... Да не
зарони сомнений в хитрую сталинскую душу... В общем, не до Горок. И не до
опытов.
Так пролетел весь 38-й, а за ним и 39-й год. Так и дотянулось всё до июня
1941 года. Грянула война. И ждали вроде её и готовились, а вот нежданной
оказалась .
Военные годы
С началом войны теоретические споры ученых сами собой отступили на задний
план: все силы были брошены на оборону страны. Захват фашистами уже в 1941
году огромных земледельческих территорий обострил и без того тяжелое
положение сельского хозяйства. Теперь от ученых требовалось использовать все
средства для решения практических задач.
По мере продвижения немцев на территорию СССР всё больше фабрик, заводов,
институтов эвакуировали вглубь страны - за Урал. В Среднюю Азию из Одессы был
переведен лысенковский селекционно-генетический институт. В Ташкенте, Фрунзе,
Алма-Ате, Свердловске и других городах оказались многие академические
институты . Сам Лысенко кочевал между Омском и Фрунзе. В Омске в составе Сибирского
научно-исследовательского института зернового хозяйства работала часть его
лаборатории. Нередко Трофим Денисович появлялся в комнате, располагавшейся
рядом с кабинетом директора института Гавриила Яковлевича Петренко, и
постепенно старался перестроить работу этого давно сложившегося института на свой
лад. Во Фрунзе оказались другие лаборатории Института генетики.
Первые предложения Лысенко в эти дни были далеки от его прежних увлечений
"антигенетикой". Страна в результате сталинского руководства оказалась
неподготовленной к войне. Первый год принес голод и нехватку сырья для
промышленности. Поэтому, как один из выходов из создавшегося положения, с весны 1942
года во всех городах была отведена земля под частные огороды, так называемые
"участки". Главной культурой, которой их засевали, стал картофель.
И вот тут Лысенко с его буйной энергией сделал доброе дело. Он возродил
дедовский способ посадки картофеля срезанными верхушками клубней, содержащими,
как известно, зачаточные ростки (глазки), и даже отдельными глазками. Советы
Лысенко о том, как срезать верхушки, как их хранить зиму и весну, а остальное
использовать в пищу, были опубликованы во многих газетах. Частично этот прием
помог преодолеть голод и сохранить посадочный материал, а, будучи
разрекламированным САМИМ ЛЫСЕНКО, прибавил ему популярности среди народа.
Осень 1941 года оказалась в Сибири и на Дальнем Востоке холодной. Лысенко
сам объехал и облетел огромные территории Сибири и Северного Казахстана,
понял, что везде недозревшие массивы пшеницы могут угодить под ранние заморозки
и снег... и распорядился скашивать недозревшую пшеницу, чтобы собрать хотя бы
то, что успело вырасти. Конечно, в свойственной ему манере он уверял, что при
этом даже сохранилась обычная урожайность ("Я не знаю случая, чтобы в прошлом
году было получено снижение количества и качества урожая пшеницы, скошенной
согласно нашим предположениям", - говорил он на общем собрании АН СССР в
Свердловске 6 мая 1942 года), хотя, несомненно, зерно получилось щуплым. Но,
несмотря на это, предложение его было ценным, так как в противном случае
собрать урожай не удалось бы вовсе.
Он занялся и другими практическими делами - определением всхожести пшеницы,
хранившейся в буртах на морозе, выяснением возможности перевозки в южные
районы картофеля, собранного севернее, для немедленного высева и т.д. Все эти
вопросы, не требовавшие научного анализа, но достаточно существенные в то
трудное время, решались им оперативно, приносили пользу, и он не смог
удержаться от того, чтобы в очередной раз не раздуть свои успехи и не принизить
значение теории.
"Принятый нами метод научной работы - заниматься в теории агробиологической
науки только теми вопросами, решение которых дает возможность практического
выхода... - является хотя и трудным и связан с напряженной для исследователя
работой, но это наиболее верная дорога в науке", - многозначительно
философствовал он, забывая упоминать, что основу давших эффект предложений
составляли давно известные практикам приемы.
Он, естественно, не мог отрешиться от того, чтобы не продолжать с упорством
продвигать в жизнь и непроверенные рекомендации, требовать, например, широко
практиковать летние посадки сахарной свеклы в Узбекистане, что дало одни
убытки (влаги не хватало, и вся свекла засыхала на ранних стадиях развития).
Расхваливал он и свою довоенную идею борьбы с вредителями посевов: выпускать
на поля кур, чтобы они склёвывали всех насекомых, их яйца и гусеницы. Тогда и
мясо будет бесплатное (и диетическое! - добавлял академик) и вредители
исчезнут.
Но основное внимание в это время он уделял приему, который многим сразу же
показался ошибочным. Продолжая давнишнюю игру в сверхскоростное выведение
сортов, он еще в 1939 году обещал в срочном порядке (опять за 2-3 года)
вывести зимостойкие сорта зерновых культур для Сибири. Сколько-нибудь
перспективных сортов ему получить не удалось, и тогда он предложил сеять (сначала
собственные "сорта", а когда они не пошли, то и местные сибирские сорта)
весьма оригинальным путем: не вспахивая землю, а прямо в оставшуюся после
скашивания яровых хлебов стерню. Преимущество такого приема, по его мнению,
заключалось, во-первых, в экономии на тракторах, горючем, рабочей силе и
т.д., а, во-вторых, в том, что старая корневая система оберегала бы новые
посевы от вымерзания.
Ни физические представления о теплопроводности стерни, ни биологическая
часть идеи не были достаточно проработаны (Лысенко заимствовал у Тулайкова
принцип, но, не зная толком сути предложения загубленного академика, всё
перепутал) , и предложение было встречено критически, прежде всего, сибирскими
учеными. Лысенко сделал доклад в институте в Омске. Несмотря на огромное
почтение, которое не мох1 не вызывать Президент и троекратный академик у скромных
провинциалов, среди них нашлись специалисты, выставившие свои возражения. Их
поддержал директор института Петренко. Лысенко это не только не образумило, а
придало энергии в отстаивании с еще большим жаром своей идеи. С Гавриилом
Яковлевичем он перестал с тех пор разговаривать, а решение научного спора
перенес в инстанции, всегда и во всем его поддерживавшие: вопрос о том, сеять
или не сеять по стерне, был рассмотрен в Наркомземе СССР, где собрали
специальное совещание. Правда, во время него случился неприятный для новатора
казус. В ответ на вопрос председательствующего, не хочет ли кто-нибудь
высказаться, в задних рядах кто-то поднял руку. Председатель кивнул ему, человек
встал, им оказался Петренко, специально приехавший в Москву. Лысенко начал
суетиться в президиуме, пытаясь лишить его слова. Но пока Трофим Денисович
пререкался с председателем, Петренко начал говорить с места, с первой же
фразы завладел вниманием аудитории и довел до сведения участников совещания
мнение тех, кому Лысенко, по сути дела, и собирался помочь своими советами -
сибирских ученых. Его выступление, конечно, не могло перевесить чашу весов в
этом споре, ибо наркоматские чиновники всё равно горой стояли за Лысенко.
Посевы по стерне были одобрены, и их приказным порядком начали внедрять
повсеместно в Сибири под присмотром партийных органов.
Метод настойчиво насаждали в Сибири почти полтора десятка лет, понеся
огромные убытки, пока, наконец, в 1956 году даже партийная печать была
вынуждена признать, что это предложение было вредным, и что сам Лысенко и его
сторонники " . . . игнорируя очевидные факты. .. доказывали недоказуемое и упорно
зачисляли в разряд консерваторов от науки добросовестных специалистов
сельского хозяйства, которые смотрели фактам в лицо", и что "в результате только
в Омской области в течение ряда лет сеяли десятки тысяч гектаров озимой по
стерне, с которых никогда не были собраны даже затраченные семена".
Партийный журнал, конечно, замалчивал очевидный факт, что поддержка Лысенко
исходила из партийных кругов, что именно ученые выступали с самого начала
против этого метода.
Посевы по стерне "зимостойкими" сортами были отменены точно так же, как
летние посевы сахарной свеклы в Средней Азии, принесшие стопроцентные убытки,
и превозносившиеся в начале 40-х годов гнездовые посевы каучуконоса кок-
сагыза, или использование кур для борьбы с насекомыми и другие его
предложения.
Новая "догадка"
Лысенко:
Дарвин ошибался!
Лысенко не раз был вынужден вступать в полемику с оппонентами, и мы могли
убедиться, что побеждал он в глазах вождей только в том случае: когда
переводил разговоры на язык политических обвинений. Пока противная сторона искала
научные аргументы, оттачивала логику фактов и обобщений, исторгавшиеся
Лысенко обвинения оппонентов в буржуазном перерожденчестве, нежелании смотреть
правде в глаза и верить в светлое будущее - убивали критиков наповал. Против
политической дубины - не попрешь.
Точно такой прием Лысенко решил применить в очередной раз, когда возникла
критическая ситуация после его заявления о необходимости внесения коренных
изменений в дарвинизм. Ядро дарвиновской идеи заключалось в предположении,
что стоит появиться измененному организму любого вида, который лучше
соответствует внешней среде в данный момент, как этот организм станет лучше
размножаться, начнет вытеснять менее приспособленных соседей, и за счет этого
эволюция сделает шах1 вперед. Именно в принципе внутривидовой борьбы улучшенного
организма с неизменными "старыми" организмами заключалась квинтэссенция
дарвинизма. Теперь Лысенко заявил, что никакой внутривидовой борьбы в природе
нет. По правде говоря, новое утверждение Лысенко показывало, что он поднялся
на иной, чем прежде, уровень. Это уже был не одесский приемчик с анкетами,
рассылаемыми по колхозам. Он посчитал, что может вторгнуться в споры по самым
сложным, фундаментальным проблемам. А какая фундаментальная проблема может
казаться глубже проблем эволюции?
5 ноября 1945 года, в канун очередного празднования годовщины Октября, в
Москве собрали работников селекционных станций, и перед ними выступил Лысенко
с большой лекцией "Естественный отбор и внутривидовая борьба". Продолжая
твердить о метафизичности моргановско-менделевской генетики, он стал спасать
дарвинизм теперь уже от Дарвина! По его словам, создатель теории эволюции
некритически воспринял идею Мальтуса о перенаселенности (это обвинение Дарвина,
впрочем, гораздо раньше Лысенко высказали Маркс и Энгельс):
"Виды и разновидности никогда не достигают перенаселенности. Наоборот,
всегда , как правило, наблюдается недонаселенностьп.
Отсюда следовал категоричный вывод:
"Если же хорошенько разобраться в живой природе, то нетрудно обнаружить,
что такой перенаселенности особей вида, которая вызывала бы между ними
внутривидовую конкуренцию, не бывает...".
Из этого умозаключения вытекало очередное "открытие": организмы одного вида
не только не конкурируют за "место под солнцем", а помогают процветать своему
виду, нередко ценой собственной жизни.
Обосновывал он свой вывод на данных опытов И.Е. Глущенко и Р.А. Абсалямовой
и Т.Д. Ивановской с посевом кок-сагыза так называемым гнездовым способом. В
каждую лунку высевали по одному, два и более (вплоть до 13 или 37 в разных
опытах) растений, а через некоторое время взвешивали выросшие корни. Биологи
давно установили, что при увеличении числа растений в гнезде (загущении
посевов) наблюдается угнетение развития растений: чем их больше в гнезде, тем
меньше СРЕДНИЙ вес корней. Этот вывод, чтобы потрафить шефу, лысенковские
ученики отвергали. В их опытах число растений в гнездах будто бы росло, а
средний вес корней не уменьшался. Однако стоило повнимательнее приглядеться к
их данным, как становился явным намеренный обман, творимый толкователями
результатов .
В таблицах, приведенных Лысенко, была колонка "Средний вес корней всех
растений в гнездах". В соседних колонках был приведен вес каждого отдельного
растения в гнездах, и не требовалось много времени на то, чтобы, сложив
цифры, понять, что здесь приведен вовсе не СРЕДНИЙ ВЕС корней, а СУММАРНЫЙ ВЕС
всех корней в гнезде. Похоже, что Лысенко оригинально применил упоминавшийся
выше "урок" Сталина, повторявшего вслед за Лениным, что "некорректированный
метод средних чисел нельзя рассматривать как научный метод". Применив
"корректированный научный метод", Лысенко сделал вид, что и на самом деле
разбирает усредненные, а не суммированные цифры. Поскольку вес корней в каждой
лунке был в таблице приведен, я без труда рассчитал средний вес. Такой
пересчет дал ряд: 66, 40, 31, 25, 20, 18, 16, 15, 14, 11 граммов на лунку. Иными
словами, по мере загущения посевов средний вес корней и в этих опытах
закономерно падал. Ни одного исключения из установленного учеными правила Лысенко
не получил! Поэтому у него не было никакого основания произносить слова:
"На этом можно и кончить анализ вопроса о том, есть ли внутривидовая
конкуренция среди растений кок-сагыза... Для целей сельскохозяйственной практики
вопрос ясен".
Такая "логика" напоминала конфуз с опровержением законов Менделя. Очевидно,
что тот случай ничему не научил "колхозного академика", схожими
арифметическими подтасовками он теперь обосновывал ошибочность центрального положения
дарвинизма.
С 5-го января 1946 года газета "Социалистическое земледелие" начала из
номера в номер печатать статью "продолжателя" дела Дарвина, как Лысенко сам
себя аттестовал, под тем же названием "Естественный отбор и внутривидовая
конкуренция". Тогда академик ВАСХНИЛ П.М. Жуковский опубликовал в журнале
"Селекция и семеноводство" свои критические заметки, названные "Дарвинизм в
кривом зеркале". В ответ Лысенко применил двоякую тактику. Чтобы создать
впечатление всеобщей поддержки его "новой теории", он принялся переиздавать свою
статью снова и снова в разных изданиях. Этим создавалась видимость
исключительной важности "новой теории". Раз перепечатывают одну и ту же статью,
значит, есть что-то выдающееся в ней. С другой стороны, чтобы преподать урок
всем последующим критикам, был нанесен удар по первому критику - Жуковскому.
28 июня 1948 года в "Правде" был напечатан ответ Лысенко - грубый и по
названию и по содержанию: "Не в свои сани не садись". Критик был представлен в
таком виде:
"Автор рецензии весьма обстоятельно показал свое незнание теории дарвинизма
и большую способность к извращению смысла приводимых им цитат других авторов.
Этим только и интересна указанная рецензия...
. . .В своей статье я отрицаю внутривидовую борьбу и признаю межвидовую.
Жуковский ничего этого не понял по причине непонимания элементарных основ
теории дарвинизма, но все же решил возражать как угодно и чем угодно...".
Лысенко несомненно надеялся, что после публикации в "Правде", все критики
могут думать втайне всё, что им заблагорассудится, но уже не будут открыто
спорить с ним. Раз "Правда" его поддержала, то и правда на его стороне.
Смена отношения к Лысенко
у некоторых высших
руководителей страны
Война 1941-1945 годов разрушила сельское хозяйство на территории
европейской части СССР, а неэффективная система коллективизированного сельского
сектора советской экономики не могла справиться с все возраставшими трудностями.
К тому же малоурожайным оказался 1946 год, а в 1947 году страну потряс
чудовищный неурожай сразу во всех земледельческих зонах - и в европейской части,
и в Сибири, и в Казахстане. "На Украине в 1946 году был страшный голод,
имелись случаи людоедства", - признал в 1957 году Хрущев на пленуме ЦК партии.
В этих условиях от Лысенко, ставшего единовластным хозяином в биологии и
агрономии в СССР, требовалось обеспечить претворение в жизнь таких научных
разработок, которые бы дали возможность хоть как-то облегчить тяжелую
ситуацию, а он вместо этого выдавал легковесные рекомендации, причем не столь
масштабные, как раньше, и даже неспециалистам казавшиеся примитивными. Например,
выступая в 1946 году на открытом партийном собрании ВАСХНИЛ, он предложил для
борьбы с пыреем в сибирских степях дисковать осенью поле ("Но это нужно
делать только поздней осенью, сделай это раньше и пырей не будет
ликвидирован") . Впервые на этом собрании он заговорил о роковой для него идее, которую
в будущем особенно успешно используют против него же критики, о том, что все
питательные вещества, потребляемые растениями, сначала перерабатываются поч-
венными микробами.
"В почве растения... питаются продуктами жизнедеятельности микробов. Все
удобрения, которые мы вносим в почву, даже в усвояемой форме, все равно
прежде поглощаются микрофлорой, и уже продукты жизнедеятельности микрофлоры
питают наши сельскохозяйственные растения".
Несомненно, что и в среде высшего руководства страны, а не только среди
ученых, были люди, которые с настороженностью относились к предложениям
Лысенко, сменявшим друг друга, но не приносившим реальной пользы. Сейчас можно
говорить с уверенностью, что недолюбливал Президента ВАСХНИЛ секретарь ЦК
партии по идеологии Андрей Александрович Жданов, резко отрицательно относился
к деятельности Лысенко руководитель Управления пропаганды и агитации ЦК
ВКП(б) Георгий Федорович Александров. Серьезные шаги по исправлению
сложившегося в советской биологии зажима генетики, начиная с 1943 года, пытался
осуществить заведующий Отделом науки Управления пропаганды и агитации
Центрального Комитета партии Сергей Георгиевич Суворов.
Была еще одна причина роста недоверия к Лысенко. Перед войной средства
массовой информации постоянно восславляли не только самого Трофима Денисовича,
но и его семью - отца, братьев. Многие помнили письмо его родителей Сталину,
опубликованное в "Правде" после награждения их сына Трофима в 1935 году
первым орденом Ленина. В письме родители благодарили Сталина за то, что "жить
стало лучше, жить стало веселей", за ту замечательную судьбу, которой одарила
советская власть не одного Трофима, но и его братьев и сестер и самих
родителей. Были в письме такие строки:
"Закончив институты, младшие работают сейчас инженерами: один - на
Уральской шахте, другой - в Харьковском научном институте, а старший сын -
академик. Есть ли еще такая страна в мире, где сын бедного крестьянина стал бы
академиком? Нет! ...".
Перед самой войной один из номеров журнала "СССР на стройке" (затем
называвшегося "Советский Союз") был практически целиком посвящен прославлению
семьи Лысенко - страницы журнала были заполнены фотографиями её членов.
Рассказано было и о младшем брате Трофима, также ученом, металлурге по
специальности. Жил он в Харькове, был заносчив и хвастлив, и многие знали, что с теми,
кто был ему не симпатичен, он расправлялся самым простым способом - писал на
них "куда надо" доносы, после чего люди исчезали.
Этот братец и подложил Трофиму свинью. Когда фашистские войска подошли к
Харькову, он не стал эвакуироваться, скрылся и вынырнул только после того,
как фашисты захватили город, открыто перейдя на службу к ним. Брата великого
Лысенко - любимца Сталина и президента ВАСХНИЛ - оккупанты приняли с
почестями. Он был назначен бургомистром Харькова. Город несколько раз переходил из
рук в руки, и каждый раз фашисты увозили с собой младшего Лысенко, а затем,
возвращаясь, водворяли бургомистра на прежнее место. После войны он так и
исчез из России, оказался в США.
По теперешним законам брат за брата не ответчик. Сегодня - и по-
человечески, и формально - Лысенко мог бы не беспокоиться о возможности
наказания за действия своего родственника. Но в сталинские времена был даже
юридический термин "член семьи врага народа". Таких людей сажали и ссылали
наравне с осужденными. Поэтому можно представить то щекотливое положение, в
какое поставил Президента ВАСХНИЛ его брат.
В конце 1944 года ведущую роль в попытках показать руководству страны, что
позиции Лысенко вошли в противоречие с мировой наукой, что авторитет
Советского Союза страдает на мировой арене из-за распространения сведений о том,
что партийные лидеры страны безоговорочно поддерживают Лысенко и плохо
относятся к генетикам, стал играть профессор Тимирязевской сельскохозяйственной
Академии А.Р. Жебрак.
Антон Романович Жебрак (1901 года рождения) не был рядовым исследователем.
Коммунист с 1918 года, участник Гражданской войны он окончил не только
Тимирязевскую сельскохозяйственную академию в 1925 году, но и Институт красной
профессуры в 1929 году. Он заинтересовался генетикой и был командирован для
более углубленной специализации в США, где работал в Колумбийском
университете в лаборатории профессора Лесли Данна (в СССР его фамилию писали Дэнн),
соавтора самого известного послевоенного учебника по генетике Синнота и Дэнна,
и в Калифорнийском технологическом институте у основателя хромосомной теории
наследственности Томаса Моргана (в 1930-1931 годах). Возвратившись на родину,
Антон Романович стал профессором кафедры генетики и селекции Академии
социалистического земледелия (1931-1936 г.г.), а с 1934 года, оставаясь
профессором этой Академии, возглавил аналогичную кафедру в Тимирязевской академии.
Спокойный и рассудительный человек, не блиставший талантами оратора, да и
вообще немногословный, он брал не жестикуляцией и артикуляцией, а солидностью и
основательностью. От всей его фигуры - коренастого крепыша чуть ниже среднего
роста, круглоголового, с пышной шевелюрой - веяло силой и трезвым умом.
Родился он в Белоруссии, не был так ярок и блистателен, как Серебровский, не
лез в теоретики, как Дубинин, был и попроще и одновременно - особенно в
глазах партийных боссов - поосновательнее, чем все эти видные фигуры в стане
генетиков . И работал он не с дрозофилой, а с пшеницей, успехи его в этом плане
были заметными. Он поддерживал генетиков и в 1936 году, и в 1939-м, может
быть, не так напористо, как кое-кто из его коллег, но принципиально и твердо.
Недаром Презент желчно охаивал даже рукописные жебраковские работы.
Выступления Жебрака в стане генетиков не мешали неторопливому Антону
Романовичу идти вверх: в 1940 году его избрали академиком Белорусской АН. В марте
1945 года он был послан в Софию в качестве представителя Белоруссии на
Всеславянском Соборе, в мае он побывал в Сан-Франциско и среди других
учредителей Организации Объединенных Наций поставил свою подпись под уставом ООН и
декларацией о начале ее деятельности. Таким образом, вес неодобрительного
высказывания Жебрака в адрес Лысенко был достаточно большим.
В конце 1944 года он начал подготовку большого письма Г.М. Маленкову,
которое было отправлено в ЦК партии в начале 1945 года. В нем Жебрак кратко
описал выступление своего бывшего шефа во время работы в США - профессора
Колумбийского университета (Нью-Йорк) Лэсли Данна на заседании Конгресса США 7
ноября 1943 года, посвященном 10-летию установления советско-американских
отношений, и статью профессора Гарвардского университета Карла Сакса. В целом
Данн дал благожелательную оценку развитию биологии в СССР. Карл Сакс не
соглашался с благодушными оценками Данна и призывал коллег "не быть
ослепленными нашим восхищением русским народом и его военными успехами... и не забывать
о том, что наука в тоталитарном государстве не является свободной и вынуждена
подстраиваться под политическую философию". Сакс утверждал, что в последние
десятилетия Лысенко получил правительственную поддержку из-за своих
политических , а не научных взглядов.
Жебрак использовал полемику между двумя американскими генетиками и
постарался в письме Маленкову показать, как вредна для СССР борьба Лысенко с
генетикой :
"Что касается борьбы против современной генетики, то она ведется в СССР
только ак. Лысенко... Приходится признать, что деятельность ак. Лысенко в
области генетики, "философские" выступления его многолетнего соратника т.
Презента , утверждавшего, что генетику надо отвергнуть, так как она якобы
противоречит принципам марксизма, и выступление т. Митина, определившего
современную генетику как реакционное консервативное направление в науке, привели к
падению уровня генетической науки в СССР... Необходимо признать, что
деятельность ак. Лысенко в области генетики наносит серьезный вред развитию биологи-
ческой науки в нашей стране и роняет международный престиж советской науки".
Жебрак отмечал, что Лысенко, "много раз объявлявший современную генетику
лженаукой", став директором Института генетики АН СССР, "сократил всех
основных работников Института и превратил Институт генетики в штаб вульгарной и
бесцеремонной борьбы против мировой и русской генетической науки". Жебрак
предлагал объявить вредными "выступления ак. Лысенко, Митина и др.", изменить
направление работы всей ВАСХНИЛ, сменить руководство институтом генетики АН
СССР, начать издавать "Советский генетический журнал", командировать
представителей генетиков в США и Англию "для обмена опытом и для ознакомления с
успехами" в науке. Эти слова, если только они стали известны лидеру
"мичуринцев" и их философскому "гуру" - Митина, не могли не вызвать у них взрыва
негодования .
Хотя в архивах коммунистов не найдено письменного ответа Маленкова Жебраку,
не может быть случайностью, на мой взгляд, то, что через короткое время после
отправки первого письма, Жебрак пишет второе письмо Маленкову, в котором уже
докладывает, что "составил начальный проект ответа Саксу, который посылаю Вам
на рассмотрение". Так же не случайно, что Маленков собственноручно
проставляет на втором письме резолюцию начальнику Управления пропаганды и агитации ЦК
ВКП(б) Г.Ф. Александрову, в которой, указывая очевидно на оба письма Жебрака,
приказывает: "Прошу ознакомиться с этими записками и переговорить со мной.
Г.М. Маленков, 11/11" (то есть, 11 февраля 1945 года, выделено мной - B.C.).
В скором времени (16 апреля 1945 года) Жебрак был принят вторым после Сталина
человеком в руководстве страной - Молотовым, после чего с 1 сентября 1945 г.
Жебрак приступил к работе в должности заведующего отделом
сельскохозяйственной литературы Управления пропаганды и агитации ЦК ВКП(б) (не бросая
преподавательскую работу) и проработал в этой должности до апреля 1946 года. В
начале 1947 года Жебрак был проведен в депутаты Верховного Совета БССР, а 12 мая
1947 года назначен Советом Министров БССР Президентом Академии наук БССР,
сохранив за собой кафедру генетики и селекции в Московской Тимирязевской
академии.
Сын Жебрака, Эдуард Антонович, в 1976 году в частной беседе сообщил мне,
что в результате переговоров с Молотовым и Маленковым Антон Романович получил
одобрение его идеи - написать ответ Саксу и попытаться опубликовать его в том
же американском журнале "Science" ("Наука"), в котором появилась статья
Сакса. Сын Жебрака также утверждал, что в принятии решения направить эту статью
на Запад принимал участие Н.А. Вознесенский, а непосредственное разрешение на
отправку статьи в США было дано начальником Совинформбюро (во времена войны
самым высоким органом советской цензуры), также членом Политбюро, А.С.
Щербаковым. Материалы архивов свидетельствуют, что до этого её завизировал 25
апреля 1945 года ответственный сотрудник Совинформбюро А.С. Кружков (в будущем
директор Института марксизма-ленинизма при ЦК ВКП(б) и член-корреспондент АН
СССР). Статья Жебрака вышла в свет в октябре 1945 года.
Жебрак постарался сгладить неблагоприятные оценки Сакса и перечислил ряд
советских лабораторий, в которых работают генетики, упомянул прошедшую
успешно в Московском университете 12-19 декабря 1944 года генетическую
конференцию, указал на практическую работу по выведению новых сортов растений
селекционерами, признающими генетику. Сакс упоминал в своей статье трех генетиков,
по его мнению, исчезнувших из науки, - Вавилова, Карпеченко и Навашина.
Умолчав о судьбе первых двух, Жебрак сослался на четыре недавно опубликованных и
две сданных в печать статьи Навашина, заявив, что "эти работы
свидетельствуют, что он не был вынужден прекратить или изменить свою научную деятельность
под влиянием политического диктата". В остальном Жебрак, как того требовали
партийные каноны того времени, постарался отвергнуть заявления профессора
Сакса, многократно повторив, что советское правительство никакого давления на
науку не оказывает, в споры генетиков с Лысенко никогда не вмешивалось,
награждало орденами как Лысенко, так и генетиков, причем даже тех, кто резко
критиковал Лысенко. По его словам, "...влияние деятельности акад. Лысенко на
развитие генетики в СССР... осуществлялось в условиях свободной борьбы мнений
между сторонниками различных научных воззрений и принципов, а не посредством
политического давления, как говорит проф. Сакс". Вторая половина статьи Жеб-
рака была пронизана утверждениями, что СССР - вовсе не тоталитарное
государство, что наука в стране свободна, что Сакс "не понимает сущности советской
концепции о связи науки, практики и философии", что диалектический
материализм может только помогать ученым, а не сковывать их мышление и прочее и
прочее. Он писал о Ленине, как о деятеле, "прошедшем большую школу науки и
философии диалектического материализма, и его продолжатель - И.В. Сталин
продолжил и усилил научную и философскую основу... государства". О самом
государстве и порядках, установленных в нем коммунистами, Жебрак высказался тоже,
заявив, что "советские порядки" - это "высшая форма демократии, поскольку у нас
все органы государственной власти выбираются всем народом на основе нашей
демократической конституции".
Могло быть несколько причин, побудивших некоторых руководителей страны и в
их числе Н.А. Вознесенского (ставшего в 35 лет председателем важнейшего
государственного органа - Госплана СССР, а затем и членом Политбюро ЦК)
инициировать критику Лысенко. Им стал известен реальный размер провалов в экономике
страны, в том числе и из-за деятельности Лысенко (вряд ли доподлинно
известный Сталину, так как ближайшие подчиненные генералиссимуса в целях
самосохранения приукрашивали факты, сообщаемые вождю). Они знали также, что на Западе
высказываются неодобрительно о Советском Союзе как стране, где возможно
засилье безграмотных людей типа Лысенко, где без всякого на то основания
арестовали и погубили Вавилова, Карпеченко, Левитского и других генетиков. Не надо
забывать, что на Западе плодотворно работали выходцы из России, прекрасно
разбиравшиеся в ситуации на родине и занявшие высокое положение в научных и
университетских кругах - генетики Ф.Г. Добржанский, М.И. Лернер и Н.В.
Тимофеев-Ресовский, физиолог растений А.Г. Ланг, огромным авторитетом пользовался
Нобелевский лауреат Герман Мёллер, вернувшийся в США после пребывания в
течение ряда лет в СССР и отлично знавший состояние советских генетических
дискуссий. В декабре 1988 года Нобелевский лауреат Дж. Уотсон рассказал мне, как
его учитель Мёллер, ставший с 1945 года профессором Индианского университета,
подробно объяснял своим студентам, что собой представляет Лысенко и что такое
лысенкоизм. Об этом же мне рассказывал профессор нашей кафедры в университете
имени Джорджа Мзйсона Стивен Тауб, несколько лет проработавший с Мёллером в
Индиане.
В том же 1945 году у Лысенко выявились очевидные трудности на другом
поприще. Президент и Академик-секретарь АН СССР (СИ. Вавилов и Н.Г. Бруевич,
соответственно) в декабре 1945 года внесли предложение в ЦК партии и
Правительство о замене ряда членов Президиума АН СССР новыми людьми, и среди
предлагаемых к исключению из членов Президиума были проставлены фамилии Лысенко и
Митина. Это предложение начало прорабатываться в ЦК, и Г.Ф. Александров в
письме на имя Молотова и Маленкова, с одной стороны, заявил, что "можно было
бы согласиться с мнением академиков", а, с другой, дал макиавеллевское
объяснение ситуации. Александров отметил, что Лысенко "было бы целесообразно
выбрать в новый состав президиума", но тут же пустился в длинное объяснение,
наводившее на мысль, что академики, скорее всего, в ходе тайного голосования
провалят кандидатуру Лысенко на выборах за серьезные грехи:
"Многие академики скептически относятся к научным исследованиям акад.
Лысенко; винят его в том, что генетика, успешно развивающаяся в других странах,
задавлена в СССР; в том, что академия сельскохозяйственных наук развалена,
превращена в вотчину ее президента и перестала быть работающим научным
коллективом; обвиняют в некорректном отношении к уважаемым советским ученым, в
нетактичном поведении при приеме иностранных гостей во время юбилейной
сессии. . . На прошлых выборах президиума (в 1942 г. - B.C.) акад. Лысенко,
несмотря на поддержку его кандидатуры директивными органами, получил при тайном
голосовании лишь 36 голосов из 60, меньше, чем кто-либо другой".
Симптоматичным было присуждение Сталинских премий в 1946 году специалистам,
которые были известны негативным отношением к Лысенко: академику Василию
Сергеевичу Немчинову за труд "Сельскохозяйственная статистика" (сама наука
статистика была противна духу Лысенко: она вносила понятия меры и количества в
сферу, где Лысенко опирался на интуицию и словесные декларации), и профессору
(в будущем почетному академику ВАСХНИЛ) Виталию Ивановичу Эдельштейну за
учебник "Овощеводство".
И хотя Лысенко еще продолжал занимать высокие посты (его, например, в
очередной раз избрали заместителем председателя Совета Союза Верховного Совета
СССР, и по этому поводу в "Правде" появилась, как в прежние времена,
фотография, на которой Лысенко был изображен восседающим в президиуме в Кремле рядом
со Сталиным в момент, когда Н. С. Хрущев вносил предложение об утверждении
представленного Сталиным состава Совета Министров СССР, но министр земледелия
СССР Бенедиктов в статье, опубликованной в те же дни, не сказал ни слова о
Лысенко или мичуринцах.
Лысенко обличает ученых-генетиков.
Вопрос "О Всесоюзной академии сельскохозяйственных наук имени В. И. Ленина"
был включен в повестку дня Секретариата ЦК ВКП(б) 28 ноября 1946 года.
Основанием для включения этого вопроса послужило письмо министра земледелия СССР
И.А. Бенедиктова, министра технических культур СССР Н.А. Скворцова (позже
министр совхозов СССР) и министра животноводства СССР А.И. Козлова,
предлагавших укрепить позиции Лысенко в ВАСХНИЛ путем выбора новых членов академии
(разумеется, министры имели ввиду, что пополнение придет из числа сторонников
мичуринского учения). По неизвестной причине обсуждение на Секретариате про-
шло не столь гладко, как того хотелось авторам письма. Вместо немедленного
принятия решения партийный орган назначил комиссию из сотрудников аппарата ЦК
"...в составе тт. Боркова (созыв), Суворова и Сороко...[которым
предписывалось] изучить этот вопрос и результаты доложить Секретариату ЦК ВКП(б) к 15
декабря ср.". Однако в назначенный срок вопрос обсужден не был, с чьего-то
позволения (или указания!) созданная комиссия долго тянула с подготовкой
доклада для Секретариата ЦК: она завершила свою работу лишь в начале апреля 1947
года. Обсуждение важного вопроса оттянулось на более дальнее время, что дало
Лысенко дополнительное время, чтобы постараться развести тучи над головой.
Общеполитическая ситуация в стране стала к этому времени меняться. В 1946
году А.А. Жданов приступил к воплощению в жизнь "священной" воли Сталина в
серии партийных докладов, направленных против интеллигенции: он прочел первую
из своих погромных речей о якобы неверной позиции журналов "Звезда" и
"Ленинград" . За ней последовали речи с нападками на композиторов и
кинематографистов, философов и историков, даже тех, кто неверно интерпретировал восстание
рабов в Древнем Риме. Реакционное, и по сути и по форме, наступление на
интеллектуалов в стране ширилось. Летом 1947 года прошла вторая дискуссия по
книге Г.Ф. Александрова "История западноевропейской философии", на которой
книгу разругали. По результатам дискуссии, направлявшейся лично Сталиным,
идеологические гонения обрушились на всю философию в СССР.
В ЦК партии начинают
рассматривать предложение
ученых о создании
нового генетического института
в составе Академии Наук СССР
В 1946 году в Академии наук СССР наращивали усилия по созданию нового
генетического института, в котором предполагалось развернуть исследования в
области современной генетики. Инициатором стал Жебрак (в частности, он направил
еще одно письмо Маленкову 1 марта 1946 года), он привлек к этому делу
Дубинина и вдвоем они составили план будущего института. Новый Президент Академии
наук, родной брат Н.И. Вавилова, - Сергей Иванович на первых порах после его
выдвижения Сталиным на этот пост 17 июля 1945 года активно способствовал
организации этого института. Вопрос о создании нового института был рассмотрен
первым пунктом на заседании Президиума АН СССР 18 июня 1946 года. Подавляющим
большинством голосов идея была одобрена. Против проголосовали всего двое -
Лысенко и Н.С. Державин.
Несомненно на пустом месте идеи о создании академических институтов не
возникают . Очевидно, что вопрос предварительно обговаривался с руководителями
страны. Бюро Отделения биологических наук одобрило как идею создания
Института цитологии и генетики, так и перспективный план его исследований, а отдел
кадров Академии начал выделять ставки для зачисления сотрудников в будущий
институт. Это означало для тех, кто знал неписанные правила взаимоотношений
на верхах, что вопрос уже согласован настолько, что можно начинать
практические шаги.
24 января 1947 года СИ. Вавилов и Академик-секретарь АН СССР Н.Г. Бруевич
направили заместителю Председателя Совета Министров СССР Л.П. Берия письмо, в
котором на трех страницах были изложены научные и организационные предпосылки
создания нового института. Бывший кольцовский институт, переименованный в
Институт цитологии, гистологии и эмбриологии, было предложено разделить на два:
институт с прежним названием и Институт генетики и цитологии. Уже во втором
абзаце письма главный довод в пользу учреждения нового научного центра был
объяснен без утайки:
"Необходимость создания [нового института] вызывается тем, что существующий
Институт генетики, возглавляемый академиком Т.Д. Лысенко, разрабатывает в
основном проблемы мичуринской генетики. Проектируемый Институт генетики и
цитологии будет разрабатывать другие направления общей и теоретической генетики".
Затем были перечислены пять главных проблем, по которым планировалась
работа института (в том числе третьим пунктом была названа "разработка методов
физики и биохимии в проблеме наследственности"), описана структура будущих
лабораторий, указано, что "в настоящее время кадры для Института генетики и
цитологии представлены 8-ю докторами наук и 14-ю кандидатами" и высказано
предложение о территориальном размещении института.
Несколько зловеще для судьбы нового детища звучал последний абзац письма.
Разумеется, Президиум АН не мог рассматривать такой важный вопрос в тайне от
члена Президиума Лысенко, и столь же очевидно, что Лысенко восстал против
него, написав еще 4 июля 1946 года "Особое мнение". Пришлось приложить не
только проект постановления Совета Министров СССР и "список научных работников",
которых предполагалось привлечь в новый центр, но и двухстраничный протест
Лысенко по этому поводу:
"Уверен, что члены Президиума, дружно голосовавшие... за организацию
указанного института не в курсе дел генетической науки в нашей стране. Они не
знают, что мотив открытия нового Института вовсе не нового характера. Ярким
доказательством сказанного является хотя бы то, что сделанное на заседании
заявление директора будущего института А.Р. Жебрака о том, что новый институт
восстановит прошлые славные традиции генетики в Академии Наук СССР на членов
Президиума произвели благоприятное впечатление. А ведь эти "славные"
традиции. .. состоят только в том, что, например, бывший институт Кольцова
(генетическую лабораторию которого хотят теперь превратить в институт) разрабатывал
и опубликовывал антинаучные евгенические положения. В том, что менделизм-
морганизм вообще является одной из "научных" основ евгеники, легко убедиться,
прочитав хотя бы статью профессора Презента "О лженаучных теориях в
генетике", опубликованную в журнале "Яровизация" 2 за 1939 год.
Организация нового Института генетики и цитологии вызвана желанием авторов
этого предложения (слепых последователей реакционного течения зарубежной
науки) еще больше развить в нашей стране менделизм-морганизм в ущерб советской
мичуринской генетике. В подкрепление этого я мог бы привести много примеров.
Правильность развития генетической науки... в значительно большей степени,
чем другие разделы естествознания зависит от той или иной идеологии, т.е. от
того или иного философского направления исследователей. Поэтому в вопросах
генетической науки советским ученым не к лицу слепо следовать по стопам
буржуазной генетики, занимающейся за рубежом не столько биологическими
вопросами, сколько социологическими, независимо от объекта, над которым ведет
эксперименты .
Вот почему я считал и считаю неправильным организацию указанного института,
перед которым ставится цель разрабатывать... менделизм-морганизм, направление
противоположное мичуринскому, творческому дарвинизму.
Член Президиума АН СССР
директор Института генетики
академик - Т.Д. Лысенко".
Но видимо СИ. Вавилов и члены Президиума надеялись, что протест Лысенко
принят во внимание не будет. Во всяком случае все документы ушли в
секретариат Берии в понедельник 27 января, а уже через два дня Берия направил их
секретарю ЦК А.А. Кузнецову с резолюцией-просьбой "Прошу рассмотреть и решить в
ЦК ВКП(б)". Видимо именно в этот момент на первой странице письма Президиума
появился штамп "Секретно". Срочность в решении вопросов отпала в связи с
резолюцией, написанной Кузнецовым на отдельном листе бумаги рукой: "Целесооб-
разно решить в связи с вопрос [ом] заслушивания доклада Лысенко в июне в ОБ
[Оргбюро ЦК ВКП(б)] АК[узнецов]. Ниже добавилась еще строка: "Согласен
Жданов". Хотя под резолюцией не стоит дата, ее легко вычислить. Скорее всего она
появилась в тот же день, что и бериевская резолюция, так как через день, 1
февраля 1947 года на документах был проставлен штамп, что их пересылают "Тех-
с[овету] Оргбюро ЦК ВКП(б)п. Оттуда они были направлены, как того и следовало
ожидать, в Отдел науки Управления агитации и пропаганды. Однако то, что
Кузнецов связал решение этого вопроса с будущим докладом Лысенко на Оргбюро ЦК,
примечательно. Само решение о том, что Лысенко будет вызван в Оргбюро с
отчетом "О положении во Всесоюзной академии сельскохозяйственных наук" нигде не
фигурировало - оно было принято лишь двумя с половиной месяцами позже - 16
апреля 1947 года, а из резолюции Кузнецова следовало, что уже в первый день
февраля этот секретарь ЦК ВКП(б) точно знал, что Лысенко "на ковер" вызовут,
причем вызовут в первой половине июня! Значит, в недрах секретариата ЦК
кулуарно шло обсуждение лысенковских "достижений" и уже могло быть согласовано
между собой отношение к президенту ВАСХНИЛ.
Без всякой спешки в Отделе науки ЦК ВКП(б) была подготовлена обстоятельная
записка по поводу целесообразности учреждения нового института. Подписавшие
ее 5 мая 1947 года Г. Александров и С. Суворов дали положительное заключение:
"Эту просьбу следовало бы поддержать.
... Институт генетики [т.е. лысенковский институт - B.C.] ставит своей
главной задачей разработку вегетативной гибридизации и адекватного
унаследования изменений организма под влиянием внешней среды... В соответствии с
теоретическими воззрениями академика Лысенко, руководимый им Институт не
занимается исследованиями внутриклеточного (хромосомного) механизма
наследственности и микроскопической структуры элементов (генов). Эти вопросы исследуются в
лаборатории цитогенетики. Таким образом Институт генетики и лаборатория цито-
генетики не дублируют, а в известной степени дополняют друг друга".
Важнейшей новой деталью, содержащейся в записке, было сообщение о выделении
здания, в котором должен был разместиться новый институт. За несколько лет до
этого у Академии Наук СССР было отобрано одно из зданий на нынешнем Ленинском
проспекте и передано Министерству химической промышленности СССР для
Института удобрений и инсектофунгицидов. Теперь по запросу Президиума АН СССР это
здание было возвращено Академии, в связи с чем острый для Москвы вопрос с
рабочими площадями для нового института был предрешен. Александров и Суворов
завизировали и приложили к своей записке проект Постановления Секретариата ЦК
ВКП(б), на бланке в верхнем правом углу стояла надпись "Совершенно секретно".
Оставался последний шаг - Секретариат и Политбюро должны были принять
окончательное решение. Повторялась ситуация, складывавшаяся в 1937 году, когда
заведующий отделом науки ЦК К.Я. Бауман, понимавший обстановку и реальные нужды
науки СССР, пытался поддержать генетиков. Суворов с Александровым десятью
годами позже также выступили принципиально мыслящими политиками. Дело
оставалось за людьми на высшем уровне партийной власти.
Лысенкоисты из высших
сельскохозяйственных
кругов нападают на генетиков
Конечно, готовить тайно в недрах ЦК партии такие документы и думать, что
сторонники Лысенко (которых в этих органах было гораздо больше, чем их
недоброжелателей) про эту деятельность не узнают, было наивно. Потому нет ничего
удивительного, что параллельно лысенковцы начали настоящее наступление на
генетиков по нескольким линиям. Прежде всего необходимо было дискредитировать
любой ценой Жебрака, которого прочили на пост директора нового института.
Нужно было нападать и на других недругов.
Генетикам к этому времени тоже было ясно, что без активных наступательных
действий против не только лично Лысенко, а против всего комплекса лысенковщи-
ны дела не выиграть. Свою задачу генетики видели в том, чтобы наглядно
показывать, какие практические и теоретические успехи были получены ими за
последние годы, как делами они отвечают на "отеческую заботу партии и
правительства и лично товарища Сталина". Ученый Совет биофака МГУ решил
подготовить и провести 2-ю генетическую конференцию. Она была запланирована на 21 -
26 марта 1947 года. За три месяца до начала конференции приглашения для
выступлений были направлены и Лысенко, и его сотрудникам. Лысенко, конечно,
сказать о его научных результатах было нечего, он даже на приглашение не
ответил, но Нуждин, Кушнер и еще несколько "мичуринцев" выступили с докладами.
В целом же конференция показала, что, несмотря на трудности, генетики в СССР
продолжают работать, что даже их практические достижения, в особенности в
области получения высокоурожайных тетраплоидных форм растений, велики.
Организацию конференции взяли на себя сотрудники кафедры генетики, которой
руководил А.С. Серебровский. Сам заведующий принимать участия в работе не мох1, он
уже не ходил, не мох1 говорить, и всё делали в основном секретарь
парторганизации биофака СИ. Алиханян и молодые сотрудники кафедры.
Для того, чтобы настроить высших партийных руководителей против тех, кто
проводил конференцию, лысенковцы избрали давно проверенный метод. А.А.
Жданову и Г.М. Маленкову 27 марта 1947 хюда было направлено письмо, подписанное
министром с.х. СССР И.А. Бенедиктовым, его первым заместителем П.П. Лобановым
и зав. сельхозотделом ЦК А.И. Козловым. Начиналось письмо перечислением
старых евгенических пристрастий Серебровскохю. Они приводили на первой странице
две цитаты из работы, опубликованной еще в 1929 году:
"Решение вопроса по организации отбора в человеческом обществе несомненно
возможно будет только при социализме после окончательного разрушения семьи,
перехода к социалистическому воспитанию и отделению любви от деторождения" и
" . . . при известной мужчинам громадной спермообразовательной деятельности. ..
от одного выдающегося и ценного производителя можно будет получить до 1000 и
даже 10000 детей. При таких условиях селекция человека пойдет вперед
гигантскими шагами. И отдельные женщины и целые коммуны будут тогда гордиться не
"своими" детьми, а своими успехами и достижениями в этой удивительной
области, в области создания новых форм человека".
"И этому Серебровскому поручено открытие и проведение конференции", -
гневались авторы письма. А на второй странице они перечисляли названия шести
докладов о генетике дрозофилы, представленных на конференции, и сокрушались:
"...неизвестно для чего поставлены на обсуждение такие доклады". Авторы
письма в ЦК и Совмин предлагали "поручить специальной группе работников при
участии академика Т.Д. Лысенко рассмотреть все материалы... конференции". Жданов
тут же написал на их письме резолюцию Г.Ф. Александрову: "Срочно узнайте, в
чем дело". 15 апреля Александров представил написанный Суворовым разбор этой
жалобы, в котором было показано, что ни в одном пункте авторы письма не
сообщили в ЦК партии верной информации и что никакой крамолы в действиях
генетиков не было. Письмо заканчивалось фразой:
"Все изложенное позволяет считать генетическую конференцию, проведенную в
Московском университете, весьма полезной, а попытку тт. Бенедиктова, Лобанова
и Козлова опорочить ее - несправедливой, основанной на односторонней
информации" .
Письмо Бенедиктова, Лобанова и Козлова было показано Жебраку, который
вместе с СИ. Алиханяном направили 28 апреля А.А. Жданову свое письмо с
изложением их понимания действий сторонников Лысенко.
"В полемике непрерывно извращаются взгляды генетиков... фальсифицируется
диалектический материализм, полемика, особенно устная, ведется в угрожающем
тоне политического шантажа и т.д.
Мы считаем такой метод со стороны Лысенко и его ближайшего окружения
совершенно недопустимым по отношению к советским ученым...
Генетика теснейшим образом связана с нашим сельским хозяйством. Поэтому
наши разногласия имеют государственный характер".
Однако главный вопрос, вокруг которого в тот момент шла борьба
противоборствующих сил, касался не мелкого повода прицепиться к делам и словам на
конференции в МГУ. В упомянутом выше письме Бенедиктова, Скворцова и Козлова,
направленного в Секретариат ЦК ВКП(б) осенью 1946 года, главное внимание было
уделено тому, что Президенту ВАСХНИЛ Лысенко работается в этой академии
плохо , так как академия не составлена полностью из его сторонников. Министры
предлагали срочно провести довыборы членов академии.
Именно этот вопрос стал центральным для руководящих органов ЦК. И на
Оргбюро, и на Секретариате ЦК домогательства Лысенко звучали много раз.
Воспользовавшись мнением трех влиятельных руководителей сельского хозяйства, можно
было или восстановить генетику в правах и окончательно загнать Лысенко в угол,
или, напротив, предоставить ему полную свободу для политической расправы с
оппонентами. Письма Суворова в Секретарит ЦК, позиция Александрова, по-
видимому А.А. Жданова, Вознесенского и других указывала на то, что второй
вариант вряд ли теперь будет возможен. Уже на следующий день после отправки
двух упомянутых выше писем Суворова Жданову состоялось заседание
Организационного бюро ЦК ВКП(б), на котором был рассмотрен доклад комиссии ЦК ВКП(б),
созданной еще в ноябре 1946 года (см. выше в этой главе) . Члены комиссии Г.
Борков, С. Суворов и Н. Сороко в целом дали отрицательный отзыв о
деятельности Лысенко на посту Президента ВАСХНИЛ:
"Всесоюзная академия сельскохозяйственных наук имени В.И. Ленина
значительно отстает в своей работе от требований и запросов, предъявляемых к ней
сельским хозяйством, замкнулась в узком кругу агробиологических проблем...
Лысенко" .
Затем было раскрыто без всякой утайки бедственное положение с кадрами
руководителей ВАСХНИЛ, сказано, что многие члены академии прекратили в ней работу
из-за несогласий с Лысенко, а вице-президент Цицин по той же причине даже
перестал посещать пленарные заседания. Поэтому авторы доклада считали, что
нужно срочно провести довыборы настоящих ученых в ВАСХНИЛ, чтобы улучшить
качественный состав этой вотчины Лысенко. Из доклада становится понятной позиция
самого Лысенко. Он, конечно, понял тяжесть надвигающейся угрозы и решил
крайними мерами добиться восстановления своей монополии. Он буквально потребовал,
чтобы Совет Министров СССР признал факт идейной борьбы между его сторонниками
(теперь помимо названия "мичуринцы" он добавил слово "дарвинисты") и
остальными биологами, признающими законы генетики (их Лысенко обзывал
"менделистами -морганистами" в одном месте и "неодарвинистами" в другом). Признав этот
факт, правительство, как этого требовал Лысенко, должно было объявить
директивно, что правда в многолетних спорах - на стороне лысенковцев-мичуринцев.
Если такого политического (можно назвать иначе: полицейского) решения принято
не будет, то Лысенко объявлял о своем несогласии проводить довыборы новых
членов академии. Он сделал даже еще более жесткое заявление: не нужно довыби-
рать академиков, нужно их просто назначить специальным Постановлением Совета
Министров СССР по списку, который он представит.
Ответ на такое демагогическое по сути заявление, казалось бы, был очевиден.
Борьба мнений в науке - единственный залог её рационального развития, однако,
это было справедливо для любого общества, но не для идеологизированного
советского общества. Вместо отповеди монополисту, требующему для себя еще
большей монополии, Борков, Суворов и Сороко заняли иную позицию. Сохранявшаяся
годами поддержка Лысенко лично Сталиным была фактором, который аппаратчики из
ЦК ВКП(б) не могли не учитывать. Поэтому, всё понимая, свой документ они
писали очень осторожно. Требование Лысенко было описано без лишних эмоций,
будто в нем ничего противоестественного не было, а научные оппоненты Лысенко
были представлены не в розовых тонах. Их обозвали "метафизиками", вслед за тем
была высказана досада, что "...менделизм-морганизм... к сожалению,
преподается во всех наших вузах, а преподавание мичуринской генетики по существу
совершенно не ведется".
В резюмирующей части документа его авторы, правда, заявляли, что, по их
мнению, учитывая бедственное положение ВАСХНИЛ, нужно провести срочно
довыборы, однако подходили к вопросу по-большевистски - предлагали выборы провести
под неусыпным контролем "комиссии ЦК ВКП(б)".
Краткая запись в протоколах заседаний Оргбюро раскрывает, что же произошло
на заседании. Протокол 303 сообщает, что в присутствии Булганина, Жданова,
Кузнецова А., Маленкова, Мехлиса, Михайлова, Суслова и других был рассмотрен
вопрос о положении в ВАСХНИЛ, что были выслушаны выступления по этому вопросу
Боркова, Лысенко, Жданова, Маленкова и что было решено:
"Заслушать на Оргбюро ЦК ВКП(б) в первой половине июня 1947 г. доклад
президента Всесоюзной академии сельскохозяйственных наук им В. И. Ленина т.
Лысенко о деятельности академии.
Вопрос о выборе новых академиков в ВАСХНИЛ решить в связи с рассмотрением
доклада т. Лысенко".
Эта запись позволяет уверенно говорить то, о чем историки догадывались
давно - Лысенко в вопросе назначения академиков без выборов своего не добился,
более того, нарвался на то, что ему было предложено сначала отчитаться
полностью за деятельность академии, в которой он уже десять лет президентствовал.
Хотя это еще не было явным проигрышем, но положение становилось трудным.
Надо было искать срочно выход из положения, потому что еще один неверный шаг
мог привести к падению в пропасть. Лысенко это прекрасно понимал, так как
оставался настоящим гением кабинетных игр. Он не мог не осознавать, что и
поддержка Сталиным в одночасье могла прекратиться. Если на секретариате ЦК
расклад сил окажется не в его пользу, то, не ровен час, вождь мог принять точку
зрения коллегиального органа ЦК. Лысенко знал, что Сталину не раз было
свойственно разыгрывать роль выразителя воли масс, решений коллективов, и он мог
не пойти против своего же Секретариата в таком вопросе, как одним Лысенко
больше - одним меньше, при его теории, что незаменимых нет.
И Лысенко решает спустить обсуждение на Секретариате под откос. Его должны
были заслушать в первой половине июня 1947 года. Чтобы быть точным, то есть
не упреждая событий, но и не запаздывая по срокам, объявленным Секретариатом
ЦК, тютелька в тютельку - 14 июня, на бланке ВАСХНИЛ Лысенко пишет записочку
из четырех строк Секретарю ЦК партии Жданову, в которой сообщает, что
направляет докладную записку в Оргбюро и отчет о деятельности ВАСХНИЛ. Отчет был
чистой воды похвальбой, которой Лысенко грешил всю жизнь. На одиннадцати
страницах он перечислял 21 тему, по которым работали лысенковцы. Из отчета
вытекало, что якобы всё, что надо, ученые под его руководством делают, потому
сады цветут и нивы плодоносят. Но вряд ли кто-то в зданиях на Старой площади,
где располагался ЦК, взялся бы читать весь отчет. А вот докладная записка
была написана для начальства и содержала комбинацию двух жанров -
наступательного и плакательного. Эта смесь самодовольства с разрывающей сердце печалью
(связанной с тем, что до сих пор партия не подавила его научных противников
до конца), пронизывает всю записку от первой до последней страницы:
"...Думаю, что будет недалеко от истины сказать, что буржуазная
биологическая наука настолько же метафизична и немощна, как и буржуазные науки. . .
настоящую агробиологическую науку можно строить только в Советском Союзе, где
господствует философия диалектического материализма, где Партией и
Правительством созданы буквально все необходимые материальные и моральные условия для
теоретического творчества науки...
Меня буквально, мучает то, что я до сих пор не смог1, не сумел довести до
сведения Правительства и Партии о состоянии биологической и
сельскохозяйственной науки в стране...
В Академии с.х. наук есть много неполадок и ненормальностей, их-то я и
прошу помочь исправить. Но эти неполадки и ненормальности вовсе не те, которые
обычно указывают работники науки. Это относится и к ряду работников аппаратов
учреждений, призванных помогать и руководить сельскохозяйственной наукой.
Я отрицаю утверждение, что Академия сельскохозяйственных наук находится в
состоянии прозябания...
Беда только в том, что во многих случаях . . .в проработку руководимых мною
тем... не включались работники многих научно-исследовательских институтов...
Поэтому мне и приходится без передаточных научных звеньев искать
непосредственную связь с агрономами, колхозами и совхозами...
...Поэтому обвинять Академию в прозябании, в узости разрабатываемых проблем
считаю неверным...
Пополнить состав Академии... нужно. Но... нужно обеспечить организационный
порядок в сельскохозяйственной науке".
Таким образом Лысенко снова использовал уже не раз помогавшее ему оружие в
борьбе с учеными - политические обвинения вместо научных аргументов - и
призывал усилить его позиции, перейдя к расправе с оппонентами. Формально можно
было считать, что на поручение о постановке доклада он ответил, теперь в
аппарате ЦК надо было изучить ответ, прежде чем выносить вопрос на Оргбюро ЦК.
Это опять оттягивало время принятия решений и, в частности, решения о
создании Института генетики и цитологии АН СССР.
Как Лысенко и думал, оттягивание пошло ему на пользу. Снова он переиграл
всех критиков и в кресле удержался. А одновременно с откладыванием доклада
Лысенко отпадал и привязанный Кузнецовым к этому вопрос о новом генетическом
центре. Вполне возможно, что отодвинуть рассмотрение вопроса о новом
институте на Оргбюро и Секретариате ЦК партии Лысенко удалось с помощью лично
Сталина , который еще сохранял к нему доверие. Так или иначе, но партия не ответила
согласием на предложение Академии Наук СССР создать новый Институт. 31
декабря 1948 года рукой Секретаря ЦК партии А.А. Кузнецова на письме Лысенко, к
которому были прикреплены его докладная записка и отчет, была сделана
окончательная надпись "В архив. А. Кузнецов". История с созданием так нужного
стране генетического центра окончательно завершилась: партийные власти решили не
создавать институт для генетиков и цитологов.
Лысенкоисты решают вернуться
к статье Жебрака 1945 года
и представить её автора
предателем Родины
Верный своей доктрине "обострения классовой борьбы по мере строительства
социализма" Сталин разнообразил формы идеологического давления. Уже к концу
войны он понял, какую опасность представляет то, что сотни тысяч солдат и
офицеров его армии своими глазами увидели, как живут люди в загнивающих
капиталистических странах, настолько отсталых, что даже социалистическая
революция у них, бедных, еще не произошла. В сравнении этого образа жизни с
советскими порядками лежал взрывной заряд критицизма, и, чтобы нейтрализовать его,
сразу же после окончания войны пропагандистская машина Кремля начала
прокручивать на все лады одну тему - идеологической и технической отсталости Запа-
да, коварства империалистов, чужеродности западного образа жизни.
Одновременно У. Черчилль в фултонской лекции, произнесенной 5 марта 1946
года в присутствии Трумэна, провозгласил свою программу "отбрасывания
социализма". Началась холодная война. Содружество наций сменилось противостоянием
идеологий.
В ответ в СССР закрутились жернова новой кампании - искали тех, кто
"низкопоклонствует перед Западом", не ценит родины с большой буквы, хамелеонствует
и космополитствует. С гневом объявлялось: такие готовы продать родину, для
них одобрение западных коллег важнее чести и совести, они забывают, что и
теплоход , и паровоз, и телефон, и радио, и самолеты - впервые появились здесь,
в России. "Россия - родина слонов" - мрачно шутили острословы. И снова пошли
не пересуды, а суды с приговорами и обвинениями в предательстве, продаже на
Запад технологий, шпионаже...
14 мая 1947 года Сталин вызвал к себе писателей А. Фадеева, К. Симонова и
Б. Горбатова. В кабинете Сталина уже находился А. А. Жданов. Перед ним лежала
на столе папка с подготовленным "Закрытым письмом ЦК ВКП(б) партийным
организациям", в котором "изобличались" два советских биолога - Н.Г. Клюева и Г.И.
Роскин. Эти ученые создали препарат, обладавший, по их мнению, противораковым
действием. Препарат они назвали по первым буквам своих имен "КР", в 1946 году
издали монографию с описанием их работы, а рукопись книги взял с собой
уехавший с кратким визитом в США академик-секретарь АМН СССР В.В. Парин (получив
на это, разумеется, разрешение, подписанное министром здравоохранения СССР
Г. А. Митеревым) . В США Парин передал рукопись для ознакомления американским
ученым, это стало тут же известно советским шпионам в США, о факте передачи
рукописи чекисты немедленно донесли Сталину, и тот ухватился за этот донос,
исходя, скорее всего, из двух простеньких соображений. Во-первых, Сталин знал
Клюеву лично и, как всякий поверхностно-образованный человек, верящий в
чудесные способы спасения от коварных недугов, считал "открытие" Клюевой и Рос-
кина чем-то фантастически важным и для страны и для себя лично. Сама мысль о
том, что описание советского открытия передали в руки американцев, показалась
ему кощунственно отвратительной. Во-вторых, как человек, кристально ясно
различавший ситуации, в которых можно было наварить политический капиталец, он
сразу понял, что можно использовать факт передачи рукописи как показательный
пример "низкопоклонства перед Западом". Космополитов надо было примерно
наказать . Создателя Академии Медицинских наук и её первого академика-секретаря
Парина обвинили ни в чем ином как в шпионаже и осудили на 25 лет лагерей
строгого режима, министра Митерева с работы сняли, настало время наказать
авторов открытия и книги. Сажать и уничтожать их физически Сталин, боявшийся
смерти от рака, естественно, не стал, - вдруг пригодятся. Вызвав к себе
писателей , Сталин держал перед ними получасовую речь, в которой, по воспоминаниям
Симонова, сказал следующее:
"Простой крестьянин не пойдет из-за пустяков кланяться, не станет ломать
шапку, а вот у таких людей [как профессор Роскин или академик Парин] не
хватает достоинства, патриотизма, понимания той роли, которую играет Россия...
Вот взять такого человека, не последний человек, а перед каким-то подлецом-
иностранцем, перед ученым, который на три головы ниже его, преклоняется,
теряет достоинство. Надо бороться с духом самоуничижения у многих наших
интеллигентов" .
Разосланное по всем партийным организациям "Закрытое письмо ЦК ВКП(б)"
возвестило о наступлении нового политического климата в стране. Между 1945
годом, когда американские и советские солдаты вместе боролись против фашистов,
и 1947 годом пролегла глубокая пропасть. Теперь США и СССР, разделенные
"железным занавесом", стояли во главе разных лагерей. Совершенно изменилась
обстановка и во внутренней жизни страны Советов. В 1945 году не гулял еще по
страницам советских газет и журналов лозунг о безродных космополитах и
предателях родины, не было и разгула поддерживаемого государственной печатью
антисемитизма. Тогда еще в журнале "Крокодил" не могло появиться, как это
случилось теперь, изображение человека с утрированной еврейской внешностью,
держащего в руках книжечку с надписью ЖИД. Не Андре Жид, а просто - ЖИД. Еще не
распространилось тогда и позорное прозвище "отщепенец", которое теперь
перекатывалось по страницам советской прессы. За былое "низкопоклонство перед
Западом" можно было понести суровое наказание теперь.
Надо заметить, что с момента посылки в 1945 году Жебраком писем Маленкову и
подготовки им статьи для журнала "Science" лысенкоисты не теряли надежды
расквитаться с ним - ставшим врагом номер один. Конечно, точили они зубы и на
Н.П. Дубинина, также опубликовавшего в том же журнале, но позже, свою статью.
Они не могли забыть эти выпады и особенно резкие жебраковские слова о Лысенко
и его сторонниках, написанные в письме Маленкову в 1945 году, когда старый
большевик Жебрак делился со старшим по должности в партии товарищем
размышлениями о бедах, принесенных СССР Лысенко и его подпевалами.
"Не приходится сомневаться, что если бы не грубое административное
вмешательство со стороны ак. Лысенко... и не опорочивание генетики, которая была
объявлена социально реакционной дисциплиной со стороны руководства дискуссией
1936 г. и дискуссией 1939 г., то в настоящее время мы были бы свидетелями
огромного расцвета генетической науки в СССР и ее еще большего международного
авторитета".
Поэтому атаки на Жебрака и в какой-то мере на Дубинина не прекращались.
Так, в последнем номере журнала "Агробиология" за 1946 год (напомню, под этим
новым названием стал после войны выходить прежний журнал "Яровизация")
Презент опубликовал длинную статью, в которой обвинял Жебрака именно в
антипатриотизме, выразившимся в том, что на страницах западного издания Жебрак не
признал Лысенко великим, а даже противопоставил его советским генетикам. 6
марта 1947 года в "Ленинградской правде" появилась выжимка из этой статьи,
озаглавленная Презентом "Борьба идеологий в биологической науке",
начинавшаяся словами:
"Последние решения Центрального Комитета партии по идеологическим вопросам
ко многому обязывают партийный актив и советскую интеллигенцию. Они обязывают
вытравить какие бы то ни было остатки низкопоклоннического отношения к
зарубежным идейным веяниям, смело разоблачать буржуазную культуру, находящуюся в
состоянии маразма и растления".
Затем Презент, не выбирая изящных выражений, высказался о генетике:
"Загнивающий капитализм на империалистической стадии своего развития
породил мертворожденного ублюдка биологической науки, насквозь метафизическое,
антиисторическое учение формальной генетики".
Приведя сердитую цитату из "Вопросов ленинизма" Сталина, Презент продолжил
обругивание генетиков, но уже не западных, а советских, сообщил о том, какой
ужасный, фашистский журнал "Science (Наука)" существует в Америке,
остановился на одном из "профашистских мракобесов Карле Саксе, подвизающемся в
Гарвардском университете... - злопыхателе против марксизма", а потом сообщил
(нисколько не обинуясь откровенной ложью) , что и в СССР есть полностью с ним
согласный профессор - Жебрак:
"Карл Сакс не заслуживал бы какого бы то ни было внимания. . . Однако,
пожалуй, более интересно, до каких пределов низкопоклоннического пресмыкательства
перед заграницей может дойти профессор, живущий в советской стране и в то же
время тянущий одну и ту же ноту с г-ном Саксом. А ведь именно так поступил
профессор Тимирязевской академии А. Р. Жебрак, который в статье,
опубликованной им за границей по поводу выступления Сакса, по существу солидаризируется
с профашистом Саксом в оценке теоретических достижений нашей советской пере-
довой школы биологов, мичуринской школы, возглавляемой академиком Лысенко".
Презент назвал еще нескольких генетиков, не нравящихся ему - Н.П. Дубинина,
Ф.Х. Бахтеева, М.Л. Карпа и других (фамилии М.Е. Лобашова и Г.Г. Тинякова он
переврал). Но главный удар пришелся по персоне Жебрака. Его по требованию
Презента надлежало "разоблачить и вытравить" в первую голову.
Этот выпад желанной цели не достиг. Должного внимания на статеечку не
обратили. Тогда Презент отправил ее еще раз - в центральную газету "Культура и
жизнь", однако из редакции презентовскии текст послали Жебраку с просьбой
дать свою оценку статье. Получив обстоятельный ответ Антона Романовича,
редакция ответила Презенту, что не видит оснований вступать в обсуждение
вопроса, не являющегося профильным для газеты.
Но вся эта закрытая пока от глаз ученых и жителей страны полемика могла
оставаться закрытой только до того момента, пока не были обнародованы
сталинские директивы по борьбе с "безродными космополитами". Сразу после их
озвучивания ситуация резко изменилась. Как только "Закрытое письмо" стало известным
Лысенко и Презенту, их возможности в нанесении удара по генетикам и по
Жебраку в первую голову, неимоверно возросли. Их не нужно было учить, в каком
направлении надо строить свои нападки на генетиков. Хотя с момента публикации
жебраковской статьи и отправки им писем Маленкову прошло уже несколько лет,
Лысенко решил, что важен не срок, а возможность расплаты за прошлое унижение.
Можно и нужно было использовать изменения в политической обстановке в стране
и выставить сегодня Жебрака на роль предателя Родины.
И тем не менее несколько месяцев развить атаку не удавалось, пока во второй
половине августа заведующим отделом науки и культуры "Литературной газеты" не
был назначен "философ", которого знал Сталин, М.Б. Митин - член ЦК ВКП(б) и
депутат Верховного Совета СССР 3-го - 5-го созывов. Назначение Митина было
сделано не без участия самого Сталина, который в это время решил всемерно
усилить "Литературную газету", придав ей функции якобы независящего от
властей выразителя мнения масс (свое желание Сталин изложил писателям на
описанной выше встрече с ними 14 марта 1947 года). А уж кто жаждал реванша в споре
с генетиками, так это Митин, уже вписавший свое имя в число главных гонителей
генетики своим руководством дискуссией в журнале "Под знаменем марксизма" в
1939 году.
Митин получил от ленинградского писателя Геннадия Фиша (давнего знакомого
Презента еще с той поры, когда Фиш учился на факультете общественных
профессий ЛГУ) статью с ругательствами и оскорблениями в адрес Жебрака. Но одного
имени Фиша для мощного удара было маловато. Поэтому Митин позвонил двум самым
известным в стране поэтам того времени - А. Твардовскому и А. Суркову,
попросив их подписаться под опусом Фиша. Оба поэта ничего ровным счетом в генетике
не понимали, но перечить члену ЦК партии не посмели, и 30 августа 1947 года в
"Литературной газете" появилось письмо за тремя подписями, в котором, в
частности , говорилось:
"Мы оставляем в стороне противоречие между утверждением Жебрака о том, что
Лысенко является только агрономом-практиком, и обвинением того же Лысенко в
"чистой умозрительности". Но нельзя не возмутиться злобным, клеветническим
заявлением Жебрака о том, что работы Т. Лысенко, по существу, мешают
советской науке и что только благодаря неусыпным заботам Жебрака и его
единомышленников наука будет спасена. И залог этого спасения А. Жебрак видит в том,
что он не одинок: "Вместе с американскими учеными, - пишет Жебрак в журнале
"Сайенс", - мы, работающие в этой же научной области в России, строим общую
биологию мирового масштаба". С кем это вместе строит Жебрак одну биологию
мирового масштаба? ...
... Гордость советских людей состоит в том, что они борются с реакционерами
и клеветниками, а не строят с ними общую науку "мирового масштаба".
Сталин начинает борьбу
с "безродными космополитами",
и Лысенко использует её для
атаки на своих противников
Конечно, эти идеологические споры не имели отношения к безрезультатным
практическим обещаниям Лысенко, несшим стране одни беды. Хотя некоторые члены
Политбюро ЦК партии уже готовы были отступиться от Лысенко, осознавая несомый
им стране вред, Сталин продолжал упрямо верить новатору. Новый "гауляйтер" в
сталинском окружении - Михаил Андреевич Суслов стал смотреть на позицию вождя
как на аксиоматическую истину и полностью подчинился мнению Сталина. Во
всяком случае в те же дни в Управлении агитации и пропаганды, где годами зрели
антилысенковские настроения, обстановка вдруг разом переменилась. Новый
секретарь ЦК партии по идеологии лично распорядился опубликовать в "Правде" 2
сентября 1947 года разгромную статью мало кому известного кандидата
экономических наук И.Д. Лаптева, смело подписавшегося под статьей профессором. В еще
более категоричных тонах, причем перевирая слова Жебрака, автор статьи
продолжил обвинения его в антипатриотичности и предательстве "интересов Родины".
Многие фразы из "Литературной газеты" и из статьи Презента в "Ленинградской
правде" были Лаптевым повторены, что указывает на хорошее дирижирование
действиями "публикаторов". По словам Лаптева:
"А. Р. Жебрак. . . вместе с реакционнейшими зарубежными учеными унижает и
охаивает нашу передовую советскую биологическую науку и ее выдающегося
современного представителя академика Т.Д. Лысенко, ... потерял чувство патриотизма
и научной чести... ослепленный буржуазными предрассудками, презренным
низкопоклонством перед буржуазной наукой он встал на позицию враждебного нам
лагеря" .
Лаптев не скупился на выражения типа: "с мелкобуржуазной развязностью
обывателя", "разнузданно", "клеветник" и т.п. Упомянул он и о Дубинине, также
осмелившемся опубликовать в том же презренном американском журнале статью, в
коей он будто бы обругал замечательные достижения мичуринской биологии.
Заключительные фразы статьи напоминали стиль 37-го года:
"К суду общественности тех, кто тормозит решение этой задачи (в кратчайший
срок превзойти достижения науки в зарубежных странах), кто своими
антипатриотическими поступками порочит нашу передовую советскую науку".
Статья в "Правде" была уже нешуточной акцией. Всё, что появлялось на
страницах этой центральной партийной газеты, становилось руководством к действию
- заклейменных газетой ждали лагеря, прославленных - ордена.
Однако времена менялись и безоговорочного согласия со всем, о чем писала
газета, не было. С протестом против позиции газеты обратилась к Секретарю ЦК
партии А.А. Жданову сотрудница Государственной комиссии по сортоиспытанию
селекционер Е.Н. Радаева. С нескрываемым возмущением она писала о Лысенко и его
"подпевалах", утверждала, что "за короткий срок акад. Лысенко развалил ВАСХ-
НИЛ... [которая] превратилась в пристанище шарлатанов от науки и всякого рода
"жучков"...Одновременно акад. Лысенко захватил в свои руки с.х. печать...
Лысенко удалось полностью заглушить критику его ошибок. Но вместе с критикой
заглохло и развитие с.х. науки".
Решительно отозвавшись о статье Лаптева как о совершенно неверной, и по
сути и по форме, Радаева не боялась писать в ЦК партии следующее:
"Расправой над отдельными учеными с использованием политической ситуации
акад. Лысенко пытается спасти свое пошатнувшееся положение, страхом расправы
удержать от критики остальных ученых и, воспользовавшись созданной им
суматохой, захватить снова в свои руки с/х Академию в предстоящих выборах.
Одновременно, припертый к стене, он капитулирует в основных своих теорети-
ческих положениях. В частности, он всенародно на коллегии Министерства
сельского хозяйства уже отрекся от созданной им системы сортосмены, почувствовав,
что все-таки придется отвечать за бесплодие этой системы.
Зазнавшийся интриган и путаник! Убаюканный лестью окружающих его
подхалимов : он не заметил, что за годы Советской власти выросло поколение советских
ученых, которых не запугаешь террором, не введешь в заблуждение спекуляциями,
которым не преподнесешь махизм под флагом диалектического материализма. Этим
ученым пока негде сказать свое слово, но они терпеливо ждут своей очереди.
Акад. Лысенко, кажется, еще не осознал, что созданное им учение - это не
больше чем поганый гриб, сгнивший изнутри и только потому сохраняющий свою
видимость, что к нему еще никто не прикасался...
Можно согласиться с предложением проф. Лаптева о привлечении к суду
общественности антипатриотов, но скамью подсудимого заслуживает акад. Лысенко и его
подхалимы...".
Письмо Радаевой поступило в ЦК партии 4 сентября. На следующий день Жданову
написал Жебрак. Еще более сильное письмо, наполненное фактами провалов
Лысенко на фоне успехов генетиков, направил в тот же адрес 8 сентября 1947 г. И.А.
Рапопорт. В тот же день в ЦК партии пришло аргументированное письмо
заведующего кафедрой Московского университета Л. А. Сабинина. 10 сентября краткое
письмо направил Жданову крупнейший советский селекционер П.И. Лисицын. Он
писал :
"Меня возмутила эта статья как дикостью обвинения..., так и грубой
демагогичностью тона... По-видимому автор считает, что он живет в дикой стране, где
его стиль наиболее доходчив... Пора бы призвать к порядку таких разнузданных
авторов".
Через почти две недели длиннейшим письмом в ЦК партии ответил на публикацию
статьи Дубинин.
Массированное обращение в сентябре 1947 года ведущих ученых к властям
страны, казалось бы, не могло остаться безответным, особенно учитывая
общественное звучание таких имен как Лисицын, который был истинным кормильцем страны.
Но авторы всех писем не получили даже строчки ответа. Секретари ЦК партии и
их подчиненные как в рот воды набрали. Повторявшиеся на каждом шагу лозунги о
нерушимой связи партии коммунистов с народом очередной раз обесценивались:
партийное руководство, к которому с надеждой обращались лучшие представители
научной интеллигенции, игнорировало обращения, и это было для ученых и
селекционеров плохим сигналом.
Тем временем идеологические изменения в стране служили лысенкоистам
сигналом к тому, что нужно идти вперед в осуждении Жебрака за антипатриотичное, по
их мнению, поведение. Партком Тимирязевской академии, составленный в основном
из сторонников Лысенко, 22 сентяюря 1947 года рассмотрел статьи в
"Литературной газете" и в "Правде" и решил, что к заведующему кафедрой генетики и
селекции академии Жебраку должны быть применены меры идеологического порядка.
29 сентября к этому решению присоединился Ученый совет академии, а 10 октября
такое же решение принял партком Министерства образования СССР.
По распоряжению Сталина в это время для политической борьбы с
инакомыслящими были введены "Суды чести". Название было взято из обихода российской армии
времен правления царей, но, конечно, ничего общего с офицерскими судами чести
не было. Именно в этот суд постановила передать "Дело Жебрака" о его
антипатриотической статье в журнале "Science" парторганизация Тимирязевской
академии. "Суды чести" могли быть образованы только при центральных ведомствах
страны, и потому делом Жебрака могло заняться Министерство высшего
образования . Министром в это время был близкий к Лысенко человек - СВ. Кафтанов.
"Суд чести" Министерства в соответствии с приказом Кафтанова возглавил
начальник Главка Министерства И.Г. Кочергин - хирург по специальности, а члена-
ми стали заместитель министра высшего образования СССР член-корреспондент АН
СССР A.M. Самарин, член коллегии профессор А.С. Бутягин, доценты Н.С. Шевцов,
Г.К. Слуднев, представитель профсоюза О.П. Малинина и товарищ А.А. Нестеров
(последний товарищ имел к воспитанию непростое отношение - он был
представителем ведомства госбезопасности, отвечавшим за ведение дел в высшей школе).
Прежде чем приступать к открытому слушанию дела в "суде", было решено
провести "предварительное слушание", что-то вроде следствия, чтобы выяснить
степень вины "подсудимого". Оно продолжалось три дня - в пятницу тринадцатого
октября и в понедельник и вторник - пятнадцатого и шестнадцатого октября. На
него и были вызваны те, кто написал письма протеста в "Правду", а также те,
кого Жебрак "оскорбил" своей статьей. Итак, Лисицын, Сабинин, Дубинин, Радае-
ва были вызваны одновременно с Презентом, Глущенко, Турбиным, И.С. Варунцяном
на следствие, плюс к ним из Тимирязевки были приглашены дать свои показания
директор академии B.C. Немчинов, секретарь парторганизации Ф. К. Воробьев,
член парткома доцент Г.М. Лоза и профессора П.Н. Константинов, Е.Я. Борисенко
и И.В. Якушкин.
Собранные свидетельские показания были полярно противоположными. Ученые
(Лисицын, Константинов, Сабинин, в какой-то степени Дубинин и Борисенко)
выразили несогласие с положениями статей в "Литгазете" и "Правде", а команда
лысенковцев вместе с руководством Тимирязевки и её партийными руководителями
резко поступок Жебрака осудила.
Сегодня нелегко восстанавливать события той поры, но все-таки некоторые
факты известны. Мы увидим ниже, например, что в министерство приезжал
влиятельный в то время партийный начальник Суворов и рекомендовал дело
прекратить . Поверить в то, что он пошел на такой шаг по собственной инициативе,
невозможно. Получить разрешение он мог или от своего непосредственного
начальника - Г. Ф. Александрова, или у еще более высокого босса - А. А. Жданова. Но,
как уже было сказано, именно в это время в секретариате ЦК партии появился
новый человек - М.А. Суслов, который вскоре займет место Жданова. Однозначно,
что при всем совпадении основных взглядов два партийных лидера различались в
своем отношении к Лысенко. Суслов, как показала вся его жизнь, действовал как
его безусловный покровитель и защитник. Он несомненно мог использовать
сложившуюся ситуацию в своих целях и мог действовать совсем не в том
направлении, как действовали Жданов, Александров и Суворов. История с "Судом чести"
это отразила.
А на изменение отношения к Лысенко в верхних эшелонах партийной власти
именно в это время указывает факт, обнаруженный полвека спустя в Архиве
Президента РФ сыном Н. И. Вавилова Юрием Николаевичем. Он нашел письмо Лысенко
Сталину, датированное 27 октября 1947 года, и ответ Сталина, написанный тремя
днями позже и отправленный 31 октября 1947 года по-видимому с курорта.
Оказывается, Сталин теперь еще пристальнее следил за Лысенко и ждал от него
успеха в важном деле - выведении чудо-пшеницы с ветвящимся колосом. Мешочек с
210 граммами такой пшеницы в 1946 году ему вручил лично Сталин. Лысенко,
отлично знал, что из затеи ничего путного получиться не может (см. об этом в
следующей главе), но обещал, тем не менее, Сталину резко увеличить
производство пшеницы в стране и этим снова укрепил веру вождя в свое научное
могущество. В лето 1947 года лысенковцы начали срочно размножать семена ветвистой
пшеницы, полученные от Сталина. В Одессе, Омске, в селе Мальцево Шадринского
района Курганской области и в Горках Ленинских их высеяли, и якобы в "Горках
Ленинских" Авакян сумел за один сезон так их размножить, что к осени собрал
"327 килограммов, т.е. в 1635 раз больше, чем было высеяно". Лысенко писал
Сталину, что уже "в 1949 году... можно будет... примерно.. 100 центнеров с
гектара... получить с площади 100 гектаров... в 1950 году... засеять 15 тысяч
гектаров... в 1951 году, засевая только 50 тысяч гектаров, можно будет иметь
500 тысяч тонн пшеницы для Москвы...
...эта фантазия буквально меня захватила, и я прошу Вас разрешить нам
проведение этой работы в 1948 году, а потом, в случае удачи этого опыта, помочь
нам в деле дальнейшего развертывания этой работы".
Мудрый и лукавый царедворец хорошо знал, что надо писать властителю
державы. Зачем, спрашивается, ему, президенту ВАСХНИЛ и директору "Горок
Ленинских", испрашивать у 1-го Секретаря ЦК ВКП(б) разрешения, проводить или не
проводить ему в его хозяйстве посев пшеницы?! Равным образом, какое, казалось
бы, дело Сталину до того, сеять ветвистую на десяти или на двадцати
гектарах?! Но какой же властитель запретит взращивать курочку, которая понесет
золотые яички! Несись, курочка! Озолачивай!
Лукавство Лысенко простиралось дальше. Он давал понять, что если всё
получится, то на лавры вовсе не претендует, скромен до предела и свое место
знает. Вот каким замечательным пассажем заканчивал он свое 2-страничное послание
человеку, никогда в жизни никакого касательства ни к агрономии, ни к селекции
не имевшему, но которого теперь Лысенко благодарил за учебу и за то, что он
открыл ему глаза на тонкие научные вопросы:
"Дорогой Иосиф Виссарионович! Спасибо Вам за науку и заботу, преподанную
мне во время Вашего разговора со мной в конце прошлого года по ветвистой
пшенице .
Этот разговор я все больше и больше осознаю. Вы мне буквально открыли глаза
на многие явления в селекционно-семеноводческой работе с зерновыми хлебами.
Детально изучая ветвистую пшеницу, я понял многое новое, хорошее. Буду
бороться, чтобы наверстать упущенное и этим быть хоть немного полезным в
большом деле - в движении нашей прекрасной Родины к изобилию продуктов питания, в
движении к коммунизму".
Напомню: была осень 1947 года, осень, принесшая самый жуткий голод
населению страны. Каким "просветленным цинизмом" нужно было обладать, чтобы писать
о движении к изобилию продуктов! Нет, примитивным жуликом и простым циником
Трофим Денисович не был. Хорошо он понимал, что надо написать вождю
коммунистов !
С тем же пониманием умонастроения вождя подходил Лысенко к описанию природы
своих разногласий с научными противниками.
"Смею утверждать, что менделизм-морганизм, вейсманистский неодарвинизм, это
буржуазное метафизическое учение о живых телах, о живой природе
разрабатывается в западных странах не для целей сельского хозяйства, а для реакционных
целей евгеники, расизма и т.п. Никакой связи между сельскохозяйственной
практикой и теорией буржуазной генетики там нет.
Подлинная наука о живой природе, творческий дарвинизм - мичуринское учение
строится только у нас, в Советском Союзе... Она детище социалистического,
колхозного строя. Поэтому она... так сильна по сравнению с буржуазным
лжеучением, что метафизикам менделистам-морганистам, как зарубежным, так и в нашей
стране, остается только клеветать на нее, с целью торможения развития этого
хорошего действенного учения.
Дорогой Иосиф Виссарионович! Если мичуринские теоретические установки... в
своей основе правильны, то назрела уже необходимость нашим руководящим
органам ... сказать свое веское слово...
Прошу Вас, товарищ Сталин, помочь этому хорошему, нужному для нашего
сельского хозяйства делу".
Этот призыв к главному палачу страны ввести идеологический запрет на всё,
что не соответствовало устремлениям главного "мичуринца", был услышан. В
своем ответном письме, написанном срочно (Сталин находился вне Москвы, но уже
через три дня пространное ответное послание "Уважаемому Трофиму Денисовичу"
было подписано), вождь не только клюнул на лысенковскую наживку и стал давать
ему советы по агрономии и селекции, но и сурово высказался о научных
противниках Лысенко:
"...я считаю, что мичуринская установка является единственно научной
установкой. Вейсманисты и их последователи, отрицающие наследственность
приобретенных свойств, не заслуживают того, чтобы долго распространяться о них.
Будущее принадлежит Мичурину.
С уважением
И. Сталин
31.Х.47".
Таким образом Лысенко заручился поддержкой Сталина в вопросе, который вождь
считал идеологически важным: о роли прямого приспособления наследственности
организмов к внешней среде. В науке эта идея была отвергнута много
десятилетий назад, но малообразованным людям и Сталину в их числе казалось, что
наследование благоприобретенных признаков существует.
Тем не менее, никаких конкретных погромных решений в отношении врагов
Лысенко не последовало. Спустя еще месяц, Сталин разослал записку Лысенко всем
членам Политбюро и секретарям ЦК (а также академику Цицину, которого видимо
Сталин считал сторонником Лысенко), добавляя, что "В свое время поставленные
в записке вопросы будут обсуждаться на Политбюро". Поэтому проблема
противостояния Лысенко и генетиков разрешения не получила, но одно отрицательное
действие записка Сталина оказала: те в верхних эшелонах власти, кто готов был
принять меры против засилия Лысенко в советской науке и, напротив, помочь
генетикам, решили за благо отмолчаться и подождать, чем конкретно завершится
интерес Сталина к Лысенко. К новому витку репрессий против ученых это пока не
привело, но и энергию тех на верхах, кто собирался поддержать генетиков,
пригасило .
Митин продолжает
восхваление Лысенко в
"Литературной газете"
Ставший заведующим отдела "Литературной газеты" Митин не прекращал усилий
по пропаганде лысенкоизма. 18 ноября 1947 года в газете было опубликовано
интервью с Лысенко, который под видом осуждения буржуазных ученых Запада
откровенно предупреждал своих оппонентов, что их действия могут быть расценены как
политически вредные. Специальные вопросы биологии Лысенко рассматривал через
призму категорий извращенной политэкономии и опять вел речь о том, почему
мировая наука придерживается мнения о наличии внутривидовой борьбы в природе:
"Все человечество принадлежит к одному биологическому виду. Поэтому
буржуазной науке и понадобилась выдуманная внутривидовая борьба. В природе внутри
видов, говорят они, между особями идет жестокая борьба за пищу, которой не
хватает, за условия жизни... То же самое происходит, мол, и между людьми:
капиталисты якобы умнее, способнее по своей природе, по своей
наследственности. .. Но внутривидовой борьбы нет и в самой природе. Существует лишь
конкуренция между видами: зайца ест волк, но заяц зайца не ест, - он ест траву".
Захлестнутый политическими страстями, Лысенко утверждал, что и те, кто
выдвинул понятие "внутривидовая борьба" (значит, Дарвин), равно как и те, кто
придерживается этого понятия сейчас, есть придатки и слуги растленной
буржуазной науки, приспешники буржуазии:
"Буржуазная биологическая наука, по самой своей сущности, потому что она
буржуазная, не могла и не может делать открытия, в основе которых лежит
непризнанное ею положение об отсутствии внутривидовой конкуренции. Поэтому и
гнездовым севом американские ученые заниматься не могли. Им, слугам
капитализма, необходима борьба не со стихией, не с природой... Выдуманной внутриви-
довой конкуренцией, "извечными законами природы" они силятся оправдать и
классовую борьбу, и угнетение белыми американцами черных негров. Как же они
признают отсутствие борьбы в пределах вида?".
Заканчивая статью, Лысенко давал ясно понять, против кого в первую очередь
направлены его тирады. Обвинения буржуазной науки были затеяны для устрашения
своих же коллег в Советском Союзе:
"Но я знаю, что внутривидовую конкуренцию еще и у нас признают некоторые
биологи, например, профессор П.М. Жуковский. Я отношу это к буржуазным
пережиткам. Внутривидовой конкуренции в природе нет, и нечего ее в науке
выдумывать. Идет острая борьба идей, а новое всегда встречает сопротивление
старого. Но у нас, в Советском Союзе, новое всегда побеждает".
Значимость высказываниям Лысенко придавало то, что Митин, подписавшийся как
корреспондент "Литературной газеты", возвеличивал Лысенко ("...главное - Ваши
научные доклады не просто "точка зрения": они подтверждены богатейшей
практикой"), а Лысенко, в свою очередь, убежденно заключал: "...у нас, в Советском
Союзе, новое всегда побеждает".
Это интервью появилось ровно через две недели после того, как в МГУ
крупнейшие ученые - академик И. И. Шмальгаузен, профессора А. Н . Формозов и Д. А.
Сабинин - аргументированно, логично и без малейшего налета демагогии
рассмотрели взгляды Лысенко на дарвинизм, выступив с докладами на специально
созванной научной конференции. Интерес к ней был огромным. Заседания шли в самой
большой - Коммунистической аудитории МГУ, и зал, тем не менее, был
переполнен. Как позже была вынуждена признать даже "Литературная газета", в зале
находилось более 1000 человек. Председательствовавший несколько раз приглашал
сидевших в зале сторонников Лысенко выступить с ответом на критику, но те
отмалчивались. В том же году Издательство МГУ выпустило сборник со статьями,
опровергающими точку зрения Лысенко. Вынуждена была и "Литературная газета"
напечатать большую статью ученых из МГУ. Но сделала она это своеобразно.
Рядом со статьей И.И. Шмальгаузена, Д.А. Сабинина, А.Н. Формозова и С.Д. Юдин-
цева была помещена ответная статья А.А. Авакяна, Долгушина, Глущенко и других
лысенковцев, в которой разговор был снова переведен в плоскость политических
обвинений. Оппонентов Лысенко они обзывали "мальтузианцами" (все знали, что
Мальтуса критиковали Маркс и Энгельс, и, значит, мальтузианцы - враги
марксизма; это было нешуточное обвинение в годы сталинского террора), а затем
"неучам" из Московского университета был дан такой совет:
"... читать не столько Кропоткина, сколько Лысенко, чтобы знать, где искать
аргументы против несуразностей Кропоткина. Нечего и упоминать о других
пугалах (Кесслер, Смэтс и др.), поставленных ими на их изреженном посеве
аргументов" .
Заключительная фраза статьи обвиняла ученых в совсем им не свойственные
действия - уход из плоскости научной в политическую:
"Это уже не полемический выпад, а попытка восстановить советскую
общественность против дарвиниста Лысенко".
В последовавшие затем полтора месяца в "Литературной газете" было
опубликовано несколько откликов ученых по вопросу о правильности взглядов Лысенко.
Эти отклики были весьма умело и направленно скомпонованы редакцией. Б.М. За-
вадовский критиковал и Лысенко и его оппонентов. В.Н. Столетов столь же
безоговорочно провозглашал единственно правильным лысенкоизм и, выворачивая
наизнанку смысл сказанного критиками Лысенко, декларировал:
"У оппонентов нет фактов, а у Лысенко есть огромный опыт по помощи
сельскому хозяйству, и именно потому, что фактов у оппонентов нет, творческую
дискуссию они подменяют схоластическими упражнениями".
Характерным для стиля развернутой редакцией полемики был отзыв Турбина, в
котором он утверждал, опять безоговорочно и без аргументов:
"Взгляды Лысенко правильны, внутривидовой борьбы нет, мнение критиков
является. .. совершенно необоснованным и искажающим истинное положение вещей...
Современная буржуазная наука... выполняет социальный заказ своего хозяина -
империалистической буржуазии, поджигателей новой мировой войны, объявляющих
войну естественным состоянием и законом природы.
Профессора Московского университета должны знать об этих задачах, стоящих
перед советскими учеными".
В конце декабря 1947 года в "Литературной газете" были опубликованы: "обзор
писем читателей" (студенток, домохозяек, офицеров и рабочих), выписка из
протокола заседания кафедры философского факультета МГУ и заключение по
дискуссии, написанное Мининым, в котором он скомпоновал фразы о "догмах... за
которые... цепляются консервативные деятели науки" с выдержками из писем
читателей, среди которых якобы было много писем от "переполненных гневом и
возмущением. .. советских ученых, которые отвергают злостную клевету" в адрес
Лысенко . Редколлегия газеты объявила, что она присоединяется к заключению Митина,
и тем самым создала впечатление, что Лысенко и его сторонники якобы вышли
победителями в этом споре. Идеологизированное общество, управляемое Сталиными,
сусловыми, митинами, предпочло словесно отвергнуть доводы ученых и поддержать
лысенковские доктрины как марксистские по духу (и потому считавшиеся ими
единственно верными) в противовес научным (будто бы по сути своей
буржуазным) . Наклеенные ярлыки представлялись им самыми сильными аргументами, а
манипуляция общественным мнением движением к правде.
"Суд чести" над
А.Р. Жебраком
Предварительное "следствие" по делу Жебрака не дало сторонникам Лысенко
значительного перевеса. Сама идея проведения первого в стране и потому
показательного процесса над космополитом и отщепенцем могла лопнуть. Для Суслова
это могло закончиться крахом. За утерю такого выигрышного дела Сталин мог с
него строго спросить. А слова Сталина о том, что нельзя "лить воду на
мельницу жебраков", сказанные на Политбюро в мае 1948 года, показывали, что фамилию
Жебрака и его противоборство с Лысенко Сталин хорошо знал и помнил. Такой
выигрышный случай, когда пролезший в депутаты Верховного Совета, в члены
Президиума Верховного Совета БССР и в Президенты академии наук Белоруссии и в
совсем недавнем прошлом крупный аппаратчик ЦК был изобличен в предательстве
интересов Родины, терять было нельзя. Если бы вдруг Жебрак выскользнул из-под
удара, сорвался бы с крючка партийной инквизиции, это могло привести к
падению самого Суслова. Тем не менее, в этот момент в недрах ЦК единства в
отношении того, как поступать с Жебраком, не было. Как сообщал в ЦК министр
образования СССР Кафтанов годом позже (в 1948 году) , дело дошло до прямой
конфронтации Суслова и других партааппаратчиков. По словам Кафтанова, некоторые
ответственные сотрудники аппарата ЦК взялись за то, чтобы помешать проведению
министерством "Суда чести" над Жебраком. Оказывается, судилище пытались
предотвратить Балезин из управления кадров ЦК и Суворов (зав. отделом науки).
Суворов даже приезжал для этого в министерство, "доказывая нецелесообразность
Суда чести... Только после того, как т. А.А. Жданов дал прямое указание по
этому вопросу, противодействие указанных работников аппарата ЦК
прекратилось". Этот факт доказывает, что обстановка в коридорах власти менялась. На
смену тем, кто был готов воспрепятствовать лысенковщине, принесшей уже
столько бед стране, в верхние эшелоны власти пришли люди, с готовностью
закрывавшие глаза на провалы и с коммунистическим задором оборонявшие идеологические
фетиши. Суслов специально приехал в министерство образования и провел
инструктаж председателя суда Кочергина о том, как нужно организовать суд.
Итак, в декабре 1947 года при огромном стечении народа (в первый день в зал
удалось нагнать 1100 человек, раздав по московским вузам 1200 пригласительных
билетов, на второй день, правда, число зрителей умеьншилось до 800) "суд" над
Жебраком состоялся в зале Большого лектория Политехнического музея в Москве.
Ни одного из критиков Лысенко (Константинова, Сабинина, Лисицына или Радаеву)
на суд не допустили. Слово было предоставлено только тем, кто уже показал
себя сторонниками сталинской линии на осуждение "пресмыкательства перед
Западом" . Выступило много людей и в их числе директор Тимирязевской академии
академик Немчинов, профессор И.В. Якушкин и доцент-экономист из этой академии
Г.М. Лоза, молодой доктор наук из Ленинградского университета, входивший в те
годы в доверие к Лысенко - Турбин, член-корреспондент АН СССР Дубинин, и
другие . Жебрак несколько раз просил суд ознакомить присутствующих с его статьей
в американском журнале, чтобы убедиться в том, насколько он был патриотичен в
этой статье, но Кочергин буквально с ожесточением в голосе, каждый раз эту
просьбу отвергал. Строгих же правил, регламентирующих, что может требовать
подсудимый, и в чем ему не должно было быть отказано, не существовало. Суд
этот был одним из первых в серии подобных мероприятий, максимум которых
пришелся на последующие два года, и потому всё было сделано для того, чтобы у
публики осталось представление о принципиальности судей.
Турбин изо всех сил старался опорочить Жебрака, он видимо не понимал, что
чем более звонкие политиканские наскоки допускал, бичуя с размахом и Жебрака,
и заслуженных американских ученых, и генетиков вообще, тем меньше его запал
давал толку. Антон Романович умело и спокойно оборонялся, и жесткого решения
в отношении его принято не было. 27 сентября 1947 года "Суд чести" объявил
ему общественный выговор, добавив, что это решение на 5 страницах будет
"приобщено к личному делу профессора Жебрак А.Р.". Через 18 лет в некрологе по
поводу скоропостижной смерти Жебрака 20 мая 1965 года, опубликованном в
журнале "Генетика", было сказано:
"Наступили дни, когда Антону Романовичу предстояло выйти на авансцену
трагедии . Погибли коммунисты-генетики И.И. Агол, В . Н . Слепков, С . Г. Левит, М. Л.
Левин. Погиб великий Н. И. Вавилов и его близкие друзья - выдающиеся ученые
Г. Д. Карпеченко и Г. А. Левитский и другие. Люди стояли. В развитии истинной
науки они видели свой долг перед народом, перед партией. Среди них был и. . .
Антон Романович Жебрак. Они должны были быть повержены и знали это, знал и
Антон Романович. Начался новый этап урагана. Догматики и лжеученые стремились
морально и научно разгромить людей науки. На этом новом этапе первая жертва
должна была быть самой известной, и такой жертвой был избран Антон Романович.
Мы вспоминаем сейчас эти дни, когда судилище топталось на месте, не достигая
цели, как дни позора для его устроителей".
Лысенкоисты пытались организовать "суд чести" и над Дубининым. Специальное
решение с рекомендацией провести его было принято на закрытом заседании
парторганизации лысенковского Института генетики АН СССР, где дружно выступили
Кушнер, Столетов, Челядинова, Глущенко, Нуждин и председательствовавший Коси-
ков. Дубинин, однако, работал в Институте цитологии, гистологии и эмбриологии
- бывшем кольцовском институте - и коллектив этого института отличался от
лысенковского. Секретарь парторганизации института В.А. Шолохов и директор Г.К.
Хрущов были готовы передать дело Дубинина в суд чести. Хрущов особенно сильно
нападал на Дубинина с чисто политиканскими наскоками в своем отзыве, тут же
переправленном в качестве приложения к письму Академика-секретаря АН СССР
Н.Г. Бруевича на имя Секретаря ЦК ВКП(б) Кузнецова. На письме стоял гриф
"Секретно". Но на закрытом партсобрании института мнения разделились. Одни
(как Хрущов) следовали политическим веяниям в стране, ученица Кольцова Н.В.
Попова не могла видимо простить Дубинину предательства Кольцова в 1939 году и
обвинила Дубинина в том, что он всю жизнь был человеком с двойным дном. Г.Г.
Тиняков также выступил против Дубинина довольно резко, а аспирант Гинзбург
(возможно, в стенограмме его фамилия была написана с ошибкой, т.к. в те годы
в институте был аспирант Гинцбург) и особенно смело и весомо И.А. Рапопорт
встали на защиту Дубинина. Рапопорт сказал:
"Я считаю, что поскольку это [статья Н.П. Дубинина] не являлось официальным
документом, то он имел право обойти авторов, которых он не считает
существенными ... Разглашения тайны там нет. Упоминая Вавилова и Карпеченко, он тоже не
сделал ошибки, так как мы не знаем, виноваты ли они или нет, репрессированы
или нет. А труды их значительны и помнить их надо. .. Добжанский и Тимофеев-
Ресовский за границей имеют большой научный вес. Свои основные научные работы
они основывают на том багаже, который они вывезли из России из школы Филип-
ченко и Четверикова.
Когда дело дошло до принятия решения, Рапопорт был особенно напорист и
сумел переломить ход собрания. Хрущов зачитал проект решения партсобрания с
предложениями передать дело Дубинина в "Суд чести", сначала направив его на
рассмотрение Биологического Отделения АН СССР, где у лысенковцев были большие
возможности для сведения счетов с генетиками. Рапопорт в ответ стал возражать
против этих предложений, и Тиняков поддержал его:
"Тиняков: Я считаю, что привлекать Дубинина к Суду чести нельзя, т.к. надо
дать конкретную формулировку о необходимости обсуждения поступка Дубинина на
Ученом Совете Института.
Рапопорт: Считаю, что мы не должны в резолюции указывать на необходимость
передачи дела в биоотделение. Это может означать, что наш коллектив
неправомочен, и с ним можно не считаться.
Тиняков: Я тоже против того, чтобы ошибки Дубинина выносить на
биоотделение , где Дозорцева и Нуждин.
Хрущов: Речь не идет о биоотделении, суть дела в том, осуждаем ли мы или
нет поступок Дубинина?
Рапопорт: Я считаю, что в нашем Институте надо дать работать, а не мешать.
Спекуляции против генетики мы не допустим и нельзя поэтому выносить на
биоотделение вопрос общественного порицания Дубинину.
Хрущов: Прошу призвать Рапопорта к порядку".
Но порядок восторжествовал не в том смысле, которого ждал Хрущов. По
результатам голосования было записано, что парторганизация решила не выносить
обсуждение проступка Дубинина за стены института, ограничившись объявлением
ему порицания на заседании Ученого совета своего же института. Снова люди в
кольцовском институте использовали возможность обуздать политиканов их же
методами: раз парторганизация решила, никто не мог отменить мнение целой
организации. Вопрос о том, как относиться к Дубинину, перестал звучать так остро.
Правда, лысенкоисты попытались все-таки применить партийный обух для того,
чтобы пришибить Дубинина. Было созвано объединенное заседание партийных
организаций академических институтов биохимии, генетики, микробиологии,
палеонтологии, эволюционной морфологии и физиологии растений, на котором было принято
обращение к Президиуму АН СССР "с просьбой о передаче этого дела для
рассмотрения в суде чести" (решение подписано председательствовавшим Э.А. Асратяном
и еще шестью секретарями парторганизаций), но Академик-секретарь Отделения
биологических наук Л.А. Орбели дал заключение, что не "находит оснований для
предания чл.-корр. Дубинина суду чести", а президент АН СССР СИ. Вавилов
согласился с этим предложением. Поэтому "Дело Дубинина" переслали в институт,
где он работал. А в бывшем кольцовском институте вопросы чести решались в
целом честно. 25 ноября 1947 года состоялось общее собрание сотрудников
Института цитологии, гистологии и эмбриологии АН СССР, которое постановило, что
статья Дубинина "сыграла положительную роль за рубежом", поэтому нет
оснований для передачи дела в суд чести.
А вот для Жебрака последствия и лаптевской статьи в "Правде" и "Суда чести"
оказались тяжелыми. В октябре его сняли с поста Президента АН БССР. На его
квартиру в Минске нагрянули сотрудники госбезопасности, но не застали Антона
Романовича дома - он скрывался у друзей в Москве. Министр госбезопасности
Белоруссии Л.Ф. Цанава настаивал на том, чтобы Жебрак возвратился хотя бы на
несколько дней в Минск, видимо, бывшему Президенту угрожал арест. Но Жебрак
приказу не подчинился, и его не схватили.
Суд показал, что Лысенко далеко не развенчан, что он пользуется поддержкой
среди определенных лиц в руководстве партией и страной. В то же время многие
были склонны считать, что конец лысенкоизма близок, что провалы практических
предложений Лысенко теперь всем ясны, и вот-вот последуют оргвыводы в
отношении человека, столько лет морочившего голову властям и народу своими
выдумками.
Цицин отвечает
на письмо Сталина,
критикуя Лысенко
В этот момент к стану критиков Лысенко примкнул другой "выдвиженец из
народа " - Николай Васильевич Цицин. Долгое время, по крайней мере, вплоть до
начала войны, он оставался верным лысенковщине. Так, в 1939 году он опубликовал
в лысенковском журнале "Яровизация" статью, в которой сообщал фантастические
результаты опытов подчиненных ему сотрудников Сибирского научно-
исследовательского института зернового хозяйства (Цицин трудился в этом
институте до 1938 года, после чего был назначен директором Всесоюзной
Сельскохозяйственной Выставки в Москве, в 1939 году он стал академиком АН СССР) .
Первой из описанных Цициным проблем, была такая: "...нельзя ли, изучив по
всем цитогенетическим правилам два какие-нибудь растения, сказать заранее,
скрестятся они между собой, или нет?". Цитогенетики никогда не занимались
решением таких проблем и не могли оказать помощь ни Цицину, ни кому-либо
другому в мире, потому что скрещиваемость определяется генами несовместимости,
которые на цитологическом уровне выявлены быть не могут. Подсчет хромосом
просто не имеет к этому никакого отношения, а цицинцы (в силу низкой
квалификации) изучали только числа хромосом в препаратах делящихся клеток. Той же
элементарной неграмотностью объясняется категоричный вопрос нового академика,
последовавший за банальным утверждением: "Факторы света, длины дня и т.д.
изменяют цветение и плодоношение до неузнаваемости. Какую же роль играют здесь
хромосомы? Ведь число их и в том и в другом случае осталось без изменения" .
Цицин даже заявил, что опыты сибиряков помогли ему установить "разницу в
балансе хромосом в пределах одного колоса и в пределах одного цветка в колосе",
именно то самое, что голословно утверждал Лысенко. Весь предшествовавший и
весь последующий опыт генетики свидетельствовал, что данный вывод ошибочен.
Экспериментальный же материал сотрудников Цицина не давал оснований для
презрительных высказываний в адрес генетиков и цитогенетиков и для рекомендаций
селекционерам отказаться от генетики. Таким же было и другое заявление
Цицина:
"Это "мнимое доказательство" [зависимости генетических характеристик от
генной структуры хромосом стоило нам немало времени, затраченного впустую.
Следуя общепринятой методике селекции, основанной на менделевском учении, мы
несколько лет работы затратили недостаточно производительно... Основываясь на
своем опыте, мы можем рекомендовать всем селекционерам полностью отказаться
от попыток в какой бы то ни было мере использовать цитогенетику морганистов в
практической селекционной работе".
Однако пятью-шестью годами позже безоговорочное признание Лысенко людьми из
верхнего эшелона власти улетучилось, и тут же оказалось, что и у Цицина
былого единства с Лысенко в оценках "новатора" не стало. Ведь ошибки Лысенко
получили широкую огласку, сомнения многих лидеров на верхах секретом для таких
людей, как Цицин, быть перестали, пора было менять позицию и самому Николаю
Васильевичу. Конъюнктура могла смениться в одночасье, верхам мох1 понадобиться
новый мах1 и чародей, и Цицин решил не отставать от событий и по возможности
опередить их. В течение долгого времени он не отвечал на докладную записку
Лысенко Сталину от 27 октября 1947 года и на письмо самого Сталина от 25
ноября 1947 года. Когда "домашний анализ" сталинского запроса был завершен,
Цицин направил Сталину (через А.А. Жданова) длинное послание с оценкой взглядов
Лысенко. В письме от 2 февраля 1948 года все пункты лысенковской похвальбы
были Цициным оспорены, собственные успехи с пшенично-пырейными гибридами
преувеличены, а главное Цицин подверг Лысенко серьезной критике не только за
научные ошибки, но и за монополизм и попытки административными методами
подавить научных оппонентов. Однако дальше выпадов в адрес лично Лысенко Цицин не
шел. В вопросах идейных он писал то, что было бы наверняка приятно прочесть
Сталину. В частности, он не удержался от того, чтобы оскорбить такие научные
направления как "вейсманизм", или заявлять:
"Не приходится отрицать влияния буржуазной идеологии на наших ученых и в
частности на генетиков. Однако нельзя забывать и того факта, что за последние
два десятилетия советская генетика значительно выросла и такие старые течения
как менделизм и морганизм давно критически переработаны советскими
генетиками" .
Как утверждает член-корреспондент РАН Л.Н. Андреев (преемник Цицина на
посту директора Главного Ботанического Сада РАН) , опубликовавший в 1998 году
это прежде неизвестное историкам письмо Цицина, "Сталин отрицательно отнесся
к докладной записке академика Цицина, заявив: "Нельзя забывать, что Лысенко -
это сегодня Мичурин в агротехнике... Лысенко имеет недостатки и ошибки как
ученый и человек, его надо контролировать, но ставить своей задачей
уничтожить Лысенко как ученого - это значит лить воду на мельницу жебраков"".
Надежды
генетиков
на победу
Несмотря на поддержку Лысенко Митиным в "Литературной газете", общественное
звучание публичной критики, причем критики серьезной, продуманной и острой
было очевидным. Впервые после войны взгляды Лысенко оказались под огнем.
Академика Шмальгаузена и его коллег из МГУ не следовало выставлять в виде
простачков-недотеп. Те, кто это делал, доброго к себе расположения снискать не
могли. Времена менялись, и что такое фракционность, групповщина, все в стране
уже хорошо знали. Группа Лысенко была известна биологам, и они же, биологи,
отлично знали, что эволюциониста Шмальгаузена, физиолога растений Сабинина,
или зоолога и биогеографа Формозова никакие рамки групповщины не связывали.
Их громкие имена крупнейших в своих областях специалистов были отлично
известны. Поэтому огульностью обвинений затушевать принципиальную сторону
научного спора было нельзя.
К концу 1947 года практические успехи генетиков в мире стали неоспоримыми.
Применение чисто генетического детища - гибридной кукурузы - принесло только
США сотни миллионов долларов. К началу 1940-х годов вся площадь этой основной
для США сельскохозяйственной культуры была занята межлинейными сортами
кукурузы. К концу Второй Мировой войны генетики одарили человечество еще одним
своим детищем, изменившим медицинскую практику. С помощью методов мутагенеза,
генетики в США получили дешевые продуценты антибиотиков (в 1945 году А. Фле-
минг, X. Флори и Э. Чейн были удостоены Нобелевской премии за открытие
антибиотиков, и в это же время М. Демерец в США. с помощью облучения создал
высокопродуктивные мутанты грибов, синтезирующих эти вещества). Генетики все шире
внедряли свои достижения во многие другие области, и могучая сила науки была
продемонстрирована бесспорно и широко.
За успехами науки можно было следить даже из-за "железного занавеса", и во
всех слоях общества окрепло понимание того, что конгломерат лысенковских идей
практика не подтвердила.
Аналогично яровизации и летним посадкам картофеля быстро и с треском
провалились все более поздние новинки. Чеканка хлопчатника была сама по себе вещью
небесполезной, причем достаточно хорошо известной и до Лысенко (её применяли
одно время за рубежом, например, на мелких участках в США, и в России) , но
она требовала громадного ручного труда, и её энтузиасты быстро выдохлись.
Отказ от законов семеноведения привел к тому, что были перепорчены сотни и
сотни сортов. Политика полного запрета на изучение вирусов растений стала
тормозом для развития вирусологии в СССР. То же произошло после заявления Лысенко
о том, что "лавры генетиков не дают спать спокойно физиологам растений,
генетики выдумали гены, а физиологи - фитогормонып. Важнейшее направление
исследований , приоритет в котором был прочно закреплен за советским ученым Н. Г.
Холодным, было разрушено. Лысенко также отрицал учение о генетических основах
устойчивости растений (как и саму теорию гена) и препятствовал развитию работ
по иммунитету у растений, в чем была сильна в двадцатые-тридцатые годы школа
Н.И. Вавилова. Это привело к многолетнему, до сих пор не преодоленному
отставанию российских биологов в вопросах, некогда пионерски развивавшихся именно
в СССР.
Но пока шло отрезвление от очередных "новаций" Лысенко, он уже внедрял в
практику новые продукты своей мысли. К 1947 году их список стал так обширен,
что несколько биологов написали объемистые труды, посвященные разбору вреда
от них для экономики и науки страны. Владимир Павлович Эфроимсон, по его
словам, передал в ЦК партии рукопись своей книги (более сотни машинописных
страниц) с детальным разбором ошибок Лысенко и урона, понесенного страной. В
1983-1987 годах В.П. Эфроимсон в беседах со мной повторял, что в рукописи его
книги были документально разобраны многие факты очковтирательства, допущенные
Лысенко и его подчиненными, за исключением разве "возрождения сортов" пшеницы
методом внутрисортового скрещивания. Эфроимсон говорил мне, что не сумел сам
найти материалов по этому вопросу, но ему было точно известно от друзей из
Харькова, где он несколько лет работал после выхода из первого заключения,
что незадолго до 1948 года такие материалы поступили в ЦК от крупных
селекционеров . Сотрудники Отдела науки, по его словам, благодарили Эфроимсона и
говорили, что его книга - серьезный документ, помогающий разоблачить Лысенко
(М.Д. Голубовский на протяжении многих лет утверждал, что сходную работу в ЦК
передал Любищев). Сегодня найти следы этих документов в архивах ЦК партии за
1946-1950-й годы не удалось.
Со второй половины 1947 года началась подготовка к новой конференции МГУ,
на которой бы взгляды Лысенко были серьезно разобраны. Не приходится
сомневаться, что Цицин не случайно тянул более двух месяцев с отправкой своего
ответа на письмо Сталина - до 2 февраля 1948 года - и отправил его точно за
день до начала конференции в МГУ, на которой главным вопросом для обсуждения
должна была стать лысенковская идея прямого приспособления живых организмов к
внешней среде. Приглашения на конференцию разослали всем крупнейшим
специалистам в стране, был приглашен и сам Лысенко, и его ведущие сотрудники. Биологи
намеревались показать, что взгляды Лысенко противоречат научным фактам,
дарвиновскому пониманию изменчивости и эволюции и, тем более, современным
представлениям на этот счет. Комплекс этих проблем был подробно рассмотрен в док-
ладах академиков И.И. Шмальгаузена и М.М. Завадовского и профессора И.М.
Полякова. Биологи восстали против новой лысенковской "теории" - "творческого
дарвинизма". Лысенковцам нечего было возразить по существу.
Большинство специалистов, возможно, тогда считало, что в виду само собой
разумеющегося противоречия взглядов Лысенко и твердо установленных
закономерностей науки постулаты "колхозного академика" не найдут себе места в
советской биологии. Однако эти надежды оказались наивными. "Теория" Лысенко была
положена в основу крупнейшего за всю историю человечества партийного плана по
переделке природы (см. ниже главу "Период великих агрономических афер").
С одобрения Отдела науки ЦК партии 11 декабря 1947 года в Отделении
биологических наук АН СССР было проведено обсуждение антидарвиновских взглядов
Лысенко . Это обсуждение не предназначалось для широких кругов, более того
председательствовавший академик-секретарь Отделения Л.А. Орбели строго
предупредил присутствовавших о конфиденциальности всего происходящего и о запрещении
делать записи или выносить из помещения любые материалы. Лысенко, выступавший
в начале заседания, утверждал, как и прежде, что ошибка Дарвина была по
своему смыслу политической, так как была связана с принятием "принципа
перенаселенности", то есть мальтузианства, являющегося антиподом марксистских
взглядов. Несмотря на привнесение в обсуждение категорий политической борьбы,
участники совещания почти единогласно выступили против взглядов Лысенко. По
просьбе Отдела науки ЦК академик В.Н. Сукачев суммировал выступления в
краткой форме и передал свое изложение в ЦК партии. В течение четырех месяцев
тексты сделанных на совещании докладов были полностью подготовлены к
публикации и переданы 10 апреля 1948 года в Редакционно-издательский Отдел АН СССР.
Руководство Отделения ожидало, что издание сборника с выступлениями на
совещании будет сильнейшим ударом по антинаучным построениям Лысенко. Однако
сборнику не было суждено увидеть свет, так как совершившееся в тот же день
событие вызвало гнев Сталина, который с помощью Политбюро ЦК партии прекратил
всякую критику Лысенко на многие годы. Событием, вызвавшим такую реакцию
Сталина, стало выступление Ю.А. Жданова в тот же день в Политехническом музее.
В ряды критиков
Лысенко вступает
Юрий Андреевич Жданов
Сталин, как пишет Ю.А. Жданов в своих воспоминаниях 1993 года, с вниманием
и симпатией следил за его учебой на химфаке МГУ и за становлением его идейных
взглядов.
По окончании университета в 1941 году Жданов-младший как свободно владеющий
немецким языком работал в немецком отделе (Отделе по пропаганде среди войск
противника) Главного Политуправления Красной Армии. По окончании войны он
стал специализироваться по философии науки под руководством Б.М. Кедрова,
защитил кандидатскую диссертацию. В годы учебы в МГУ он проделал под
руководством В. В. Сахарова небольшой практикум по генетике и убедился в правоте
правил Менделя и тех материалистических выводов, которые словесно
"опровергали" лысенкоисты. Он смог убедиться в том, что не красивые слова, а строгость
и продуманность законов отличают учение генетиков от "мичуринских"
построений. Осмеивавшиеся "пресловутые законы Менделя" (фраза Мичурина,
повторявшаяся лысенкоистами) неизменно воспроизводились в опытах, вопреки хуле лысенков-
цев. В то же время Ю.А. Жданову картина противостояния мичуринцев и биологов
не казалась черно-белой. Он признавал много лет спустя, что в пору своего
назначения в аппарат ЦК партии видел и положительные стороны в деяниях
сторонников Лысенко. Для формирования его взглядов важным стало то, что в обширной
библиотеке отца оказалось много книг по биологии, в том числе книги Н.И. Ва-
вилова. Юрий с молодости пристрастился к чтению, музыке, искусству. Тянуло
молодого Жданова и к публицистике, так, в 1945 и 1947 году он опубликовал две
статьи в журнале "Октябрь". Последнюю из них, как Жданов узнал много позже от
Кагановича, рекомендовал к печати лично Сталин. Именно Сталин предложил
молодому химику возглавить сначала сектор, а затем и отдел науки в аппарате ЦК
партии. Хотя отец не одобрял такого пути для своего сына, сталинское желание
перевесило, и в декабре 1947 года Ю.А. Жданов приступил к работе в аппарате
ЦК.
Достоверно известно, что с конца 1947 года и весной 1948 года Отдел науки
стал открыто собирать данные, компрометирующие Лысенко. Многие генетики лично
посетили (и были приняты!) этот Отдел в сером мрачном здании на Старой
площади, неподалеку от Политехнического музея. Жданов перечисляет имена нескольких
генетиков, с которыми он переговорил в бытность свою заведующим Отделом науки
ЦК ВКП(б). Многие оставили в Отделе свои докладные записки, справки о
различных сторонах деятельности Лысенко и его группы. Юрий Андреевич, впрочем,
указал на то, что часто он встречался и с сотрудниками Лысенко - Столетовым и
Глущенко, "общение с которыми было спокойным и деловым".
Уникальное положение Ю.А. Жданова давало последнему возможность вести
относительно независимую политическую линию, хорошо разобраться во многих научных
вопросах, включая, вопросы биологии, генетики и биологической химии.
С другой стороны, и Жданов-старший относился к Лысенко с прохладцей,
поскольку во многих своих речах с 1946 по 1948 годы, когда он как секретарь ЦК
ВКП(б) громил деятелей культуры и науки в СССР, он ни разу не коснулся такой,
казалось бы, благодатной темы, как роль выходца из трудового народа Лысенко в
укреплении марксистско-ленинских позиций в биологии. Разбор предположений о
неуважительном отношении А.А. Жданова к Лысенко в эти годы содержится в книге
Л. Грэма "Наука и философия в Советском Союзе", и надо сказать, что
аргументация автора представляется мне более логичной, чем высказывания тех западных
исследователей, которые склонны видеть в А.А. Жданове одного из покровителей
Лысенко, хотя бы потому, что приемы того и другого имели много общего. Об
отрицательном отношении Жданова-старшего к Лысенко говорил также И.А. Рапопорт,
упоминавший, что Жданов рекомендовал Г.Ф. Александрову детально переговорить
с Рапопортом и другими сотрудниками кольцовского института по поводу
состояния исследований в генетике и затем информировать Жданова об этих беседах.
В то же время не подлежит сомнению, что симпатии Сталина к Лысенко вполне
соответствовали политическим идеалам вождя и оставались неизменными почти до
конца жизни Сталина.
Вникнув в аргументы обеих сторон, Ю.А. Жданов попытался помочь ученым. 12
февраля 1948 года он послал А.А. Жданову материалы, подготовленные академиком
И.И. Шмальгаузеном, в которых суммировал ошибки Лысенко в его утверждениях о
неверности взглядов Дарвина на процесс внутривидовой борьбы и эволюции. К
этому он присовокупил свою записку. Через две недели (24 февраля 1948 года)
он направил уже непосредственно Сталину (копии А.А. Жданову и Г.М. Маленкову)
докладную записку "О тетраплоидном кок-сагызе". Этот вопрос тогда был важным
для оборонной промышленности, так как добываемое из каучуконосных растений
кок-сагыза и тау-сагыза сырье использовали для получения резины.
Промышленность, включая военную, напрямую зависела от источников сырья для выработки
резин. Генетики, используя методы воздействия на хромосомы, добивались
получения растений, в клетках тела которых число хромосом было удвоено по
сравнению с произрастающими в обычных условиях растениями. Такие тетраплоиды
(вместо обычных диплоидов) давали больше каучука, отсюда интерес большевистских
властей к этому вопросу был очевидным. Лысенко же нацело отрицал роль
упражнений с хромосомами, обзывал тетраплоиды уродцами и тем объективно вредил
своей стране. Жданов-младший нашел силы, чтобы прямо об этом сказать:
"Вся история тетраплоиднохю кок-сагыза является ярким примером того, как
полезное дело... всячески тормозится "руководством", находящимся под влиянием
неверных установок Т.Д. Лысенко.
Работники системы Министерства резиновой промышленности были или запуганы,
или старались всячески угодить господствующему направлению, в силу чего
положительные данные о тетраплоидном кок-сагызе "засекречивались" и
замалчивались. .. Наконец, в 1947 году, когда был впервые получен крупный урожай семян
(2 тонны) главному агроному... Главрасткаучука прямо было заявлено академиком
Т.Д. Лысенко, "Чтобы тетраплоида не было ни в совхозах, ни в колхозах*™.
Одной из форм оповещения партийных функционеров на местах о внутрипартийных
изменениях служили так называемые партактивы и семинары лекторов обкомов и
крайкомов партии. Как правило, к таким семинарам готовили ограниченное число
текстов докладов (нередко в тезисной форме), чтобы, разъехавшись по местам,
лекторы могли использовать нужные цитаты в качестве руководства к действию.
Именно такой семинар состоялся в Москве в Политехническом музее 10 апреля
1948 года. С лекцией о состоянии дел в биологии выступил Ю.А. Жданов, который
фактически посвятил свое выступление критике Лысенко: монополизации им своего
направления, постоянным голословным обещаниям огромных практических успехов и
антинаучной позиции в ряде вопросов теории. Это событие одновременно
представляется и чем-то исключительным и достаточно закономерным. Предыстория
сбора материалов, характеризующих реальную картину научной несостоятельности
Лысенко, показывает, что Ю.А. Жданов был хорошо подготовлен к выступлению. Но
вряд ли дело ограничивалось собственными смелыми взглядами молодого Жданова.
Смелость ему могла придать позиция отца, относившегося к Лысенко, как
вспоминал Юрий Андреевич в разговоре со мной в 1987 году, "более чем скептически" .
В 1993 году он утверждал, что его отец "после мимолетних встреч с ним
[Лысенко] говорил о низкой внутренней культуре Лысенко". Молодой партаппаратчик мог
опираться также на высказанное ему с глазу на глаз лично Сталиным
недовольство научной ограниченностью Лысенко. Жданов вспоминал, что во время одной из
бесед со Сталиным лидер партии так отозвался о Лысенко:
"Лысенко - эмпирик, он плохо ладит с теорией. В этом его слабая сторона. Я
ему говорю: какой Вы организатор, если Вы, будучи президентом
Сельскохозяйственной академии, не можете организовать за собой большинство".
Правда, в том же месте Ю.А. Жданов приводит резкие и совершенно
несправедливые высказывания Сталина по адресу ученых, которых он открыто третировал и
даже рассматривал как людей подлых, "купленных":
"Большая часть представителей биологической науки против Лысенко. Они
поддерживают те течения, которые модны на Западе. Это пережиток того положения,
когда русские ученые, считая себя учениками европейской науки, полагали, что
надо слепо следовать западной науке и раболепно относились к каждому слову с
Запада.
Морганисты-мендельянцы это купленные люди. Они сознательно поддерживают
своей наукой теологию".
В своей лекции Жданов, конечно, использовал ставшие привычными штампованные
фразы о положительном значении новаторской идеи Лысенко относительно
яровизации, упомянул - и не раз - "что он [Лысенко] дал очень много нового нашей
биологической науке, нашей стране". Но не эти слова заостряли на себе
внимание слушателей, а прозвучавшие негативные суждения. Начав свою лекцию с
обсуждения проблем дарвинизма, Жданов не согласился с новизной взглядов Лысенко,
отрицательно охарактеризовал роль и позицию "Литературной газеты" и тех
философов, которые "вмешавшись в спор [биологов], не только не способствовали его
разрешению, но еще больше запутали вопрос" (несколько раз он упомянул в этой
связи имя Митина). Затем Жданов характеризовал работу Лысенко следующим
образом:
"...Трофим Денисович в значительной мере борется с тенями прошлого.
Концепция Лысенко в значительной мере отражает первую стадию познания,
стадию созерцания в целом растительных и животных организмов...
...колхицин был встречен в штыки школой академика Лысенко. Говоря об
ученых, работающих с колхицином, он писал: "Действием на растения сильнейшего
яда - колхицина, равно.../как/ и другими мучительными воздействиями на
растения, они уродуют эти растения. Клетки перестают нормально делиться,
получается нечто вроде раковой опухоли"...
Итак, "сильнейший яд", "раковая опухоль", "уродство", "мучительное
воздействие", "ненормальное развитие" - букет эпитетов, отнюдь не подходящих для
того, чтобы поддержать новое дело. Странно слышать, корда новаторы говорят о
том, что возникшая новая форма растения является ненормальной. А я вам скажу:
плевать нам на то, что нормальная она или ненормальная; главное, чтобы плодов
было больше, урожай был выше! (Аплодисменты).
. . .в 1935 году Трофим Денисович Лысенко, исходя из своей ограниченной
концепции, несомненно, задержал внедрение у нас новой кукурузы. Я считаю, что
здесь мы видим, как теоретическая ограниченность перерастает во вполне
материальный ущерб, и мы вынуждены смотреть критически на ту или иную оценку
какого-либо нового дела, которая исходит из школы Лысенко".
Жданов назвал "нежелательными сенсациями", которые лишь вредят делу,
"...обещание Т.Д.Лысенко буквально "выискать" новые сорта растений за 2-3
года. Таково /же/ данное до войны обещание вывести за 2-3 года морозостойкую
озимую пшеницу для Сибири, которая ничем не отличалась бы по стабильности от
местных растительных форм".
Заканчивая лекцию, выступавший отметил, что "попытка подавить другие
направления, опорочить ученых, работающих другими методами, ничего общего с
новаторством не имеет", а затем сказал:
"Необходимо ликвидировать попытки установления монополии на том или ином
участке науки, ибо всякая монополия ведет к застою.
...Трофим Денисович сделал многое, и мы ему скажем: Трофим Денисович, вы
много еще и не сделали, больше того, вы закрыли глаза на целый ряд форм и
методов преобразования природы".
Вместе с тем Жданов не был ни в коем случае безусловным защитником
генетиков и генетики. Он говорил о материалистичности основных выводов генетиков,
критиковал "школу Лысенко" за то, что она "недооценивает значение анализа,
недооценивает работы по изучению химических, физических, биохимических
процессов, по кропотливому изучению клеточных структур", упомянул "дискретность
наследственности, современную теорию организаторов и генов", но вместе с тем
утверждал:
"Когда некоторые ученые говорят, что есть наследственное вещество - это
чепуха" .
Он осудил также генетиков за то, что те "слишком увлеклись дрозофилой...
что дрозофила отвлекает их от важнейших практических объектов...".
Аналогично тому, как Лысенко (и Сталин!) делал акцент на абсолютности идеи
переделки природы, Жданов говорил:
"Нам, коммунистам, ближе по духу учение, которое утверждает возможность
переделки, перестройки органического мира, а не ждет внезапных, непонятных,
случайных изменений загадочной наследственной плазмы. Именно эту сторону в
учении неоламаркистов подчеркнул и оценил тов. Сталин в работе "Анархизм или
социализм?"".
Сильнейшей стороной лекции было то, что начальник Отдела науки ЦК ВКП(б)
восстал против краеугольного положения тех лет, принимавшегося в качестве
аксиомы, - о переносе спора Лысенко с генетиками в сферу политической борьбы, о
разделении спорящих на сторонников буржуазного и социалистического мировоз-
зрения. Это была одновременно и смелая (для партийного работника) и
принципиальная (в идеологических условиях тех лет) позиция.
"Неверно, - сказал Жданов, - будто у нас идет борьба между двумя
биологическими школами, из которых одна представляет точку зрения советского, а другая
- буржуазного дарвинизма. Я думаю, следует отвергнуть такое
противопоставление, так как спор идет между научными школами внутри советской биологической
науки, и ни одну из спорящих школ нельзя называть буржуазной" (193).
Докладчик не делал секрета из содержания своей будущей лекции, и слухи о
ней докатились до ушей "колхозного академика". Лысенко решил послушать
лекцию, но сделал это необычным путем. Он оказался в кабинете своего дружка М.Б.
Митина, исполнявшего обязанности заместителя председателя Всесоюзного
общества по распространению политических и научных знаний. Кабинет Митина находился
в здании Политехнического музея рядом с Большим залом лектория, и в него был
проведен динамик, благодаря чему можно было, не ставя никого в известность,
подслушать всё, о чем говорилось в зале.
Уже сам этот тайный маневр говорил о многом. Раньше Лысенко не прибегал ни
к каким уловкам и открыто вступал в борьбу, но сейчас положение стало, по-
видимому, настолько плохим, что ни предотвратить это выступление путем
закулисных переговоров, ни, на худой конец, помешать Жданову в ходе лекции, как
Лысенко, так и его дружки не могли. Можно себе представить, какое сильное
впечатление на зал и докладчика могло бы произвести внезапное появление в
зале Лысенко, которого вся страна знала в лицо.
Но этого не произошло. Лысенко сидел, отгороженный от зала всего лишь
небольшим коридором и вслушивался в голос партийного лидера, впервые за много
лет говорившего о его, Лысенко, роковых ошибках. Было что-то трагическое во
всей этой сцене. Чем-то унизительным веяло от одного только вида худой,
слегка ссутулившейся фигуры пятидесятилетнего Президента Академии сельхознаук,
самого известного в стране ученого, вынужденного за плотно затворенной дверью
внимать голосу молодого Жданова, беспощадно сбрасывавшего его с пьедестала
еще при жизни. Он не нашел в себе сил встать из-за чужого стола и, сделав
десяток шагов, войти в аудиторию, чтобы хоть что-то возразить Юрию Жданову. Ему
не хватило мужества и для того, чтобы скрестить шпаги с влиятельным критиком
сразу после лекции. Они разъехались, не показавшись друг другу на глаза, и
виновником умолчания, этой игры в прятки, был не Юрий Жданов, а Трофим
Лысенко , трусливо отсидевший всю лекцию в одиночку в соседнем с залом кабинете.
ГЛАВА XIII. ПОЛИТБЮРО
ЦК КПСС ЗАПРЕЩАЕТ
ГЕНЕТИКУ В СССР
"Их было много, ехавших на встречу.
Опустим планы, сборы, переезд.
О личностях не может быть и речи.
На них поставим лучше крест."
Б. Пастернак. Из поэмы "Спекторский".
"Понятно, что мы и не думали сворачивать с
ленинского пути. . . Правда, нам пришлось при этом
помять бока кое-кому из товарищей. Но с этим уж
ничего не поделаешь. Должен признаться, что я тоже
приложил руку к этому делу. (Бурные аплодисменты,
возгласы "ура")."
Из речи Сталина в Кремлевском дворце на выпуске
академиков Красной Армии 4 мая 1935 рода.
Письмо Лысенко
Сталину в 1948 году
Мы подошли к решающему моменту в истории советской биологии. Научные идеи
Лысенко к этому времени оказались полностью дискредитированными.
Общепризнанным стало, что и практические предложения ничего не дали, наконец, в среде
партийных руководителей вырос молодой лидер, не побоявшийся сказать в
открытую о монополизме Лысенко и о вреде, приносимом стране. Буквально через день
после этого исторического события в Доме Ученых в Москве собрались биологи,
которые с энтузиазмом обсудили лекцию Ю.А. Жданова. Можно было надеяться, что
наконец-то, обанкротившийся во всех отношениях Лысенко будет убран с
руководящих постов.
Сразу после лекции Жданова Лысенко решился на отчаянный шаг. Он написал
письмо Сталину и Жданову-старшему, желая спасти свое пошатнувшееся положение
ценой хотя бы и "отречения от престола" - добровольного ухода с поста
президента ВАСХНИЛ.
Занимаемый им тогда пост приравнивался к посту заместителя министра
земледелия СССР, и, кроме того, у Лысенко было немало других почетных должностей.
Удивительность его просьбы об отставке заключалась в том, что по собственной
воле ни один высокопоставленный советский чиновник никогда бы не прибегнул к
столь рискованному эксперименту над самим собой, так как было хорошо
известно, что при вспыльчивости Сталина, умело им прячущейся под внешней
невозмутимостью, и широко распространенной теории, что незаменимых людей нет, подобный
шаг мог привести к гибели. Доверили тебе работу, поручили пост - сиди
работай. Всякого рода выговоры сами по себе ничего не значат, а вот нервные жесты
и попытки спекуляции на своей незаменимости и отказы от порученного тебе
поста просто недопустимы. Партия поставила, партия и решит, когда тебя снимать
или повышать, - таким был непреложный закон для функционеров всех времен -
досталинских и послесталинских - в СССР. И тем не менее, Лысенко надеялся на
свое особое положение в иерархии власти и был полон решимости это правило
нарушить . Для начала он послал письмо Сталину.
"ПРЕДСЕДАТЕЛЮ СОВЕТА МИНИСТРОВ СОЮЗА ССР
товарищу СТАЛИНУ Иосифу Виссарионовичу
СЕКРЕТАРЮ ЦЕНТРАЛЬНОГО КОМИТЕТА ВКП(б)
товарищу ЖДАНОВУ Андрею Александровичу
от академика Т.Д. Лысенко
Мне, как Президенту Всесоюзной Академии сельскохозяйственных наук имени
В.И. Ленина и даже как научному работнику, стало очень тяжело работать.
Поэтому я и решил обратиться к Вам за помощью. Создалось крайне ненормальное
положение в агробиологической науке.
То, что в этой науке шла и идет борьба между старым метафизическим
направлением и новым мичуринским - это общеизвестно, и это я считаю нормальным.
В настоящее время по понятным причинам вейсманисты, неодарвинисты применили
новый маневр. Они, буквально ничего не меняя в основах своей науки, объявили
себя сторонниками Мичурина, а нам, разделяющим и развивающим мичуринское
учение, приписывают, что мы, якобы, сужаем и извращаем мичуринское учение.
Понятно также, почему весь натиск вейсманистов, неодарвинистов в основном
направлен персонально против меня.
В этих условиях, мне, как руководителю Академии, работать крайне трудно.
Но все это было в известной мере нормальным и для меня понятным. Критерием
истинности направлений и методов научной работы у нас является степень их
помощи социалистической сельскохозяйственной практике. Это была основа, из
которой я, как руководитель, черпал научные силы для развития мичуринского
учения и для все большей помощи практике. Это также являлось наилучшим способом
борьбы с метафизическими установками в биологии.
Несмотря на отсутствие научной объективности и нередко прямую клевету, к
которой прибегали противники мичуринского направления, мне, хотя и было
трудно, но, опираясь на колхозно-совхозную практику, я находил в себе силы
выдерживать их натиск и продолжать развивать работу в теории и практике.
Теперь же случилось то, в результате чего у меня действительно руки
опустились .
Десятого апреля с. г. Начальник Отдела науки Управления пропаганды ЦК
ВКП(б) тов. Юрий Андреевич Жданов сделал доклад на семинаре лекторов обкомов
ВКП(б) на тему "Спорные вопросы современного дарвинизма".
На этом докладе докладчик лично от своего имени изложил наговоры на меня
противников антимичуринцев.
Мне понятно, что эти наговоры антимичуринцев, исходя от докладчика -
Начальника Отдела науки Управления пропаганды ЦК ВКП(б), восприняты большой
аудиторией лекторов обкомов ВКП(б) как истина. Отсюда неправда, исходящая от
антимичуринцев неодарвинистов, приобретает в областях значительно большую
действенность как среди научных работников, так и среди агрономов и
руководителей сельскохозяйственной практики. Этим самым руководимым мною научным
работникам будет сильно затруднена дорога в практику. Это и является для меня
большим ударом, выдерживать который мне трудно.
Поэтому я и обращаюсь к Вам с очень большой для меня просьбой: если найдете
нужным, оказать помощь в этом, как мне кажется, немалозначащем для нашей
сельскохозяйственной и биологической науки деле.
Неправильным является утверждение, что я не выношу критики. Это настолько
неправдоподобно, что я не буду на этом вопросе в данном случае подробно
останавливаться. Любую свою работу в теории и практике я всегда сам подставлял
под критику, из нее я научился извлекать пользу для дела, для науки. Вся моя
научная жизнь проходила под контролем критики, и это хорошо.
Докладчик меня ни разу не вызывал и лично со мной никогда не разговаривал,
хотя в своем докладе всю критику в основном направил против меня. Мне было
отказано в билете на доклад, и я его внимательно прослушал не в аудитории, а
в другой комнате, у репродуктора, в кабинете т. Митина, заместителя
председателя Всесоюзного общества по распространению политических и научных знаний.
В чем сущность доклада в моем понимании, можно судить хотя бы по моим,
весьма отрывочным, записям из заключительной части доклада. Часть этих
записей отдельно прилагаю.
Меня неоднократно обвиняли в том, что я в интересах разделяемого мною
мичуринского направления в науке, административно зажимаю другое, противоположное
направление. На самом же деле это по независящим от меня причинам, к
сожалению, далеко не так. Зажатым оказывается то направление, которое я разделяю,
то есть мичуринское.
Думаю, что не будет преувеличением, если скажу, что лично я, как научный
работник, но не как президент академии сельскохозяйственных наук, своей
научной и практической работой немало способствовал росту и развитию мичуринского
учения.
Основная беда и трудность моей работы как президента заключалась в том, что
мне предъявляли, по моему глубокому убеждению, неправильные требования -
обеспечить развитие разных направлений в науке (речь идет не о разных
разделах в науке, а именно о разных направлениях).
Для меня это требование невыполнимо. Но и зажимать противоположное
направление я не мог, во-первых, потому что административными мерами эти вопросы в
науке не решаются, и, во-вторых, защита неодарвинизма настолько большая, что
я и не мог этого делать.
Фактически я был не президентом академии сельскохозяйственных наук, а за-
щитником и руководителем только мичуринского направления, которое в высших
научных кругах пока что в полном меньшинстве.
Трудность была и в том, что мне, как президенту Академии, приходилось
научную и практическую работу представителей мичуринского направления (явного
меньшинства в академии) выдавать за работу всей Академии. Антимичуринцы же не
столько занимались творческой работой, сколько схоластической критикой и
наговорами .
Я могу способствовать развитию самых разнообразных разделов
сельскохозяйственной науки, но лишь мичуринского направления, направления, которое признает
изменение живой природы от условий жизни, признает наследование приобретенных
признаков.
Я давно воспринял, разделяю и развиваю учение Вильямса о земледелии, о
развитии почвы и учение Мичурина о развитии организмов. Оба эти учения одного
направления.
Я был бы рад, если бы Вы нашли возможным предоставить мне возможность
работать только на этом поприще. Здесь я чувствую свою силу и смог бы принести
пользу нашей советской науке, Министерству сельского хозяйства, нашей
колхозно-совхозной практике в разных разделах ее деятельности.
Простите за нескладность письма. Это во многом объясняется моим теперешним
состоянием.
ПРИЛОЖЕНИЕ: упомянутое
Президент
Всесоюзной академии с.х. наук
имени В.И. Ленина - академик
Т.Д. Лысенко
17/IV - 1948 г.
Л-1/414 17/IV. 1948 г."
Это письмо, без сомнения, было шедевром. Лысенко мог быть разным в жизни -
веселым с друзьями, беспощадным и саркастичным с врагами, заискивающим
оптимистом-бодрячком с вождями. Но сейчас наступил особый час, все прежние маски
не годились, их надо было отбросить, и он нашел единственно верный тон:
приниженный, извиняющийся, даже какой-то блеклый по форме и несгибаемо жесткий
по содержанию. Он почувствовал надвигающуюся катастрофу и находил единственно
верные слова.
С пониманием именно сталинской лексики (см. раздел этой главы "Был ли
Сталин предрасположен к лысенкоизму?") он называл генетиков "неодарвинистами".
Он жаловался на то, что ему предъявляли неправильное (он подчеркивает: "по
моему глубокому убеждению") требование - "обеспечить развитие разных
направлений в науке", то есть взывал к исконным чувствам вождей, всю жизнь
специализирующихся на искоренении всех линий и направлений, кроме их собственного.
Он силился представить себя несчастным ягненком-теоретиком, на которого
точат клыки реакционные волки-генетики, и талантливо развивал миф, что эти же
волки ответственны за трудности продвижения его предначертаний в практику.
Немногословно он свел критику младшего Жданова к его излишней доверчивости.
Дескать, по молодости тот доверился старым волкам, вот они и наговорили.
Минимальное количество слов, потраченных на главного обидчика, в сочетании с
самоуничижением были метко рассчитаны на то, чтобы, показав свою покорность и
готовность к беспрекословному выполнению любых приказов, получить "карт-
бланш" на расправу с потенциальными и явными врагами, сумевшими даже Жданову
наговорить много неправды.
Пассажи, в коих он жаловался, с одной стороны, на то, что его "неоднократно
обвиняли... в административном зажиме другого, противоположного направления",
а, с другой стороны, на то, что "это, по независящим от /него/ причинам, к
сожалению, далеко не так", были многозначительными. Мысль - что ему до сих
пор не дали устроить погром в биологии, выступала в письме на первый план. И
тут же он намекал на тех, кто всё еще продолжал мутить воду в ВАСХНИЛ.
Упоминая , что его сторонники до сих пор " в явном меньшинстве", он призывал помочь
именно в этом вопросе - убрать тех, кто не с ним.
Лысенко не без оснований рассчитывал, что придется Сталину по вкусу и
последняя сентенция его письма:
"Я могу способствовать развитию самых разнообразных разделов
сельскохозяйственной науки, но лишь мичуринского направления. . . Я был бы рад, если бы Вы
нашли возможным представить мне возможность работать только на этом поприще".
Приписка с извинениями за "нескладность письма" и ссылка на любому человеку
понятную причину - расстроенные чувства - была, возможно, излишней. Вряд ли
можно было более рельефно изложить приниженными фразами клокочущую страсть и
буйное желание остаться среди любимцев Сталина.
Свидетельством его смелости стало то, что к письму он приложил краткий
перечень из семи пунктов критики его Ждановым. Если бы Сталин поверил не ему, а
Жданову, то за эти семь пунктов можно было и головы не сносить. Но его не
испугала перспектива быть поставленным к стенке. Смел и решителен был он в этот
день. Наверное знал доподлинно, что голову на плаху не кладет.
"Приложение к письму академика Т.Д. Лысенко
ЧАСТЬ МОИХ ОТРЫВОЧНЫХ ЗАПИСЕЙ
из заключительной части доклада
"СПОРНЫЕ ВОПРОСЫ ДАРВИНИЗМА"
1. Лысенко ставит препоны для развития науки (отрицание гормонов, витаминов и
т.п.) .
2. Лысенко отстаивает лишь некоторый круг работ из необходимых, а именно
биологический, но он отрицает физику, химию в биологии.
3. Безобразие, когда имеются люди, которые из узких интересов опорочивают
работы других. Один из школы Лысенко Андреев в журнале "Селекция и
семеноводство" говорит против ростовых веществ (зачитывает).
4. Лысенко отрицает существование гормонов.
5. Лысенко задержал на 13 лет внедрение у нас гибридной кукурузы.
6. Нет критического отношения к Лысенко, а ошибки у него есть. Пример - его
обещание вывести морозостойкий сорт для Сибири. Из этого ничего не вышло.
А в статье, помещенной в "Известиях", он уже сдает свои позиции, но нигде
не сказал о том, что ошибся.
7. Лысенко пытается оклеветать, зажать много нового в науке. Это уже чем-то
отличается от новатора, которым Лысенко раньше был и то, что, например,
говорил Жданов Андрей Александрович в своем выступлении о лженоваторах
(зачитал фразу), я от себя говорю, что это к Вам относится, Трофим
Денисович Лысенко.
(Т. Лысенко)"
17/IV- 1948 г.
Л-1/414
Хотя выступление Жданова наделало много шума, никаких реальных
неприятностей сразу оно Лысенко не принесло. Но и ответы от Сталина и А. А. Жданова
также не пришли. Тогда Лысенко решил поторопить события и прибег к другому
шагу. С помощью Министра сельского хозяйства СССР И.А. Бенедиктова он добыл
стенограмму лекции Жданова. Возвращая ее 11 мая 1948 года, он присовокупил к
ней заявление, теперь уже с решительной просьбой об отставке с поста
Президента ВАСХНИЛ:
"Министру сельского хозяйства Союза СССР
товарищу Бенедиктову Ивану Александровичу
Возвращаю стенограмму "Спорные вопросы дарвинизма".
Считаю своим долгом заявить, что как в докладе, так и в исправленной
стенограмме (где ряд мест немного сглажен против того, что на слух мне казалось
было в докладе), докладчиком излагаются лично от себя давние наговоры на меня
антимичуринцев-морганистов-неодарвинистов.
Такая критика делается в секрете от меня, с тем чтобы я не смог ни устно,
ни в печати возразить и опровергнуть.
Для характеристики уровня научной критики моих научных работ прилагаю
выписку с 30 стр. стенограммы, где разбирается одно из моих положений. Просьба
сравнить данную выписку с тем, что написано в моей статье по этому вопросу.
Соответствующая страница моей статьи подклеена к выписке. На таком же научном
уровне построена и вся остальная критика.
В исправленной стенограмме не указывается ни названия моих работ, ни
страниц, из которых берутся цитаты. Поэтому читатель не имеет возможности
сопоставить высказывания докладчика по тому или иному вопросу с моими
высказываниями. Я уже неоднократно заявлял, что в тех условиях, в которые я поставлен,
мне невозможно работать как Президенту Всесоюзной Академии
сельскохозяйственных наук имени В.И. Ленина.
Для пользы сельскохозяйственной науки и практики прошу поставить вопрос об
освобождении меня от должности Президента и дать мне возможность проводить
научную работу. Этим самым я смог бы принести значительно больше пользы как
нашей сельскохозяйственной практике, так и развитию биологической науки
мичуринского направления в различных ее разделах, в том числе и для воспитания
научных работников.
Академик Т.Д. Лысенко"
11/V- 1948 г.
Л-1/497
Ознакомление с этим документом позволяет высказать осторожное
предположение, что в этот момент Лысенко уже имел некоторую информацию о реакции
Сталина на его письмо и посчитал, что ускорение событий пойдет ему только на
пользу. Ускорить же можно было, потребовав в категоричном тоне отставки. Именно
такой тон письма Бенедиктову - совершенно отличный от тона первого письма,
показателен. Лысенко уже не унижается, а открыто идет в атаку, обвиняя Ю.А.
Жданова в низком научном уровне его доклада, в некомпетентности и даже
нечистоплотности. Чего стоят одни упоминания о том, что Жданов, дескать,
передергивает цитаты из его статей, или сетования по поводу того, что не проставлены
страницы его работ, откуда Жданов брал цитаты, а это, видите ли, лишает
читателей возможности текстуального сравнения.
Он, конечно, продолжает настаивать на том, что он - невинно пострадавший,
жертва секретной критики, хотя о каком секрете можно говорить, если Жданов
читал свою лекцию нескольким сотням человек, если сам Лысенко слышал ее
собственными ушами, и стенограмма её была размножена. Ему стыдно было признаться
в том, что он не набрался храбрости войти в зал. Ведь ссылки на то, что ему,
Президенту, депутату Верховного Совета СССР, директору института и прочая и
прочая, "не дали билета" на лекцию, даже наивными назвать нельзя.
Впрочем, требование освободить его от должности президента ВАСХНИЛ,
направленное Бенедиктову, было уловкой. Административно президент ВАСХНИЛ министру
подчинялся, как и вся ВАСХНИЛ подчинялась в первую голову именно ему, но и в
бюджете страны была отдельная строка о финансировании этого полунаучного
ведомства , и сам Лысенко в номенклатуру министра не входил: его кандидатуру на
эту должность утверждало Политбюро ЦК партии. Значит, и снять Президента
ВАСХНИЛ с работы министр самолично не мог. Он мог лишь послать запрос в отдел
руководящих кадров ЦК, основываясь формально на поданном прошении. Сотрудники
отдела руководящих кадров также сами против любимчика Сталина пойти бы не
захотели. Поэтому Лысенко рассчитал всё правильно - не министр Бенедиктов
должен был решать это дело, а лично Сталин.
Расчет оказался верным - Сталин вызвал к себе "несправедливо обиженного".
По-видимому, на этой встрече присутствовал А.А. Жданов - 20 мая в его
записной книжке появилась запись: "О Лысенко выговор Ю[рию Жданову?]4. На обороте
следующей странички записной книжки Жданов-старший дважды подчеркнул запись
"Кремль Лысенко". В Кремле располагался кабинет Сталина, сам А.А. Жданов и
его сын имели кабинеты в здании ЦК партии на Старой площади, следовательно
можно предполагать, что встретить Лысенко в Кремле можно было в кабинете
Сталина, и встреча эта (или две последовавшие друг за другом встречи?) произошли
в последнюю неделю мая. Занесенные чуть дальше в записную книжку фразы могли
принадлежать скорее Лысенко, а не Сталину, настолько характерно они передают
мысли "Главного агронома", постоянно на эти темы витийствовавшего:
"Учение о чистых линиях ведет к прекращению работ над улуч[шением] сортов.
Учение о независим[мости] ГЕНа (далее одно слово неразборчиво) ведет к
иссушен [ию] практики. Успехи передовой науки, выведение новых сортов и пород -
достигнуты вопреки морганистам-менделистам".
Зачем эти рассуждения о генах и их постоянстве могли понадобиться Лысенко в
кабинете главного коммуниста страны Сталина? Разумеется, не только для того,
чтобы обрисовать идейные разногласия со своими научными противниками, но и
для вполне прозаической цели. У Лысенко оставался последний шанс остаться у
кормила власти - довести до состояния стабильного сорта ветвистую пшеницу,
семена которой ему вручил в самом конце 1946 года Сталин. Эта пшеница
завладела умом вождя, её нужно было приспособить к условиям погоды и почв СССР,
приспособить быстро, воспитать. Ученые, уже знавшие, что гены воспитанию не
поддаются, что их надо менять другими методами (физическими и химическими),
за задачу срочного приспособления ветвистой пшеницы к российским условиям
никогда бы не взялись. Надежда оставалась только на одного Лысенко, а ему
мешали проклятые гены и верующие в них вейсманисты-морганисты.
"Сталинская ветвистая"
Сотрудники Лысенко всегда "умели" подтвердить на бумаге любую из его идей,
поэтому результаты "проверок" великих догадок их шефа всегда сходились с его
предначертаниями. Недаром он однажды (уже в пятидесятых годах на публичной
лекции в МГУ, на которой мне довелось присутствовать) сказал:
"Я - такой человек. Что ни скажу, всё сбывается, всё оказывается открытием.
Вот подумал, что внутривидовой борьбы нет - оказалось открытие. Недавно
сказал о роли почвенных микробов в питании растений - опять открытие. И так -
всегда!"
Но одно дело слова, а другое - реальные урожаи на реальных полях огромной
страны. Об этом и поведал в лекции в Политехническом музее заведующий Отделом
науки ЦК партии. Жданов не сказал ничего о новом увлечении Лысенко, увлечении
еще не проверенном, но уже зажегшем надежду у самого Сталина. И в разговорах,
и в письме Сталину Лысенко пообещал добиться такого успеха, равного которому
мировая селекция не знала - увеличить сборы зерна сразу в пять-десять раз с
помощью ветвистой пшеницы. Пока идея была в стадии разработки и проверки,
говорить о ней на публике было преждевременно. Но Жданов уже не раз просил
генетиков, и в их числе Жебрака, дать материалы об этой ветвистой пшенице,
естественно не раскрывая перед ними того, зачем ему понадобились эти данные.
Генетики же, в том числе и неторопливый Жебрак, выполнять просьбу не спешили.
Взрыв внимания к этой пшенице и неожиданный интерес к ней самого Сталина
были типичными для того времени. Снова замаячила перспектива решения сложной
и очень актуальной проблемы простым и дешевым способом. Перед войной - в 1938
году - на всю страну прогремела весть о небывалом достижении простой
колхозницы из Средней Азии Муслимы Бегиевой, которая будто бы получила огромный
урожай, вырастив пшеницу с ветвящимся колосом. Число зерен в таких колосьях
было в несколько раз больше, чем у обычных пшениц, поэтому колхозница и
ожидала, что сбор зерна с единицы площади возрастет. Об успехах передовой
колхозницы заговорила печать. Пшеницу в газетах назвали по ее имени "муслинкой",
а снопик чудо-растения послали в Москву на Всесоюзную сельскохозяйственную
выставку. Туда же привезли крестьян со всех краев страны, и так получилось,
что около снопика Бегиевой как-то остановились два грузинских паренька из Те-
лавского района Кахетии, которых могучий вид пшеницы поразил. Они отодрали от
снопика несколько колосьев, на следующий год высеяли пшеницу у себя в колхозе
имени 26 бакинских комиссаров, но затем ребят забрали в армию, потом началась
война, и о ветвистой пшенице вспомнили только после ее окончания.
В 1946 году из Кахетии в Москву был отправлен снопик ветвистой, и без
всякой проверки в Государственную сортовую книгу была внесена запись о сорте,
названном теперь "кахетинская ветвистая". Такая спешка объяснялась просто:
семена и снопик показали Сталину - ему, грузину по национальности, было
приятно, что его сородичи сделали важное дело, тем более, что у автора сорта -
Бегиевой дело разладилось, как оказалось, её семена "выродились", перестали
давать ветвящиеся колосья, и, как она ни билась, восстановить ветвистость ей
не удалось.
В декабре 1946 года Сталин вызвал к себе Лысенко и поручил ему развить
успех грузинских колхозников, высказав пожелание, чтобы чудесная пшеница была
перенесена на поля как можно скорее. Взяв из рук Сталина пакетик с двумястами
десятью граммами теперь уже воистину золотой пшенички, Лысенко заверил Вождя
Народов, что его поручение будет выполнено, и отправился в Горки Ленинские.
Вот именно этот момент очень важен для оценки личности Лысенко и его
поступков. Среди тех, кто знал его близко, чаще всего ходили разговоры о
безграничной честности Лысенко, высокой порядочности в научных, да и в житейских
делах. Те, кому довелось познакомиться с ним еще в пору пребывания в Одессе,
рассказывали даже о застенчивости молодого Лысенко. Но годы меняют человека,
жизнь многому учит и от многого отучивает. Не мог не меняться и Лысенко,
особенно оказавшись на верхах. Возможно, раньше он бывал настырен по незнанию,
ожесточен вовсе не из-за злобы, а просто потому, что душа горела и искала
выхода. Однако теперь настал миг, когда жизнь подкинула ему задачку, решить
которую было бы человеку с принципами непросто. Ведь тот факт, что Сталин,
великий Сталин, Отец Всех Народов и Вождь Всех Времен не погнушался им и вызвал
к себе в то время, когда другие лидеры партии от него отвернулись, был не
просто многозначительным. Это был, с учетом всех обстоятельств, решающий факт
жизни.
В просьбе Сталина, человека от науки и от знания растений далекого, ничего
зазорного не было. Даже наоборот, интерес к ветвистой говорил о нем как о
рачительном хозяине. И столь же естественным было, на первый взгляд, поведение
Лысенко. Вождь приказывает - как же не выполнить. Но в том-то и дело, что
ЛЫСЕНКО ПРО ВЕТВИСТУЮ ВСЁ ЗНАЛ, НАВЕРНЯКА К НЕЙ НЕ РАЗ ПРИМЕРИВАЛСЯ, ДА ПОНЯЛ:
ОВЧИНКА ВЫДЕЛКИ НЕ СТОИТ. ПУСТЯКОВОЕ ЭТО, ЗРЯШНОЕ ДЕЛО.
Могли это знать и генетики, особенно те, кто занимался пшеницами, так как о
ней писали на протяжении более ста лет, и надо было засесть в библиотеку,
покопаться и дать толковую справку об этой красавице - красавице только по
виду , а в массе - неурожайной пшенице. Могли ученые найти аргумент совсем уж
убойный. Конечно, трудно их за это сегодня корить, но если бы они следили за
саморекламой своих научных врагов, то могли бы вспомнить одну старенькую
фотографию отца Трофима Денисовича второй половины 30-х годов. Был изображен
Денис Никанорович на поле... и держал в руках колосья этой самой ветвистой
пшеницы. Значит, прицеливались лысенковцы к ней еще до Муслимы Бегиевой, и уж
если бы можно было за нее ухватиться - с радостью бы это сделали. Фотография
эта хранилась не в домашнем альбоме Лысенко, я обнаружил её в газете
"Социалистическое земледелие", подпись под ней гласила:
"Отец академика Лысенко - Денис Никанорович Лысенко, заведующий хатой-
лабораторией колхоза "Большевистский труд" (Карловский район Харьковской
обл.) посеял на 60 опытных участках разные сорта зерновых и овощных культур.
НА СНИМКЕ: Лысенко (слева) показывает председателю колхоза новый сорт
пшеницы. Каждый колос пшеницы имеет более 100 зерен. Фото Я. Сапожникова (Союзфо-
то) " .
Дай генетик в руки Жданову эту фотографию, - что могло бы быть лучше для
последующей судьбы науки в СССР!
Описания ветвистой пшеницы в русской литературе вслед за европейской
появились в XVIII веке. В начале 30-х годов XIX века в России интерес к ветвистой
пшенице исключительно возрос. Сначала в Сибири была испробована ввезенная
туда кем-то "семиколоска Американка", а затем началась многолетняя история
проверок и перепроверок пшеницы "Благодать" и такой же "Мумийной пшеницы".
Историю пшеницы "Благодать" раскрывают следующие строки из книги, изданной
в России в середине прошлого века:
"Пшеница "Благодать" получила название от того, что будто бы она разведена
от зерен, взятых из одной мумии в Египте, где, думают, этот вид пшеницы,
теперь переродившейся вследствие дурного ухода, был возделываем некогда в
огромных размерах".
Семена этой пшеницы были завезены в Россию, и первые надежды в её отношении
были радужными. Сообщалось, что она дает урожай "сам 30-35" (то есть
количество зерна собранного превышает количество посеянного в 30-35 раз) , мука из
зерна выходит нежная, белая, хотя и оговаривалось, что пшеница требует "для
выявления своих изумительных свойств ухода тщательного и почв тучных - в
противном случае колос у пшеницы получается простой, а не ветвящийся". Но уже в
ближайшие годы стало ясно, что надеяться на чудо нечего:
"Были произведены опыты разведения этой пшеницы во многих местах России и
результатов ожидали от нее чрезвычайных... но все попытки получить это
баснословное растение в таком виде, как его описывали, оказались тщетными", -
писал один из крупнейших авторитетов того времени профессор A.M. Бажанов. При
этом он ссылался не только на свое мнение, но и на выводы, как своих русских
коллег, так и европейских ученых.
Позже русская агрономическая литература запестрела статьями и заметками о
неудачах с пшеницей "Благодать". Сообщалось не только о потере свойства
ветвления колоса при посеве на бедных почвах (об этом, например, писал М.В. Спа-
фарьев из Ярославской губернии). Приводились и более грустные сведения. Так,
О. Шиманскии в течение нескольких лет проверял свойства ветвистой пшеницы и
обнаружил, что это - капризная и к тому же весьма непостоянная пшеница: в его
посевах год от года число ветвящихся колосьев уменьшалось, и на 4-й год уже
ни одного ветвистого колоса не осталось, зерно измельчало, а на 5-й год и
всходов почти не было. Именно поэтому A.M. Бажанов и предупреждал:
"... многоколосная пшеница, как изнеженное чадо, требует, кроме тучной
земли, редкого сева, она не переносит даже легкого морозу и терпит более других
простых пород от головни и ржавчины. Хотя каждый отдельный ее колос приносит
более зерен, нежели колосья простых пород, но при соображении общего умолота
всех колосьев с известной меры земли, всегда открывается, что многоколосная
пшеница не прибыльнее простых".
Бажанов добавлял:
"Эти указания были проверены собственными опытами".
Интерес к "Благодати" к концу 30-х годов XIX века угас, но через
десятилетие снова возродился, когда Вольное Экономическое Общество стало давать
объявления - в 1849, 1850 и 1851 годах - что оно рассылает членам Общества (а в
1851 году - подписчикам трудов Общества) ограниченное число зерен другой
пшеницы, также ветвистой, выращенной из зерен (обнаруженных в египетских
мумиях) , полученных "из Лондона от первых производителей оной". Вокруг образцов
начался ажиотаж, газеты и журналы вели полемику о возможности сохранения
всхожести семян, пролежавших тысячу лет в саркофагах (поругивали француза
Вильморена за его якобы нарочитый обман россказнями о свойствах семян),
обсуждались и свойства пшеницы. Как всегда, нашлось несколько энтузиастов, у
которых все отлично получилось, а потом вышло, что новая мумийная пшеница
ничуть не лучше предыдущих ветвистых.
Позже в России еще не раз возникал интерес к ветвистым пшеницам (например,
в 90-х годах прошлого века привлекла внимание китайская пшеница "Хайруза"),
но постепенно специалистам стало ясно, что никакого экономического эффекта
ветвистые пшеницы не обеспечивают. В конце XIX и начале XX веков это мнение
было твердо выражено в трудах многих представителей русской агрономии, и
ветвистой пшеницей заниматься перестали. После возникновения (на грани XIX и XX
веков) генетики и научных основ селекции ученые (и прежде всего школа Н.И.
Вавилова) серьезно перепроверили свойства ветвистых пшениц и пришли к
обоснованному выводу о тщетности старых надежд увеличить урожаи путем внедрения
"многоколосной пшеницы".
Хоть что-то из приведенных здесь сведений Лысенко должен был знать. Еще в
1940 году в его собственном журнале "Яровизация" Ф.М. Куперман опубликовала
статью "О ветвистых формах озимых пшениц, ржи и ячменя", в которой описала
условия появления этих форм. Если бы он даже ничего другого не читал, то уж
свой журнал, где он был главным редактором, наверняка, просматривал. И,
вообще, вопрос о ветвистых пшеницах так часто дискутировался в научной
литературе, разбирался и учениками Вавилова и другими учеными, что Лысенко, даже не
следя специально за научными публикациями, не мог не знать или хотя бы не
слышать об этом.
Поэтому будь он на самом деле кристально честным или просто честным, как
большинство людей, - он от выполнения такого поручения сразу бы отказался.
Ему было заведомо ясно, что, беря пакет из рук Сталина, он идет на обман. Но
такие настали лихие времена, так земля под ногами горела, что не прикажи, а
лишь намекни ему Сталин, что не дурно было бы по утрам петухом петь, - он бы
и пел, и с какой радостью пел! Потому он и предпочел ничего плохого о
ветвистой Сталину не говорить, надежд его не гасить. Ведь вряд ли он следовал
раскладу Ходжи Насреддина, обещавшего шаху научить за 25 лет осла разговаривать
и надеявшегося на то, что либо шах за это время подохнет, либо ишак от
старости умрет.
Попытки возродить интерес к ветвистой пшенице, якобы способной стать хлебом
будущего, давать потрясающие урожаи, как уверял сам Лысенко, "... по
пятьдесят, семьдесят пять, по 100 и даже больше центнеров с гектара; урожай сам-сто
должен стать в ближайшие годы для нее средним", - были чистым обманом.
Доводить ветвистую до кондиций Лысенко поручил своим самым исполнительным
сотрудникам - Авакяну, Долгушину и Колеснику. От них требовалось быстро ее
размножить, воспитать и вывести на колхозные поля. Приказ есть приказ, и
работа у лысенковских помощников закипела. В первый год Авакян и отец Лысенко -
Денис Никанорович посеяли семена, как того и требовали старые рецепты,
разреженно. С полученными колосками И.Д. Колесник поехал на родную Украину -
"завлекать колгоспы". Как мы уже знаем из письма Лысенко, направленного вождю в
октябре 1947 года, ветвистую пшеницу размножали в четырех местах, и Лысенко
сообщал, что, по крайней мере, в двух из них дело не пошло, но надежд Сталина
на получение огромного урожая Лысенко не гасил. В это же время Долгушин с
помощью "брака по любви" принялся "переделывать" яровую ветвистую в озимую.
С весны 1948 года в газетах уже началась шумиха по поводу новой пшеницы. По
словам корреспондентов, прекрасные результаты были получены и в колхозе имени
Сталина в Ростовской области, и в других местах. Как писал один из трубадуров
лысенкоизма Геннадий Фиш:
"...и только теперь, когда своим гениальным провидением товарищ Сталин
разглядел возможности этой пшеницы и предложил академику Лысенко заняться ею. ..
Трофиму Денисовичу удалось во многом разгадать тайны ветвистой пшеницы и
вопреки всему, что до сих пор говорилось и о чем писалось в "мировой
литературе", вывести ее с грядок, с мелких делянок, из теплиц на поля совхозов. Уже
на втором году работы с нею удалось сделать ее самой урожайной из всех
знакомых человеку сортов".
Поставленные в кавычки слова о мировой литературе стали расхожими. Западный
образ жизни охаивали на всех углах, "преклонение и раболепство" перед
заграницей бичевали во всех органах печати, преимущество всего советского
объявляли неоспоримым, а силу русского духа, русского ума, русской души и русской
натуры и в годы войны и после победы над фашистской Германией превозносили на
все лады.
Об успехах с воспитанием ветвистой пшеницы Лысенко доложил Сталину, и
достоверно известно, что в последний раз, когда А.А. Жданов критиковал Лысенко
при Сталине, последний возразил ему, указав на то, что товарищ Лысенко сейчас
делает важное для страны дело, и, если он даже увлекается, обещая повысить
урожайность пшеницы в целом по стране в 5 раз, а добьется увеличения только
на 50 процентов, то и этого для страны будет вполне достаточно. Поэтому надо
подождать и посмотреть, что из этого получится.
В сталинском окружении так и не нашлось никого, кто развеял бы его
преувеличенный оптимизм (возможно, диктатор Сталин и не захотел бы никого слушать.
Ведь грандиозная задача исходила от него самого, да и за работу взялся самый
крупный, по его мнению, специалист - академик Лысенко, кто же лучше его мог
знать пшеничное дело). А младший Жданов знал со слов Жебрака, что ветвиться
некоторые виды пшениц способны только при изреженном посеве, когда "колос от
колоса не слышит голоса", и никогда не дают больше урожая, чем обычные
пшеницы, но достаточными сведениями, чтобы разоблачить "новатора" в глазах
будущего тестя, генетики его не снабдили.
Сталин собственноручно
подавляет критику Ю.А. Жданова
и готовит разгром генетики
Начатая шумиха о колоссальном успехе с ветвистой пшеницей позволила Лысенко
не просто выйти сухим из воды, но и утопить всех критиков. Обещание увеличить
урожаи в пять-десять раз очередной раз поразило воображение Сталина, и он без
раздражения отнесся к письму Лысенко, отправленному 17 апреля 1948 года. Уже
в мае членов Политбюро ЦК ВКП(б) собрали на незапланированное заседание.
Пригласили и некоторых людей из аппарата ЦК. Спустя 40 лет, в январе 1988 года
бывший секретарь ЦК партии Дмитрий Трофимович Шепилов рассказал мне об этом
заседании:
"За мной заехал Андрей Александрович Жданов и сказал, что нас срочно
вызывают "на уголок" (так мы между собой называли кабинет Сталина, в котором
проводились заседания Политбюро; кабинет этот располагался в угловой части
здания в Кремле). "Поедем в моей машине", - сказал мне Жданов. Когда мы
приехали, в кабинете уже сидели почти все члены Политбюро и несколько приглашенных
лиц. Я тогда заведовал отделом пропаганды и агитации, а отдел наш подчинялся
М.А. Суслову, ставшему секретарем ЦК партии. Я должен сделать здесь одно
отступление, чтобы вы поняли последующие события", - добавил Шепилов и поведал
мне о том, что он по образованию был экономистом, до войны защитил
диссертацию и получил степень доктора наук, ему предложили высокий пост директора
Института экономики, но он ушел на фронт простым солдатом, а там уже дослужился
до звания генерала и был переведен в аппарат ЦК ВКП(б).
"Поэтому, - продолжил он, - я чувствовал себя может быть чуточку свободнее,
чем остальные работники аппарата, так как понимал, что всегда смогу найти
работу экономистом, если меня выставят из ЦК. Когда мы начали готовить семинар
лекторов ЦК, и когда Юрий Жданов предложил выступить с лекцией, в которой
ошибки Лысенко будут названы ошибками, я согласился с этим предложением и
вставил в план лекцию Ю. Жданова. План этот я представил Суслову, и тот его
утвердил. На отпечатанной программе курсов была резолюция Суслова:
"Утверждаю" .
Как только мы с Ждановым-старшим вошли, Сталин тут же начал заседание и
неожиданно повел речь о неверной позиции Ю.А. Жданова, незаслуженно обидевшего
товарища Лысенко. Зажав трубку в руке, и часто затягиваясь, Сталин, шагая по
кабинету из конца в конец, повторял практически одну и ту же фразу в разных
вариациях. "Как посмели обидеть товарища Лысенко? У кого рука поднялась
обидеть товарища Лысенко? Какого человека обидели!" Присутствовавшие молча
вслушивались в эти повторяющиеся вопросы их вождя. Но вот Сталин остановился и
спросил: "Кто это разрешил?" Повисла гробовая тишина. Все молчали и смотрели
под ноги. Тогда Сталин остановился около Суслова и спросил: "У нас кто
агитпроп?" Суслов смотрел вниз и головы не поднимал, на вопрос не отвечал. Не
знаю почему, я до сих пор так и не понял почему, возможно, всё из-за того же
внутреннего осознания своей относительной независимости, а, может быть, из-за
привившейся во время войны привычки в трудные минуты брать ответственность на
себя, я встал и громко, по-военному ответил: "Это я разрешил, товарищ
Сталин". Теперь все подняли головы и уставились на меня, как на сумасшедшего, а
Сталин подошел ко мне и внимательно стал глядеть мне в глаза. Я свои глаза в
сторону не увел, и скажу честно, я никогда не видел такого взгляда. На меня
смотрели желтые зрачки, обладающие какой-то непонятной силой, как глаза
большой кобры, готовящейся к смертельному прыжку. Он глядел на меня долго, во
всяком случае, мне показалось, что это было очень долго. Глядел, не мигая.
Наконец, он тихо спросил меня: "Зачем ты это сделал?". Волнуясь, я стал
говорить о том огромном вреде, который Лысенко несет нашей стране, как он
старается подавить всех научных оппонентов, о том, что его собственные научные
заслуги непомерно раздуты, и что помощь от его собственных работ, несмотря на
все обещания, мала. Сталин также, как и раньше, ходил по кабинету, потом
остановился и, прерывая меня на полуслове, сказал: "Так. Всё ясно. Создадим
комиссию по выяснению всех обстоятельств". И стал называть членов комиссии -
кажется, Молотова, Ворошилова, еще кого-то, назвал меня (у меня камень с души
упал) , потом остановился, довольно долго смотрел в сторону Суслова и,
наконец, промолвил: "Суслова" и опять замолчал, а я про себя думал, почему же он
не назвал ни одного из Ждановых, это что - конец их карьеры? Но после долгого
раздумья Сталин сказал: "И Жданова". Помолчал еще и добавил: "Старшего".
Шепилов рассказывал это мне сразу после выхода в свет моей статьи о Лысенко
в "Огоньке" (разговор с ним состоялся 4-го января 1988 года). У меня нет
оснований не доверять Шепилову, но и проверить правоту его слов сегодня вряд ли
кто может. Об этом же заседании мне рассказывал пятью неделями раньше Ю.А.
Жданов, он также присутствовал на заседании, но какие-либо детали сообщить
отказался, сославшись на то, что сидел далеко от Сталина, а тот будто бы
говорил тихо, поэтому он мало что расслышал. Жданов сказал мне лишь, что ему
было предложено написать объяснительную записку, что он и сделал через не-
сколько дней. Одна деталь в рассказе Жданова была, впрочем, странной: он
обронил фразу о том, что на этом майском заседании его очень подвел Шепилов,
будто бы отказавшийся взять на себя ответственность за разрешение читать эту
лекцию. Во время беседы 5 января 1988 года Жданов добавил, что по его
сведениям в Московский горком партии было спущено сверху указание примерно
наказать его. Но события развивались столь стремительно, что никакого взыскания
горком наложить просто не успел. Не собиралась ни разу и назначенная Сталиным
комиссия: вождь до поры до времени повел защиту Лысенко самостоятельно.
31 мая и 1 июня Политбюро собиралось для обсуждения кандидатур на получение
очередных Сталинских премий по науке и изобретательству. Сталин на этом
заседании опять вернулся к лекции Ю.А. Жданова:
"Ю. Жданов поставил своей целью разгромить и уничтожить Лысенко. Это
неправильно : нельзя забывать, что Лысенко - это сегодня Мичурин в агротехнике.
Нельзя забывать и того, что Лысенко был первым, кто поднял Мичурина как
ученого . До этого противники Мичурина называли его замухрышкой, провинциальным
чудаком, пустырем и т.д.
Лысенко имеет недостатки и ошибки, как ученый и человек, его надо
критиковать , но ставить своей целью уничтожить Лысенко как ученого значит лить воду
на мельницу жебраков".
Вскоре после этих заседаний Политбюро Лысенко был вызван к Сталину. О
некоторых подробностях их беседы согласно рассказывали в 1970-х годах
приближенные Лысенко. Во время этого разговора Лысенко внутренним чутьем уловил, что
отношение к нему лично Сталина не такое уж плохое, и решил этим
воспользоваться. Он пообещал в кратчайшие сроки исправить положение в сельском
хозяйстве . Но выставил одно условие: чтобы его не травили, не позорили, а хотя бы
немного помогали, и чтобы всякие критиканы, всякие теоретики и умники, не о
благе Отечества пекущиеся, а лишь на Запад ежеминутно оглядывающиеся, больше
ему не мешали. Лысенко назвал несколько иностранных фамилий, особенно часто
упоминаемых критиканами, - такие как Моргана и Менделя, и настойчиво
повторил, что если вместо мичуринского учения по-прежнему основывать биологические
исследования на той, формальной генетике, то страна потерпит огромный ущер. А
вот если формальную генетику отменить как науку идеалистическую, буржуазную,
крайне вредную для дела социализма, то мичуринцы воспрянут, быстро свое дело
развернут и смогут пойти в бой за повышение урожайности всех культур.
Например, с помощью ветвистой пшеницы, на которую сам товарищ Сталин им указал, и
которую они уже довели практически до уровня сорта, действительно можно будет
поднять урожайность по стране в пять-десять раз. Заодно Лысенко попросил
назвать новый сорт - "Сталинская ветвистая".
Такой подход Сталину понравился. Падение Лысенко было предотвращено. Как
вспоминал Ю.А. Жданов, Сталин на заседании Политбюро, рассматривавшего
кандидатуры для присуждения Сталинских премий, "... неожиданно встал и глухим
голосом неожиданно сказал:
- Здесь один товарищ выступил с лекцией против Лысенко. Он от него не
оставил камня на камне. ЦК не может согласиться с такой позицией. Это ошибочное
выступление носит правый, примиренческий характер в пользу формальных
генетиков" .
Во время работы в партийных архивах историку В. Д. Есакову удалось
обнаружить некоторые материалы, позволяющие восстановить то, что обсуждалось на
этом или возможно на последовавшем за первым заседании Политбюро, на котором
Сталин продолжил свои попытки увести от критики Лысенко. В Центральном
Партийном Архиве он обнаружил страницу с записями А.А. Жданова, сделанными в
кабинете Сталина видимо в самом начале июня 1948 года. Из них становится ясно,
какие именно поручения давал Сталин.
"Одного из
Марксистов в биологии взять и сделать доклад
Короткое постановление от ЦК
Если бы можно было Статью в "Правде"
бы поработать
вместе с Лысенко
Что либо популярное
Доклад неправильный
Два течения - Первое опирается на мистицизм - тайна на тайну
Другое материалистическое
Жданов ошибся
Везде биология в духе Шмальгаузена преподается
Теория безобраз
в опыт".
Попытаемся прокомментировать эти записи. Первое положение, связывающее
возможность привлечения одного из марксистов к подготовке заказного доклада о
том, как с позиций марксизма развивать биологию, уже было реализовано в 1939
году во время дискуссии в редакции журнала "Под знаменем марксизма". Тогда
Митин показал себя убежденным марксистом в сталинском понимании этого
термина . Можно было повторить этот прием еще раз.
Не сложно понять, что кроется за словами о коротком постановлении ЦК. Таких
постановлений, открывавших погромы в общественных науках, в интерпретации
истории, в разгроме педологии, литературы, изобразительных искусств,
архитектурных "излишеств" и множества других сфер интеллектуальной жизни было при
Сталине принято много, как тут не вспомнить и знаменитое "Сумбур вместо
музыки" , когда был опозорен и чуть не затравлен величайший композитор ХХ-го века
Д.Д. Шостакович. Поэтому, еще не зная содержания такого будущего "Короткого
постановления", не трудно было представить его идеологическую направленность
и стилистику.
В тезисе о статье в "Правде", сопровождающейся словами "Если бы можно было
бы поработать вместе с Лысенко" я вижу каверзу. Видимо на самом деле Лысенко
сильно подмочил репутацию в глазах вождя, если даже в таком простом вопросе,
как подготовка боевой, как говорили коммунисты, статьи для их главного
печатного органа возникли сомнения. Два "БЫ" на восемь слов, окруженные словами
"ЕСЛИ" и "МОЖНО поработать" даже в комментариях не нуждаются. И нужен был
Лысенко для таких дел, но сомнения в его пригодности для этих целей возникли
даже у Сталина.
Эта запись, кстати, лучше многих других показывает, кто же руководил
схваткой в науке по идеологическим вопросам - Лысенко или Сталин. Мне
представляется, что в этой фразе раскрывается ясно, что не был Лысенко главной движущей
силой в процессе многолетней травли биологов, в особенности генетиков.
Закоперщиком и движущей силой был именно Сталин. Лысенко со своей болтовней и
нахрапистостью подошел Сталину для выполнения его старых идей о прямом влиянии
среды на всё (на человека, на общество, на природу в целом, на экономические
взаимоотношения при социализме и на понимание того, ради чего и как восстали
рабы в Древнем Риме - Сталин ведь и в этом вопросе свою линию гнул через
головы - и судьбы! - историков).
Понятен для меня и отступ в записи после первых трех пунктов. Первая часть
была главной, идейной, а всё, что шло ниже - было технологией проведения в
жизнь идейных решений. Ну, конечно, действия надо было "продать" массам, без
этого воздействия на умы жителей страны партия работать не могла. Так что
затруднений с пониманием слов "что либо популярное" нет. Разъяснения о том, что
вся загвоздка в биологии имеет идеологический характер, то же не нужны. Раз
есть два мира - коммунистический и капиталистический - значит, должны быть
две биологии (одна прогрессивная и материалистическая, вторая загнивающая,
вредоносная и к тому же мистическая; веруют, понимаете, там на Западе, чёрт
знает во что!). Ясно, что доклад (лекция) младшего Жданова был неправильный,
ошибочный, не заметил молодой человек, как вся биология пропиталась миазмами
идеализма, как везде эти враги коммунистов пролезли, как отравляют и все
остальные сферы, буквально всюду проникли! Вот зачем надо партии вмешаться:
чтобы всех спасти, всюду порядок навести. Особенно в тех местах, где кадры
новые готовят - в вузах и техникумах. Из фразы о преподавании биологии
становится понятным, что засела в голове Сталина фамилия вовсе и не генетика, а
зоолога-эволюциониста, тишайшего академика с аккуратной бородкой, Ивана
Ивановича Шмальгаузена. Очень уж его фамилия Сталину показалась к месту,
нерусская - скажешь, как припечатаешь. И будут после этого полоскать имя шшмальх-
хауссена на всех углах. Сломают судьбу великого русского ученого с немецкой
фамилией, чьи книги и спустя полстолетия будут переводить и издавать на
Западе.
Как можно судить по косвенным данным, Сталин поручил готовить главное
постановление и практические шаги по внедрению в жизнь этого набора
идеологических императивов А.А. Жданову, пока еще главному идеологу. Два человека из
идеологических (А НЕ ИЗ НАУЧНЫХ!) кругов - Шепилов и Митин принялись работать
над текстом постановления о биологии. Проект лег на стол Жданова, он внес
многочисленные поправки, их учли, и 7 июля Шепилов с Митиным снова
представили Жданову проект с запиской: "Направляем на Ваше рассмотрение проект
сообщения ЦК ВКП(б) "О мичуринском направлении в биологии", исправленный согласно
Ваших указаний". Жданов отложил все дела и срочно внес множество новых
исправлений. Он изменил название на такое "О положении в советской
биологической науке", переписал и дополнил многие разделы. Получилось большое, а не
краткое "постановление", отрывки из него В.Д. Есаков и его коллеги
опубликовали в 1991 году. Битым слогом вещи назывались своими именами:
"ЦК ВКП(б) считает, что в биологической науке сформировались два
диаметрально противоположных направления: одно... прогрессивное,
материалистическое , мичуринское,. . возглавляемое ныне академиком Т.Д. Лысенко; другое... -
реакционно-идеологическое, менделевско-моргановское...
Последователи менделизма-морганизма не раз предупреждались, что их
направление в биологии чуждо советской науке и ведет к тупику. Тем не менее,
менделисты-морганисты не только не извлекли должных уроков из этих предупреждений,
но продолжают отстаивать и углублять свои ошибочные взгляды. Такое положение
не может быть далее терпимо...".
Этот текст был передан Ждановым Маленкову. Уже на следующий день, 10 июля
1948 года, за их двумя подписями проект постановления был направлен Сталину и
копии членам Политбюро и секретарям ЦК ВКП(б) Молотову, Берии, Микояну,
Вознесенскому, Кагановичу и Булганину.
Однако Сталину текст не показался достаточно боевым. А.А. Жданов был вообще
отстранен от дальнейшей борьбы с генетикой. Формально это было связано с тем,
что 10 июля был его последним рабочим днем перед отпуском. Практическое
руководство разгромом генетики было поручено набиравшему силу новому Секретарю ЦК
Георгию Максимилиановичу Маленкову, назначенному секретарем ЦК 1 июля 1948
года и принявшему 7 июля дела от А.А. Жданова, уехавшего в санаторий на
Валдай.
В день отъезда в аппарате ЦК были проведены серьезно затрагивавшие его
структурные преобразования. Решением Политбюро от 10 июля вместо Управления
пропаганды и агитации с отделами был сформирован Отдел того же названия.
Бывший Отдел науки в его составе низводился до уровня сектора, хотя пока еще
Ю.А. Жданов сохранили за собой должность его заведующего. А Отделом
пропаганды и агитации стал заведовать Д.Т. Шепилов.
В эти же дни Сталин сделал еще один шаг на пути к погрому в биологии. На
заседании Политбюро 15 июля было принято следующее решение:
"В связи с неправильным, не отражающим позиции ЦК ВКП(б) докладом Ю.
Жданова по вопросам советской биологической науки принять предложение Министерства
сельского хозяйства СССР, Министерства совхозов и ВАСХНИЛ об обсуждении на
июльской сессии Всесоюзной академии сельскохозяйственных наук имени В.И.
Ленина доклад академика Т.Д. Лысенко "О положении в советской биологической
науке", имея ввиду опубликование этого доклада в печати".
Итак, Политбюро решило не издавать партийное постановление, а выполнить
партийный наказ руками Лысенко и его сторонников под присмотром аппаратчиков
из ЦК. Лысенко самому надо было подготовить текст доклада в соответствии с
идеями, изложенными в проекте постановления, подготовленного Шепиловым, Мити-
ным и Ждановым-старшим. Лысенко затем должен был выступить на сессии ВАСХНИЛ.
Никто не должен был в начале сессии знать о вмешательстве коммунистов в споры
биологов, лишь в конце можно было разрешить Лысенко объявить публично, что
его доклад был заранее одобрен Политбюро и лично товарищем Сталиным. Бригада
Лысенко (по словам И.Е. Глущенко, в неё входили В.Н. Столетов, И.И. Презент,
А. А. Авакян, И. А. Халифман, И. С. Варунцян, Н.И. Фейгинсон и он, И.Е.
Глущенко) срочно уселась за составление доклада. Делалось это в полной секретности.
Доклад был готов через несколько дней, а Лысенко писал Сталину:
"23 июля 1948 г.
Товарищу И.В. Сталину
Дорогой Иосиф Виссарионович!
Убедительно прошу Вас просмотреть написанный мною доклад "О положении в
советской биологической науке", который должен быть доложен для обсуждения на
июльской сессии Всесоюзной академии сельскохозяйственных наук имени В.И.
Ленина.
Я старался как можно лучше с научной стороны, правдиво изложить состояние
вопроса.
Доклад т. Юрия Жданова формально я обошел, но практическое содержание моего
доклада во многом является ответом на его неправильное выступление, ставшее
довольно широко известным.
БУДУ рад и счастлив получить Ваши замечания.
Президент
Всесоюзной академии сельскохозяйственных
наук имени В.И. Ленина академик Т. Лысенкоп.
Теперь Великий Вождь сам уселся за редактирование текста на 49 страницах.
Он выбросил полностью один из 10 разделов, убрал самые одиозные благоглупости
(один из показательных примеров был таким: Лысенко написал "любая наука -
классовая"; Сталин подчеркнул это место и дописал "ХА-ХА-ХА... А МАТЕМАТИКА?
А ДАРВИНИЗМ?). Было сделано много сходных замечаний, исправлений, Сталин
лично дописал некоторые абзацы, он заменил некоторые выражения (так, вместо
"буржуазное мировоззрение" появилось "идеалистическое мировоззрение",
"буржуазная генетика" была заменена на "реакционная генетика" и т.д.). (Анализ
того , как Сталин исправил текст лысенковского доклада был дан Есаковым и др. ,
затем подробно этот вопрос был разобран К.О. Россияновым).
Пополнение рядов ВАСХНИЛ
сторонниками Лысенко
Линия на искоренение всех направлений, которые не совпадали с лысенковскими
доктринами, была, таким образом, в докладе проведена до своего логического
конца. Теперь нужно было воплотить это решение в жизнь. Нанести удар надо
было сокрушительно, причем консолидированно, и, желательно, на самом высоком
уровне. Лучшим местом могла быть сессия Академии сельхознаук, проведенная под
руководством президента этой академии. Тогда бы решение академиков,
поддержанное советской печатью, можно было бы подать не только как волеизъявление
ученых, но и как директивное указание, обязательное повсюду к исполнению. Но
Лысенко опасался, и вовсе не без оснований, что он вот-вот окончательно
потеряет контроль над академией.
Полутора годами раньше, как мы помним, Оргбюро ЦК ВКП(б), заслушав доклад
Лысенко о положении дел в ВАСХНИЛ, пошло навстречу призыву трех министров и
дало санкцию на выборы в сельскохозяйственную академию. Уже были опубликованы
списки кандидатов, выдвинутых для избрания, и лысенковские кандидаты, как
показало предварительное обсуждение, практически не имели шансов пройти в
действительные члены и члены-корреспонденты ВАСХНИЛ. Если бы выборы
осуществлялись нормальным, демократическим путем, Лысенко окончательно потерял бы
поддержку в ВАСХНИЛ, большинство было бы не на его стороне.
Однако вмешательство Политбюро не позволило пополнить ряды академии
принятым в академиях демократическим путем. Сталин на полпути не остановился. Он
решил полностью удовлетворить запрос Лысенко о наведении силой "порядка" в
академии. Дикое по сути требование Лысенко заменить выборы в члены академии
назначением новых членов приказом сверху было встречено вождем сочувственно.
Но опять-таки не единолично, а используя безропотное Политбюро, которое
постановило укрепить административно положение Лысенко в ВАСХНИЛ. Для видимости
приказ поступил не из партийного ведомства, а от правительства СССР. Сталин
был в то время не только 1-м секретарем ЦК партии, но и возглавлял
правительство - был Председателем Совета Министров СССР. Следовательно, и здесь он мох1
своей подписью под постановлением решить вопрос без ненужных споров. Вместо
выборов состав академии был дополнен людьми, нужными Лысенко для того, чтобы
взять контроль над академией в свои руки. В "Правде" 28 июля 1948 года
появилось следующее информационное сообщение:
"Во Всесоюзной Академии сельскохозяйственных наук
имени В.И.Ленина
В соответствии с Уставом Всесоюзной Академии сельскохозяйственных наук
имени Ленина и постановлением СНК ССР от 4 июня 1935 года, установившим первый
состав действительных членов Всесоюзной Академии сельскохозяйственных наук
имени Ленина в количестве 51 человека, Совет Министров Союза ССР
постановлением от 15.VI1-е. г. утвердил действительными членами - академиками
Всесоюзной Академии сельскохозяйственных наук имени Ленина: Авакяна А.А. , Варунцяна
И.С, Долгушина Д.А., Жданова Л.А., Канаша С.С, Кварцхелиа Т.К., Кришчунаса
И.В., Лукьяненко П.П., Колесника И.Д., Ольшанского М. А. , Презента И.И.,
Ушакову Е.И., Яковлева П.Н. (растениеводство); Беленького Н.Г., Гребень Л. К.,
Дьякова М.И., Мелихова Ф.А., Муромцева С.Н., Юдина В.И. (животноводство);
Василенко И.Ф., Евреинова М.Р., Желихювскохю В.А., Свирщевскохю B.C., Селезнева
В. П. (механизация и электрификация); Баранова П.А., Бушинского В.П., Димо
Н.А., Самойлова И.И., Власюка П.А. (почвоведение и агрохимия); Замарина Е.Е.,
Шарова И.А. (гидротехника и мелиорация); Лаптева И.Д., Лобанова П.П.,
Демидова С.Ф., Немчинова B.C. (экономика сельского хозяйства)4.
В числе назначенных академиков большинство составляли ставленники Лысенко:
либо непосредственно с ним работающие - А.А. Авакян, И.С. Варунцян, Д.А.
Долгушин, И. Д. Колесник, М.А. Ольшанский, И. И. Презент, либо безгранично ему
преданные, такие как П.П. Лукьяненко, Н.Г. Беленький и другие. Был в их числе
и ставленник Н.И. Вавилова, его друг еще с времен совместной работы в
Саратове - В.П. Бушинский, вошедший в доверие к В.Р. Вильямсу, а после смерти Виль-
ямса, подружившийся с Лысенко. В числе назначенных мы видим и И. Д. Лаптева,
кандидата экономических наук, выступившего со статьей против А.Р. Жебрака в
"Правде". Был причислен к разряду академиков ВАСХНИЛ и совсем уж
отвратительный тип: кадровый офицер НКВД (не лейтенант, как Хват, а полковник) С.Н. Му-
ромцев. В то время он имел степень доктора наук, но среди коллег был известен
другим. Многие знали его как отъявленного садиста, лично избивавшего
находившихся в заключении академиков АМН СССР П.Ф. Здродовского и Л.А. Зильбера.
Одно время Муромцев работал начальником специальной тюрьмы - так называемой
"шарашки". Однако позже стали известны другие подробности деятельности этого
офицера в системе ОГПУ и НКВД. Из публикации в газете "Труд" стало известно,
что еще в 30-е роды С.Н. Муромцев участвовал в организации сверхсекретной
спецлаборатории по созданию токсических веществ (ядов) и их испытанию на
политзаключенных. Яды применяли для уничтожения политических оппонентов и для
политических диверсий. Спецлаборатория в начале числилась при коменданте НКВД
СССР генерал-майоре Блохине. В 1937-1938 году лабораторию перевели под
непосредственное руководство наркома Ежова, а затем под начало заменившего его
Берии и заместителя наркома Меркулова (до мая 1946 года) , а затем нового
министра госбезопасности Абакумова. Последний в 1946 году ликвидировал
спецлабораторию. Эти сведения предал гласности генерал КГБ П.А. Судоплатов,
осужденный после расстрела Берии. На суде над Судоплатовым в 1953 году С.Н.
Муромцев , вызванный как свидетель, якобы признал, что непосредственные задания
он получал лично от Молотова и Хрущева. Такими замечательными кадрами
пополнили сельскохозяйственную академию.
В информационном сообщении о решении Совета Министров СССР был абзац, в
котором сообщалось, что правительство решило увеличить число академиков и
членов-корреспондентов до 75 человек (иными словами, выделялся дополнительный
фонд субсидий для выплаты гонорара членам академии: ведь академики получали
3500 рублей в месяц и члены-корреспонденты 1750 рублей в месяц по тогдашнему
курсу, а члены Академии наук СССР - 5000 и 2500 рублей, соответственно) .
Далее сообщалось, что "Сессия, посвященная довыборам действительных членов
Академии, выборам членов-корреспондентов Академии из числа кандидатов,
выставленных научными учреждениями, общественными организациями и отдельными
научными работниками, списки которых опубликованы в печати, состоится в сентябре
1948 года".
Выборы так и не состоялись, однако даже если бы их провели, то лысенковское
большинство завалило бы теперь всех противников "на законном основании", то
есть путем голосования.
Последний абзац правительственного сообщения гласил:
"Очередная июльская сессия, посвященная обсуждению доклада академика Т.Д.
Лысенко на тему "О положении в советской биологической науке", состоится в
конце июля с.г. в гор. Москве".
Разгром генетики на
августовской сессии
ВАСХНИЛ 1948 года
Сессия проходила с 31 июля по 7 августа и получила название "Августовской
сессии ВАСХНИЛ". При сборе ученых на сессию были нарушены общепринятые
процедурные правила: сессия была объявлена внезапно, вход на заседания был только
по пригласительным билетам, а их получили почти исключительно сторонники лы-
сенковского направления (генетиков можно было перечесть по пальцам), так что
обстановка для дискуссии была явно ненормальной. Но, в общем, и защищать
генетику от нападок было уже почти некому. Только что (26 июля) скончался А.С.
Серебровский, были мертвы Н . И. Вавилов, Н . К. Кольцов, П . И . Лисицын . Н . П.
Дубинин - один из самых именитых из генетиков (он стал в 1946 году членом-
корреспондентом АН СССР) , хотя и знал о готовящейся сессии, предпочел, по
словам СМ. Гершензона, уйти в кусты: срочно уехал охотиться на Урал, хотя на
протяжении лет десяти до этого отпусками даже не пользовался.
31 июля Лысенко поднялся на трибуну, чтобы зачитать свой доклад.
Политические мотивы, беспримерные обвинения западной науки с применением площадных
ругательств отличали доклад. Кое-кому из биологов этот наступательный тон
казался в первые дни работы сессии странным, так как и полугода не прошло с
того дня, когда Ю.А. Жданов раскритиковал Лысенко.
Доклад Т.Д. Лысенко на сессии ВАСХНИЛ 1948 г.
Основу лысенковского доклада составили утверждения о несовместимости
выводов генетики и коммунистических доктрин, о классовости биологии. Самой
характерной чертой изложения была безапелляционность. Фразы были решительными,
обвинения категоричными, доказательства не приводились, потому что больше они
не были нужны: буржуазная сущность генетики и её вредность декларировались
отныне навсегда. В центральной части доклада, озаглавленной "Два мира - две
идеологии в биологии", Лысенко заявлял:
"Возникшие на грани веков - прошлого и настоящего - вейсманизм, а вслед за
ним менделизм-морганизм своим острием были направлены против
материалистических основ теории развития. Ныне, в эпоху борьбы двух миров, особенно резко
определились два противоположные, противостоящие друг другу направления,
пронизывающие основы почти всех биологических дисциплин... Не будет
преувеличением утверждать, что немощная метафизическая моргановская пнаука" о природе
живых тел ни в какое сравнение не может идти с нашей действенной мичуринской
агробиологической наукой".
Заканчивая доклад, Лысенко сказал:
"В.И. Ленин и И.В. Сталин открыли И.В. Мичурина и сделали его учение
достоянием всего народа. Всем своим большим отеческим вниманием к его работе они
спасли для биологии замечательное мичуринское учение".
На следующее утро - это было воскресенье 1 августа - участников сессии по-
везли на автобусах в Горки Ленинские, чтобы те воочию увидели могущество лы-
сенкоистов, воплощенное в посевы. Услужливые борзописцы заливались соловьем,
рисуя картину благоденствия, которую якобы могли лицезреть участники
исторической сессии ВАСХНИЛ. Так, В. Сафронов в книге "Земля в цвету" (через год он
получит за нее Сталинскую премию) писал:
"И они увидели стеной стоящую пшеницу, пшеницу, незнакомую земледельцам, с
гроздьями ветвистых колосьев на каждом стебле. Пять граммов зерна было в
каждом колосе, кулек семян дал урожай шесть мешков: это сто, может быть даже сто
пятьдесят центнеров с гектара, - и рядом текла простая подмосковная речка
Пахра, а невдалеке белел дом, где 24 года назад умер Ленин.
Над этой пшеницей, по сталинскому заданию, работает сейчас Лысенко со
своими сотрудниками академиками А.А. Авакяном и Д.А. Долгушиным. И когда
заколосится она не на опытных, а на колхозных полях, не будет такой области... на
широте Москвы, которая не сможет прожить своим хлебом...
Да, всем было видно, с чем пришли мичуринцы на сессию".
На следующий день все снова собрались на заседание. Начались прения по
докладу Лысенко. Особенно изощрялись новоиспеченные академики.
И.В. Якушкин - главный лжесвидетель по "делу Н.И. Вавилова", человек,
оклеветавший многих ученых, утверждал на сессии, что гибридная кукуруза в США -
это "загадки, курьезы и фокусы, которые применяют американские
капиталистические семенные фирмы".
Н.Г. Беленький уверял, что "никакого особого вещества наследственности не
существует, подобно тому, как не существует флогистона - вещества горения - и
теплорода - вещества тепла".
Им вторил С. С. Перов, старый партийный функционер, не раз критиковавшийся
за ненаучные упражнения, но зато славный другим: в его квартире как-то
останавливался В.М. Молотов, он же помог позже Перову стать и сотрудником в
аппарате ЦК партии и заведующим Белковой лабораторией АН СССР, невзирая на полное
отсутствие знаний о белках. Перов с пафосом восклицал:
"Додуматься до представлений о гене, как органе, железе, с развитой
морфологической и очень специфической структурой, может только ученый, решивший
покончить с собой научным самоубийством. Представлять, что ген, являясь
частью хромосомы, обладает способностью испускать неизвестные и ненайденные
вещества - ...значит заниматься метафизической внеопытной спекуляцией, что
является смертью для экспериментальной науки".
Бывший лысенковский аспирант, а теперь директор Института генетики АН
Армянской ССР Г.А. Бабаджанян утверждал:
"Менделизм-морганизм... есть носитель идеалистического агностицизма в
биологии (аплодисменты), признающий принципиальную непознаваемость биологических
законов".
Наряду с этим раздавались и чисто полицейские призывы. Назначенная Сталиным
в академики овощевод Е.И. Ушакова возмущалась тем, что в вузах еще продолжают
преподавать законы Менделя, рассказывают о работах Вейсмана, Моргана и других
генетиков:
"Студенты - наши будущие советские специалисты, идеологически воспитываются
в духе, чуждом советскому обществу, нашей науке и практике! Как могли дойти
до этого? Не пора ли за это отвечать и отвечать по серьезному? В наших вузах
преподается история партии, курс ленинизма и рядом - моргановская генетика!п.
А полковник НКВД С.Н. Муромцев пугал ученых:
"Можно не сомневаться в том, что если представители менделевско-
моргановской школы не поймут необходимости творческого подхода к решению
задач, стоящих перед биологической наукой, не осознают своей ответственности
перед практикой, они не только останутся за бортом социалистической науки, но
и за бортом практики социалистического строительства в нашей стране".
Обстановка на этой сессии качественно отличалась от всех предшествовавших
дискуссий. Лысенкоисты и раньше могли позволить себе говорить так, как сейчас
говорил Н.В. Турбин, ставший заведующим кафедрой генетики и селекции
Ленинградского университета:
"Надо... очистить... институты от засилия фанатических приверженцев
морганизма-менделизма, лиц, которые, прикрываясь своими высокими учеными званиями,
подчас занимаются, по существу, переливанием из пустого в порожнее".
Однако если раньше эти слова можно было отнести к разряду безответственных
выкриков, то сейчас это был поддержанный руководством партии коммунистов клич
функционера, ясный призыв к вполне реальным увольнениям с работы тех, кто не
подпадал под вердикт победителей.
Решающим показателем серьезности отношения властей к биологическим
дискуссиям стало то, что ежедневно газета "Правда" отводила целиком две или даже
три страницы для публикации речей, звучавших на сессии.
Несмотря на открытую обструкцию науки, в её защиту выступили академики Жеб-
рак (которого всё время репликами из рядов перебивали, стараясь оскорбить),
Б. М. Завадовский, П. М. Жуковский, B.C. Немчинов и доктор биологических наук
И. А. Рапопорт. Еще двое - СИ. Алиханян и И. М. Поляков выступили с критикой
отдельных частностей в докладе Лысенко. Академик ВАСХНИЛ Б. М. Завадовский,
который много лет заигрывал с лысенкоистами, хвалил самого Лысенко (особенно
на сессии ВАСХНИЛ 1936 года, когда генетики выступили против идей Лысенко,
говорил тогда, что "генетики не могут объяснить крупных научных достижений
Лысенко, не могут определить место его учения в системе биологических наук"),
наконец, изменил свою точку зрения. Открыто и смело он выступил против ошибок
Лысенко. На этот раз он назвал действия Лысенко диктаторскими,
противопоставил взгляды лидера мичуринцев дарвинизму и резко возразил против
административных гонений на генетику:
"Надо критиковать Сахарова, Навашина и Жебрака там, где они допускают
теоретические ошибки. Но, когда я услышал здесь призыв разгромить менделистов-
морганистов , не давать им возможности работать, мне стало совершенно ясно,
какой ущерб принесут такие действия народному хозяйству".
Особо следует остановиться на выступлении Иосифа Абрамовича Рапопорта,
показавшего, что, к чести ученых, не все они поддались поголовно диктату. И.А.
Рапопорт - ученик Н.К. Кольцова, всю войну провоевавший на фронте, израненный
и овеянный славой за свою ставшую легендарной смелость сумел попасть в зал по
билету, данному ему приятелем. Он попросил слова сразу же после того, как
Лысенко закончил свой доклад, но выступить ему позволили только в середине
вечернего заседания 2 августа. Рапопорт первым пошел в бой против лысенкоизма,
как он первым шел в бой на фронте. Перед лысенкоистами стоял молодой, сильный
духом боец. На его голове белела узкая марлевая повязка, прикрывающая пустую
глазницу (на фронте он получил несколько ранений, но остался в строю), его
манера говорить - быстро и страстно - была убедительной и впечатляющей.
(Кстати, из опубликованной стенограммы его выступления были изъяты наиболее
острые места).
Иосиф Абрамович Рапопорт (1912-1990) родился в Чернигове, окончил
биологический факультет Ленинградского университета, после чего поступил в
аспирантуру в кольцовский институт, затем вскоре защитил диссертацию на соискание
степени кандидата биологических наук. На конец июня 1941 года была назначена
защита им докторской диссертации, но на пятый день войны он ушел добровольцем
на фронт. В 1943 году он был направлен на краткосрочные курсы подготовки
командного состава артиллерийских войск в Военную академию имени М.В. Фрунзе в
Москву, и во время этого приезда успел защитить докторскую диссертацию и
сдать в печать крупную работу об искусственном вызывании мутаций несколькими
классами алкилирующих соединений. По окончании курсов он вернулся в действую-
щую армию и провел всю войну в боях сначала как артиллерист, а затем как
разведчик переднего края. Он был беззаветно храбр, много раз оказывался в
кризисных ситуациях, о нем ходили легенды. Дважды его представляли к званию
Героя Советского Союза, но оба раза происходило странное - "бумаги терялись".
Он получил восемнадцать ранений, дважды ранения были серьезными (он потерял
глаз и всю последующую жизнь ходил с белой повязкой на голове), он мог
демобилизоваться на законных основаниях, но каждый раз возвращался в строй.
Статья 1944 года о вызывании мутаций увидела свет только в 1947 году, в 1948
году английская исследовательница Шарлотта Ауэрбах получила сходный результат
относительного мутагенного действия азотистого иприта (горчичного газа). В
том же году вышло пять работ Рапопорта, в которых мутагенное действие было
установлено для большого числа различных алкилирующих соединений. Благодаря
этому в генетике началось мощное развитие работ в области химического
мутагенеза. Поскольку в это же время в США, Европе и в СССР под покровом
секретности разрабатывали новые виды химического оружия, в котором алкилирующие
соединения были главными компонентами, работы Рапопорта и Ауэрбах попали в
фокус внимания многих исследователей. В начале 1950-х годов Нобелевский комитет
рассматривал Ш. Ауэрбах в качестве кандидата на получение Нобелевской премии
в области химии. Представлявшие её ученые не могли не добавить к Ауэрбах
имени Рапопорта, и оба кандидата дошли до стадии так называемого "короткого
списка" возможных претендентов. Как мне рассказывал видный шведский генетик Оке
Густаффсон, Нобелевский комитет запросил официально у Советского
правительства, не возражает ли оно против того, чтобы Рапопорту была присвоена эта
премия, если Комитет на последнем этапе проголосует за кандидатуры советского
ученого и Ауэрбах. По словам Густаффсона, Советское Правительство прислало по
дипломатическим каналам ответ, что СССР не заинтересовано в этом вопросе и не
может дать ответа по существу запрошенных кандидатур. После этого обе фамилии
из "короткого списка" были исключены. В 1984 году Рапопорту присудили
Ленинскую премию "за выдающиеся работы в области мутагенеза", он был избран
членом-корреспондентом АН СССР, в 1990 году ему было присвоено звание Героя
Социалистического труда за "особый вклад в сохранение и развитие генетики". 31
декабря того же года Иосиф Абрамович попал под машину и погиб.
И.А. Рапопорт в 1948 г.
Рапопорт начал с перечисления успехов генетики: познания природы гена,
мутаций, выяснения способов повышения темпов мутирования, открытия
наследственной природы вирусов и изучения их свойств, создания гибридной кукурузы,
полиплоидных растений и т.д. Он сказал, что стыдно не использовать генетику в
интересах практики на благо социалистической Родины:
"Нельзя согласиться с теми товарищами, которые требуют изъятия курса
генетики из программы высших учебных заведений, требуют отказа от тех принципов,
на основании которых созданы и сейчас создаются ценные сорта и породы.
Мы не должны идти по пути простого обезьянничания, но мы обязаны критически
и творчески, как нас учил В.И. Ленин, осваивать все созданное за границей. Мы
должны бережно подхватывать ростки нового, чтобы росли новые кадры, которые
смогут двигать науку вперед.
Только на основе правдивости, на основе критики собственных ошибок можно
притти в дальнейшем к большим успехам, к которым призывает нас наша Родина".
В этом месте стенограммы значится: "Редкие аплодисменты", что говорит о
том, насколько мощным оказалось воздействие этого худенького, ничем внешне не
примечательного человека на аудиторию. Всех остальных генетиков ошикали. Его
же ни разу не перебили во время выступления, ему не устроили обструкцию по
окончании. Его слушали, затаив дыхание, а в конце речи даже аплодировали.
Но уже следующий оратор - Г.А. Бабаджанян начал кампанию травли Рапопорта.
Он отверг всякую пользу изучения хромосом, обругал мутагенез, заявив, что все
мутации непременно вредны, а "организмы, полученные таким путем, - один лишь
брак, уроды!".
"Ведь Рапопорт не мог здесь доказать, что вновь полученные мутанты чем-
нибудь принципиально отличаются от бесчисленных мутаций, полученных ими
раньше , - утверждал Бабаджанян. - Наоборот, есть все основания думать, что они
той же природы. Наконец, допустим, что на самом деле получено небольшое
количество не вредных и не летальных мутаций. Кому они нужны? Кому нужны по своей
природе бесполезные дрозофилы?".
Директор армянского Института генетики Бабаджанян с апломбом делал вид, что
успехов генетики нет и быть не может, что все они - фикция, обман, стремление
обвести вокруг пальца всё человечество разом.
Рапопорт стал возражать ему с места. Бабаджанян не нашел ничего лучшего,
как перейти к оскорблениям (в частности, он договорился до того, что указал
инвалиду войны на отсутствие у него одного глаза, отчего-де он и не видит
вредоносности и гнилой сути формальной генетики). Вот часть этой дискуссии,
как она была отражена в стенограмме:
И.А. Рапопорт. Но есть полезные мутации, и их много. Почему вы на них
закрываете оба глаза?
Г.А. Бабаджанян. Во-первых, это - полезные мутации на бесполезном объекте
(аплодисменты).
И.А. Рапопорт. У нас есть средства против туберкулеза и других болезней.
Г.А. Бабаджанян. Вы только даете обещания.
И.А. Рапопорт. А вы даете обещания выводить сорта в два года, но не
выполняете этих обещаний и своих ошибок не признаете.
Г. А. Бабаджанян. Мы несем нашу теорию в практику, говорит Рапопорт. Какую
теорию вы несете в практику? Ваша теория по своей внутренней природе
направлена против практики. Ваша "теория" относится к практике не только
безразлично , не только нейтрально... Менделисты - противники не только установленных,
доказанных успехов, но и потенциальные противники всех будущих успехов.
(Аплодисменты) .
Имя Ивана Ивановича Шмальгаузена - известного специалиста в области
эволюции склоняли день за днем, глумясь даже над тем, что он болен и не может
принять участие в сессии. Но в последний день работы сессии Шмальгаузен приехал
и постарался дать внешне спокойный ответ на обвинения. Однако было видно, что
он сильно напуган, так как главное, что он хотел донести до слушателей, было
желание отмежеваться от взглядов Вейсмана и Моргана и показать, что серьезных
разногласий между его взглядами и утверждениями Лысенко нет. В тот же день он
отправил Сталину длинное послание, в котором утверждал, ссылаясь на
соответствующие страницы в своих книгах, что "всю жизнь... боролся за
материалистические установки... и вел энергичную борьбу против вейсманизма... До 1947
года я никогда не выступал против работ и взглядов академика Т.Д. Лысенко.
Наоборот, я давал им весьма положительную оценку".
Шмальгаузен в письме подробно разъяснял, почему он выступал против идей
Лысенко о видообразовании, а заканчивал уверениями в том, что осознал эту свою
ошибку, обязуется больше её никогда не повторять:
"Ваши указания, товарищ Сталин... помогли мне разобраться во многом...
Сессию ВАСХНИЛ я высоко оцениваю и от души желаю новым академикам успеха в их
дальнейшей работе. Я лично приложу все свои силы для того, чтобы в дальнейшей
преподавательской деятельности максимально популяризировать достижения
мичуринского учения...".
Пример гражданского мужества продемонстрировал на сессии директор
Тимирязевской академии, крупнейший специалист в области экономики и математической
статистики, академик трех академий - АН СССР, АН БССР и ВАСХНИЛ Василий
Сергеевич Немчинов. Двадцать лет он заведовал в Тимирязевке кафедрой статистики,
прививая студентам любовь к точным наукам, умение оперировать числом и
понятием функции при анализе получаемых данных. В 1940 году его назначили
директором академии, и за 8 лет его директорства никому не удалось разрушить этот
крупнейший центр агрономической мысли. В те годы, когда Лысенко и его
сторонники сумели расправиться со многими оппонентами в других вузах, в Тимирязевке
работали великий агрохимик Прянишников, выдающиеся селекционеры и борцы с лы-
сенкоизмом Константинов и Лисицын, эволюционист Александр Александрович
Парамонов, генетик Жебрак и многие другие ученые, чьи имена составляли славу и
гордость не только лишь Тимирязевки, но и мировой науки. Но Немчинов дал
одновременно свободу действий сторонникам лысенкоизма, следя лишь за одним, -
чтобы соревнование идей шло в лабораториях и на полях, а не превращалось в
политическую борьбу.
Трудно сегодня представить всю тяжесть ноши, легшей на плечи Немчинова.
Изменилась политическая ситуация, отступил в прошлое страшный политический
террор, и нам уже не оценить глубины мужества тех, кто не встал тогда на колени.
Когда Немчинов поднялся на трибуну, сессия уже фактически закончилась, полная
победа мракобесия над наукой была закреплена. Оставалось выступать лишь двоим
- самым авторитетным лысенковцам - Столетову и Презенту, прежде чем заслушать
заключительное слово Лысенко и одобрить приветственное письмо Сталину. И в
эту минуту лысенкоисты услышали нечто такое, чего они никак не ожидали.
Немчинов показал, что совесть настоящего ученого - далеко не разменная монета.
"Я вижу, что среди наших ученых нет единства по некоторым вопросам. И в
этом я лично, как директор Тимирязевской академии, не вижу ничего плохого, -
в самом начале своей речи сказал он и продолжил. - Говорят, что в
Тимирязевской сельскохозяйственной академии нет мичуринского направления, что наши
работники, профессора и т. д. являются антимичуринцами. Это - неверно".
Он перечислил тех, кто относит свою работу к мичуринскому направлению.
Затем речь зашла о "проступке" Жебрака. Немчинова на сессии обвиняли в том,
что он всегда способствовал работе Жебрака и одобрял все его действия, хотя
Немчинов, выступая на "Суде чести" Жебрака, резко (и в целом несправедливо)
критиковал последнего. Однако здесь Немчинов подтвердил свое уважение к Жеб-
раку как ученому, отметив, однако, что если Жебрак в чем-то ошибется, то
доброе отношение не будет означать, что и тогда Немчинов промолчит, а те, кто
так говорят, прекрасно знают правду, но "почему-то считают необходимым
вводить в заблуждение советскую общественность". В ответ из зала выкрикнули:
"Они чуют правду". С этой минуты Немчинову не давали говорить, перебивали,
оскорбляли. Тем не менее, он не отступил от своей позиции. Вот, что осталось
в "отредактированной" стенограмме этого заседания:
"Голос с места. Хромосомная теория в золотом фонде находится?
B.C. Немчинов. Да, я могу повторить, да, я считаю, что хромосомная теория
наследственности вошла в золотой фонд науки человечества и продолжаю
держаться такой точки зрения.
Голос с места. Вы же не биолог, как вы можете судить от этом?
B.C. Немчинов. Я не биолог, но я имею возможность эту теорию проверить с
точки зрения той науки, в которой я веду научные исследования, и, в
частности, статистики. (Шум в зале).
Она соответствует также моим представлениям. Но не в этом дело. (Шум в
зале) .
Голос с места. Как не в этом?
B.C. Немчинов. Хорошо, пусть будет в этом дело. Тогда я должен заявить, что
не могу разделить точку зрения товарищей, которые заявляют, что к механизмам
наследственности никакого отношения хромосомы не имеют. (Шум в зале).
Голос с места. Механизмов нет.
B.C. Немчинов. Это вам так кажется, что механизмов нет. Этот механизм умеют
не только видеть, но и окрашивать и определять. (Шум в зале).
Голос с места. Да, это краски. И статистика.
B.C. Немчинов. Я не разделяю точку зрения, которая была высказана
председателем о том, что хромосомная теория наследственности и, в частности,
некоторые законы Менделя являются какой-то идеалистической точкой зрения, какой-то
реакционной теорией. Лично я такое положение считаю неправильным, и это
является моей точкой зрения. (Шум в зале, смех)...
Голос с места. От директора Тимирязевской академии ее интересно услышать.
B.C. Немчинов. Тогда разрешите ее изложить. Я не считаю правильным, если
А.Р. Жебрак совершил антипатриотический поступок, который получил заслуженную
оценку, - что нужно, в связи с этим, закрывать все его работы по амфидиплои-
дам.
Голос с места. Вам нужно уйти в отставку.
B.C. Немчинов. Возможно, что мне нужно уйти в отставку. Я за свою должность
не держусь. (Шум в зале).
Голос с места. Это плохо.
B.C. Немчинов. Но я считаю свою точку зрения правильной, и агрессивный
характер выступлений и действий, направленных на запрещение работ А. Р. Жебрака
я считаю неправильным...
Голос с места. Скажите о ваших отношениях к установкам доклада /Лысенко/.
В.С.Немчинов. Мое отношение к докладу Т.Д.Лысенко таково. Основные его
положения и основные идеи, которые заключаются в том, чтобы мобилизовать
агробиологическую науку на нужды колхозного производства и методы его работы
перенести на все массивы полей, я считаю правильными.
Голос с места. Теоретически.
B.C. Немчинов. В теоретической основе я считаю, что в отношении к
хромосомной теории наследственности Трофим Денисович неправ".
Услышав это, лысенкоисты стали перебивать его еще более яростно. Им
хотелось во что бы то ни стало добить Немчинова, склонить его к отказу от
собственного мнения. Но своего они так и не добились. Немчинов закончил
выступление словами:
"Я несу моральную и политическую ответственность за линию Тимирязевской
академии. Я морально и политически ответственен за ту линию, которую я прово-
жу, и считаю ее правильной и буду продолжать проводить. Если эта линия
окажется неправильной, то мне подскажут, или выполнят те надежды и чаяния,
которые здесь раздаются, чтобы я освободил место. Недопустимо, на мой взгляд,
закрыть в Тимирязевской академии работу профессора Жебрака".
Презент не выдержал в этот момент и выкрикнул:
"Типа Моргана, да?", на что Немчинов еще раз повторил:
"Я несу за это моральную и политическую ответственность и буду нести ее,
пока она на меня возложена", и с этими словами покинул трибуну.
Завершая выступления ораторов, Презент, переставший выбирать выражения и
буквально глумившийся над оппонентами, заявил, что "вооруженные мичуринским
учением, наши советские ученые уже разгромили морганизм". Он утверждал:
"Сейчас у нас в стране открытых и откровенных морганистов остается уже
немного. Для этого действительно, может быть, надо быть Дубиниными
(аплодисменты) " .
Презент позволил себе высокомерно отозваться и о работах своего давнего
противника, академика П.Н. Константинова. Говоря о том, что такие
селекционеры, как Шехурдин и Константинов, использовали основанный на законах генетики
метод отбора лучших форм, Презент развязно поучал с трибуны:
"Правда, академик Константинов, нынче, в мичуринские времена, во время
планомерной селекции, включающей воспитание, старый метод отбора уже
недостаточен. . . Морганисты пытаются приобщить достижения работ наших селекционеров,
ваши достижения, академик Константинов, благодаря тому, что вы временно не
вооружились ненавистью к такой лженауке, какой является морганизм. Это еще
придет к вам, академик Константинов, я верю в вас, вы - настоящий
селекционер.
(Продолжительные аплодисменты)".
"К сожалению, - продолжал Презент, - тлетворное влияние морганизма проникло
и в среду небиологов..., если даже академик Немчинов, не генетик, а
статистик, если даже он имеет свою точку зрения по вопросам морганизма, (Смех,
аплодисменты) " .
Немчинов с места возразил:
"А почему я не должен ее иметь?",
на что услышал от Презента:
"Я говорю не в упрек, а в похвалу тому, что вы имеете свою точку зрения.
(Смех)".
В том же стиле он "проехался" в адрес Б.М. Завадовского, П.М. Жуковского,
И.М. Полякова и других. Последнему он адресовал такие слова:
"Дарвинизм сейчас не тот, который был во времена Дарвина... Такого уровня
подбора не знало дарвиновское учение, не знало и не могло знать, но вы,
профессор Поляков, его знать обязаны. Ведь вы обязаны быть умнее Дарвина, уже по
одному тому, что птичка, сидящая на голове мудреца, видит дальше мудреца.
(Смех)".
С явным удовольствием Презент называл генетиков ретроградами и объявлял о
наступающей с этого дня расправе:
"Никого не смутят ложные аналогии морганистов о невидимом атоме и невидимом
гене. Гораздо более близкая аналогия была бы между невидимым геном и
невидимым духом. Нас призывают дискуссировать. Мы не будем дискуссировать с
морганистами (аплодисменты), мы будем продолжать их разоблачать, как
представителей вредного и идеологически чуждого, привнесенного к нам из чуждого
зарубежья лженаучного по своей сущности направления" (Аплодисменты).
По-видимому, были готовы смириться со своим поражением и кое-кто из тех,
кто выступал под знаменем генетики. Скорее всего, этим объясняется желание
Шмальгаузена отмежеваться от "вейсманизма-морганизма", смятение Полякова.
Генетик А.А. Малиновский попросил слова, эту возможность ему предоставили, но
когда председательствующий объявил о его выступлении, Малиновский
ретировался, объясняя мне позже, что один из близких друзей... зная его вспыльчивость,
отсоветовал близко подходить к трибуне.
И все-таки многие генетики, особенно в первые дни работы сессии, не могли
понять, что происходит. Ведь совсем недавно лысенкоисты терпели поражение за
поражением, совсем недавно Ю.А. Жданов открыто критиковал Лысенко. На
следующий день после публикации в "Правде" информационного сообщения о назначении
новых членов академии без выборов и о предстоящей сессии ВАСХНИЛ В.П. Эфроим-
сон, передавший в ЦК партии материалы об антинаучной деятельности Лысенко и
ждавший результатов их проверки, позвонил в отдел науки ЦК ВКП(б) и сказал
сотруднице отдела В. Васильевой:
"Я совершенно не понимаю, что происходит, но имейте ввиду, - все, что я
написал, святая правда".
В ответ он услышал:
"Неужели вы думаете, что мы хоть на минуту в этом сомневаемся?4.
Слухи об этом ответе быстро распространились среди генетиков, поддержав
уверенность, что правда все-таки восторжествует. Способствовало такому
ожиданию и неясное объяснение "колхозным академиком" в его первом докладе того, из
каких сфер он получил поддержку. Факт предварительного ознакомления Сталина с
его докладом обнародован не был, и лишь в "Заключительном слове" Лысенко
сказал:
"Меня в одной из записок спрашивают: каково отношение ЦК партии к моему
докладу. Я отвечаю: ЦК партии рассмотрел мой доклад и одобрил его".
После этого в стенограмме значится: "Бурные аплодисменты, переходящие в
овацию. Все встают". (В дни, когда Сталина хоронили, в "Правде" появилась
короткая заметка Лысенко "Корифей науки", в которой он писал:
"Сталин... непосредственно редактировал проект доклада "О положении в
биологической науке", подробно объяснил мне свои исправления, дал указания, как
изложить отдельные места доклада. Товарищ Сталин внимательно следил за
результатами работы августовской сессии Всесоюзной академии
сельскохозяйственных наук имени В.И. Ленина").
Но до последнего дня сессии Лысенко и его приближенные об этом помалкивали
и даже пытались вызвать генетиков на более откровенные разговоры, сетовали,
что они неохотно включаются в дискуссию, как это сделал А.А. Авакян. А ведь
ссылка на "одобрение ЦК партии" яснее ясного всё бы объяснила людям, уже
привыкшим жить в атмосфере страха, вызванного политическими репрессиями. Но,
повторяю, оповещения о том, по чьему указанию громят генетику, сделано не было,
и потому многие надеялись, что критика Лысенко и в МГУ, и в докладе Жданова
не могла остаться гласом вопиющего в пустыне. Эти люди надеялись, что всё
происходящее - лишь авантюра лысенковцев, решившихся пойти ва-банк. И только
в последний день работы сессии произошло событие, открывшее всем глаза. В то
утро в "Правде" появилось покаянное письмо Сталину главного критика Лысенко
Ю.А. Жданова, в котором он отказывался от своих взглядов и пытался провести
водораздел между личной позицией химика-философа Юрия Жданова и партийными
позициями заведующего отделом науки ЦК ВКП(б) Юрия Андреевича Жданова.
Партийная дисциплина опять оказалась сильнее научной истины, хотя Жданов в "по-
каянке" и высказал критику в адрес Лысенко. Пытаясь примирить в себе эти
противоположности, он ссылался на Ленина, требовавшего от своих сторонников
умения абстрагироваться от реально наблюдаемых явлений, чтобы не впасть в
"объективизм" .
Этот документ ярко характеризует моральную обстановку, рождаемую
тоталитарным правлением, абсолютную необходимость подчинения своих взглядов пусть
неверному, но исходящему от главаря режима курсу (как будто в насмешку, это и
называлось демократическим централизмом в действии).
"ЦК ВКП(б), ТОВАРИЩУ И. В. СТАЛИНУ
Выступив не семинаре лекторов с докладом о спорных вопросах современного
дарвинизма, я безусловно совершил целый ряд серьезных ошибок.
1. Ошибочной была сама постановка этого доклада. Я явно недооценил свое
новое положение работника аппарата ЦК, недооценил свою ответственность, не
сообразил, что мое выступление будет расценено как официальная точка зрения ЦК.
Здесь сказалась "университетская привычка", когда я в том или ином научном
споре, не задумываясь, высказывал свою точку зрения... Несомненно, что это
"профессорская" в дурном смысле, а не партийная позиция.
2. Коренной ошибкой в самом докладе была его направленность на примирение
борющихся в биологии направлений.
С первого же дня моей работы в отделе науки ко мне стали являться
представители формальной генетики с жалобами на то, что полученные ими новые сорта
полезных растений (гречиха, кок-сагыз, герань, конопля, цитрусы), обладающие
повышенными качествами, не внедряются в производство и наталкиваются на
сопротивление сторонников академика Лысенко. Эти несомненно полезные формы
растений получены путем непосредственного воздействия химических или физических
факторов на зародышевую клетку (на семена) ... Я отдаю себе отчет в том, что
механизм действия этих агентов на организм может и должен быть объяснен не
формальной, а мичуринской генетикой.
Ошибка моя состояла в том, что решив взять под защиту эти практические
результаты, которые явились "дарами данайцев", я не подверг беспощадной критике
коренные методологические пороки менделевско-моргановской генетики. Сознаю,
что это деляческий подход к практике, погоня за копейкой.
Борьба направлений в биологии часто принимает уродливые формы дрязг1 и
скандала . Однако мне показалось, что здесь вообще ничего, кроме этих дрязг1 и
скандалов, нет. Я, следовательно, недооценил принципиальную сторону вопроса,
подошел к вопросу неисторически, не проанализировал его глубоких причин и
корней.
Все это вместе взятое и породило стремление "примирить" спорящие стороны,
стереть разногласия, подчеркивать то, что объединяет, а не разъединяет
противников . Но в науке, как и в политике, принципы не примиряются, а побеждают,
борьба происходит не путем затушевывания, а путем раскрытия противоречий.
Попытка примирить принципы на основе делячества и узкого практицизма,
недооценка теоретической стороны спора привела к эклектике, в чем и сознаюсь.
3. Ошибкой была моя резкая и публичная критика академика Лысенко. Академик
Лысенко в настоящее время является признанным главой мичуринского направления
в биологии, он отстоял Мичурина и его учение от нападок со стороны буржуазных
генетиков, сам многое сделал для науки и практики нашего хозяйства. Учитывая
это, критику Лысенко, его отдельных недостатков, следует вести так, чтобы она
не ослабляла, а укрепляла позиции мичуринцев.
Я не согласен с некоторыми теоретическими положениями академика Лысенко
(отрицание внутривидовой борьбы и взаимопомощи, недооценка внутренней
специфики организма), считаю, что он еще слабо пользуется сокровищницей
мичуринского учения (именно поэтому Лысенко не вывел сколько-нибудь значительных
сортов сельскохозяйственных растений), считаю, что он слабо руководит нашей
сельскохозяйственной наукой. Возглавляемая им ВАСХНИЛ работает далеко не на
полную мощность. . . Но... в результате моей критики Лысенко формальные
генетики оказались "третьим радующимся".
Я, будучи предан всей душой мичуринскому учению, критиковал Лысенко не за
то, что он мичуринец, а за то, что он недостаточно развивает мичуринское
учение . Однако форма критики была избрана неправильно. Поэтому от такой критики
объективно мичуринцы проигрывали, а мендельянцы-морганисты выигрывали.
4. Ленин неоднократно указывал, что признание необходимости того или иного
явления таит в себе опасность впасть в объективизм. В известной мере этой
опасности не избежал и я.
Место вейсманизма и мендельянства-морганизма (я их не разделяю) я
охарактеризовал в значительной мере по-ппименовскип: добру и злу внимая равнодушно.
Вместо того, чтобы резко обрушиться против этих научных взглядов (выражаемых
у нас Шмальгаузеном и его школой), которые в теории являются завуалированной
формой поповщины, теологических представлений о возникновении видов в
результате отдельных актов творения, а на практике ведут к "предельчеству", к
отрицанию способности человека переделывать природу животных и растений, я
ошибочно поставил перед собой задачу "осознать их место в развитии биологической
теории", найти в них "рациональное зерно". В результате критика вейсманизма
вышла у меня слабой, объективистской, а по существу неглубокой.
В итоге опять-таки главный удар пришелся по академику Лысенко, то есть
рикошетом по мичуринскому направлению.
Таковы мои ошибки, как я их понимаю.
Считаю своим долгом заверить Вас, товарищ Сталин, и в Вашем лице ЦК ВКП(б),
что я был и остаюсь страстным мичуринцем. Ошибки мои проистекают из того, что
я недостаточно разобрался в истории вопроса, неправильно построил фронт
борьбы за мичуринское учение. Все это из-за неопытности и незрелости. Делом
исправлю ошибки.
Юрий Жданов".
Публикация письма в день закрытия сессии ВАСХНИЛ значила слишком много.
Упоминания о важных ошибках Лысенко уже не звучали остро. В который раз
истина была принесена в жертву политиканству. И если уж каяться заставили
Жданова, то что же было ожидать от людей менее значительных!
О факте предстоящей публикации письма Жданова в "Правде" стало известно
вечером 6 августа кому-то из близких к академику Жуковскому, те передали ему
роковую весть, а от него круги разошлись шире. Поздним вечером Жуковский и
Алиханян - двое из тех, кто пусть не очень сильно, не так как Рапопорт или
Немчинов, но все-таки довольно определенно говорили на сессии в защиту
генетики, испугавшись, решили, что нужно срочно объявить о своем раскаянии.
Сообразив, что утром, когда письмо будет уже напечатано, их искренность в
покаянии будет не столь убедительной, они бросились названивать
председательствующему на сессии П.П. Лобанову, чтобы сообщить ему, что они раскаялись, просят
их простить и дать им выступить с заявлениями во время закрытия сессии. (С
таким же раскаянием выступил после них Поляков). Но если Жданов
(неспециалист) нашел в себе силы открыто сказать об ошибках Лысенко, то специалисты,
знавшие больше о вреде его деятельности для страны, продемонстрировали
другое: раздавленные случившимся, деморализованные они принялись клеймить
позором свою науку и, разумеется, себя. Их выступления красочно характеризуют
условия, складывающиеся в науке тоталитарных стран, поведение приспособленцев в
таких случаях.
П.М. Жуковский
"Товарищи, вчера поздно вечером я решил выступить с настоящим заявлением.
Говорю вчера поздно вечером намеренно, потому что я не знал о том, что
сегодня в "Правде" появится письмо товарища Ю. Жданова и никакой связи, поэтому,
между настоящим моим заявлением и письмом товарища Ю. Жданова нет. Думаю, что
заместитель министра сельского хозяйства Лобанов может это подтвердить, так
как вечером по телефону я просил его разрешить мне сделать сегодня на сессии
заявление...
СИ. Алиханян
"Товарищи, я попросил слово у председателя не потому, что сегодня прочел в
"Правде" заявление Юрия Андреевича Жданова. Я решил сделать заявление еще
вчера, и заместитель министра сельского хозяйства П.П. Лобанов может подтвер-
дить, что разговор об этом у меня с ним был еще вчера, 6 августа. Я очень
внимательно следил за этой сессией и много пережил за эти дни. . . Речь идет о
борьбе двух миров, борьбе двух мировоззрений, и нам нечего цепляться за
старые положения, которые преподносились нам нашими учителями.
Мое выступление два дня назад, когда Центральный Комитет партии намечал
водораздел, который разделяет два течения в биологической науке, было
недостойно члена коммунистической партии и советского ученого.
Я признаю, что занимал неправильную позицию...
Мы сильно поддались полемическим страстям, которые разжигались в этой
дискуссии нашими учителями. Из-за этой полемики мы не смогли увидеть новое,
растущее направление в генетической науке. Это новое - учение Мичурина. И, как я
уже говорил, нам важно понять, что мы должны быть по эту сторону научных
баррикад, с нашей партией, с нашей советской наукой...
Исключительное единство членов и гостей на этой сессии, демонстрация силы
этого единства и связи с народом и, наоборот демонстрация слабости противника
для меня столь очевидна, что я заявляю: я буду бороться, - а иногда я это
умею, - за мичуринскую биологическую науку. (Продолжительные аплодисменты).
Я призываю своих товарищей сделать очень серьезные выводы из этих моих
слов. Я, как коммунист, не могу и не должен противопоставлять упрямо, в пылу
полемики, свои личные взгляды и понятия всему поступательному ходу развития
биологической науки.
Я человек ответственный, ибо работаю в Комитете по Сталинским премиям, в
экспертной комиссии по присуждению высоких ученых степеней. Поэтому я
полагаю, что на мне лежит моральный долг - быть честным мичуринцем, быть честным
советским биологом.
Я не мыслю своего существования без активной и полезной деятельности на
благо советского общества, советской науки. Я верил нашей партии, нашей
идеологии, когда шел в бой со своими солдатами. И сегодня я искренне верю, что,
как ученый, я поступаю честно и правдиво и иду с партией, со своей страной, и
если вы, товарищи, того же не сделаете, то окажетесь в хвосте, отстанете от
прогрессивного развития науки. Наука не терпит нерешительности и
беспринципности .
Товарищи мичуринцы! Если я заявил, что перехожу в ряды мичуринцев и буду их
защищать, то я делаю это честно. Я обращаюсь ко всем мичуринцам, в числе
которых есть и мои друзья и мои враги, и заявляю, что я буду честно выполнять
то, что здесь заявил сегодня. (Аплодисменты).
С завтрашнего дня я не только сам стану всю свою научную деятельность
освобождать от старых реакционных вейсманистско-морганистских взглядов, но и всех
своих учеников и товарищей стану переделывать, переламывать.
Уверен в том, что, зная меня, мне в данном случае поверят и в том, что свое
заявление я делаю не из трусости. Важной чертой моего характера в жизни
всегда была огромная впечатлительность. Все знают, что я очень нервно
воспринимаю все. Поэтому вы поверите мне, что данная сессия действительно произвела
на меня огромное впечатление.
Нельзя скрывать, что это будет чрезвычайно трудным и мучительным процессом,
может быть, многие этого не поймут: ну что же, ничего не поделаешь, тогда они
не с нами. Они, значит, не сумеют правильно оценить ту помощь, которую
оказала нам партия в коренном переломе, который произошел в науке, и не сумеют
понять, что дело не в разногласиях по отдельным, не принципиальным вопросам.
Здесь говорят и о том (и это справедливый упрек), что мы на страницах
печати не ведем борьбы с зарубежными реакционерами в области биологической науки.
Заявляю здесь, что я буду вести эту борьбу и придаю ей политическое значение.
Я считаю, что должен, наконец, раздаться голос советских биологов на
страницах нашей научной печати о том, что нас разделяет огромная идейная пропасть.
И только тот зарубежный ученый, который поймет, что мост должен быть
переброшен к нам, а не к ним, может рассчитывать на наше к нему внимание.
Пусть прошлое, которое разделяло нас с Т.Д. Лысенко (правда, не всегда),
уйдет в забвение. Поверьте тому, что я сегодня делаю партийный шах1 и выступаю
как истинный член партии, т.е. честно. (Аплодисменты)4.
И только в нашей стране, стране самого передового прогрессивного
мировоззрения могут развиваться ростки нового научного направления, и наше место с
этим новым, передовым. И я, со своей стороны, категорически заявляю своим
товарищам, что буду впредь бороться с теми своими вчерашними единомышленниками,
которые этого не поймут и не пойдут за мичуринским направлением. Я буду не
только критиковать то порочное, вейсманистско-моргановское, что было в моих
работах, но и принимать активное участие в этом поступательном ходе вперед
мичуринской науки".
Как видим, оба неофита-лысенкоиста за один вечер "передумали" свою жизнь и
решили предать анафеме всё, что было для них (или должно было быть) свято
раньше. Особенно был категоричным Алиханян, который в своем первом
выступлении (за генетику) нажимал на то, что он - уже поднаторевший в науке человек:
"... я постараюсь сказать о том, как я понимаю научные вопросы, над
которыми работаю 18 лет", хотя и это было неправдой: он сначала пытался
разрабатывать "философские вопросы" генетики (как Презент у Лысенко, но не в
противовес генетике, а за нее) , а потом потихоньку стал приобщаться к
экспериментальной работе, но более старательно делал общественную карьеру. Затем у него
был перерыв во время войны, когда он был на фронте, где был ранен, лишь потом
он вернулся к научной работе, так что ни о каких 18 годах научной работы и
речи быть не могло. А на этот раз - в покаянном выступлении - он решил, что
выгоднее выставить себя молодым ученым и свалить всё на учителей, которые и
"старые положения преподносили", портя его "мировоззрение", и "полемические
страсти разжигали". Этот прием был подхвачен многими в те годы (например,
учениками С.С. Четверикова - И.Н. Грязновым и А.Ф. Шереметьевым в Горьковском
университете). Покаялся на сессии ВАСХНИЛ и член-корреспондент Украинской АН
И. М. Поляков. Он перешел на сторону научных противников и стал использовать
свой талант публициста для оскорблений настоящей науки в газетных и
журнальных статьях.
Отказываясь от всех предыдущих убеждений и кланяясь в ноги новым учителям
за то, что они наставили их на "путь истинный", кающиеся просили поверить в
их искренность (а Алиханян даже готов был взвалить на себя обязанности палача
по отношению к тем из своих бывших коллег, кто на сделку с совестью не пошел;
теперь "новообращенный" мичуринец Алиханян заявлял даже, что будет их
"переламывать ") . Но мог ли кто поверить в искренность их сегодняшней позиции и
всего, что бы они не взялись делать позже!
Это был, пожалуй, один из самых показательных публичных примеров
самоубиения человеческих душ под напором политического диктата в стране, трубившей на
весь мир о благовидности целей, свободе и демократии! Остров свободы в мире
капитализма оказался на практике бастионом зла, в котором напуганные до
смерти люди отрекались от своих взглядов даже в вопросах, не имевших никакого
политического значения.
Погром в советской науке
В Оргбюро ЦК ВКП(б), Секретариате ЦК и в Политбюро Центрального Комитета
партии ни нашлось никого, кто бы возразил диктатору Сталину. Решения о
разгроме генетики были приняты лидерами партии единогласно, и в этих же органах
с внимательностью и обстоятельностью следили за ходом сессии ВАСХНИЛ. Сын
Жебрака, Эдуард Антонович, вспоминал со слов отца, что личный лимузин Сталина
подъезжал к зданию Министерства сельского хозяйства на перекрестке Садового
кольца и Орликова переулка, подгадывая к концу каждого заседания сессии. По
лестнице сбегал вниз какой-то человек, рывком открывал заднюю дверь лимузина,
и машина срывалась с места, увозя человека на доклад куда-то в сторону
Кремля. Уже было сказано, что каждый день вечером Столетов появлялся в кабинете
Маленкова и лично докладывал новому Секретарю ЦК о главных событиях дня. В
"Правде" каждый день появлялось информационное сообщение о результатах
предыдущего дня, а за главным рупором властей следили по всей стране.
О том, как было налажено ознакомление Маленкова с тем, что происходит на
сессии, и как высшие чины аппарата ЦК рвались показать себя сражающимися с
врагами и заработать политический капиталец, можно судить по одному из таких
донесений, находящихся в архиве (бывшем центральном партийном архиве). Оно
касалось выступления 4 августа академика Б.М. Завадовского, защищавшего
генетику. В тот же день Д. Шепилов доносил Маленкову (прилагая выписку из речи
Завадовского и уже добытую справку о нем, подписанную зам. зав. сектором
науки Е. Городецким):
"Направляю Вам выписку из речи академика Б. Завадовского...
В связи с тем, что выступление.. . носит явно провокационный характер, и в
своих попытках спасти потерпевшее полное банкротство вейсманистское
направление в биологии Б. Завадовский не гнушается явно недостойного ученого
средствами - прощу Вас рассмотреть вопрос о возможности специального заявления на
сессии, в котором была бы дана должная оценка поступка Б. Завадовского.
Конкретно возможна одна из следующих мер:
1. Мое краткое выступление на сессии с заявлением по поводу выступления
Завадовского ;
2. Мое подробное выступление на сессии... т.к. общими вопросами генетики я
занимался ранее на протяжении ряда лет и вернулся к ним снова в последние два
месяца, такое выступление вполне может подготовлено к 5 августа;
3. Если будет признано нецелесообразным мое выступление на сессии,
соответствующее заявление о приемах т. Завадовского можно было поручить
председательствующему на сессии т. Лобанову.
Прошу Ваших указаний.
Д. Шепилов."
Донесение Шепилова в тот же вечер было прочитано Маленковым, на нем
появились подписи ознакомленного с донесением Суслова и еще двоих аппаратчиков.
Выступить Шепилову не дали, его боссы желали сохранить на сессии видимость
нормальной дискуссии, и партийный топор показывать было рано.
Но уже через два дня после окончания сессии - 9 августа - под
председательством Маленкова прошло заседание Оргбюро ЦК партии, на котором были разобраны
итоги сессии и приняты решения о том, как изменить работу научно-
исследовательских учреждений по всей стране, как обеспечить прекращение
издания книг и статей генетического направления, и как добиться того, чтобы
только труды мичуринцев попадали к читателям с этой поры. Было решено, что все
сообщения из разных ведомств о разгроме генетики должны отныне поступать
лично товарищу Маленкову.
На этом заседании были приняты первые решения по кадровым вопросам,
оформленные в тот же день как решения Политбюро ЦК КПСС. На всех из них расписался
Сталин, на части была проставлена подпись Молотова, на части расписались
другие члены Политбюро и/или личный помощник Сталина Поскребышев. Немчинов был
снят с поста директора Тимирязевской академии и заменен Столетовым, Жебрак
был освобожден от заведования кафедрой генетики, а на его место Политбюро ЦК
ВКП(б) назначило Лысенко, Шмальгаузен и Юдинцев был уволены из МГУ, вместо
них на обе должности сразу был назначен Презент. На следующий день Оргбюро
было собрано снова, чтобы продолжить избиение кадров генетиков.
Длинное и казенное название одного пункта в повестке дня Оргбюро от 9
августа 1948 г. звучало так: "О мероприятиях по перестройке работы научных
учреждений, кафедр, издательств и журналов в области биологии и укреплении этих
участков квалифицированными кадрами - мичуринцев". Решения по этим вопросам
были выписаны с надлежащей пунктуальностью на двух страницах. Министра Кафта-
нова обязывали представить предложения о том, кого надлежало уволить с кафедр
вузов, министра Бенедиктова об увольнениях, но уже из научных институтов, от
директора Объединения государственных книжно-журнальных издательств (ОГИЗ)
Ревина и директора Сельхозгиза Абросимова потребовали дать предложения по
исключению из планов издания книг и журналов, более не нужных и вредных, и
предложения об издании работ, написанных "сторонниками советской
агробиологической науки мичуринского направления". Отделу пропаганды и агитации ЦК
ВКП(б) было приказано координировать все действия. Уничтожение коммунистами
великой науки и истребление выдающихся ученых должно было пройти быстро и во
всех сферах, имевших хоть какое-то отношение к биологии, агрономии, медицине.
Сроки для всей работы были сведены (как во время фронтовых действий!) до
минимума, всем министрам и всем издателям нужно было представить в ЦК
исчерпывающие сведения и планы в 3-х дневный срок!
Однако сроки были выдержаны далеко не всеми. Руководители издательств
действительно отчитались через два дня (по их новым планам предстояло напечатать
миллионными тиражами труды Лысенко и других мичуринцев). У
сельскохозяйственного министра Бенедиктова была в разгаре уборочная страда, и он подать отчеты
и предложения не торопился. Министр образования Кафтанов отгуливал положенный
ему отпуск, а без него никто всерьез делом мичуринского направления
заниматься не хотел, поэтому кто-то соорудил для отдыхающего начальника длиннющую
справку обо всем на свете, но без конкретных шагов на будущее. Министр под
ней подписался, и справка на 4-х страницах ушла на имя Секретаря ЦК
Маленкова. В этом документе критиковали выдающихся советских ученых и бичевали себя
за былые промахи в запоздалом их истреблении (этот прием коммунисты называли
"наведением самокритики"). Снова были опозорены имена Н.И. Вавилова и Н.К.
Кольцова. Рассадниками морганизма-менделизма-вейсманизма были названы
Тимирязевская академия, Московский, Ленинградский и Харьковский университеты, в
которых работали "сторонники реакционно-формальной теории в биологии". Поименно
были названы Немчинов, Жебрак, "яростный противник мичуринского учения...
недавно умерший Лисицын", Борисенко, Парамонов, Жуковский, Шмальгаузен, Сереб-
ровский (в скобках было добавлено "умер недавно"), Завадовский, Юдинцев,
Сабинин и другие. Из Харьковского университета были названы трое - Поляков,
Петров и Эфроимсон. Особо досталось В.П. Эфроимсону:
"Преподаватель Эфроимсон (до этого репрессированный за антисоветскую
деятельность) перевел статью невозвращенца-белоэмигранта, реакционного биолога-
морганиста Добржанского, в которой последний клеветал на советское
государство и мичуринскую биологию. Эту статью Эфроимсон распространял среди
работников кафедр и студентов. Министерство высшего образования сняло с работы
декана факультета, преподавателя Эфроимсона с запрещением вести ему
преподавательскую работу в вузах... т. Ю. Жданов встал на защиту профессора
Харьковского университета антимичуринца Полякова и настоял на отмене приказа
Министерства об освобождении Полякова от работы...".
Владимир Павлович Эфроимсон после окончания Московского университета быстро
приобрел известность в генетических кругах своими работами, особенно по
генетике человека. В 1978 году в журнале "Генетика" было сказано:
"В 1932 году он впервые в мире сформулировал применительно к человеку
исключительно важный принцип равновесия между мутационным процессом и отбором
как основу для расчета частоты мутирования", но в конце 1932 года за смелое
заявление по поводу осуществленных в том году арестов интеллигентов его также
арестовали и осудили. Освобожден он был в 1935 году. В 1947 году Эфроимсон
завершил работу над докторской диссертацией и защитил ее. Высшая
Аттестационная Комиссия (ВАК) присудила ему степень доктора биологических наук, но после
таких заявлений Кафтанова уже в декабре 1948 года в журнале "Вестник высшей
школы" было напечатано следующее:
"В.П. Эфроимсон известен как ярый противник передовой мичуринской
биологической науки; его диссертация, построенная на позициях вейсманизма,
антинаучна и бесполезна... Экспертная комиссия ВАК оценила работу В.П. Эфроимсона как
выдающийся научный труд и рекомендовала автора к утверждению в ученой степени
доктора биологических наук".
ВАК отменила свое же решение о присуждении ему степени доктора наук. 11 мая
1949 года он был вторично арестован (приговор гласил, что его осудили по
статье 35 - "социально опасный элемент") и отправлен в лагерь под Джезказган. (В
декабре 2000 года сын Лысенко Олег, выступая по российскому телевидению в
программе "Большие родители", не нашел ничего лучшего, как обвинить
Эфроимсона в том, что тот нечестно выступал против его отца и распространял о нем
якобы неправду, однако почему-то Олег Трофимович не сказал, что за эти
"выступления" и за несогласия с взглядами его отца выдающемуся советскому
генетику Эфроимсону пришлось отсидеть еще один срок в лагере строгого режима).
Эфроимсон В.П. в военные годы.
Как уже было сказано, сам министр высшего образования Кафтанов в это время
находился в отпуске, поэтому поспеть за решениями Политбюро ЦК он не мог. Но,
вернувшись в Москву, надо было проявлять себя хоть задним числом, и он стал
ревностно это делать, начал строчить одно за другим длинные послания Маленко-
ву с осуждениями в адрес каждого упомянутого в постановлениях Политбюро
ученого . Всех их по приказу Политбюро уволили, трудовые книжки им уже в отделах
кадров вручили, но Кафтанов теперь, будто не зная этого, предлагал отстранить
уволенных от преподавания, заведования кафедрами, лабораториями и научными
станциями. То, что он посылал свои письма вдогонку за совершившимися актами
партийного начальства, видимо, никого не коробило. Все письма оказались в
надлежащем порядке подколоты к уже состоявшимся решениям, как будто и впрямь
партийные начальники обосновывали свои решения на основании этого
предложения.
11 августа на заседании Секретариата ЦК партии был пересмотрен состав
Комитета по присуждению Сталинских премий. Все биологи, в чем-либо заподозренные,
были из него выведены, а на их место ввели лысенковцев. На этом же заседании
Сельхозгизу было предложено в трехдневный срок издать отдельной брошюрой
доклад Лысенко на сессии ВАСХНИЛ тиражом 300 тысяч экземпляров и толстенную
книгу так называемого стенографического отчета сессии тиражом 200 тысяч
экземпляров . Становилось всё очевиднее, что вопрос о судьбе лысенкоистов стал для
партийного руководства страны центральным и затмил все остальные проблемы
страны.
В эти дни особенно старательно работал руководитель Агитпропа ЦК Шепилов.
10 августа он передал Маленкову огромный документ, в котором информировал о
якобы имеющихся серьезных недостатках в работе биологических учреждений
Академии наук СССР. Критике были подвергнуты работы Дубинина, Рапопорта, Астау-
рова, Жебрака, Орбели, директора Ботанического института Шишкина, и были
предложены организационные изменения в руководстве академией, закрытие ряда
лабораторий и увольнение научных сотрудников. Затем вместе со своим
заместителем Л. Ильичевым 14 августа Шепилов подготовил Маленкову длинное послание о
состоянии дел с изданием биологической литературы). Особенный гнев партийцев
был обращен на работу Издательства Иностранной Литературы, созданного и
курировавшегося А.А. Ждановым. "Совершенно нетерпимая обстановка сложилась в
биологической редакции" этого издательства, докладывали Шепилов и Ильичев,
перечисляя "пять книг по вопросам генетики", принадлежащих китам биологии на
Западе и изданных в переводе на русский язык за последних полтора года (Шредин-
гера, Уоддингтона, Майра, названного Майером, Симпсона и Флоркена).
Беспредельное возмущение вызвало у них желание этой редакции издать на русском
языке ставшую классической книгу Ф.Г. Добржанского "Генетика и происхождение
видов" . Шепилов и Ильичев предлагали Маленкову уволить из этого издательства
редактора В.В. Алпатова и его заместителя В.Ф. Мирека, заместив их
"последовательным мичуринцем Глущенко", убрать из "научно-редакционного совета Гос-
иноиздата профессоров Н.П. Дубинина и П.М. Жуковского", предлагали освободить
от членства в редакционном совете Сельхохгиза Немчинова и Цицина, заменив их
С. Ф. Демидовым и В. Н. Столетовым. Через два дня все эти предложения были
оформлены распоряжением, подписанным Маленковым на основании решения Оргбюро
ЦК ВКП(б). К упомянутым жертвам были добавлены новые фамилии. Лысенковцы не
забыли своего старого недоброжелателя, С.Г. Суворова, который пытался в 1946-
1947 помочь создать в АН СССР Институт генетики и цитологии. С 10 декабря
1947 года он уже не работал в ЦК, так как был заменен Ю.А. Ждановым на посту
нач. отдела науки ЦК, и с тех пор работал заместителем заведующего ОГИЗ при
Совете Министров СССР. Теперь он был уволен и с этой работы (вплоть до своей
смерти в 1994 году Суворов работал в редакции журнала "Успехи физических
наук") . В октябре 1948 года Д. Ильичев и М. Морозов доносили Маленкову, что в
дополнение к ранее выведенным из состава редакционного совета ученым надо
убрать нововыявленных противников Лысенко - профессора овощеводства В.И. Эдель-
штейна и академика П.Н. Константинова (из Тимирязевки), почвоведа профессора
Авдонина, снять с работы редакторов издательства Долгополова, Калугина и
Твердовского. Полностью был пересмотрен состав редакционного совета
Издательства иностранной литературы и заменен сторонниками мичуринского учения -
Лысенко, Опариным, Павловским, Презентом, Варунцяном, Юдиным, Давиташвили, Эн-
гельгардтом, Сисакяном, Нуждиным, Хрущовым, Кострюковой, Турбиным, Студитским
и Глущенко. На место великолепного специалиста Виктора Францевича Мирека,
уволенного решением ЦК ВКП(б) от 16 августа, был зачислен Р.И. Белкин.
Перечисленные здесь увольнения и замещения были только началом тотальной
кампании по устранению инакомыслящих. Решение ЦК партии о допустимости отныне
только одного направления в биологии развязало руки для расправы со всеми
учеными, на любых уровнях. Все, кто раньше был отмечен лысенковцами как явные
или потенциальные их противники, получали кличку "вейсманисты-менделисты-
морганисты" . Наиболее грамотных и творческих специалистов начали вызывать по
всей стране в партийные бюро и комитеты, где от них требовали покаяться в
ошибках и отказаться от прежних взглядов. Тех, кто соглашался на эти
требования, выставляли на прошедших повсюду собраниях на общее обозрение, их
называли врагами науки и под улюлюкание лысенковской толпы и примкнувших к ним
повсюду самых ничтожных, но и самых горластых "середнячков в науке" заставляли
каяться публично и самобичеваться. Тех, кто этого не делал, гнали из научных
учреждений. (Впрочем, самых заметных специалистов часто изгоняли и после
публичной экзекуции; счеты сводили, что называется, по черному).
Труднее всего было руководителям: кары следовали по возрастающей в
зависимости от ранга должности. Если простые научные сотрудники с покладистым
характером могли отделаться относительно легким испугом, то руководителям
выкручивали руки бесцеремонно, не щадили ни больных, ни стариков, ни героев
войны.
На периферии масштаб проработок и изощренность моральных пыток был тем
сильнее, чем дальше было от центра. Но и здесь направляющая рука Москвы была
очевидна. 28 августа Л. Ильичев и вернувшийся из отпуска Ю.А. Жданов
обратились к Маленкову с просьбой командировать проверенных товарищей "для
ознакомления научных работников периферии с решениями сессии ВАСХНИЛ, для выяснения
состояния биологической науки на местах, а также для оказания помощи местным
партийным организациям в развитии мичуринского направления в биологии".
Показательно, что местами их командировок были указаны не научные организации,
как говорилось в преамбуле, а республиканские и областные партийные комитеты.
Самые близкие сотрудники Лысенко, такие как Глущенко, Кушнер и Е.Н. Тараканов
попали в список. Маленков единолично этот вопрос решать не стал. На обращении
стоит его надпись цветным карандашом "На Секретариат. 30. VIII. Г.М.".
Секретариат нужное решение принял, но это была на самом деле проформа, так как
Глущенко выехал в столицу Украины уже 28 августа, а с 30 августа по 2
сентября в Киеве провели республиканское совещание. Вводные доклады сделали И. Е.
Глущенко и М.А. Ольшанский. Затем по одному на сцену вызывали генетиков, и те
под перекрестным огнем вопрошавших (вся лысенковская братия из Одессы и их
сторонники из других городов понаехали и дружно, заражая грязной энергией
один другого, - работали) должны были признавать ошибки.
Бывший студент С. С. Четверикова и его ученик Сергей Михайлович Гершензон,
казалось бы, сделал всё, что он него потребовали (признал вредной свою
прежнюю научную деятельность, осудил учителей, заявил о полном отречении от своей
научной позиции). Осуждая Кольцова, Серебровского, Дубинина, Вавилова,
Гершензон старательно оговаривал и себя:
"... я в своих работах стоял на неверных, антинаучных, формально-
генетических позициях, справедливо осужденных в докладе акад. Лысенко... я
исходил при этом из вполне ошибочных допущений.
... Я всегда высоко ценил работы Мичурина и Лысенко, но в то же время. . . я
извращал самую суть мичуринского учения...
Менделистско-морганистские ошибки, которые есть в моей работе, объясняются
тем, что я недостаточно глубоко овладел марксистской методологией,
недостаточно изучил труды классиков марксизма - Маркса, Энгельса, Ленина, Сталина,
недостаточно изучил работы Мичурина и Лысенко, и именно поэтому в моих
работах была проявлена одна из худших форм преклонения перед буржуазной
культурой, что заключалось в принятии и поддержке реакционных идей, импортированных
к нам с Запада в виде менделизма-морганизма".
Возможно, Гершензону и многим другим его коллегам казалось тогда, что лы-
сенкоизм утвержден в советской науке навечно, во всяком случае, в течение их
жизни он поколеблен не будет, и поэтому они брали на себя обязательство
никогда больше в жизни к генетике не возвращаться. Нельзя ни на минуту допустить
мысль, что они делали это искренне, что глаза их, затуманенные прежде
зарубежным дурманом, вдруг раскрылись навстречу правде. Да и двух десятилетий не
прошло, как все они вернулись к нормальным генетическим исследованиям. Пока
же Гершензон произносил такие слова:
"... Я заявляю о своем полном отречении от формальной генетики, от мендели-
стско-морганистского мировоззрения и безраздельно перехожу на позиции
мичуринской науки. Я осознаю, что одной словесной декларации недостаточно. Все
свои силы и знания в процессе дальнейшей работы я посвящу разоблачению
лженаучности и реакционности морганизма-менделизма, беззаветному служению
советской агробиологической науке".
Но и после такого заявления его принялся добивать Ольшанский, обвинивший
Гершензона в том, что в его работах была не мешанина разных взглядов, как
пытался представить Гершензон, а "последовательный вейсманизм".
Конечно, очень тяжелым было положение членов партии. От них по партийной
линии требовали непременного покаяния и отказа от прежних взглядов. Иначе с
партией пришлось бы проститься не по своей воле, а там еще неизвестно, не
замаячила ли бы перспектива лагерей и тюрем. Подавляющее большинство пошло по
пути вынужденного признания ошибок. Так, 15 августа в "Правде" было
напечатано письмо Жебрака, датированное 9 августа. Антон Романович писал:
"До тех пор пока нашей партией признавались оба направления в советской
генетике ... я настойчиво отстаивал свои взгляды, которые по частным вопросам
расходились со взглядами акад. Лысенко. Но теперь... я, как член партии, не
считаю для себя возможным оставаться на тех позициях, которые признаны
ошибочными Центральным Комитетом нашей партии".
Естественно, от научного работника такого ранга как Жебрак, одного лишь
согласия с линией ЦК партии было мало. Это он хорошо понимал, поэтому
постарался провести дальше в письме три линии:
/1/ признать ошибочность взглядов Вейсмана, сославшись также на ряд цитат
из своих работ по этому вопросу;
/2/ показать, что в своих экспериментах он только и занимался тем, что
пытался изменять гены разными воздействиями, а, значит, не был сторонником
неизменности генов ("я стремился и стремлюсь осуществлять девиз Мичурина: "Не
ждать милостей от природы: взять их у нее - наша задача", и девиз Маркса: "не
только объяснять мир, но и переделывать его"") и
/3/ отметить получение им перспективных для селекции линий пшениц. Иными
словами, он не осуждал людей, не бичевал себя, не распинался о том, как он в
жизни ошибался, и уж, разумеется, ни на кого своих ошибок не сваливал. Он
повторил в конце письма еще раз:
"... я, как член партии и ученый из народа, не хочу, чтобы меня считали
отщепенцем, не хочу быть в стороне от выполнения благородных задач ученых своей
Родины. Я хочу работать в рамках того направления, которое признается
передовым в нашей стране, и теми методами, которые предложены Тимирязевым и
Мичуриным" .
Это заявление не удовлетворило руководящих товарищей. Под ним было
напечатано почти такое же по размеру заявление "От редакции", в котором прежде
всего было сделано важнейшее уточнение: было сказано, что Жебрак ошибается,
когда упоминает о будто бы имевшем место признании партией двух направлений в
генетике. Редколлегия газеты - органа ЦК партии объявляла, что партией
признавалось и признается только мичуринское учение. Затем было заявлено о пяти
неверных утверждениях Жебрака: фальшивым названо заявление Жебрака о его
расхождениях с Вейсманом; неискренним было названо признание им Мичурина;
отмечалось , что
"у проф. А. Р. Жебрака имеется тенденция противопоставить учение И.В.
Мичурина работам академика Т.Д. Лысенко и других мичуринцев".
Слова Жебрака о положительных результатах его работ с пшеницей были
расценены как хвастливые и сами достижения обозваны "мнимыми". Заканчивался весь
этот разнос тем, что редакция приняла заявление Жебрака "к сведению, а
последующая работа профессора А. Р. Жебрака покажет, насколько это заявление
является искренним". Ждать чего-либо хорошего после такой реакции было нечего.
Редакция главной партийной газеты выдавала этот грубый отзыв за свое
мнение. На самом же деле письма двух академиков - А. Р. Жебрака и Б.М. Завадов-
ского - перед их публикацией - были направлены на рассмотрение Лысенко. Он
ответил в ЦК резко отрицательным отзывом, особо указывая на то, что оба
ученых не принесли извинений ему лично, не раскаялись и не поклялись служить
делу мичуринцев:
"...раньше [они] высмеивали учение Мичурина, теперь же почувствовали, что
выступать прямо против учения Мичурина неудобно.
Поэтому они делают все, лишь бы доказать, что их менделевско-моргановские
взгляды не расходятся с учением Мичурина. Учение Мичурина хотят подогнать под
менделизм-морганизм...
В заявлениях прямо не говорится, что они не согласны с работами Лысенко, но
в этих же заявлениях и не указывается, что они согласны с моими работами.
Тт. Жебрак и Завадовский замалчивают коренной вопрос наших разногласий -
наследование растениями и животными приобретенных под действием условий жизни
свойств и признаков.
Простите за нескромное письмо, но я считал своим долгом для пользы дела
развития мичуринского учения об этом сказать".
Это мнение Лысенко, отправленное 14 августа в ЦК партии Шепилову и
редактору "Правды" П.Н. Поспелову и решило судьбу ученых. Уже на следующий день
"Правда" разразилась изложенным выше разносом Жебрака. Он оставался после
этого долгое время безработным.
Решение Политбюро ЦК ВКП(б) об увольнении Немчинова и Жебрака и их замене
Столетовым и Лысенко, как было указано, предшествовали приказу министра
высшего образования СССР СВ. Кафтанова, поэтому приказ о снятии их с работы был
только формальностью для вида. Такой же формальностью было решение нового
директора Столетова о закрытии жебраковской лаборатории. Жебрак все-таки не
оставлял надежды сохранить работу. Он написал прочувствованное письмо лично
Сталину, добавив к нему письмо секретарю Сталина Поскребышеву с просьбой
"доложить товарищу Сталину мое письмо" и передал его в секретариат ЦК 3
сентября. Поскребышев письмо просмотрел, отчеркнул на нем три параграфа, в которых
Жебрак объяснял, на каких проблемах он хотел бы сосредоточиться ("на
выведении неполегаюших сортов озимой пшеницы, хорошо пригодных для выращивания на
высоком агротехническом фоне и для комбайновой уборки", "мне удалось создать
совершенно новые типы пшеницы - этой важнейшей культуры земли", "я очень
прошу, ...чтобы мне предоставили возможность продолжать научную работу в
Тимирязевской с.х. академии"). Однако неизвестно, было ли письмо показано Сталину,
потому что на углу письма Поскребышев написал направление "Тов. Маленкову",
однако Маленков спустил письмо Жебрака (и одновременно краткое письмо
Дубинина на имя Сталина) на рассмотрение двух чиновников - министра с.х.
Бенедиктова и зав. сельхозотделом ЦК А.И. Козлова. Козлов с ответом не задержался.
Ответ был простым:
"Сельхозотдел ЦК ВКП(б) считает нецелесообразным продолжить профессору Жеб-
раку работу и сохранить за ним полевую базу и лабораторию в ТСХА...".
К мнению партийного начальника, разумеется, присоединился и Бенедиктов,
который только летом этого же года осмотрел посевы пшениц Жебрака и дал им
высокую оценку.
Иосиф Абрамович Рапопорт, тоже член партии, решил поступить иначе. После
партийного собрания, принявшего решение об исключении его из партии, он не
стал бороться за сохранение членства в партии, а явился в райком и выложил
партбилет на стол.
Полоса массовых увольнений прокатилась по всем университетам, по
большинству сельскохозяйственных, медицинских, педагогических, лесных, пищевых и
других вузов, по многим научным учреждениям. Всего было уволено в стране около
трех тысяч ученых-биологов. Это была настоящая эпидемия варварских гонений на
науку. Русская генетика, давшая образцы великолепных исследований, признанных
во всем мире, прекратила свое существование. Над биологическими науками
опустилась черная ночь. Никто в то время не мох1 знать, как долго эта ночь
продлится, хватит ли жизни, чтобы дождаться рассвета. Находились люди даже среди
проницательных ученых, которые считали, что пройдет много десятилетий, прежде
чем развеется кошмар этой вальпургиевой ночи.
Газеты и журналы наполнились статьями, изобличающими врагов "настоящей"
науки. Отовсюду, начиная с центра и до самых далеких окраин, маленьких
селекционных станций, сортоучастков, станций защиты растений и тому подобных
учреждений, всех честных, сколько-нибудь самостоятельных научных сотрудников
методично изгоняли и заменяли разом всплывшими наверх "сторонниками
мичуринского учения".
24 августа началось расширенное заседание Президиума Академии наук СССР. До
того, как президент АН СССР академик Сергей Иванович Вавилов - физик по
специальности, открыл прения, все будущие организационные и кадровые изменения
были уже предопределены Центральным Комитетом партии. Напомню, что еще 10
августа Д. Шепилов в упоминавшемся выше письме Маленкову, разосланном также в
Оргбюро ЦК партии и трем секретарям ЦК партии, перечислил предложения об
увольнениях ведущих руководителей институтов, лабораторий и отделов, которые
теперь предстояло провести на заседаниях Президиума АН СССР и дал партийную
оценку руководству академии:
"Прикрываясь флагом "объективного" отношения к двум направлениям в
биологической науке, Президиум Академии Наук и руководство биологического отделения
фактически поощряли и поддерживали одно направление - вейсманистско-
моргановское и всячески третировали и ограничивали мичуринское направление".
Теперь Президиум должен был выдать решения как бы за собственные. СИ.
Вавилов, который многократно пытался помочь генетикам, оказался сам по
партийным нажимом и вынужден был говорить вещи, в какие он, образованнейший физик,
разумеется не верил:
"В сложнейший вопрос о живом веществе непозволительно переносить до
крайности упрощенные физические и механические представления о строении и функции
изолированных молекул".
Теперь, продолжал Вавилов, "Речь идет не о дискуссии... Нужно также, как и
всюду, на биологическом участке научной работы искоренить раболепие и
низкопоклонство перед заграницей".
И, давая ясно понять, в каком ключе должно пойти обсуждение дел в
биологической науке и биологических учреждениях, Вавилов озвучил партийное требова-
ние:
"обязанность Президиума укрепить работу руководства Отделения биологических
наук и создать благоприятные условия для развития Института генетики,
руководимого академиком Лысенко... Необходимо реорганизовать работу Института
эволюционной морфологии и Института цитологии, гистологии и эмбриологии".
Вслед за Вавиловым с отчетным докладом выступил академик-секретарь
Отделения биологических наук, крупнейший советский физиолог Леон Абгарович Орбели,
судьба которого была уже предрешена. Однако академик-секретарь нашел в себе
силы сделать спокойный уравновешенный доклад о положении в биологических
учреждениях Академии Наук.
Но это только подлило масла в огонь азарта расправы. Тон последующих
выступлений задали не ученые, а министры, пришедшие на заседание - высшего
образования (СВ. Кафтанов), совхозов (Н.А. Скворцов), сельского хозяйства СССР
(И.А. Бенедиктов). Лексикон Кафтанова и Скворцова был наиболее насыщен
крепкими выражениями. Так, Скворцов говорил:
"... наши ученые.. . обязаны, как указывал товарищ Жданов в докладе о
журналах "Звезда" и "Ленинград", не только "отвечать ударом на удар", борясь
против этой гнусной клеветы и нападок на нашу советскую культуру, на социализм,
но и смело бичевать и нападать на буржуазную культуру, находящуюся в
состоянии маразма и растления".
Кафтанов был убежден, что "та борьба, которую вели мичуринцы. . . имела
огромное научное идейное и политическое значение, ибо они отстаивали
марксистско-ленинское мировоззрение ...", и характеризовал генетиков как прислужников
буржуазии и прежде всего американского империализма:
"Не случайно Америка, которая и сейчас является средоточием всего
реакционного . . . оказалась и цитаделью реакционных воззрений в биологии... в этой
стране фашиствующие ученые. . . клевещут на нашу страну, на наш народ, на наш
государственный строй и поносят имена крупнейших деятелей нашей прогрессивной
биологической науки - Тимирязева, Мичурина, Лысенко... Из подворотни
американского империализма высунули голову и клевещут на СССР и мичуринскую
биологическую науку и такие отъявленные враги нашей Родины, как белоэмигранты Доб-
жанский, Тимофеев-Ресовский и другие, которые из кожи вон лезут, чтобы
выслужиться перед американскими хозяевами... К нашему сожалению, им вторят такие
трубадуры менделизма-морганизма, как Жебрак, Дубинин, Навашин, Шмальгаузен и
другие, а Академия наук СССР, которая является штабом советской науки, и
Отделение биологических Наук Академии давали им полную возможность с трибуны
институтов и журналов Академии наук поливать грязью академика Лысенко и его
учеников, поносить прогрессивную, передовую мичуринскую биологическую
науку. . . Не только говорить, - кричать надо о тех нетерпимых недостатках,
которые имели место в работе многих биологических учреждений Академии Наук".
Профессиональный интерес генетиков к исследованию законов наследственности
рассматривался теперь всеми - и высшими чиновниками сталинского
государственного аппарата и ближайшими к Лысенко людьми только сквозь призму партийных
решений.
Нуждин, в будущем заместитель Лысенко на посту директора Института генетики
АН СССР, следующим образом выражал этот настрой:
В одной из своих работ Ленин писал: "... общественное положение профессоров
в буржуазном обществе таково, что пускают на эту должность только тех, кто
продает науку на службу интересам капитала, только тех, кто соглашается
против социалистов говорить самый невероятный вздор, бессовестнейшие нелепости и
чепуху. Буржуазия все это простит профессорам, лишь бы они занимались
"уничтожением социализма"...". В этом причина того, что при всей своей
практической бесплодности менделизм-морганизм все еще широко распространен за
рубежом" .
Член-корреспондент АН СССР Х.С. Коштоянц, сам того не желая, очень точно
характеризовал корни, взрастившие древо лысенкоизма:
"Советский ученый, прежде всего, должен исходить из морали государства, из
морали народа. И с этой, основной для нас, точки зрения я должен сказать, что
тот вред, который нанесен вейсманизмом-морганизмом на службе сил, враждебных
всему прогрессивному и передовому, не может быть искуплен никакой, маленькой,
случайной пользой".
А бывший "специальный аспирант" Лысенко, вместе с ним переехавший в Москву,
Глущенко с гневом называл имена основателей советской генетической школы -
Филипченко, Кольцова и Серебровского. Последний из упомянутых лишь незадолго
до этого скончался, и Глущенко говорил о его учениках:
"Они еще вчера у гроба евгениста Серебровского поклялись высоко держать
знамя и продолжать традиции отцов".
Другой лысенкоист - в то время заместитель директора Института биохимии АН
СССР доктор биологических наук Н.М. Сисакян также распинался на темы высокой
моральной силы сторонников Лысенко и аморальности генетиков:
"Сегодня всем ясно, что цели мичуринцев... благородны и вполне
соответствуют духу и чаяниям великих ученых нашего народа... стремления же
антимичуринцев диаметрально противоположны и совпадают с чаяниями самых реакционных
представителей зарубежной биологии".
В заключительный день прений в Академии наук еще раз выступил Л.А. Орбели.
События развивались таким образом, что он решил отказаться от борьбы,
отмежевался от генетики:
"Я никогда не разделял взгляда на ненаследуемость приобретенных признаков,
я не признавал исключительной связи наследования с хромосомами, не разделял
никогда представления о неизменности и неизменяемости генов".
Он отмежевался также от тех, кого раньше хвалил (в частности, от С.Н. Дави-
денкова, к книге которого о генетических основах неврологии сделал хвалебное
предисловие: теперь Орбели уверял собравшихся, что даже не прочел книгу
толком, а некоторые главы - и в руки не брал). Его принудили подать заявление о
собственном желании уйти с должности академика-секретаря Отделения
биологических наук:
"Считаю необходимым добавить, что я прошу и Президиум Академии наук и наши
правительственные органы, и Центральный Комитет партии не рассматривать мое
заявление как попытку уйти от дел. . . Вместе с тем я должен подчеркнуть, что
этот мой уход не должен рассматриваться как какой-либо протест против того
поворота, который сейчас совершается. Наоборот, этому повороту я полностью
сочувствую. Я рад, что, наконец, прекращается та бесконечная возня, которую
мы должны были переживать в Отделении биологических наук и которая мешала
спокойной работе и спокойному развитию наших научных достижений".
На заключительном заседании 26 августа СИ. Вавилов еще раз ясно сказал о
той идейной платформе, которая послужила базисом для политической оценки
положения в биологии. Он подтвердил правомочность деления экспериментальных
наук на буржуазные и пролетарские, повторил тезис о партийности в науке. Вместе
с приматом практицизма это деление помогало предопределить победу лысенкои-
стов и поощряло их на вполне определенный стиль дискуссий, на соответственную
норму реакции.
"Советское естествознание, - говорил СИ. Вавилов, - конечно, использует
многие законы и методы, которые вошли и будут входить в буржуазное
естествознание . Но нашу науку, науку социалистической страны, идущей к коммунизму,
отделяет от буржуазной науки пропасть совсем иной идеологии, пропасть совсем
иной задачи, стоящей перед нами, - задачи всемерной службы народу, его
запросам, его практике, его нуждам".
Кому-кому, а младшему брату Н.И. Вавилова были хорошо известны значение и
сила науки генетики. Но, будучи поставленным в особые условия, ему не
оставалось ничего иного, как пойти дальше многих в критике генетики:
"Биологическое направление становилось базой фашизма. С разрешения и
одобрения Академии и Отделения биологических наук в лабораториях Дубинина,
Шмальгаузена и других названная идеология была положена в основу экспериментальной
работы".
Столь же понятно, почему ему пришлось от своего имени озвучить
организационные предложения, принятые Центральным Комитетом партии. Заканчивая
заседание , СИ. Вавилов сказал:
"Товарищи! Расходясь после этих важных обсуждений и решений, мы не можем не
вспомнить того человека, зоркий глаз и гений которого исправляют наши ошибки
на всех путях - в области политической, экономической жизни и в области
науки. Я говорю, товарищи, об Иосифе Виссарионовиче Сталине (Бурные
аплодисменты. Все встают) . . . Да здравствует товарищ Сталин! (Бурные, долго не
смолкающие аплодисменты, переходящие в овацию в честь товарища Сталина).
Принятое Президиумом Академии наук СССР постановление полностью содержало
пункты партийного решения. Оно гласило:
1. Освободить академика Л.А. Орбели от обязанности академика-секретаря
Отделения биологических наук... Ввести в состав Бюро Отделения академика Т.Д.
Лысенко.
2. Освободить академика И. И. Шмальгаузена от обязанностей директора
Института эволюционной морфологии животных имени А.Н. Северцова.
3. Упразднить в Институте цитологии, гистологии и эмбриологии Лабораторию
цитогенетики, возглавляемую членом-корреспондентом Дубининым.
... Закрыть в том же Институте лабораторию ботанической цитологии...
Ликвидировать ... лабораторию феногенеза ...".
На улицу было выброшено много выдающихся ученых из институтов Академии
наук, их учеников и последователей. В опубликованном после заседания Президиума
АН СССР отчете были приведены слова ученого секретаря Отделения биологических
наук Р.Л. Дозорцевой (жены Н.И. Нуждина):
"Необходимо пересмотреть не только те учреждения, где сконцентрированы
гнезда формалистов, но и выявить отдельных морганистов, рассеянных по всем
учреждениям Отделения биологических наук".
Об этой ВЫДАЮЩЕЙСЯ победе над "реакционными идеалистами" была оповещена вся
страна.
28 августа 1948 года газета "Правда" сообщила, что Министерство высшего
образования СССР предпринимает широкие санкции против ученых. Министр Кафтанов
призвал к скорейшей расправе со всеми, кто нес студентам слово о живой науке
- генетике. Но ко дню публикации в "Правде" отчета о докладе Кафтанова сотни
крупнейших вузовских ученых уже были изгнаны из вузов страны. Помимо уже
упомянутых в решении Политбюро ЦК Шмальгаузена и Юдинцева, приказом Кафтанова от
23 августа (188) из МГУ уволили заведующих кафедрами профессоров М.М. Зава-
довского и Д.А. Сабинина, доцентов СИ. Алиханяна (покаяние на сессии ВАСХНИЛ
и призыв к дезертирству, обращенный к другим генетикам, не помог), А. Зелик-
мана, Б.И. Бермана, Н.И. Шапиро, ассистента Р.Б. Хесина-Лурье; из
Ленинградского университета - профессора Ю.И. Полянского (работавшего тогда
проректором ЛГУ), декана биофака М.Е. Лобашева, профессора П.Г. Светлова, доцента
Д.А. Носкова; из Горьковского университета - профессора С.С. Четверикова. В
списке уволенных были имена крупных ученых из Харьковского, Воронежского,
Киевского , Саратовского, Тбилисского университетов. В том же месяце были изданы
приказы об увольнениях из сельскохозяйственных, зоотехнических и ветеринарных
институтов. Большинство изгнанных длительное время не могли найти работу в
научных учреждениях, часть ученых (из перечисленных мною, например, Н.И.
Шапиро) были вынуждены пойти работать в лаборатории лысенкоистов, многие (в ча-
стности, Р.Б. Хесин) предпочли сменить специальность.
Приняв постановление об увольнениях с работы ведущих ученых и рассмотрев
персонально каждую из кандидатур, Политбюро ЦК партии и секретари ЦК не
ослабили контроль за академией и судьбой уволенных ученых. Теперь надо было
проследить, чтобы ни один их наказанных не улизнул из-под контроля и не вернулся
под любым прикрытием к работе в запрещенной генетике. 13 сентября 1948 года
академик-секретарь АН СССР Н.Г. Бруевич направил письмо Секретарю ЦК партии
Маленкову, в котором сначала излагал просьбу президента академии СИ.
Вавилова о включении снятого с поста академика-секретаря Отделения Биологических
наук Л.А. Орбели в состав членов Президиума АН СССР, а ниже давал понять, что
сам он эту просьбу не поддерживает. Трехзвездный генерал медицинской службы
Орбели за долгий срок пребывания в начальственных должностях ничем зазорным
себя не запятнал, его научные заслуги высоко ценили ученые. Единственный грех
Орбели заключался в том, что он - не сторонник Лысенко. И вердикт ЦК партии
был суровым. 15 сентября Маленков пишет резолюцию на письме из Академии наук:
"На Секретариат". К письму была приложена справка Отдела пропаганды и
агитации ЦК партии, подписанная А. Кузнецовым и Ю. Ждановым, что вопрос об Орбели
"должен быть решен на общих основаниях" . 13 декабря 1948 года Академию Наук
извещают, что Секретариат ЦК партии просьбу Академии наук отклонил. Но все-
таки положение Орбели нельзя было даже отдаленно сравнить с положением
ученых-генетиков, лишившихся работы.
30 ноября 1948 года тот же Бруевич направляет Шепилову документ с грифом
"Секретно", в котором подробно объясняет, как АН СССР выполнила распоряжение
партии и кого из ведущих ученых уволили с их работы (в приложенном списке
фигурируют фамилии 36 ведущих биологов, работавших в московских и ленинградских
институтах академии). Затем Бруевич просит партийные органы "дать указания
соответствующим министерствам об использовании на работе вышеуказанных
сотрудников" . Правда, предложения о трудоустройстве касались лишь 19 из 36
поименованных ученых. Меры, которые академия предлагала применить к цвету
советской науки иначе как драконовскими назвать нельзя: докторов наук и
профессоров предлагали отправить трудиться, во-первых, не по специальности, а, во-
вторых, подальше от Москвы - в совхоз в Молдавии, в Карело-Финскую ССР, на
Крымскую базу АН СССР, в Дагестан, на Дальневосточную и Сахалинскую базы АН,
в колхозы и совхозы Министерства сельского хозяйства СССР, в психиатрическую
больницу Минздрава СССР. Но и эти "индульгенции" советские инквизиторы были
готовы дать только половине уволенных, остальным грозило тунеядство (а за ним
маячили сроки и лагерное содержание).
ЦК партии рассмотрело это письмо-просьбу и утвердило предложения, но только
в отношении пятнадцати из девятнадцати ученых.
Из сельскохозяйственной и биологической науки эпидемия гонений перекинулась
в область наук медицинских. 15 сентября газета "Медицинский работник" была
целиком посвящена специальному расширенному заседанию Президиума Академии
медицинских наук СССР, названному "Проблемы медицины в свете решений сессии
ВАСХНИЛ". Заседания проходили два дня - 9 и 10 сентября. Открывший прения
Президент АМН СССР Н. Н. Аничков в присутствии высокого гостя - Т.Д. Лысенко
сказал:
"Товарищи, основные особенности науки в нашем обществе, как известно,
заключаются в том, что она тесно связана с вопросами практики, с развитием
советского государства, с делом строительства социализма".
Исходя из этого постулата, он и просил собравшихся выступать.
Обсуждение проблем медицины пошло по двум уже наезженным колеям: большая
часть выступавших в жестких тонах осуждала идеологических диверсантов, а
меньшая часть - в вялых и безликих фразах "уклонялась" от резких осуждений,
но фактически лишь помогала своей аморфностью усиливать "принципиальную" по-
зицию жестких критиков. И лишь считанные единицы стояли незыблемо на своих
позициях, ни от чего не отрекались и ничего не признавали в этой критике.
Клеймили больше всего (по иронии судьбы) даже не генетика, все-таки среди
медиков их почти не было в те годы, а теоретика биологии, человека, не раз
выступавшего с сомнениями в правоте генетических построений (правда, вполне
корректными и позволительными для такого крупного ученого), - Александра
Гавриловича Гурвича, директора Института экспериментальной биологии. Нужно было
кого-то бить, и нашли козла отпущения. Возможно, не последнюю роль в таком
выборе именно Гурвича сыграли два обстоятельства. Во-первых, создатель теории
биологического поля Гурвич был одним из наиболее авторитетных ученых-
теоретиков в России первой половины XX века, но далеким от мичуринцев. Во-
вторых, он считал, что может существовать и особая "жизненная сила" - Гурвич
был виталистом и за это уже не раз становился объектом нападок марксиствующих
биологов (так, еще в 1926 году на него обратила свой гнев старая большевичка,
совершенно безграмотная, но весьма воинственная О.Б. Лепешинская, получившая,
наконец-то, после сессии ВАСХНИЛ возможность для широкой пропаганды своих
антинаучных взглядов).
Обвиняли в грубых ошибках и другого выдающегося сотрудника Института
экспериментальной биологии - профессора Леонида Яковлевича Бляхера, охаивали труды
известного невропатолога Сергея Николаевича Давиденкова, использовавшего
генетические подходы в описании болезней человека, и академика Орбели. Главный
погромщик, выступивший на заседании, профессор И. И. Разенков, характеризуя
как неверные работы этого всемирно известного ученого, требовал:
"Недопустимо, чтобы в Институте [эволюционной физиологии, директором
которого был Л.А.Орбели - B.C.] продолжали работать глашатаи моргановского
направления" .
Многие из выступавших, те, кого раньше, по их мнению, "зажимали" ученые с
"буржуазным" мировоззрением, теперь поняли, что настал час отмщения, - и
громили, что называется от души своих научных противников, требовали воздавать
им "должное", заодно убрав из науки "рутинеров". Так, Лепешинская уверяла,
что морганисты и их сторонники "ей и ряду других научных работников не только
не создавали условий для творческих изысканий, но и мешали и третировали".
М.М. Невядомский жаловался:
"Я в течение 30 лет доказываю, что раковая клетка является паразитическим
микроорганизмом, она развивается эволюционным путем из тельца вируса... но в
руководящих научных медицинских кругах замалчивается этот замечательный
факт". (Нелепость "замечательного" факта, равно как и вненаучный характер
аналогичных рассуждений Лепешинской о "превращении живого вещества в клетки",
конечно, была ясна любому грамотному биологу, однако теперь можно было
говорить всё, что угодно, - час настал).
Заслуженные партийцы, проявившие себя еще в начале 30-х годов в Обществе
биологов-марксистов, - Б. П. Токин и Г. А. Баткис - говорили о том, что все
пробелы в работе медицинских учреждений - не случайны, что они - плод
забвения заповедей марксизма-ленинизма, пренебрежения партийной идеологией.
"Это не случайно, - твердил Баткис, - . . .разве не обязаны были работники
института экспериментальной биологии заняться проблемами мичуринской
эволюционной теории, ее специфическим приложением к медицине", видимо, не осознавая,
что никакой мичуринской эволюционной теории просто не существует.
А старый ленинец, первый нарком здравоохранения в правительстве Ленина -
Н.А. Семашко, тоже с жаром выступивший в числе критиков антинаучных взглядов,
шел еще дальше и квалифицировал вейсманистов-морганистов как страшных врагов
человечества, приписывая им такое, что ни один генетик никогда не предлагал:
"Если ученый придает решающее значение генам, то... он признает
биологический фатум. Это значит - закрывайте родильные дома, свертывайте профилактиче-
скую сеть, ибо они помогают и поддерживают слабых "засоряющих" расу. Вот к
каким зловещим практическим выводам может привести вейсманизм".
Но нашлись ученые, кто не пожелал раскаяться и остался твердо стоять на
научной платформе. Таких людей было немного, но они были.
"Я не согласен и не соглашусь с вашим мнением, - возразил Лепешинской Д.Н.
Насонов, - что клетки могут возникать из... какого-то бесструктурного
вещества" .
Бескомпромиссно выступил Г.Ф. Гаузе, который в эти годы был одним из
руководителей советской программы по получению антибиотиков.
Заключая дискуссию, академик-секретарь АМН СССР проф. С.А. Саркисов с
показным удовлетворением подчеркнул, что заседание "еще раз со всей силой
продемонстрировало победу и торжество передового мичуринского учения над
реакционным вейсманистско-морганистским направлением в биологии", призвав и дальше
"настойчиво осуществлять принцип большевистской партийности в науке и
бороться с проявлениями буржуазной идеологии - аполитичностью, безыдейностью,
объективизмом" .
Собравшиеся приняли приветственное письмо Сталину, в котором называли его
"нашим любимым вождем и учителем", "мудрым", "родным", "корифеем" и уверяли,
в полном объеме выполняя сверхзадачу, возложенную на себя:
"Всеми своими лучшими достижениями, всем своим поступательным движением
вперед наша наука обязана Вам, дорогой Иосиф Виссарионович... Владимир Ильич
и Вы, его великий преемник, открыли гениального ученого русского народа
Мичурина и показали на примере его беззаветного научного труда на благо народа,
каким должен быть советский ученый-новатор... Обещаем Вам, наш дорогой вождь,
в кратчайший срок исправить допущенные нами ошибки, перестроить всю нашу
научную работу в свете указаний великой партии Ленина-Сталина... Мы будем
бороться за большевистскую партийность в медицине и здравоохранении, искореняя
враждебную буржуазную идеологию и раболепие перед иностранщиной в нашей
среде" .
В передовой статье этого же номера газеты содержался конкретный призыв к
работникам медицинских учреждений:
"Надо общими усилиями до конца расчистить поле советской медицинской науки
от идеалистического и метафизического сорняка, чтобы семимильными шагами
двинуться вперед, быстрее решить задачу, поставленную великим Сталиным, - не
только догнать, но и превзойти в ближайшее время достижения науки за
пределами нашей Родины".
А ниже на газетной полосе крупными буквами было напечатано "ПОСТАНОВЛЕНИЕ
РАСШИРЕННОГО ЗАСЕДАНИЯ ПРЕЗИДИУМА АКАДЕМИИ МЕДИЦИНСКИХ НАУК СССР",
переводившее слова о расчистке поля советской медицины в конкретные действия. Сообщая,
что "вейсманизм-морганизм легко находил себе место в трудах лабораторий, для
которых было характерно барское, пренебрежительное отношение к практике",
Президиум постановлял:
"Освободить проф. А.Г. Гурвича от обязанностей директора Института
экспериментальной биологии и проф. Л.Я. Бляхера от заведования лабораторией того же
института. Пересмотреть структуру и направление научной деятельности
Института экспериментальной биологии... и Института экспериментальной физиологии...
создать комиссию для подробного ознакомления с научной деятельностью
действительного члена АМН СССР С. Н. Давиденкова. . . освободить проф. Г.Ф. Гаузе от
обязанностей заведующего лабораторией антибиотиков".
В номере газеты "Медицинский работник" от 18 августа два профессора - И.
Кочергин и Н. Турбин раскритиковали основной учебник по биологии для врачей,
написанный Л.Я. Бляхером, а уже в следующем номере газеты зам. Министра
здравоохранения СССР Н.А. Виноградов сообщал:
"старый учебник проф. Бляхера изъят из вузов, автор отстранен от руково-
детва кафедрой".
И так было во всех сферах науки, имеющих хоть какое-то касательство к
биологии, в школах, техникумах и вузах, в органах информации и управления.
Захватив власть, лысенкоисты старались разрушить все, что имело отношение к
генетике . Было запрещено пользоваться старыми учебниками, из библиотек изымали
труды по генетике, было предписано уничтожить посевы мутантных растений (в
том числе и высокоценные линии, потеря которых нанесла ощутимый вред стране),
даже коллекции безобидных мушек-дрозофил, на которых издавна работали
генетики.
Освобождающиеся места срочно занимали сторонники Лысенко и ловкие
приспособленцы. Честные ученые, неспособные перекраситься, а также неповоротливые
люди, не успевшие приноровиться к новым условиям, оказывались за воротами
научных учреждений.
"Учение" Лысенко
стало всесильным
Сам создатель учения был удостоен высочайшего почета. В эти дни ему
исполнилось 50 лет, и ему устроили помпезное чествование. 29 сентября 1948 года
указом Президиума Верховного Совета СССР он был награжден очередным орденом
Ленина "за выдающиеся заслуги в деле развития передовой науки и большую
плодотворную практическую деятельность в области сельского хозяйства". Слова
Ю.А. Жданова, напечатанные в "Правде" за полтора месяца до этого, о низкой
эффективности практической деятельности Лысенко были забыты. Постановлением
Совета Министров СССР Одесскому институту селекции и генетики присвоили имя
Т.Д. Лысенко.
А 2 октября, как сообщила советская пресса, "В переполненном конференц-зале
Дома ученых состоялось торжественное заседание, посвященное 50-летию со дня
рождения... Трофима Денисовича... В кратком вступительном слове Президент
Академии наук СССР академик СИ. Вавилов отметил, что вся советская страна до
самых отдаленных колхозов хорошо знает и ценит активную творческую
деятельность академика Лысенко".
Доклад о жизни и деятельности Лысенко сделал новый академик-секретарь
Отделения биологических наук А.И. Опарин, начавший верой и правдой служить
Лысенко, а за ним выступил И. И. Презент. В присутствии СИ. Вавилова он стал
говорить об уничтоженном брате нынешнего Президента, издевался над памятью
Николая Ивановича Вавилова. Презент утверждал, что "путь Лысенко оказался
правильным. . . прогрессивным", указывая на первопричину этой "правильности",
"потому что по своему теоретическому содержанию он был марксистско-
ленинским" .
После многочисленных выступлений с приветствиями в адрес Лысенко от
академий , учреждений и обществ слово для ответа взял юбиляр.
"Дорогие товарищи, - заявил он, - что же мне сказать вам и всему советскому
народу, партии и правительству в ответ на все то внимание, которое было
оказано мне в связи с моим юбилеем?! Вряд ли я сумею выразить словами то, что
хочу. Сказать только одно: я являюсь одним из тех многочисленных работников
биологической и агрономической науки, которых породил и взрастил самый
прогрессивный в мире строй сельского хозяйства - колхозно-совхозный строй. Нам
хорошо известно, что великий Ленин открыл Мичурина. Великий Сталин взрастил
силы мичуринского учения, воспитал кадры мичуринцев".
Помпезно чествовали юбиляра и в Минсельхозе. В журнале "Огонек" появилось
сообщение об этом событии, о телеграммах, присланных в адрес Лысенко разными
людьми, и в их числе СИ. Вавиловым и Н.С. Хрущевым. Председатель
Государственной Комиссии по сортоиспытанию А.В. Крылов вручил юбиляру под аплодисменты
присутствующих пышный каравай, испеченный из муки, полученной от растений
сорта пшеницы, "выведенного академиком Лысенко". С караваем в руках,
улыбающийся Лысенко смотрел на читателей со страниц "Огонька". Возможно, он
улыбался еще и потому, что знал доподлинно, какое рукотворное чудо он держит: уж
ему-то было отлично известно, что муки, из которой якобы испекли каравай, не
существует, так как ни на одном гектаре земли его "сорт пшеницы" не растет.
Этим юбилеем закономерно завершилась сессия ВАСХНИЛ. Партия коммунистов
вывела Лысенко в разряд абсолютных победителей после многолетней борьбы. Враги
его были посрамлены и низвергнуты. Результаты сессии ВАСХНИЛ восхваляли
органы информации. Представители других наук начали также требовать, чтобы в их
сферах были использованы аналогичные подходы. Группа физиков и философов
готовила расправу над теоретиками, заявляла о необходимости немедленного
разоблачения буржуазных извращений, якобы допущенных А. Эйнштейном в его теории
относительности. В декабрьском номере "Вестника Академии наук СССР" за 1948
год академик Е.А. Чудаков требовал срочно перестроить "технические науки в
свете решений сессии ВАСХНИЛ", а крупный астроном Б.В. Кукаркин в 1949 году в
предисловии к книге о строении звездных систем утверждал, что он "стремился
учесть итоги философской дискуссии по книге Г.Ф. Александрова и сессии
ВАСХНИЛ о положении в биологической науке".
Пропагандистская кампания была развернута и вокруг решения выдающегося
американского ученого Германа Мёллера выйти из состава иностранных членов АН
СССР в знак протеста против "победы" Лысенко. Имя Мёллера - большого друга
Советского Союза, до 1937 года работавшего в Институте Н.И. Вавилова, в
будущем лауреата Нобелевской премии (в 1946 году он получил ее за открытие
возможности вызывания мутаций облучением), - и раньше использовалось лысенкои-
стами в полемике с их научными оппонентами как имя откровенного врага, а
теперь Мёллер и вовсе был зачислен в разряд врагов советской власти и
ретроградов. Вопрос о Мёллере рассмотрело Политбюро ЦК ВКП(б) и утвердило предложение
исключить его из числа членов советской АН. В специальном "Ответе профессору
Г.Дж. Мёллеру", подписанном "Президиум Академии Наук СССР", было сказано
следующее :
"Мёллер заявляет, что в своем решении по вопросам биологии Академия наук
преследовала политические цели, что наука в СССР подчинена политике.
Мы, советские ученые, убеждены в том, что не существует и не может
существовать в мире наука, оторванная от политики.
... Выступив против Советского Союза и его науки, Мёллер снискал восторг и
признание всех реакционных сил Соединенных Штатов.
Академия наук СССР без чувства сожаления расстается со своим бывшим членом,
который предал интересы подлинной науки и открыто перешел в лагерь врагов
прогресса и науки, мира и демократии".
Вместе с тем само письмо Мёллера не только не было опубликовано, но было
немедленно засекречено и никогда в СССР не было воспроизведено. Прочтя это
письмо, можно понять, почему к нему и к автору отнеслись с таким страхом.
Мёллер писал 24 сентября 1948 года Президенту, Секретарю и Членам Академии
Наук СССР, объявляя о своем выходе из состава советской Академии наук:
"Вы заявили о своей поддержке шарлатана Лысенко, в отношении которого
унизили себя несколько лет тому назад, приняв его в число своих членов. По его
настоянию Вы отрицаете принципы генетики.
Эти позорные действия ясно показывают, что руководители Вашей академии уже
не ведут себя как ученые, но злоупотребляют своим положением для разрушения
науки ради политических целей, совершенно так, как делали многие из тех,
которые выступали в роли ученых в Германии под властью нацистов. ...В СССР
донаучный обскурантизм поддерживается так называемым "диалектическим
материализмом" . . . Он должен неизбежно привести и приводит к тем же опасным фашист-
ским выводам, которые делались нацистами...
При наличии вышеуказанных обстоятельств ни один уважающий себя ученый и в
особенности ни один генетик, если только он сохранил свободу выбора, не может
согласиться на то, чтобы его имя фигурировало в списках Вашей академии"
(письмо приведено в официальном переводе, сделанном для Политбюро ЦК ВКП(б);
перевод хранился в Центральном Политическом Архиве).
В эти же дни в печати в особенно мажорных тонах расписывали "народность"
советской науки, делали упор на связь между появлением в науке таких людей,
как Лысенко, и программой партии по привлечению в науку и культуру "красных
специалистов". В ноябрьском номере журнала "Вестник АН СССР" в передовой
статье были приведены слова СИ. Вавилова:
"Народность советской науки определяется тем, что за советские годы в науку
привлечены народные массы, что громадное большинство всей армии советских
ученых - это выходцы из рабочих и крестьян, которые всем своим существом
связывают нашу научную культуру с жизнью, бытом, стремлением народных масс".
Подтверждением того, насколько высоко ставили победу Лысенко кремлевские
руководители, служило то, что даже в докладе, посвященном 31-й годовщине
Октября, первый заместитель Председателя Совета Министров СССР В.М. Молотов в
присутствии самого Председателя - И.В. Сталина особо остановился на этом
вопросе, оценив его с политической точки зрения:
"Дискуссия по вопросам наследственности поставила большие принципиальные
вопросы о борьбе подлинной науки, основанной на принципах материализма, с
реакционными идеалистическими пережитками в научной работе, вроде учения
вейсманизма о неизменной наследственности, исключающей передачу приобретенных
свойств последующим поколениям. Она подчеркнула творческое значение
материалистических принципов для всех областей науки, что должно содействовать
ускоренному движению вперед научно-творческой работы в нашей стране. Мы должны
помнить поставленную товарищем Сталиным перед нашими учеными задачу: "Не
только догнать, но и превзойти в ближайшее время достижения науки за
пределами нашей страны"... Дискуссия по вопросам биологии имела и большое
практическое значение, особенно для дальнейших успехов социалистического сельского
хозяйства. Недаром эту борьбу возглавил академик Лысенко, заслуги которого в
нашей общей борьбе по подъему социалистического сельского хозяйства известны
всем...
... Научная дискуссия по вопросам биологии была проведена под направляющим
влиянием нашей партии. Руководящие идеи товарища Сталина и здесь сыграли
решающую роль, открыв новые широкие перспективы в научной и практической
работе" .
Был ли Сталин
предрасположен
к лысенкоизму?
В заключение этой главы есть смысл вернуться к вопросу, не раз возникавшему
в литературе и носящему хоть и личностный характер, но достаточно важному:
почему Сталин с таким воодушевлением воспринял лысенкоизм? Действительно,
почему наивные и поверхностные идеи Лысенко о прямом влиянии внешней среды на
наследственность, его горячее одобрение принципа наследования
благоприобретенных признаков - эти, в общем, довольно легко отвергаемые экспериментами
взгляды, нашли отклик в душе Сталина?
Анализируя этот вопрос, Ж.А. Медведев и Л. Грэм отрицают связь между
собственными идеями Сталина, выражавшимися им с первых самостоятельных
политических шагов, и лысенковскими утверждениями. Грэм, в частности, повторяя слова
Ж. А. Медведева, пишет:
"Поддержка, которую Лысенко заслужил у Сталина, была без сомнения очень
важной в его непрерывном взлете. Однако трудно отыскать в теоретических
писаниях Сталина свидетельства для такой симпатии. Некоторые авторы считают, что
с ранних пор Сталин был предрасположен к неоламаркизму; в подкрепление этого
взгляда часто ссылаются на сталинскую работу "Анархизм или социализм?4,
опубликованную в 1906 году. Эти аргументы становятся менее убедительными при их
проверке: одна единственная фраза из "Анархизма или социализма?" имеет
отношение к биологии и эта фраза не очень значаща".
Грэм вслед за Медведевым приводит эту, якобы единственную, фразу,
использованную Сталиным во время обсуждения периодической системы элементов
Менделеева, когда Сталин, говоря о переходе количественных изменений в качественные,
пишет:
"Об этом же свидетельствует в биологии теория неоламаркизма, которой
уступает место неодарвинизм".
Однако утверждение о наличии всего одной фразы, имеющей отношение к
биологии, в данной работе Сталина - ошибочно. Рассуждения о дарвинизме и
ламаркизме как способах объяснения эволюционного развития и о теории катастроф Кювье
как одной из форм объяснения революционных перемен занимают центральное место
в первой части работы, озаглавленной "Диалектический метод". Обращаясь к
наблюдениям биологов, касающимся изменений органического мира и безосновательно
привлекая эти наблюдения к решению вопросов социального развития, Сталин
видит в них иллюстрацию диалектического единства количественных и качественных
изменений, "когда прогрессивные элементы стихийно [эволюционно - B.C.]
продолжают свою повседневную работу и вносят в старые порядки мелкие,
количественные изменения", и, в конце концов, обусловливают возникновение
революционной ситуации, то есть приводят к такому положению, при котором, по словам
Сталина:
"... те же элементы объединяются, проникают единой идеей и устремляются
против вражеского лагеря, чтобы в корне уничтожить старые порядки и внести в
жизнь качественные изменения, установить новые порядки".
Сталин далее утверждал:
"Эволюция подготовляет революцию и создает для нее почву, а революция
завершает эволюцию и содействует ее дальнейшей работе".
Завершая обсуждение перехода количественных изменений в качественные и
соотношение эволюционных и революционных переходов, он пишет:
"Такие же процессы имеют место и в жизни природы... все в природе должно
рассматриваться с точки зрения движения развития", и затем упоминает
периодическую таблицу Менделеева, выписывая предложение о "теории неоламаркизма,
которой уступает место неодарвинизм", то есть предложение, приведенное
Медведевым и Грэмом.
Сталин продолжает использовать имена Ламарка и Дарвина в своей полемике с
анархистами, когда, пытаясь доказать правоту диалектического метода, говорит:
"не были революционерами также Ламарк и Дарвин, но их эволюционный метод
поставил на ноги биологическую науку".
Заметим, и здесь примат отдается Ламарку, которого он, разумеется, не в
силу хронологических, а идейных причин ставит впереди Дарвина, ибо Сталин
уверен, что неоламаркизм выходит победителем в борьбе с неодарвинизмом.
Последний, по его мысли, вынужден теперь "уступить место неоламаркизму".
Дальше он раскрывает еще больше неприятие неодарвинизма, когда рассуждает о
положительных и отрицательных сторонах в развитии, в движении:
"Коль скоро жизнь изменяется и находится в движении, - всякое жизненное
явление имеет две тенденции: положительную и отрицательную, из коих первую мы
должны защищать, а вторую отвергнуть".
Конечно, в этом заявлении не может не поражать вульгарное деление жизненных
процессов всего на два полярных по своей направленности течения, непонимание
и гораздо большего спектра тенденций в развитии, и их взаимозависимость, и
примитивное стремление направить творческую активность человека к тому, чтобы
"защитить" положительное начало и подавить "отрицательное". В годы расцвета
сталинского диктата это его отношение к природе вылилось в особенно уродливое
восхваление лозунга И.В. Мичурина: "Мы не можем ждать милостей от природы -
взять их у нее наша задача", и в гибельное для природы отношение к
естественным ресурсам.
Затем в полемике с грузинскими и отчасти русскими анархистами, по его
словам, полагающими, что "марксизм опирается на дарвинизм и относится к нему
некритически" , Сталин делает еще одно - важнейшее замечание относительно
дарвинизма, которое будучи само по себе совершенно неверным и бездоказательным (и,
кстати, далеким от взглядов самого Дарвина), тем не менее, весьма характерно
демонстрирует корни негативного отношения Сталина к дарвинизму. Отношение это
сложилось уже в те годы - далекие от времени выхода Лысенко на путь борьбы с
генетикой. Итак, Сталин утверждает:
"Дарвинизм отвергает не только катаклизмы Кювье, но также и диалектически
понятое развитие, включающее революцию, тогда как с точки зрения
диалектического метода эволюция и революция, количественное и качественное изменения -
это две необходимые формы одного и того же движения".
И, наконец, эта же работа Сталина "Анархизм или социализм?", опубликованная
первоначально в 1906 году, дает нам ясное представление о том, что идея Ла-
марка о наследовании благоприобретенных признаков и вытекающее из неё простое
объяснение эволюции за счет медленного приспособления организмов к условиям
меняющейся внешней среды принимались Сталиным. Он следовал именно этой идее
(причем в упрощенном, вульгаризированном виде), когда брался объяснить
поступательный ход эволюции, с одной стороны, и примат материи над сознанием, с
другой:
"Еще не было живых существ, но уже существовала так называемая внешняя,
"неживая" природа. Первое живое существо не обладало никаким сознанием, оно
обладало свойством раздражимости и первыми зачатками ощущения. Затем у
животных постепенно развивалась способность ощущения, медленно переходя в
сознание, в соответствии с развитием строения их организма и нервной системы. Если
бы обезьяна всегда ходила на четвереньках, если бы она не разогнула спины, то
потомок ее - человек - не мог бы свободно пользоваться своими легкими и
голосовыми связками, и, таким образом, не мог бы пользоваться речью, что в корне
задержало бы развитие его сознания. Или еще: если бы обезьяна не стала на
задние ноги, то потомок ее - человек - был бы вынужден всегда ходить на
четвереньках, смотреть вниз и оттуда черпать свои впечатления; он не имел бы
возможности смотреть вверх и вокруг себя и, следовательно, не имел бы
возможности доставить своему мозгу больше впечатлений, чем их несет четвероногое
животное. Все это коренным образом задержало бы развитие человеческого
сознания" .
"Выходит, - пишет Сталин, - что развитию идеальной стороны, развитию
сознания предшествует развитие материальной стороны, развитие внешних условий:
сначала изменяются внешние условия, сначала изменяется материальная сторона,
а затем соответственно изменяется сознание, идеальная сторона".
Для Лысенко же именно эта основная идея, примененная также в утрированно
упрощенном виде, служила в качестве "символа веры".
Длинная тирада Сталина знаменательна еще и тем, что она показывает, как на
заре своей политической деятельности, борьбы за власть сначала в среде
грузинских социал-демократов, а затем питерских и московских большевиков, Сталин
смело брался решать вопросы, требующие специальных и глубоких знаний,
которыми он не обладает. Это обстоятельство не останавливало его в 1906 году, оно,
тем более, не стало для него препятствием позже, когда он начал вторгаться со
столь же выраженной самоуверенностью в объяснение философских категорий, в
обоснование экономических "законов" развития социализма, в поддержку лысен-
ковских идей, в проблемы языкознания и т.д.
Из приведенного отрывка следует, что Сталин допускает здесь еще одну
вульгаризацию - на сей раз марксизма: понятие материального базиса развития он
подменяет "материальными условиями". Точно так же Лысенко позже будет
утверждать примат внешней среды в изменении наследственности.
Таким образом, на вопрос о том, было ли выдвижение Лысенко Сталиным и
активная поддержка им лысенкоизма прямым следствием его, Сталина, внутренней
подготовленности к восприятию именно лысенкоизма, а не идей генетиков,
отрицавших простой путь адекватного воздействия внешней среды на наследственность
и искавших, хотя и сложные по форме, но вполне материалистические по
содержанию закономерности наследственной изменчивости, можно ответить, на наш
взгляд, однозначно. Да, Сталин был подготовлен к восприятию именно
лысенкоизма. Он, лысенкоизм, вполне соответствовал взглядам и интересам Сталина.
Существовало важное сходство в стиле мышления Лысенко и Сталина. Свои концепции
оба строили на общей основе, выводили их из одних корней - полузнания,
редукции сложного до простейшего, они были способны родить лишь примитивные и
однозначные решения, также как из общности их задач вытекала тенденция к
монополизации власти в своих сферах.
Но сводить каузальную сторону упрочения лысенкоизма только к личным
свойствам Сталина, как это делает ряд историков, значило бы грубо ошибаться в
анализе этого явления, представляющего собой закономерное порождение ленинизма,
большевистского отношения к интеллигенции, примата практицизма и других
социальных феноменов. Лысенкоизм представлял собой социальное явление,
закономерное для тоталитарного государства, и в этом заключается главная причина его
упрочения.
Несомненно, что доброжелательному отношению Сталина к Лысенко
способствовала и та внешняя политическая шелуха, в которую облекали Лысенко и Презент их,
в общем, крайне наивные воззрения на сущность наследственности и
изменчивости, их постоянная апелляция к высказываниям Маркса, Энгельса, Ленина и
Сталина. Кроме того, Сталину не могли не импонировать организационные приемчики,
коими пользовался Лысенко, а также разговоры о том, как важно-де "проверять
свои предложения на полях колхозов и совхозов", а не в тиши лабораторий.
• * *
Партийное вмешательство в судьбу науки стало одной из самых трагических
страниц в истории науки. Это вмешательство было закамуфлировалоно
демагогическими рассуждениями лидеров партии на публике о свободе науки и научных
дискуссий в стране. До поры до времени, как мы видели раньше, дискуссии
действительно шли: и в 1936 году в ВАСХНИЛ, и в 1939 году - в редакции журнала "Под
знаменем марксизма". Однако и пресса, полностью контролируемая коммунистами,
и власти, не позволявшие ученым вырваться из под их цепкого надзора, не
оставляли никаких степеней свободы для ученых, сами же ученые влиять на
развитие науки не могли даже в минимальной степени. Была лишь видимость свободы
дискутирования, но на сессии ВАСХНИЛ 1948 года даже эта видимость была грубо
подавлена. С этого времени само слово ГЕН уже не могло быть произнесено,
ученым было запрещено свободно спорить друг с другом, они не могли выражать свое
мнение, критиковать позиции сторон, и соревновательное начало уже не могло
служить двигательной силой в развитии науки. Такая однонаправленность
поведения властей в условиях централизованного планирования экономикой вела к
гибели науки. Ведь финансирование науки в СССР никак не зависело от реальных ус-
пехов ученых, оно жестко определялось их идеологическими взглядами. По сути и
ранее научные дискуссии в СССР не вели к прогрессу, аргументы ученых не
принимались властью во внимание, а определяющими были партийные взгляды
руководителей страны, нисколько не прислушивавшихся к доводам ученых и научным
результатам . Была и другая несуразность: все деньги шли из одного источника,
альтернативных фондов не существовало, система независимый оценки проектов
ученых самими учеными также отсутствовала. Решения о том, чьи взгляды и чью
практику поддержать, принимало Политбюро партии, и оно же утверждало все
бюджетные суммы. Контроль за использованием средств также находился в руках
партийных комитетов, они заказывали "музыку", и от того, какие оркестры
приглашались к исполнению "заказных мелодий", зависела судьба коллективов
исследователей. Административно этот тотальный контроль за научными разработками
полностью исключал всякую "самодеятельность": только то, что одобряла партия,
включалось в планы институтов, то же, что не одобрялось или подвергалось даже
минимальной критике, разрабатываться советскими учеными не могло. Поэтому
столь ожесточенными были попытки лысенкоистов закрепить за собой положение
единственного научного направления, одобренного партией. Ученые старались
убедить власти в том, что научная истина находится не на стороне
лысенкоистов, что практические достижения и дивиденды, приносимые обществу наукой,
будут несоизмеримо выше, если вектор партийного одобрения изменит свое
направление . Но даже произносить эти слова было уже нельзя, за это можно было в
лучшем случае потерять работу, а в худшем получить лагерный срок, как это
произошло с В.П. Эфроимсоном.
А Россия тем временем теряла свои славные позиции, некогда с почетом
завоеванные. Если вести отсчет от "Августовской сессии ВАСХНИЛ", то всего пять лет
оставалось до открытия американцем Джеймсом Уотсоном и англичанином Френсисом
Криком двойной спирали ДНК - открытия, начавшего эру молекулярной генетики.
Только ведь не в Америке и не в Англии, а в советской России двадцатью пятью
годами ранее Н. К. Кольцов предсказал, что наследственные молекулы должны
иметь двойное строение. Подхватить бы эстафету от Кольцова, создать его школе
условия благоприятствования! Но нет, затравили и самого Николая
Константиновича, обзывали его и фашистом, и мракобесом, и сколько раз призывали посадить
его, школу изничтожить, чтобы ростков не дала, чтоб продолжения не
последовало.
Точно также не где-то на "презренном" Западе, а в советской России
Четвериков заложил основы популяционной генетики, науки, значение которой сегодня -
в пору всеобщего экологического бедствия - и оценить-то сообразно весомости
этой науки вряд ли возможно. Но выгнан был сразу после сессии ВАСХНИЛ великий
ученый, унижен и оскорблен. Он умирал в Горьком, беспомощный, забытый у себя
на родине в то время, когда на Западе ему присуждали плакетты, печатали
переводы его статей, разыскивали его портреты.
А разве не в советской России Г.А. Надсон и Г.С. Филиппов открыли
радиационный мутагенез, а М.Н. Мейсель (ученик Г.А. Надсона) - мутагенез химический.
Но арестовали Г. А. Надсона и сгноили в тюрьме. В советской стране С. Г. Левит
создал первый в мире медико-генетический институт. Но расстреляли в тюрьме
Левита, а институт и всех сотрудников разогнали. И дух института истребили.
Талантливейший ученик Левита С.Н. Ардашников сразу после сессии оказался без
работы и маялся несколько лет, да так по специальности места и не нашел. И.А.
Рапопорт первым в мире начал широкие опыты с разнообразными химическими
мутагенами, но даже книжку с его пионерской статьей велено было в 1948 году
сжечь. И сожгли. И Нобелевскую премию рекомендовали не присуждать. И вскоре
угнали по этапу вторично бескомпромиссного борца с лысенкоизмом В.П. Эфроим-
сона.
А впереди страну ждало еще много испытаний: отставание и в генетике, и в
селекции, и в лечении наследственных болезней, и в промышленном производстве
антибиотиков. И самое тяжкое испытание: полная отстраненность от гонки
западных стран в важнейшей отрасли, имеющей и экономическое и военное значение, -
биотехнологии. Советский Союз оказался на обочине дороги, по которой умчались
вперед даже те страны, которые некогда и помыслить не смели, чтобы
посоревноваться с Россией генетической в изучении свойств и структур наследственности,
со страной, в которую будущий Нобелевский лауреат Герман Мёллер приехал жить
и работать бок о бок с Вавиловым.
Тлетворная плесень лысенок и презентов с гигантской скоростью пускала новые
поросли, отпочковывала от себя аналогичных деятелей в смежных науках и
прекрасно развивалась на том идеологическом сусле, которое булькало, пенилось и
пыжилось, заполняя собой все поры государственного организма. Горьким
оказался плод, созревший на этой питательной почве!
(ПРОДОЛЖЕНИЕ СЛЕДУЕТ)
История
тропой микробов
ЧАСТЬ I. ПЕРВЫЕ ШАГИ МИКРОБИОЛОГИИ
Микробиология — это наука о таких организмах, которые слишком малы, чтобы
их можно было хорошо разглядеть невооруженным глазом, и потому были названы
микроорганизмами. Если величина объекта менее 0,1 мм, наш глаз вообще не
сможет его увидеть, а у объекта диаметром 1 мм можно различить лишь немногие
детали. Поэтому микроорганизмами являются такие организмы, диаметр которых не
превышает примерно 1 мм; их изучение и составляет задачу микробиологической
науки. В таксономическом отношении микроорганизмы весьма разнообразны. К ним
относятся некоторые многоклеточные животные, простейшие, многие водоросли и
грибы, бактерии и вирусы. Существование мира микробов оставалось неизвестным,
пока не появились микроскопы. Изобретенный в начале XVII в. микроскоп открыл
для систематического научного исследования целое царство мельчайших
организмов .
Первые микроскопы были двух типов. Простые микроскопы имели одну линзу с
очень коротким фокусным расстоянием, которая поэтому могла давать большое
увеличение. По своему оптическому принципу такие микроскопы ничем не
отличаются от обычных увеличительных стекол, которые способны увеличивать
изображение в несколько раз и были известны еще с античных времен. Другой тип
составляли сложные микроскопы с двумя линзами или системами линз — объективом и
окуляром. Такой микроскоп способен давать большое увеличение, и постепенно он
полностью вытеснил простые линзы. Все наши современные микроскопы являются
сложными. Однако почти все первые великие открытия в области невидимого ранее
мира были сделаны с помощью простых микроскопов.
ОТКРЫТИЕ
МИРА МИКРОБОВ
Мир микробов открыл голландский коммерсант Антони ван Левенгук (рис. 1.1).
Он совмещал свою научную деятельность с жизнью, заполненной торговыми делами
и гражданскими обязанностями. В его время это не было чем-то необычным. В тот
период великие открытия во всех областях науки делались любителями, которые
зарабатывали на жизнь другими способами или же были достаточно богаты и не
нуждались в заработке. Левенгук, однако, отличался от современных ему ученых
в одном отношении: он получил лишь небольшое образование и никогда не посещал
университета. Это, вероятно, не помешало его научным успехам, так как
доступное в то время образование мало что могло дать для дела всей его жизни. Когда
появились сообщения о его открытиях, гораздо более серьезной помехой было
отсутствие у него связей с ученым миром и то, что он владел лишь голландским
языком. Тем не менее, обстоятельства сложились так счастливо, что труды
Левенгука получили широкую известность еще при его жизни, и их значение было
сразу же понято. Приблизительно в то время, когда Левенгук начал проводить
свои наблюдения, в Англии было создано Королевское общество, в задачи
которого входили организация докладов о научных работах и их публикация. Это
общество пригласило Левенгука сделать сообщение о сделанных им наблюдениях, а
через несколько лет (в 1680 г.) избрало его своим членом. В течение почти 50
лет, вплоть до своей смерти в 1723 г. , Левенгук сообщал о своих открытиях,
посылая Королевскому обществу длинные серии писем на голландском языке.
Большая часть этих писем была переведена на английский язык и опубликована в
трудах Общества (Proceedings of the Royal Society); таким образом, они быстро
становились широко известными.
Микроскопы Левенгука (рис. 1.2) были мало похожи на те инструменты, к
которым мы привыкли. Короткофокусная линза почти сферической формы была
закреплена между двумя небольшими металлическими пластинами. Исследуемый объект
располагался на кончике короткой толстой иглы, прикрепленной к задней пластине,
и его приводили в фокус вращением двух винтов, изменявших положение иглы
относительно линзы. Во время этой операции наблюдатель приближал прибор другой
стороной к глазу и через линзу разглядывал объект. Увеличение изменять было
нельзя — оно у каждого микроскопа определялось свойствами использованной
линзы. Несмотря на простоту конструкции, микроскопы Левенгука давали хорошее
изображение при увеличениях примерно от 50 до 300, в зависимости от фокусного
расстояния линзы. Таким образом, наибольшее увеличение, которого смог достичь
Левенгук, составляет несколько меньше трети максимального увеличения, которое
можно получить с помощью современного сложного светового микроскопа. Левенгук
построил сотни таких приборов, и некоторые из них сохранились до наших дней.
Рис. 1.1. Антони ван Левенгук (1632—1723).
Место, которое занимает Левенгук в истории науки, определяется не столько
его умением изготовлять микроскопы (хотя и оно сыграло существенную роль),
сколько необычайной широтой и мастерством проведенных им микроскопических
наблюдений. Он был необычайно любознателен и исследовал чуть ли не все, на что
можно было посмотреть в микроскоп. Им проведены изумительные наблюдения
микроскопической структуры семян и зародышей растений, мелких беспозвоночных
животных. Левенгук открыл существование сперматозоидов и красных кровяных телец
и таким образом положил начало изучению гистологии животных. Открыв и описав
капилляры, он завершил исследование кровообращения, которое за полвека до
него начал Гарвей. Легко можно было бы заполнить целую страницу, только
перечисляя важнейшие открытия Левенгука, касающиеся микроструктуры высших
растений и животных. Однако в основном он прославился тем, что открыл микробов —
целый мир микроскопических «животных», или «animalcules», как называли их
Левенгук и его современники. Это существенно расширило горизонты биологии. Ле-
венгуком были впервые описаны представители всех основных групп одноклеточных
организмов, известных нам сейчас, — простейшие, водоросли, дрожжи и бактерии,
причем зачастую настолько точно, что по его описаниям можно распознать
отдельные виды. Левенгук выявил не только разнообразие микробов, но и их
невероятное изобилие. Например, в одном письме, в котором впервые были описаны
бактерии полости рта человека, он писал:
«В моем доме побывало несколько дам, которые с интересом разглядывали
крошечных «червячков», живущих в уксусе; однако у некоторых это зрелище вызвало
такое отвращение, что они поклялись никогда больше не пользоваться уксусом.
Ну а если бы им сказали, что в соскобе с человеческого зуба подобных существ
больше, чем людей в целом королевстве?»
£
Рис. 1.2. Устройство одного из микроскопов Левенгука.
Современники Левенгука были поражены его научными открытиями. Однако столь
блестяще начатое им микроскопическое исследование мира микробов в течение
целого века после его смерти не продвинулось сколько-нибудь заметно дальше.
Такая длительная задержка была, по-видимому, обусловлена чисто техническими
причинами. Пользоваться простыми микроскопами с большим увеличением было
трудно и утомительно, а изготовление крошечных короткофокусных линз требовало
высокого мастерства. Поэтому большинство современников Левенгука и его
непосредственных преемников пользовались сложными микроскопами. И хотя сложные
микроскопы в принципе лучше простых, у тех приборов, которые имелись в XVII и
XVIII столетиях, были серьезные оптические недостатки, что делало их менее
эффективными инструментами по сравнению с простыми микроскопами Левенгука.
Поэтому, например, англичанин Роберт Гук, современник Левенгука, не смог,
пользуясь своим сложным микроскопом, повторить многие из самых тонких
наблюдений Левенгука, хотя и был весьма способным и внимательным исследователем.
В период примерно с 1820 по 1870 г. был осуществлен ряд усовершенствований,
приведших, в конце концов, к созданию сложных микроскопов, по качеству
близких к современным. Сразу же после введения этих усовершенствований
возобновилось изучение мира микробов, и к концу XIX в. были уже детально исследованы
основные группы микроскопических организмов. Тем временем, однако,
микробиологическая наука развивалась и в других направлениях, что привело к открытию
роли микробов в круговороте веществ и в возникновении болезней.
СПОР О
САМОЗАРОЖДЕНИИ
ОРГАНИЗМОВ
После того как Левенгук открыл, что в природе существует огромное множество
микроскопических созданий, ученые стали интересоваться их происхождением. С
самого начала было два направления. Некоторые были убеждены, что «крохотные
животные зарождаются спонтанно из неживой материи, тогда как другие (в том
числе и Левенгук) полагали, что они образуются из «семян» или «зародышей»,
которые всегда имеются в воздухе. Учение о спонтанном возникновении живых
существ из неживой материи известно как доктрина «самозарождения», или
«абиогенеза», и имеет длительную историю. Во времена античности считалось очевидным,
что многие растения и животные могут при определенных условиях зарождаться
самопроизвольно. Вплоть до эпохи Возрождения доктрина спонтанного
возникновения жизни принималась безоговорочно.
По мере накопления знаний о животных организмах становилось все яснее, что
самозарождения растений и животных просто не бывает. Решающий поворот,
приведший к отказу от этого учения в отношении животных, произошел в результате
опытов, которые провел около 1665 г. итальянский врач Франческо Реди. Он
показал, что черви, которые развиваются в гниющем мясе, — это на самом деле
личинки мух и что они никогда не появляются, если поместить мясо в закрытый
кисеей сосуд, чтобы мухи не смогли отложить на него яйца. Эти опыты Реди
разрушили миф о самозарождении червей в мясе. Таким образом, к тому времени как
Левенгук открыл мир микробов, учение о самозарождении было уже подорвано
данными о развитии растений и животных. По чисто техническим причинам
невозможность спонтанного зарождения микроорганизмов доказать гораздо труднее, и
сторонники этого учения делали все больший упор на тот факт, что простейшие
формы жизни таинственным образом появляются в органических настоях. Те, кто не
верил в самозарождение микроорганизмов, находились в затруднительном
положении, так как им требовалось доказать негативное положение — отсутствие
спонтанного зарождения. Лишь к середине XIX в. накопилось уже так много
отрицательных результатов, что это привело, наконец, к отказу от теории
самозарождения .
Одним из первых, кто получил веские данные в пользу того, что
микроорганизмы не возникают в органических настоях спонтанно, был итальянский натуралист
Лаццаро Спалланцани. В середине XVIII в. он провел большую серию опытов, и
ему неоднократно удавалось показать, что прогрев настоя препятствует
появлению в нем крошечных существ, хотя длительность необходимого прогрева
варьировала от опыта к опыту. Спалланцани сделал вывод, что «мельчайшие животные»
могут попадать в настои из воздуха и что этим и объясняется их как будто бы
спонтанное зарождение в хорошо прогретых настоях. До него другие
исследователи закрывали сосуды с настоями пробкой, но Спалланцани не удовлетворился
этим: считая, что никакая механическая затычка не может полностью исключить
проникновение воздуха в сосуд, он стал их герметически запечатывать. Он
обнаружил , что если сосуд запечатать, то настой в нем останется бесплодным долгое
время, тогда как даже небольшая трещина в стекле приводит к быстрому развитию
в нем мельчайших организмов. В конце концов, он сделал вывод, что если настой
герметически закрыть в сосуде и прокипятить, то в нем никогда не возникнут
живые существа. Они появятся там только после того, как в сосуд каким-то
образом проникнет внешний воздух, который придет в соприкосновение с настоем.
Изящные опыты Спалланцани продемонстрировали всю трудность такого рода
работы. Однако продолжали ставиться ошибочные эксперименты, и их результаты
выдавались за доказательства самозарождения. Тем временем открытие Спалланцани
нашло интересное практическое применение. Его опыты показали, что даже скоро-
портящиеся растительные или животные настои не загнивают и не начинают
бродить , если их освободить от микроскопических организмов. Поэтому казалось
вероятным, что эти химические изменения настоя связаны каким-то образом с
развитием, микробов. В начале XIX в. Франсуа Аппер обнаружил, что можно
предохранить пищу от порчи, если поместить ее в герметический контейнер и после
этого прогреть. Таким способом ему удалось неограниченно долго сохранять
скоропортящиеся пищевые продукты, и этот первый процесс консервирования,
получивший название «аппертизации», стал широко применяться для сохранения
пищевых продуктов задолго до того, как был окончательно разрешен научный спор о
самозарождении.
В конце XVIII в. работами Пристли, Кавендиша и Лавуазье были заложены
основы химии газов. Одним из первых был открыт газ кислород, и вскоре выяснилось,
что он необходим для жизни животных. В свете этого казалось возможным, что
герметическое запечатывание, которое рекомендовал Спалланцани и практически
применил Аппер, эффективно вовсе не потому, что оно препятствует
проникновению в сосуд микробов из воздуха, а потому, что в сосуд не поступает кислород,
который необходим как для роста микробов, так и для брожения или гниения.
Поэтому в начале XIX в. велись горячие споры о том, как кислород влияет на эти
процессы. В конце концов, было показано, что в тщательно прогретом настое
даже в присутствии воздуха не происходит ни роста микробов, ни разложения, если
соприкасающийся с настоем воздух предварительно обработать таким образом,
чтобы в нем не осталось никаких микроорганизмов.
Эксперименты
Пастера
К I860 г. некоторые ученые начали понимать, что между развитием
микроорганизмов в органических настоях и происходящими в последних химическими
изменениями существует причинная связь, т.е. что именно микроорганизмы и вызывают
эти изменения. Великим пионером этой области исследований был Луи Пастер
(рис. 1.3). Однако для признания этой концепции требовалось доказательство
того, что самозарождения не происходит. И Пастер, побуждаемый непрерывными
заявлениями сторонников теории «самозарождения, в конце концов, обратился к
исследованию этой проблемы. Его работа была опубликована в 1861 г. под
названием «Мемуар об организованных тельцах, находящихся в атмосфере».
Пастер сначала показал, что в воздухе содержатся «организованные тельца»,
которые можно видеть в микроскоп. Для этого он просасывал большие количества
воздуха через трубку с пироксилином, который служил фильтром. Затем он
вынимал пироксилин и растворял его в смеси спирта и эфира, а осадок исследовал
под микроскопом. Кроме неорганического материала в осадке содержалось
значительное число маленьких круглых или овальных телец, неотличимых от
микроорганизмов . Затем Пастер подтвердил, что если в прокипяченный настой попадает
прогретый воздух, то развития микроорганизмов не происходит. Установив это,
он пошел дальше и показал, что если в закрытой системе к стерильному настою
добавить кусочек пироксилина, содержащий микробы, то неизбежно начинается их
рост. Эти эксперименты показали, каким образом микробы могут попадать в
настой , и привели Пастера к самому изящному из его опытов по данной проблеме.
Он продемонстрировал, что настои могут оставаться стерильными неопределенно
долго и в открытых колбах, если только вытянутое в трубку горлышко колбы
изогнуто вниз так, что содержащиеся в воздухе микробы не могут оседать на
поверхность настоя. Колба Пастера с таким изогнутым горлышком показана на рис.
1.4. Если горлышко отбить, то настой быстро будет заселен микробами. То же
самое произойдет, если, наклонив колбу, перелить находящуюся в ней стерильную
жидкость в концевой изгиб горлышка, а затем вернуть ее обратно в сосуд.
Рис. 1.3. Луи Пастер (1822—1895).
В завершение своего исследования Пастер произвел полуколичественное
определение содержания микроорганизмов в воздухе и показал, что они распределены в
атмосфере отнюдь не равномерно.
Рис. 1.4. Такие колбы с горлышком, вытянутым наподобие лебединой
шеи, Пастер использовал при изучении возможности самозарождения.
В результате изгиба горлышка воздух в сосуд проходит, а
содержащиеся в воздухе микроорганизмы не проникают внутрь.
Опыты Тиндаля
Тем не менее, самые упорные сторонники самозарождения продолжали
обороняться еще в течение нескольких лет. Чтобы опровергнуть их доводы, пылкий
сторонник Пастера английский физик Джон Тиндаль провел серию экспериментов. В
результате он установил важный факт, который не был замечен Пастером и который
частично снимал возражения, выдвигаемые сторонниками самозарождения.
В длинной серии опытов с настоями, приготовленными из мяса и свежих овощей,
Тиндаль достигал удовлетворительной стерилизации, помещая пробирки с этими
настоями на 5 мин в баню с кипящим рассолом. Но когда он провел такие же
опыты с настоями, приготовленными из высушенного сена, такая процедура
стерилизации оказалась совершенно непригодной. Более того, когда он затем попытался
снова повторить свои предыдущие опыты с другими типами настоев, то оказалось,
что их уже нельзя простерилизовать погружением в кипящий рассол даже на целый
час. Проводя много подобных опытов, Тиндаль наконец понял, что здесь
происходило . В высушенном сене содержались споры бактерий, а споры гораздо
устойчивее к прогреванию, чем любые микробы, с которыми он имел дело раньше. Из-за
присутствия сена в воздухе лаборатории оказалось много спор. Как только
Тиндаль осознал это, он попытался определить, насколько термоустойчивы споры
сенных бактерий, и обнаружил, что кипячение настоев даже в течение 572 часов
не обеспечивает полностью их стерильности. Из этого он заключил, что у
бактерий имеются фазы, одна из которых относительно термолабильна (клетка гибнет
при кипячении через 5 мин) , а другая невероятно термостабильна. Почти тотчас
же эти выводы были подтверждены немецким ботаником Фердинандом Коном, который
показал, что сенные бактерии могут образовывать отличимые под микроскопом
покоящиеся тельца (эндоспоры), чрезвычайно устойчивые к прогреванию.
Исходя из этих результатов, Тиндаль начал разрабатывать метод стерилизации
путем прерывистого прогрева, который позволял бы убить все содержащиеся в
настое бактерии. Позднее этот метод был назван тиндализацией. Перед тем как
прогревать настой, его следует выдержать в течение некоторого времени, чтобы
позволить спорам прорасти и таким образом утратить свою термостабильность.
Так как растущие бактерии легко убить кратковременным кипячением, можно
прогревать такой выдержанный настой в течение очень короткого времени. В случае
надобности эту процедуру можно повторить несколько раз, чтобы уничтожить
потомство всех спор, почему-либо не успевших прорасти до первого прогрева.
Тиндаль нашел, что в результате пяти циклов прогревания и охлаждения настой
становится стерильным даже в том случае, если каждое прогревание длилось всего 1
мин, тогда как единичный длительный прогрев в течение часа не обеспечивает
стерильности. Установление факта невероятной термостабильности спор было
очень существенно для разработки адекватных методов стерилизации.
Утверждали, что работы Пастера и Тиндаля «опровергли» возможность
самозарождения вообще и что оно, - следовательно, никогда не имело места. На самом же
деле столь решительный вывод нельзя считать оправданным. Мы можем с
уверенностью сказать лишь то, что в настоящее время в тщательно простерилизованных
органических настоях микроорганизмы спонтанно не возникают. Это, однако, не
исключает того, что первоначально жизнь на Земле возникла путем своего рода
«самозарождения», хотя это был процесс гораздо более постепенный и сложный,
чем то, что имели в виду сторонники теории самозарождения в XVIII—XIX веках.
ОТКРЫТИЕ РОЛИ МИКРООРГАНИЗМОВ
В ПРЕВРАЩЕНИИ ОРГАНИЧЕСКИХ ВЕЩЕСТВ
В период длительной дискуссии о возможности самозарождения исследователи
часто обнаруживали корреляцию между развитием в органических настоях микроор-
ганизмов и химическими изменениями в самом настое. Такие изменения называли
«брожением» или «гниением». Гниение - процесс разложения, в результате
которого образуются дурно пахнущие продукты, - характерно для мяса и связано с
распадом белков, представляющих собой основной органический компонент такого
рода естественных субстратов. Брожение, т.е. процесс, в результате которого
образуются спирты или органические кислоты, характерно для растительных
материалов и связано с распадом углеводов - важнейших органических компонентов
растительных тканей.
Брожение как
биологический
процесс
В 1837 г. К. Каньяр-Латур, Т. Шванн и Ф. Кютцинг независимо друг от друга
высказали предположение, что дрожжи, (появляющиеся в процессе спиртового
брожения, представляют собой микроскопические растения, и что характерное для
спиртового брожения превращение Сахаров в этиловый спирт и углекислоту
является физиологической функцией дрожжевых клеток. Эти представления подверглись
резким нападкам со стороны таких ведущих химиков того времени, как И. Берце-
лиус, Ю. Либих и Ф. Вёлер, которые считали брожение и гниение процессами
чисто химическими. В первые десятилетия XIX в. химия достигла больших успехов, и
в 1828 г. был впервые осуществлен синтез органического вещества — мочевины —
из неорганических соединений; с этого началось развитие нового раздела химии
— органического синтеза. После того как была показана возможность получения в
лаборатории таких органических соединений, которые раньше были известны
исключительно как продукты жизнедеятельности, химики справедливо сочли, что
теперь многие явления природы можно рассматривать с физико-химической точки
зрения. Превращение Сахаров в спирт и углекислоту представлялось им
относительно простым химическим процессом. В связи с этим химики неодобрительно
относились к попыткам объяснить подобный процесс как результат
жизнедеятельности организмов.
Дрожжи Saccharomyces chevalier! под микроскопом: эллиптические
дрожжевые клетки, которые применяют, прежде всего, для
сбраживания сусла (мезги) красных вин.
Полно иронии то обстоятельство, что Пастер, который убедил научный мир в
микробиологической природе всех процессов брожения, сам был по образованию
химиком. Он начал изучать процессы брожения в 1857 г. и продолжал эти работы,
если не считать небольших перерывов, вплоть до 1876 г. Исследования эти ведут
свое начало от практики. Винокуры Лилля, где производство спирта из
свекловичного сахара было важной отраслью промышленности, столкнулись с трудностями
и призвали на помощь Пастера. Как выяснил Пастер, затруднения были
обусловлены тем, что спиртовое брожение частично заменялось брожением другого типа,
при котором сахар превращается в молочную кислоту. Когда он исследовал под
микроскопом содержимое тех бродильных чанов, где образовалась молочная
кислота, он обнаружил, что в них вместо клеток дрожжей, характерных для спиртового
брожения, присутствуют гораздо более мелкие палочковидные или сферические
клетки. Если ничтожное количество этого материала помещали в раствор сахара с
небольшой добавкой мела, то начиналось энергичное молочнокислое брожение и со
временем образовывался сероватый осадок, который опять-таки состоял, как
показало микроскопическое исследование, из мелких сферических или палочковидных
организмов. Последовательный перенос очень малых количеств этого материала в
новые сосуды с той же средой всегда приводил к тому, что там начиналось
молочнокислое брожение и количество тех же организмов возрастало. Пастер сделал
вывод, что этот активный агент — новые «дрожжи» — представляет собой такой
микроорганизм, который в процессе своего роста специфически превращает сахар
в молочную кислоту1.
Спиртовые дрожжи Saccharomyces cerevisiae (крупнее) и
молочнокислые бактерии (мелкие палочки) под микроскопом.
Пользуясь тем же методом, Пастер в течение последующих 20 лет исследовал
1 На самом деле молочнокислое брожение вызывается бактериями, но во времена Пастера
микроорганизмы еще не были четко разделены на различные таксономические группы.
много различных типов брожения. Ему удалось показать, что брожение неизменно
сопровождается развитием микроорганизмов. Далее он показал, что каждый
химический тип брожения, характеризуемый тем или иным главным конечным
органическим продуктом (например, молочнокислое, спиртовое или масляно-кислое
брожение) сопровождается развитием микроорганизмов определенного типа. Многие из
этих специфических типов микробов можно распознать под микроскопом по их
величине и форме. Кроме того, их можно различить и по тем условиям среды,
которые благоприятствуют развитию микробов того или иного типа. Один из таких
случаев физиологической специфичности был обнаружен Пастером еще в одном из
первых его экспериментов: в то время как агент спиртового брожения может
процветать в кислой среде, агенты молочнокислого брожения лучше развиваются в
нейтральной среде. Именно поэтому Пастер добавлял мел (карбонат кальция) к
той среде, которую он использовал для культивирования молочнокислых
микроорганизмов . Это вещество служило для нейтрализации среды и препятствовало
слишком сильному ее закислению, которое происходило бы в результате образования
молочной кислоты.
Открытие
анаэробной
жизни
Изучая маслянокислое брожение, Пастер открыл еще один фундаментальный
биологический факт. Он обнаружил, что существуют организмы, которые могут жить
только в отсутствие свободного кислорода. Исследуя под микроскопом жидкие
среды, в которых протекало масляно-кислое брожение, Пастер заметил, что у
края растекшейся капли, вблизи границы с воздухом, бактерии становятся
неподвижными, тогда как находящиеся в центре капли бактерии продолжают двигаться.
Это наводило на мысль, что воздух оказывает угнетающее действие на данные
микроорганизмы, и Пастер вскоре подтвердил это, показав, что если через
бродящую среду продувать воздух, то масляно-кислое брожение замедляется, а
иногда и полностью прекращается. Из этого он сделал заключение, что некоторые
микроорганизмы могут жить только в отсутствие кислорода, хотя раньше этот газ
считался совершенно необходимым для поддержания любой формы жизни. Пастер
ввел термины «аэробный» и «анаэробный» для обозначения жизни в присутствии и
в отсутствие кислорода.
Физиологическое
значение брожения
Открытие анаэробной природы масляно-кислого брожения дало Пастеру ключ к
пониманию той роли, которую процессы брожения играют в жизни осуществляющих
его микроорганизмов. Свободный кислород нужен большинству организмов для
окисления органических соединений до углекислоты. Такое связанное с
кислородом биологическое окисление, которое называют аэробным дыханием, дает
энергию, необходимую для поддержания организма и для его роста.
Пастер первым осознал, что некоторые организмы могут для получения энергии
использовать процесс распада органических соединений в отсутствие кислорода;
как он сформулировал, брожение — это жизнь без воздуха. Некоторые строго
анаэробные микроорганизмы, например масляно-кислые бактерии, получают энергию
только в результате брожения. Многие другие микроорганизмы, в том числе и
некоторые дрожжи, являются факультативными анаэробами, так как обладают двумя
различными механизмами для получения энергии: в присутствии кислорода они
осуществляют аэробное дыхание, но если в среде нет свободного кислорода, то
они могут использовать для той же цели брожение. Это было изящно продемонст-
рировано Пастером, который показал, что в отсутствие воздуха дрожжи -
превращают сахар в спирт и углекислоту, а в присутствии воздуха спирт совсем или
почти не образуется: основным конечным продуктом аэробной реакции является
углекислота.
Рост, происходящий за счет того или иного органического вещества,
определяется в основном той энергией, которую можно получить при его расщеплении.
Брожение — менее эффективный энергетический процесс, чем аэробное дыхание,
так как при этом процессе часть содержащейся в окисляемом веществе энергии
остается в органических конечных продуктах (например, спирте или молочной
кислоте) , которые образуются при брожении. Как впервые установил Пастер,
расщепление одного и того же количества сахара в анаэробных условиях приводит к
существенно меньшему росту дрожжей, чем в аэробных условиях. Это говорит об
относительно малой эффективности брожения как источника энергии.
Исследования Пастера показали, что брожение представляет собой жизненно
важный процесс, физиологически весьма существенный для многих клеток.
Дальнейшее развитие наших представлений о природе брожения связано с наблюдением,
которое случайно сделал в 1897 г. Г. Бюхнер. Пытаясь сохранить экстракт,
полученный путем растирания дрожжевых клеток с песком, Бюхнер добавил к нему
большое количество сахара и с удивлением обнаружил, что из экстракта
выделяется углекислота и при этом происходит образование спирта. Так выяснилось,
что препарат растворимых ферментов способен осуществлять спиртовое брожение.
Открытие Бюхнера положило начало развитию современной биохимии. Детальный
анализ механизма спиртового брожения в бесклеточных системах, в конце концов,
привел к расшифровке этого сложного метаболического процесса: оказалось, что
это цепь сравнительно простых химических реакций, каждая из которых
катализируется специфическим ферментом. Сейчас все биологи принимают как нечто само
собой разумеющееся, что даже самые сложные физиологические процессы можно
интерпретировать в физико-химических понятиях. В этом смысле оказалось, что
правы те химики XIX века, которые интуитивно боролись против биологической
теории брожения.
ОТКРЫТИЕ РОЛИ
МИКРООРГАНИЗМОВ КАК
ВОЗБУДИТЕЛЕЙ БОЛЕЗНЕЙ
Пастер всегда заботился о практическом применении результатов своих научных
исследований, и поэтому, изучая брожение, он много внимания уделил порче пива
и вина, которая, как он показал, вызывается развитием нежелательных
микроорганизмов . При описании таких процессов Пастер использовал своеобразный и
знаменательный термин, называя их «болезнями» пива и вина. Действительно, он уже
думал о том, что микроорганизмы, возможно, служат возбудителями инфекционных
болезней у высших организмов. В то время были известны некоторые факты,
подкрепляющие эту мысль. В 1813 г. было показано, что определенные грибы могут
вызывать болезни пшеницы и ржи, а в 1845 г. М. Беркли выяснил, что
катастрофическое поражение картофеля в Ирландии — стихийное бедствие, которое сильно
повлияло на историю этой страны, — было вызвано грибом. Тот факт, что грибы
могут быть специфически связаны с заболеваниями животных, впервые был
установлен в 1836 г. А. Басси, изучавшим грибковые заболевания шелковичного червя
в Италии. Несколько лет спустя И. Шёнлейн показал, что некоторые кожные
болезни человека также вызываются грибковой инфекцией. Несмотря на это, лишь
очень немногие медики были готовы признать, что важнейшие инфекционные
болезни человека могут вызываться микроорганизмами, и еще меньше людей верило, что
такие мелкие и, по-видимому, простые организмы, как бактерии, могут быть
возбудителями болезней.
Антисептика
в хирургии
Около 1840 г. в медицинскую практику была введена анестезия, и это сразу же
открыло широкие возможности для развития хирургических методов лечения.
Требования быстроты отступили на второй план, и хирурги могли теперь производить
такие длительные и сложные операции, о которых раньше нельзя было и подумать.
Однако, по мере того как совершенствовалась техника хирургических операций,
все более серьезной становилась давняя проблема хирургического сепсиса, т.е.
инфекции после оперативного вмешательства, часто приводившей к гибели
больных. Исследования Пастера, посвященные (проблеме самозарождения, показали,
что в воздухе содержатся микроорганизмы, и одновременно был найден ряд мер,
исключающих попадание микробов в органические настои и их развитие. Молодой
английский хирург Джозеф Листер, на которого работы Пастера произвели
глубокое впечатление, понял, что хирургический сепсис может быть результатом
микробной инфекции тканей, обнажаемых при операции. Он решил разработать меры,
которые предотвращали бы попадание микроорганизмов в хирургические раны.
Тщательно стерилизуя хирургические инструменты, дезинфицируя перевязочный
материал и проводя операции под распыляемым дезинфицирующим раствором (чтобы
предотвратить заражение из воздуха), он добился резкого снижения частоты случаев
хирургического сепсиса. Антисептические методы хирургии, разработанные
Листером около 1864 г., сначала были встречены с недоверием, однако постепенно
было признано, что они очень сильно снижают вероятность сепсиса при операциях,
и эти методы вошли в широкую практику. Это было веским косвенным доводом в
пользу микробной теории болезней, хотя и не прояснило вопроса о возможной
роли микробов как возбудителей определенных болезней человека. Как за полвека
до этого, когда Аппер разработал метод консервирования пищевых продуктов, так
и при введении Листером методов хирургической асептики практика опередила
теорию.
Бактериальная
этиология
сибирской язвы
То, что бактерии могут быть специфическими возбудителями инфекционных
болезней, было открыто при изучении сибирской язвы — серьезного инфекционного
заболевания домашних животных, которое передается и человеку. На последних
стадиях генерализованной инфекции в кровяном русле в огромных количествах
появляются палочковидные бактерии, вызывающие эту болезнь. Впервые они были
обнаружены еще в 1850 г., и в последующие 15 лет различные авторы сообщали об
их присутствии в крови зараженных животных. Особенно тщательные и детальные
исследования проводил между 1863 и 1868 гг. К. Давен, который показал, что
эти палочки всегда присутствуют у больных, но никогда не встречаются у
здоровых животных и что можно заразить здоровое животное путем введения ему крови,
содержащей эти палочки.
Окончательно бактериальная этиология сибирской язвы (т.е. то, что эта
болезнь вызывается бактериями) была доказана в 1876 г. немецким сельским врачом
Робертом Кохом (рис. 1.5). Лаборатории у Коха не было, и он проводил опыты
дома, используя очень примитивное оборудование и мелких подопытных животных.
Кох показал, что мышь можно заразить материалом, взятым от больного домашнего
животного. Производя инокуляцию от мыши к мыши, он передал эту болезнь
последовательно 20 мышам и при каждом переносе наблюдал характерные симптомы.
Затем он начал культивировать вызывающие болезнь бактерии, помещая небольшие,
сильно зараженные кусочки селезенки больных животных в капли стерильной сыво-
ротки. Наблюдая час за часом рост организмов в такой культуральной среде, Кох
увидел, как палочки превращаются в длинные нити, внутри которых со временем
появляются овальные тельца, сильно преломляющие свет. Он показал, что эти
тельца, которых ранее не наблюдали, представляют собой споры (рис. 1.6).
Когда содержащий споры материал переносили в новую каплю стерильной сыворотки,
споры прорастали и опять давали начало типичным палочкам. Таким образом Кох
последовательно восемь раз пересевал бактериальную культуру. При введении
последней культуры из такой серии здоровому животному она тоже вызывала
развитие характерной болезни, а от этого животного снова можно было выделить
микроорганизмы и получить их культуру.
Рис. 1.5. Роберт Кох (1843-1910).
Эти опыты отвечали требованиям, сформулированным за 36 лет до того Ф. Ген-
ле, — критериям, которым должны удовлетворять эксперименты, подтверждающие
причинную связь между данным микроорганизмом и определенной болезнью. В
обобщенной форме эти критерии таковы:
1) данный микроорганизм должен присутствовать в каждом случае данной
болезни;
2) микроорганизм должен быть выделен из заболевшего хозяина и должна быть
получена его чистая культура;
3) эта чистая культура при введении ее восприимчивому хозяину должна
вызывать данную болезнь;
4) должно быть показано, что тот же микроорганизм вновь можно выделить из
экспериментально зараженного животного.
Так как Кох первым применил эти критерии в эксперименте, их теперь называют
обычно постулатами Коха.
1
99
\
I
r* • • '
s
S I
% * •
•
I
#
Рис. 1.6. Возбудитель сибирской язвы - бактерия Bacillus
anthracis под микроскопом, видны споры (мелкие объекты).
Кох провел также другую серию опытов, в которой продемонстрировал
биологическую специфичность возбудителя болезни. Он показал, что инъекция другой
спорообразующей бактерии — сенной палочки — не приводит к заболеванию
сибирской язвой, и ему удалось также отличить возбудителя сибирской язвы от
бактерий, вызывающих другие заболевания. На основании полученных результатов Кох
заключил, что «данное специфическое заболевание способен вызывать лишь один
тип бацилл, а введение других бактерий либо вообще не вызывает болезни, либо
приводит к другим заболеваниям».
Тем временем Пастер подыскал себе сотрудника, знакомого с вопросами
медицины, — Ж. Жубера. Не зная о работе Коха, Пастер и Жубер предприняли изучение
сибирской язвы. Они не смогли добавить ничего нового к тем выводам, которые
были сделаны Кохом, но подтвердили его результаты и получили дополнительные
доказательства, что именно эта палочка, а не какая-нибудь другая бактерия
является специфическим возбудителем данной болезни.
Быстрый прогресс
медицинской
бактериологии
Работы по изучению сибирской язвы явились началом золотого века медицинской
бактериологии. В этот период институты, созданные в Париже для Пастера и в
Берлине для Коха, стали мировыми центрами бактериологической науки.
Возглавляемая Кохом немецкая школа сосредоточила свои усилия в основном на
выделении, культивировании и описании возбудителей важнейших инфекционных болезней
человека. Руководимая Пастером французская школа почти сразу же обратилась к
более тонкой и сложной проблеме — к экспериментальному изучению патогенеза
инфекционных болезней, механизмов выздоровления и выработки иммунитета. За 25
лет было открыто и описано большинство важнейших бактерий, вызывающих болезни
у человека, были разработаны методы искусственной иммунизации и гигиенические
меры для предотвращения многих из этих болезней. Это было, несомненно, самым
грандиозным переворотом в медицине за всю историю человечества.
Открытие
фильтрующих
вирусов
В самом начале деятельности нового института, руководимого Пастером, в нем
были разработаны фильтры, способные задерживать клетки бактерий; это дало
возможность получать не содержащие бактерий фильтраты. Инфекционные жидкости
часто проверяли на присутствие в них болезнетворных бактерий, пропуская их
через такие фильтры. Если фильтрат был неинфекционным, это указывало на то,
что в исходной жидкости содержится бактерия-возбудитель. В 1892 г. русский
ученый Д. Ивановский использовал этот метод для исследования инфекционного
экстракта из растений табака, пораженных мозаичной болезнью. К своему
удивлению, он обнаружил, что профильтрованный экстракт полностью сохранял свою ин-
фекционность. Открытие Ивановского было вскоре подтверждено, и в течение
нескольких лет было обнаружено, что многие весьма распространенные болезни
растений и животных вызываются подобными же субмикроскопическими агентами,
проходящими через бактериальные фильтры. Так был открыт целый класс инфекционных
организмов, которые оказались гораздо мельче всех известных ранее. Эти
организмы были названы вирусами. Истинная природа вирусов в течение многих
десятилетий оставалась неясной, но в конце концов было установлено, что они
представляют собой особую группу биологических объектов, совершенно отличных от
всех клеточных организмов и по структуре, и по способу развития.
Фрагмент вируса табачной мозаики (х34000). Электронный микроскоп.
РАЗРАБОТКА МЕТОДА
ЧИСТЫХ КУЛЬТУР
Пастер обладал интуитивным искусством работы с микроорганизмами. Поэтому,
хотя он и работал с культурами, содержащими смесь разных форм микробов, ему
удалось сделать правильные выводы о специфичности процессов брожения.
Классические исследования сибирской язвы, проведенные Кохом и Пастером, прочно
утвердили микробную теорию возникновения болезней животных; однако на самом
деле условия проведения этих опытов не давали уверенности, что были получены
действительно чистые культуры организма-возбудителя. Работа со смешанными
популяциями микробов изобилует ловушками, и не все те, кто работал с
микроорганизмами в середине XIX века, были так искусны, как Пастер или Кох. Многие
утверждали, что микроорганизмы способны в широких пределах изменять свою
морфологию и физиологические свойства. Это учение известно под названием плео-
морфизма, тогда как противоположная точка зрения, согласно которой
микроорганизмы обладают постоянными, специфическими признаками, получила название
мономорфизма .
Истоки веры
в плеоморфизм
Посмотрим, что происходит после внесения в питательный раствор смешанной
популяции микробов. В этом случае сразу же вступает в действие естественный
отбор, и скоро в популяции начинают преобладать те микробы, которые в данных
условиях растут быстрее. В результате роста и химической активности этих
микроорганизмов состав среды будет изменяться. Через некоторое время условия
среды изменятся настолько, что рост формы, первоначально преобладавшей в
популяции, станет невозможным. Создавшиеся теперь условия могут оказаться
благоприятными для роста других микроорганизмов, которые также были внесены в
эту питательную среду, но до сих пор не могли в ней развиваться; тогда они
постепенно вытеснят первых и сделаются преобладающей формой. Таким образом, в
одном культуральном сосуде, засеянном смешанной популяцией, можно наблюдать
последовательное развитие нескольких разных видов микробов. Если через
короткие интервалы производить повторный перенос смешанной популяции на свежую
среду того же состава, то часто удается поддерживать преобладание в культуре
той формы, которая развилась в ней первоначально. По сути дела это и есть тот
способ, который использовал Пастер, изучая брожение.
Если не учитывать возможность такой смены микробов в смешанной культуре, то
легко сделать вывод, что наблюдаемые морфологические и химические изменения
отражают трансформацию, которую претерпевает отдельный вид. Именно на таких
наблюдениях основывались частые утверждения о крайней вариабельности
микроорганизмов в период между 1865 и 1885 гг.
Термин «плеоморфизм» (в переводе с греческого это означает «учение о
множественных формах») подразумевает как будто, что речь шла в основном о
возможности морфологических изменений. В действительности же часто это было не так.
Многие сторонники плеоморфизма настаивали и на функциональной изменчивости. С
их точки зрения, не существовало ни специфических микробов, осуществляющих
спиртовое брожение, ни специфических возбудителей определенных болезней: они
считали, что и форма, и функции микробов определяются лишь условиями среды.
Широкое распространение и живучесть таких взглядов представляли угрозу для
развития микробиологии, и им оказывали сопротивление лидеры этой новой науки
Пастер, Кох и Кон, которые были сторонниками мономорфизма, провозглашающего
постоянство форм (и функций) микробов.
Около 1870 г. микробиологи начали понимать, что верное представление о фор-
ме и функции микроорганизма можно получить лишь при работе с чистыми
культурами, исключающими те сложности, которые возникают при исследовании смешанных
микробных популяций. Чистой культурой называется такая культура, которая
содержит микроорганизмы только одного вида. Ведущими сторонниками использования
чистых культур были два выдающихся миколога А. де Бари и О. Брефельд.
Первые
чистые
культуры
В первоначальной разработке метода чистых культур многое было сделано Бре-
фельдом, который занимался грибами, Брефельд ввел в практику метод выделения
отдельных клеток и культивирование грибов на твердых средах, для чего он
добавлял к используемой им среде желатину. Примененные им методы получения
чистых культур давали прекрасные результаты при работе с грибами, но оказалось,
что ими нельзя пользоваться при работе с имеющими меньшие размеры бактериями.
Работа с бактериями требовала других методов. Одним из первых был предложен
метод разведения. Жидкость, содержащую смесь бактерий, разводили стерильной
средой, надеясь на то, что в конце концов можно будет получить культуру,
возникшую из одной-единственной клетки. На практике этот метод утомителен,
труден и ненадежен. Кроме того, с его помощью в лучшем случае можно выделить в
чистом виде лишь тот микроорганизм, который преобладал в исходной смеси.
Кох очень быстро понял, что для развития новой науки жизненно необходимо
разработать простые методы получения чистых культур. Метод разведения явно
был слишком трудоемок и ненадежен, чтобы его можно было использовать в
повседневной работе. Более перспективный подход намечался в результате наблюдений,
сделанных ранее И. Шрётером. Этот исследователь обратил внимание, что на
таких субстратах, как картофель, клейстер, хлеб или яичный белок бактерии
вырастают в виде отдельных скоплений, или колоний. Колонии отличались друг от
друга, но в пределах каждой колонии все бактерии были однотипными. Сначала
Кох использовал в своих опытах стерильные срезы картофеля, которые он помещал
в стерильные, накрытые крышкой стеклянные сосуды и засевал бактериями. Однако
картофель явно не подходил для этой цели: поверхность среза оказывалась
влажной, и это позволяло подвижным бактериям свободно распространяться по ней;
кроме того, этот субстрат непрозрачен, и поэтому колонии часто трудно было
разглядеть; и наконец, что самое важное, для многих бактерий картофель
является плохой питательной средой. Кох понял, что было бы гораздо лучше
подобрать какое-нибудь прозрачное вещество, способное сделать твердыми уже
испытанные в работе жидкие среды. Таким способом можно было бы приготовить
полупрозрачный гель, на котором хорошо выявлялись бы вырастающие колонии. В то же
время, изменяя состав жидкой основы, можно было бы удовлетворять пищевые
потребности самых разных бактерий. Исходя из этих соображений, Кох в качестве
гелеобразователя использовал желатину. После того как желатина застынет, ее
поверхность засевали небольшим количеством бактериальных клеток (инокулятом).
Для этого инокулят брали платиновой петлей, простерилизованной в пламени, и
затем быстро и без нажима проводили ею несколько раз по поверхности застывшей
желатины. Вскоре на поверхности появлялись отдельные колонии бактерий, каждую
из которых можно было очистить, повторив такой рассев. Этот метод выделения
бактерий получил название метода рассева штрихом. Затем чистые культуры
переносили в закрытые ватой пробирки, содержащие стерильную питательную среду с
желатиной, которая застыла, когда пробирка находилась в наклонном положении.
Такие культуры получили название косяковых. Вскоре после этого Кох обнаружил,
что можно не рассевать бактерии штрихом по поверхности уже застывшей
желатины, а смешивать их с расплавленной желатиной. Когда желатина застынет, бакте-
рии будут иммобилизованы в ней и также дадут начало отдельным колониям. Этот
метод получил название глубинного посева.
Посев штрихом на агаре в чашке Петри. Очень вероятно, что редкие
колонии выросли из отдельных клеток.
Желатина, вначале использованная Кохом для приготовления твердых сред,
имела ряд недостатков. Это белок, который очень легко расщепляется микробами и в
результате этого разжижается. Кроме того, гель желатины превращается в золь
при температуре выше 28 °С. Вскоре стали использовать в качестве отвердителя
другое вещество — агар, сложный полисахарид, который выделяют из красных
водорослей. Чтобы расплавить агар, нужно нагреть его до 100°С, так что он
остается твердым во всем диапазоне температур, при которых выращивают бактерии.
Однако, будучи расплавлен, агар остается жидким до тех пор, пока температура
не упадет примерно до 44 °С. Это дает возможность использовать его для
глубинного посева. Агар образует достаточно твердый и прозрачный гель. Кроме
того, он представляет собой сложный углевод, разрушать который могут лишь
относительно немногие бактерии, так что редко приходится сталкиваться с его
разжижением. Поэтому агар быстро заменил желатину как материал для приготовления
твердых бактериологических сред. Попытки найти столь же совершенный
синтетический заменитель агара успеха не имели.
Разработка культуральных
сред Кохом и его школой
Для селективного выращивания микроорганизмов, вызывающих брожение, Пастер
использовал простые прозрачные жидкие среды известного химического состава.
Для выделения возбудителей болезней нужны были иные типы культуральных сред,
и разработка таких «сред составляла вторую главную методическую проблему,
решением которой занялся Кох со своими сотрудниками. Обычно патогенные бактерии
развиваются в тканях зараженного хозяина; поэтому представлялось логичным,
что для их успешного культивирования вне тела животного следует использовать
среду, наиболее близкую к той, которую микроб находит в тканях хозяина.
Исходя из этих соображений, Кох стал использовать в качестве основных
ингредиентов культуральных сред мясные настои и экстракты. В результате проведенных
опытов появились питательный бульон и соответственно твердый питательный
агар, которые и до сих пор используются в обычных бактериологических работах
чаще любых других сред. Питательный бульон содержит 0,5% пептона
(ферментативного перевара мяса), 0,3% мясного экстракта (концентрата водо-растворимых
компонентов мяса) и 0,8% NaCl; это обеспечивает в среде приблизительно ту же
концентрацию соли, что и в животных тканях. Для культивирования более
требовательных патогенных организмов в эту основную среду могут быть введены
различные добавки (например, сахар, кровь или сыворотка). Учитывая специфическую
цель, для которой были предназначены эти среды, можно счесть выбор
ингредиентов логичным, хотя традиционное включение в среду NaCl вряд ли имеет какое-
либо реальное значение, поскольку многие бактерии нечувствительны к изменению
концентрации соли в очень широком диапазоне. Со временем многие бактериологи
стали считать, что такие среды универсальны, т.е. пригодны для
культивирования почти всех бактерий. Но это не так: бактерии сильно различаются по своим
потребностям в питательных веществах, и каждая среда способна поддерживать
рост лишь очень небольшой части существующих в природе бактерий.
Косяковые посевы на агаре.
МИКРООРГАНИЗМЫ КАК
ГЕОХИМИЧЕСКИЕ АГЕНТЫ
В конце прошлого века интерес микробиологов был сосредоточен в основном на
той роли, которую играют микроорганизмы как возбудители инфекционных
болезней. Тем не менее, некоторые ученые продолжали развивать направление
исследований, начатое ранними работами Пастера, касавшимися брожения. Эти
исследования ясно показали, что микроорганизмы могут служить специфическими агентами,
вызывающими химические превращения в очень больших масштабах, и что мир мик-
робов в целом, весьма вероятно, ответствен за множество различных
геохимических изменений.
Установление кардинальной роли микроорганизмов в биологически важных
круговоротах материи на Земле — круговороте углерода, азота и серы — это в
значительной части результат работы двух исследователей, С. Виноградского (рис.
1.7) и М. Бейеринка (рис. 1.8). В отличие от животных и растений
микроорганизмы чрезвычайно разнообразны по своей физиологии. Многие их группы
специализированы и способны осуществлять химические превращения, совершенно
недоступные ни растениям, ни животным; тем самым они играют крайне важную роль в
круговороте веществ на Земле.
Сергей Николаевич Виноградский (1856—1953).
Примером такой физиологической специализации микробов могут служить
открытые Виноградским автотрофные бактерии. Эти бактерии могут расти в минеральных
средах, получая необходимую для роста энергию путем окисления восстановленных
неорганических соединений и используя в качестве источника углерода
углекислоту. Виноградский обнаружил, что есть несколько физиологически различных
групп автотрофных бактерий, каждая из которых способна использовать какие-то
определенные минеральные вещества в качестве источника энергии; так,
например, серные бактерии могут окислять неорганические соединения серы, а
нитрифицирующие бактерии — неорганические соединения азота.
Другое открытие, сделанное Виноградским и Бейеринком, касается роли
микробов в фиксации атмосферного азота, который большинство живых организмов в
качестве источника азота использовать не могут. Эти исследователи показали, что
определенные бактерии, из которых одни — симбионты высших растений, а другие
— свободноживущие формы, могут использовать газообразный азот для синтеза
своих клеточных компонентов. Эти микроорганизмы пополняют запасы связанного
азота, в котором нуждаются все другие формы жизни.
Методы
накопительных
культур
Для выделения и изучения различных существующих в природе физиологических
групп микроорганизмов Виноградокий и Бейеринк разработали совершенно новый и
очень важный метод накопительных культур. По существу это приложение принципа
естественного отбора к микромиру. Исследователь приготовляет среду
определенного химического состава, засевает ее смешанной микробной популяцией,
например бактериями, содержащимися в небольшом образце почвы, и через некоторое
время выясняет, какие микроорганизмы преобладают в культуре. Преобладание тех
или иных форм обусловлено "их способностью расти в данной среде быстрее всех
других организмов, имевшихся в инокуляте. Поэтому и среды называют
«накопительными». Например, если мы хотим выявить такие микроорганизмы, которые
могут использовать атмосферный азот (N2) в качестве единственного источника
этого элемента, то готовится среда, в которой нет связанного азота, но
имеются все другие необходимые для роста питательные вещества — источники энергии,
источники углерода и минеральные соли. Затем в эту среду вносят образец
почвы, помещают в атмосферу N2 и инкубируют при тех или иных заданных физических
условиях. Так как азот — необходимый компонент каждой живой клетки, то в
такой среде смогут размножаться, лишь те присутствующие в инокуляте
микроорганизмы , которые могут фиксировать атмосферный азот. Если в образце почвы есть
такие микроорганизмы, то они будут расти. Возможны бесчисленные модификации
опытов такого типа: можно изменять и источник углерода, и источник энергии, и
температуру, и концентрацию водородных ионов. При каждом данном сочетании
этих условий в культуре будут преобладать микроорганизмы какого-то
определенного типа, если, конечно, в инокуляте вообще были организмы, способные расти
при таких условиях. Таким образом, метод накопительных культур — одно из
наиболее мощных средств, имеющихся в распоряжении микробиологов. С его помощью
можно выделять микроорганизмы, обладающие любыми заданными потребностями,
если только они существуют в природе.
Рис. 1.8. Мартинус Биллем Бейеринк (1851— 1931)
РАЗВИТИЕ
МИКРОБИОЛОГИИ
В ДВАДЦАТОМ ВЕКЕ
В последние десятилетия XIX в. микробиология стала вполне сложившейся
наукой с собственными концепциями и методами, причем и методы, и концепции ее
выросли в основном из работ Пастера. Одновременно зародилась и общая
биология. Это произошло благодаря Чарлзу Дарвину, который по-новому упорядочил и
обобщил накопившиеся данные на основе теории эволюции путем естественного
отбора. По логике вещей микробиология наряду с другими частными биологическими
дисциплинами должна была бы занять свое место в структуре последарвиновской
общей биологии. В действительности, однако, этого не произошло. После смерти
Пастера в 1895 г. в течение полувека микробиология и общая биология
развивались почти независимо друг от друга. В этот период главными направлениями в
микробиологии были изучение возбудителей инфекционных болезней, исследование
иммунитета и его роли в предупреждении болезней и в процессе выздоровления,
поиски химиотерапевтических средств и анализ химической активности
микроорганизмов .
Й в теоретическом, и в экспериментальном плане все эти проблемы были далеки
от основных интересов биологии начала XX в., которые касались организации
клетки, ее роли в процессах размножения и развития, механизмов
наследственности и эволюции растений и животных. Даже характерные для микробиологии
оригинальные методические нововведения мало интересовали биологов того времени.
Ценность их была полностью осознана лишь около 1950 г., когда биологи начали
широко использовать культуры растительных и животных тканей и клеток.
Микробиология, однако, внесла существенный вклад в развитие другой новой
науки — биохимии. Открытие Бюхнером бесклеточного спиртового брожения явилось
ключом к химическому изучению метаболических процессов, доставляющих энергию.
В течение первых двух десятилетий XX в. параллельно развивались исследования
механизма гликолиза в мышцах и механизма спиртового брожения у дрожжей, и
постепенно выявилось фундаментальное сходство этих процессов. Физиологи,
изучавшие позвоночных животных, и биохимики, изучавшие микробов, совершенно
неожиданно обнаружили под собой общую почву. Несколько лет спустя, при изучении
питания животных и микробов, был найден еще один «общий знаменатель»:
оказалось , что необходимые животным в следовых количествах витамины химически
идентичны «ростовым факторам», в которых нуждаются некоторые бактерии и
дрожжи. При детальном изучении функций этих веществ, по соображениям удобства
проводившемся в значительной части на микроорганизмах, было установлено, что
они служат предшественниками в биосинтезе ряда коферментов, необходимых для
клеточного метаболизма. Эти открытия, сделанные в период с 1920 по 1935 г.,
показали, что на биохимическом уровне все живые системы в основе своей очень
сходны. В результате биохимики и микробиологи провозгласили концепцию
«единства биохимии».
Второе важнейшее событие в биологии начала XX века — возникновение науки
генетики в результате конвергенции цитологии и менделеевского анализа — не
оказало немедленного влияния на микробиологию. Долгое время казалось
сомнительным, чтобы у бактерий были такие же механизмы наследственности, как у
растений и животных. Генетика и микробиология впервые пришли в тесное
соприкосновение в 1941 г., когда Бидлу и Татуму удалось выделить ряд биохимических
мутантов гриба Neurospora. Эти работы открыли путь для биохимического анализа
последствий мутаций, и нейроспора стала наравне с плодовой мушкой и кукурузой
важнейшим объектом генетических исследований.
Изучение мутаций у бактерий, которое провели в 1943 г. Дельбрюк и Луриа,
заложило методические и концептуальные основы генетики этих микроорганизмов.
Вскоре было показано, что у бактерий существует несколько механизмов
генетического переноса, причем все они существенно отличаются от механизма половой
рекомбинации у растений и животных. В 1944 г. Эвери, Мак-Леод и Мак-Карти
исследовали процесс переноса генетического материала у бактерий, приводящий к
трансформации, и установили, что трансформирующим фактором служит свободная
дезоксирибонуклеиновая кислота (ДНК). Так была раскрыта химическая природа
генов.
В 50-х годах XX века было показано, что у бактерий существует примитивный
половой процесс, они способны обмениваться внехромосомной ДНК, плазмидами.
Открытие плазмид, как и трансформации, легло в основу распространённой в
молекулярной биологии плазмидной технологии. Ещё одним важным для методологии
открытием стало обнаружение в начале XX века вирусов бактерий, бактериофагов.
Фаги тоже могут переносить генетический материал из одной бактериальной
клетки в другую. Заражение бактерий фагами приводит к изменению состава
бактериальной РНК. Если без фагов состав РНК сходен с составом ДНК бактерии, то
после заражения РНК становится больше похожа на ДНК бактериофага. Тем самым
было установлено, что структура РНК определяется структурой ДНК. В свою
очередь, скорость синтеза белка в клетках зависит от количества РНК-белковых
комплексов. Так была сформулирована центральная догма молекулярной биологии:
ДНК -> РНК -> белок.
Слияние микробиологии, генетики и биохимии в период между 1940 и 1945 гг.
положило конец длительной изоляции микробиологии от главных направлений
биологической науки. Оно подготовило также условия для второго важнейшего
события в биологии, в которое микробиологи внесли фундаментальный вклад, — для
развития молекулярной биологии.
В то же время началось техническое использование микробиологии. Техническая
микробиология изучает микроорганизмы, используемые в производственных
процессах с целью получения различных практически важных веществ: пищевых
продуктов , этанола, глицерина, ацетона, органических кислот и др.
Огромный вклад в развитие микробиологии внесли русские и советские учёные:
И.И. Мечников (1845—1916), Д.И. Ивановский (1863—1920), Н.Ф. Гамалея (1859—
1949), Л . С . Ценковский, С . Н . Виноградский, В. Л . Омелянский, Д. К. Заболотный
(1866—1929) , B.C. Буткевич, СП. Костычев, Н.Г. Холодный, В.Н. Шапошников, Н.
А. Красильников, А.А. Ишменецкий и др.
Большая роль в развитии технической микробиологии принадлежит СП. Костыче-
ву, С.Л. Иванову и А.И. Лебедеву, которые изучили химизм процесса спиртового
брожения, вызываемого дрожжами. На основании исследований химизма образования
органических кислот мицелиальными грибами, проведённым В.Н. Костычевым и B.C.
Буткевичем, в 1930 году в Ленинграде было организовано производство лимонной
кислоты. На основе изучения закономерностей развития молочнокислых бактерий,
осуществлённого В.Н. Шапошниковым и А.Я. Мантейфель, в начале 1920-х годов в
СССР было организовано производство молочной кислоты, необходимой в медицине
для лечения ослабленных и рахитичных детей. В.Н. Шапошников и его ученики
разработали технологию получения ацетона и бутилового спирта с помощью
бактерий, и в 1934 году в Грозном был пущен первый в СССР завод по выпуску этих
растворителей. Труды Я. Я. Никитинского Ф.М. Чистякова положили начало
развитию микробиологии консервного производства и холодильного хранения
скоропортящихся пищевых продуктов. Благодаря работам А.С. Королёва, А.Ф. Войткевича и
их учеников значительное развитие получила микробиология молока и молочных
продуктов.
Частью технической микробиологии является пищевая микробиология, изучающая
способы получения пищевых продуктов с использованием микроорганизмов.
Например, дрожжи применяют в виноделии, пивоварении, хлебопечении, спиртовом
производстве; молочнокислые бактерии — в производстве кисломолочных продуктов,
сыров, при квашении овощей; уксуснокислые бактерии — в производстве уксуса;
мицелиальные грибы используют для получения лимонной и других пищевых
органических кислот и т. д. К настоящему времени выделились специальные разделы
пищевой микробиологии: микробиология дрожжевого и хлебопекарного производства,
пивоваренного производства, консервного производства, молока и молочных
продуктов , уксуса, мясных и рыбных продуктов, маргарина и т.д.
ЧАСТЬ 2. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МИКРООРГАНИЗМОВ ЧЕЛОВЕКОМ
Роль микроорганизмов в превращениях органических веществ была осознана
только в середине XIX в. , хотя человек с доисторических времен использовал
процессы, протекающие с участием микробов, для приготовления пищи, напитков и
тканей. Во многих случаях человек научился управлять этими процессами и
значительно усовершенствовал их с помощью чисто эмпирических методов. Самые
известные примеры процессов, протекающих с участием микробов, — производство
пива и вина, засолка некоторых растительных продуктов, приготовление хлеба,
уксуса, сыра и масла, вымачивание льна. Развитие микробиологии, которая
выяснила механизмы этих традиционных процессов, привело не только к значительному
усовершенствованию многих из них, но и к появлению новых отраслей
промышленности , основанных на использовании самых разных микроорганизмов.
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ДРОЖЖЕЙ
Дрожжи издавна широко используются человеком. В природе существует
множество родов и видов этих микроорганизмов, и многие из них применяются в
промышленности, но особенно большое значение имеют различные штаммы Saccharomyces
cerevisiae. С их помощью получают вино, пиво, заквашивают тесто.
Производство алкогольных напитков было широко развито уже на самых ранних
этапах человеческой цивилизации; существует множество мифов о происхождении
вина, которые приписывали его открытие божественному откровению.
Следовательно, уже в глубокой древности возникновение винодельческого искусства было
окутано тайной доисторических времен. Дрожжи для заквашивания теста впервые
были использованы в Египте около 6000 лет назад, и с того времени этот,
способ получения дрожжевого теста медленно распространился по западному миру.
Способ перегонки спирта и, следовательно, его концентрирования был открыт в
Китае или арабских странах. В Европе винокуренные заводы появились в середине
VII в. Вначале получаемый спирт использовался человеком только для
приготовления напитков, но затем в связи с промышленной революцией он стал
применяться как растворитель и химическое сырье.
Производство вина
В основе получения вина лежит сбраживание растворимых Сахаров (глюкозы и
фруктозы) виноградного сока с образованием этилового спирта и С02. После
сбора виноград давят и получают сырой сок, или виноградное сусло (муст), очень
кислую жидкость, содержащую от 10 до 25% сахара (по весу). Зачастую закваской
служит смешанная дрожжевая флора винограда. При таком естественном брожении в
популяции дрожжей происходят сложные последовательные изменения; на последней
стадии преобладают так называемые истинные винные дрожжи, Saccharomyces
cerevisiae var. ellipsoideus. В Калифорнии, например, муст сначала
обрабатывают двуокисью серы, которая практически полностью уничтожает естественную
дрожжевую флору, а сусло затем заквашивают нужным штаммом винных дрожжей.
Брожение идет бурно и обычно заканчивается через несколько дней. Часто прихо-
дится регулировать скорость брожения или охлаждать смесь, чтобы предупредить
повышение температуры, которое может повлиять на качество продукта или убить,
дрожжи. Муст, приготовленный как из черного, так и из белого винограда (Vitis
vinifera1) , не окрашен, из него получается белое вино. Краситель черного
винограда содержится в кожуре, поэтому красное вино получают при брожении муста
в присутствии кожуры. Спирт, образующийся при брожении, экстрагирует
краситель , и вино окрашивается. По окончании брожения молодое вино необходимо
осветлить , стабилизировать и дать ему созреть. Эти процессы занимают несколько
месяцев, а при изготовлении высококачественных, красных вин — даже несколько
лет. В течение первого года во многих винах (в частности, красных) происходит
второе - спонтанное яблочно-молочнокислое брожение, которое вызывается рядом
молочнокислых бактерий (Pediococcus, Leuconostoc или Lactobacillus). В
результате яблочная кислота, одна из двух основных органических кислот
винограда, превращается в молочную кислоту и СОг; таким образом, дикарбоновая
кислота превращается в монокарбоновую, и кислотность вина снижается. Хотя яблочно-
молочнокислое брожение происходит спонтанно, медленно и постепенно (часто
даже без ведома винодела), оно абсолютно необходимо для производства
высококачественных красных вин из винограда, выращенного в местностях с холодным
климатом, так как полученные из него вина первоначально обладают слишком высокой
кислотностью и потому плохими вкусовыми качествами.
Некоторые особые виды вин подвергают дополнительным превращениям под
действием микробов. Игристые вина (типа шампанских) подвергают второму спиртовому
брожению под давлением, добавляя в вино сахар, в бутылях или в больших
сосудах. Образующаяся двуокись углерода газирует вино. Второе брожение
осуществляется различными винными дрожжами, которые после брожения образуют комки и
легко удаляются. Херес (тип вина, которое производится в Испании в районе
Херес) крепят добавлением спирта до 15% и выдерживают на воздухе, в результате
чего на поверхности интенсивно развиваются определенные дрожжи; это придает
вину неповторимый хересный вкус.
Некоторые европейские десертные вина, в частности вина из южных районов
Франции, претерпевают еще более сложные превращения под действием микробов.
Перед сбором виноград спонтанно заражается грибом Botrytis cinerea. Это
вызывает потерю воды, а потому увеличение содержания сахара и разрушение яблочной
кислоты, что снижает кислотность винограда, улучшает его вкус и цвет. Очень
сладкий муст, который получается из этого зараженного грибом винограда,
сбраживается так называемыми глюкофильными дрожжами, т.е. дрожжами, которые
быстро сбраживают глюкозу, оставляя нетронутой фруктозу (более сладкую из этих
двух Сахаров). В результате получается сладкое десертное вино.
Хотя из-за высокого содержания спирта и низкого значения рН (^3,0) вина
являются плохим субстратом для роста большинства микроорганизмов, они, тем не
менее, могут портиться под действием микробов. Первым проблему «болезней» вин
с научной точки зрения исследовал Пастер; сделанные им описания
микроорганизмов, вызывающих порчу, и рекомендации по предупреждению их развития не
утратили своего значения до сих пор. Быстрее всего вина портятся при воздействии
воздуха. Дрожжи и уксуснокислые бактерии, образующие пленку, при своем росте
используют спирт и превращают его в уксусную кислоту; таким образом вино
скисает. Вино портится и возбудителями брожения в отсутствие воздуха, в
частности палочковидными молочнокислыми бактериями, которые способны расти в
анаэробных условиях, используя остаточный сахар и придавая вину «мышиный»
привкус. Винные дрожжи могут расти в сладких винах даже после разлива вина в
бутылки; хотя их рост и не влияет на букет, вино становится мутным и теряет
1 Этот вид в основном распространен в Евразии. На американском континенте
родоначальником большинства сортов винограда является вид Vitis labrusca.
привлекательность. Порчу вина можно предупредить пастеризацией, но иногда она
снижает его качество. Особенно подвержены порче вина с низким содержанием
спирта, содержащие сахар; в них обычно добавляют специальные химические
вещества (например, двуокись серы) или стерилизуют путем фильтрации. Роль
различных микроорганизмов в производстве и порче вин описана в табл. 2.1.
Таблица 2.1. Перечень некоторых микроорганизмов, использующихся
при изготовлении вин или вызывающих их порчу
Микроорганизм
Saccharomyces
cerevisiae var.
ellipsoideus
Pediococcus,
Leuconostoc и
Lactobacillus
Хересные дрожжи
(Saccharomyces
beticus,
cheresiensis и
fermenti)
Botrytis
cinerea
Роль микроорганизма в процессе
изготовления вина или его порче
1. Осуществляют первичное спиртовое
брожение
2. Вызывают насыщение углекислым
газом игристых вин за счет вторичного
брожения
3. Вызывают помутнение десертных вин
Осуществляют яблочно-молочнокислое
брожение
Вызываемые химические
или физические
изменения
Глюкоза и/или фруктоза
-> Этаиол + С02
1. Яблочная кислота —>
Молочная кислота + С02
2. Обогащение букета
В процессе роста образуют иа
поверхности вина пленку и придают ему хе-
ресный вкус
1. Окисление этанола
до ацетальдегида
2. Образование
компонентов букета
„ 1. Обезвоживание
В некоторых районах (например, в
провинции Сотерн во Франции) разви-0 _ ^
■^ * jt -• / jt 2. Окисление яблочной
ио—
кислоты до С02 и Н20
3. Формирование букета
сертных вин
ваются на поверхности винограда,
пользуемого для приготовления
вино-
3.
и цвета
Уксуснокислые
бактерии и
дрожжи, обра-
зующие пленку
Молочнокислые
бактерии,
особенно
Lactobacillus
trichodes
Вызывают порчу вина на воздухе
Окисление этанола до
уксусной кислоты
Вызывают
ловиях
порчу вина в
анаэробных ус- Появление
привкуса
«мышиного»
Изготовление пива
Пиво производят из зерна, которое в отличие от винограда и других фруктовых
мустов, не содержит сбраживаемых Сахаров. Крахмал зерна перед сбраживанием
дрожжами необходимо осахарить (гидролизовать до сбраживаемых Сахаров мальтозы
и глюкозы). Для производства пива издавна использовались три основных вида
зерновых: ячмень в Европе, рис на Востоке и кукуруза в Америке. В каждом
случае для осахаривания крахмала использовался свой метод. При изготовлении пива
из ячменя применяют ферменты, гидролизуюшие крахмал самого зерна (амилазы).
Семена ячменя практически не содержат амилазу, но при прорастании образуются
большие количества этого фермента. Ячмень увлажняют, дают ему прорасти, а за-
тем сушат и хранят для последующего использования. Такой высушенный проросший
ячмень называется солодом; в результате высушивания при повышенных
температурах он приобретает темную окраску и становится более ароматным, чем
необработанные зерна ячменя. При соложении крахмал ячменя остается почти нетронутым,
поэтому первый этап в изготовлении пива состоит в размалывании солода и его
суспендировании в воде, чтобы произошел гидролиз крахмала. Иногда солод
используется в качестве единственного источника крахмала; если же хотят
получить светлое пиво, к смеси для осахаривания добавляют ячмень, не
подвергавшийся соложению, или другое зерно. В США. при производстве пива используется в
большом количестве рис. Одновременно с гидролизом крахмала происходят другие
ферментативные процессы, в том числе гидролиз белков. После того как осахари-
вание смеси достигает требуемого уровня, ее кипятят, чтобы остановить
дальнейшие ферментативные превращения, и затем фильтруют. К фильтрату (затору)
добавляют хмель (прицветники женских соцветий вьющегося растения Humulus
lupus), который содержит растворимые смолистые вещества, придающие пиву
характерный горький вкус и предотвращающие рост бактерий в нем. Хмель при
изготовлении пива стали использовать сравнительно недавно, в середине XVI в. ; в
некоторых странах до сих пор делают пиво без хмеля. После фильтрации затор,
содержащий хмель (пивное сусло), готов к сбраживанию.
В отличие от сбраживания вина при сбраживании пива в него вносят большое
количество дрожжей определенного штамма, полученных в результате предыдущего
сбраживания. Брожение идет при пониженной температуре в течение 5—10 дней.
Все дрожжи, используемые при изготовлении пива, относятся к виду
Saccharomyces cerevisiae, но не все штаммы S. cerevisiae позволяют получить
хорошее пиво. Со временем были отобраны особые штаммы, обладающие нужными
свойствами; они называются пивными (культурными) дрожжами. До Пастера отбор и
поддержание нужных штаммов дрожжей проводили эмпирически, и это было своего
рода искусством. Успех зависел главным образом от способности пивовара
получить подходящий штамм и поддерживать его от партии к партии пива, не допуская
сильного загрязнения нежелательными микроорганизмами. Хорошие пивные дрожжи
выводили веками; в природе их найти невозможно. Подобно культурным высшим
растениям, такие дрожжи — продукт человеческой деятельности, и, чтобы
отметить этот факт, пивовары называют другие дрожжи (в том числе другие штаммы S.
cerevisiae) «дикими».
Со времен Пастера выявление, проверка и поддержание нужных штаммов пивных
дрожжей были поставлены на научную основу. Пионером в этой области является
Хансен (Е. С. Hansen), который работал в пивоварне Карлсберга в Копенгагене.
Штаммы пивных дрожжей делятся на две основные группы; их называют верхними и
нижними дрожжами. Верхние дрожжи эффективно сбраживают пиво; лучше всего они
«работают» при сравнительно высокой температуре (20 °С) и используются при
изготовлении крепких сортов пива с высоким содержанием алкоголя, например
английского эля. Свое название эти дрожжи получили благодаря тому, что во
время брожения они увлекаются в верхнюю часть бродильного чана из-за
интенсивного выделения С02. Нижние дрожжи, наоборот, сбраживают пиво медленно,
«работают» лучше при более низкой температуре (от 12 до 15 °С) и используются
при изготовлении более легких сортов пива с низким содержанием алкоголя; в
США. обычно производится пиво именно этого типа. Названы нижние дрожжи так
потому, что образование С02 идет медленнее, и во время брожения они оседают на
дно.
Болезни пива, как и болезни вина, были впервые исследованы с научной точки
зрения Пастером. Чаще всего они возникают во время брожения, созревания и
после разлива в бутылки. Один из возбудителей — «дикие» дрожжи Saccharomyces
pasteurianus, которые придают пиву неприятную горечь. Они развиваются главным
образом в том случае, если температура при созревании или хранении пива слиш-
ком высока. Скисание пива могут порой вызывать и уксуснокислые бактерии,
особенно если пиво, разлитое в бочки, подвергается действию воздуха. Чтобы
избежать порчи, нужно, прежде всего, использовать чистые штаммы дрожжей в начале
брожения и пастеризовать конечный продукт. В настоящее время некоторые сорта
пива перед разливом в бутылки стерилизуют с помощью фильтрации, что позволяет
сохранить вкус пива, ухудшающийся при пастеризации.
На Западе наиболее распространенные напитки, при изготовлении которых
используется брожение, — это виноградные вина и ячменное пиво. На Востоке же
сырьем для большинства таких напитков (например, сакэ) является рис. Для
гидролиза рисового крахмала перед сбраживанием используются амилазы плесневых
грибов, в основном Aspergillus oryzae. Первая стадия изготовления сакэ —
получение культуры плесени. Споры плесени, взятые от предыдущей партии, рассе-
вают на замоченный рис и выращивают гриб до тех пор, пока мицелий не
проникнет во всю массу риса. Этот материал (так называемый койи) служит как
источником амилазы, так и посевным материалом для добавления в большую партию
замоченного риса. Происходит гидролиз крахмала, и, когда накапливается
достаточное количество сахара, начинается спонтанное спиртовое брожение. В койи
присутствуют как молочнокислые бактерии, так и дрожжи, поэтому кроме спирта и
С02 образуется молочная кислота. Таким образом, производство спиртных
напитков из зерна на Востоке отличается от процессов, применяемых на Западе, в
двух отношениях: осахаривание осуществляется микроорганизмами и происходит
одновременно с брожением.
В Америке и в некоторых районах Среднего Востока используется еще один,
третий компонент, вызывающий осахаривание, — человеческая слюна, содержащая
амилазы. Индейцы Центральной и Южной Америки готовят кукурузное пиво,
пережевывая зерна и выплевывая смесь в сосуд, где она претерпевает спонтанное
спиртовое брожение.
Хлебопечение
Спиртовое брожение под действием дрожжей — основной этап при изготовлении
хлеба; этот процесс называется заквашиванием теста. В муку, смешанную с
водой , добавляют дрожжи и оставляют смесь в теплом месте на несколько часов.
Сама мука почти не содержит свободного сахара, который мох1 бы служить
субстратом при брожении, но в ней присутствует ряд ферментов, расщепляющих
крахмал и образующих достаточное количество сахара, чтобы поддерживать брожение.
В обычно используемых высокоочищенных сортах муки эти ферменты разрушены, и
сахар приходится добавлять в тесто; он быстро сбраживается дрожжами, а
образующаяся двуокись углерода задерживается в тесте и заставляет его
подниматься. Образующийся спирт удаляется в процессе выпечки. Дрожжи вызывают и
другие, менее заметные изменения физических и химических свойств теста, влияющих
на структуру и вкусовые качества хлеба. Это стало ясно, когда в хлебопечении
попытались применить изобретенный немецким химиком Либихом (J. von Liebeg)
особый порошок — смесь веществ, которые при смачивании выделяют двуокись
углерода. Либих предполагал, что этот порошок заменит дрожжи, но этого не
произошло, хотя он широко применяется при изготовлении кондитерских изделий.
Все дрожжи, которые используются в хлебопечении, относятся к виду
Saccharomyces cerevisiae и исторически происходят от штаммов верхних дрожжей,
используемых в пивоварении. До XIX в. дрожжи для хлебопечения получали прямо
из ближайшей пивоварни. В связи с выпечкой хлеба в промышленных масштабах
развилась целая отрасль по производству прессованных дрожжей. Крупный
современный хлебозавод потребляет ежедневно десятки килограммов дрожжей, поскольку
на каждые 12 кг муки потребляется примерно 2 кг дрожжей. Как правило,
пекарские дрожжи в настоящее время специальным образом высушивают, чтобы сохранить
жизнеспособность дрожжевых клеток; такая обработка облегчает перевозку и
хранение дрожжей.
МИКРОБЫ КАК
ИСТОЧНИК БЕЛКА
Благодаря своему быстрому росту, высокому содержанию белка и способности
использовать дешевые органические субстраты микроорганизмы являются ценным
потенциальным источником питания животных. Потребности животноводства привели
к развитию новой отрасли промышленности — производству дрожжей, которые
добавляют в корм животным. Поскольку задача этого производства состоит в
получении клеточной массы, микроорганизмы выращивают при интенсивной аэрации,
чтобы получить максимальный урожай. Но даже в этом случае при использовании
углеводов в качестве субстратов они частично сбраживаются в спирт, поэтому
вместо дрожжей, вызывающих брожение, используют строго аэробные дрожжи рода
Candida.
Выращивание дрожжей
на углеводородах нефти
Стоимость сырья — фактор первостепенной важности при производстве
микроорганизмов в качестве корма, и для выращивания кормовых дрожжей вначале
использовали дешевые источники углеводов (например, сыворотку, мелассу, другие
отходы производства). Однако в аэробных условиях субстратом могут служить любые
соединения, поддерживающие дыхательный метаболизм, в частности углеводороды
нефти. Нефть пока гораздо дешевле, чем другие возможные субстраты, а
поскольку углеводороды — самые восстановленные из органических соединений, рост на
них идет весьма эффективно.
Небольшой промышленный ферментер для выращивания микроорганизмов.
Промышленная компания «Бритиш петролеум» построила во Франции предприятие
для выращивания Candida lipolytica в водной эмульсии неочищенной нефти. Эти
дрожжи могут окислять алифатические неразветвленные углеводороды с длиной
цепи от Ci2 до Cis — соединения, составляющие часть сложной смеси алканов,
которую представляет собой неочищенная нефть. При таком избирательном удалении
определенных углеводородов благодаря росту Candida lipolytica нефть
освобождается от смолистых веществ и ее гораздо легче очистить. Экономически этот
процесс выгоден в двух отношениях: упрощается очистка нефти и синтезируется
белок.
Ферментер для масштабирования микробиологических технологий от
лабораторных условий к промышленным.
В настоящее время интенсивно разрабатываются и другие методы получения
бактериального белка на основе использования дешевых субстратов. Один из таких
потенциальных субстратов — газ метан, главный продукт нефтехимического
производства. Однако, чтобы наладить аффективный самоокупаемый процесс, необходимо
разрешить еще много проблем. Важнейшие из них — относительно медленный рост
бактерий, окисляющих метан, и их склонность к выделению большого количества
слизи.
Получение
некоторых
аминокислот
Ценность микроорганизмов при использовании их в качестве корма или добавки
к корму для скота состоит в высоком содержании в биомассе белка. В связи с
этим микроорганизмы являются наилучшим орудием для быстрого и эффективного
превращения доступных органических соединений в нужный белок. Это становится
особенно очевидно, если сравнить эффективность образования белка сельскохо-
зяйственными животными и дрожжами. Так, в организме быка весом 500 кг за 24 ч
образуется примерно 0,4 кг белка. 500 кг дрожжей синтезируют за то же время в
благоприятных условиях более 5000 кг белка.
Многие растительные корма содержат достаточно белка, чтобы удовлетворить
пищевые потребности млекопитающих в количественном отношении, но они не могут
служить единственным источником белка, так как обеднены некоторыми
необходимыми аминокислотами. Белки пшеницы бедны лизином, белки риса — лизином и
треонином, кукурузы — триптофаном и лизином, белки бобов и гороха — метионином.
Добавление недостающей аминокислоты (или аминокислот) в рацион, содержащий
единственный источник растительного белка, делает этот рацион полноценным.
Целесообразность добавления отдельных аминокислот в пищу была четко
обоснована в многочисленных экспериментах, как на животных, так и на человеке.
Нехватка определенных аминокислот, в первую очередь лизина, треонина и метиони-
на, является более важной проблемой, чем нехватка белка. Поэтому возможность
использования микроорганизмов для получения определенных аминокислот
интенсивно исследуется.
Метаболизм микроорганизмов находится под строгим контролем механизмов
регуляции, поэтому в норме синтезируется ровно столько аминокислот, сколько
необходимо для роста микробов. Однако вследствие нарушения механизмов регуляции
определенных путей биосинтеза у некоторых встречающихся в природе и мутантных
штаммов микроорганизмов синтезируется значительно больше определенных
аминокислот . В настоящее время разработаны соответствующие методы получения ряда
важных аминокислот, и эти методы постоянно совершенствуются.
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ
УКСУСНОКИСЛЫХ
БАКТЕРИЙ
Если вино и пиво подвергаются воздействию воздуха, они часто портятся —
скисают. Скисание обусловлено окислением спирта до уксусной кислоты, которое
осуществляют строго аэробные уксуснокислые бактерии. Спонтанное скисание вина
лежит в основе традиционного метода получения уксуса. (На французском языке
слово «уксус», vinaigre, означает буквально «кислое вино».)
Производство уксуса все еще остается в основном эмпирическим процессом.
Усовершенствования, введенные на протяжении прошлого столетия, касались
главным образом механических, а не микробиологических аспектов производства. В
традиционном орлеанском методе, который до сих пор используют во Франции,
деревянные чаны наполняют вином, на поверхности которого развиваются
уксуснокислые бактерии, образующие студенистую пленку. Превращение этанола в
уксусную кислоту занимает несколько недель — скорость процесса лимитируется
диффузией воздуха в жидкость. Получается продукт очень высокого качества, чем и
объясняется то, что этот неэффективный метод применяется до сих пор.
Когда вкус продукта не имеет первостепенного значения, уксус делают более
простыми методами и из более дешевого сырья (например, из разведенного
перегнанного спирта и сидра). Окисление ускоряется благодаря улучшению аэрации и
контролю температуры, но с микробиологической точки зрения процесс остается
неконтролируемым. Самый старый из этих методов был разработан в XIX в.
Бродильный чан заполняют деревянными стружками, не утрамбовывая их, и
впрыскивают тонкими струйками спиртовой раствор, а навстречу ему вдувают воздух.
Уксуснокислые бактерии развиваются на стружках в виде тонкой пленки; тем самым
максимально увеличивается площадь, и аэрируемая, и богатая питательной
средой. После развития на поверхности стружек популяции бактерий следующие
партии уксуса производятся довольно быстро; раствор, содержащий вначале 10%
спирта, можно превратить в уксусную кислоту за 4—5 дней. Этот метод до сих
пор применяется довольно широко, но в настоящее время все чаще используются
глубокие бродильные чаны с интенсивным перемешиванием, подобные тем, которые
применяются при получении антибиотиков.
Окисление этанола до уксусной кислоты — пример неполного окисления, которое
осуществляется уксуснокислыми бактериями. Промышленное значение имеют и
некоторые другие неполные окислительные превращения под действием этих бактерий.
Так, используя уксуснокислые бактерии, из глюкозы получают глюконовую
кислоту, которая применяется в фармацевтической промышленности. Уксуснокислые
бактерии превращают ряд многоатомных спиртов в сахара. Одна из таких реакций
используется в промышленности для получения сорбозы из сорбитола. Сорбоза
служит суспендирующим агентом при приготовлении многих лекарственных препаратов
и является промежуточным продуктом синтеза L-аскорбиновой кислоты (витамина
С) .
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ
МОЛОЧНОКИСЛЫХ
БАКТЕРИЙ
Молочнокислые бактерии образуют большое количество молочной кислоты из
сахара. Это приводит к снижению рН среды, в которой они росли, и предотвращает
развитие большинства других микроорганизмов. Поэтому размножение
молочнокислых бактерий способствует сохранению пищевых продуктов; кроме того, они
образуют вещества, влияющие на вкусовые качества пищи.
Молочные
продукты
При изготовлении таких молочных продуктов, как масло, сыр и йогурт,
используются различные микроорганизмы, но наиболее широко — молочнокислые бактерии.
Осознание роли, которую играют микроорганизмы в получении этих продуктов,
привело к развитию особой ветви микробиологии — микробиологии молока и
молочных продуктов.
Многие молочнокислые бактерии изначально присутствуют в молоке и вызывают
его спонтанное скисание. Заквашивание молока представляет собой своеобразный
способ консервации этого весьма скоропортящегося в обычных условиях продукта,
и изготовление сыра и других продуктов путем створаживания молока,
несомненно, возникло как способ его консервации.
Производство сыров состоит из двух основных этапов: створаживания белков
молока, образующих твердый осадок, из которого удаляется жидкость, и
созревания творога под действием различных бактерий и грибов (хотя некоторые сыры
почти не проходят стадию созревания).
Процесс створаживания может быть чисто микробиологическим, так как кислоты,
образуемой молочнокислыми бактериями, достаточно для свертывания молочных
белков. Однако часто для этой цели используется фермент, названный реннином.
Последующее созревание творога — очень сложный процесс, особенности его
зависят от того, какой сорт сыра хотят получить. Процессы созревания в
химическом отношении весьма многообразны. В молодом сыре весь азот входит в состав
нерастворимого белка, но по мере созревания сыра белок расщепляется на
растворимые пептиды и, в конце концов, — на свободные аминокислоты. Далее
аминокислоты могут расщепляться с образованием аммиака, жирных кислот и аминов. В
некоторых сырах расщепление белка ограничено. Например, в чеддере и
швейцарском сыре в растворимые продукты превращается всего 25—35% белка, в мягких
сырах, например в камамбере и лимбургском сыре, — практически весь белок.
Помимо изменений в белковых компонентах, при созревании происходит гидролиз
значительной части жиров, содержащихся в молодом сыре. Определенный вклад в
процесс созревания вносят ферменты, присутствующие в препарате реннина, но
основную роль играют ферменты бактериального происхождения, содержащиеся в
сыре. Твердые сыры созревают главным образом под действием молочнокислых
бактерий, которые растут в сырой массе, гибнут, подвергаются автолизу и
высвобождают гидролитические ферменты. Мягкие сыры созревают под действием ферментов
дрожжей и других грибов, растущих на поверхности.
ТАБЛИЦА 2.2. Микробиология молочных продуктов
Продукт
Сливочное масло
Йогурт
Кефир
Сыры (в целом)
Твердые сыры (напри-
мер, чеддер или
швейцарский)
Мягкие сыры (напри-
мер, камамбер, бри и
лимбургский)
Швейцарский сыр
Рокфор
Процесс
Молочнокислое брожение
То же
Спиртовое и
молочнокислое брожение
Первичное молочнокислое
брожение:
при температуре 35°С
при температуре 42°С
Протеолиз и липолиз
То же
Пропионовокислое
брожение
Липолиз н образование
синего пигмента
Основные микроорганизмы
Lactobacillus bulgaricus
L. bulgaricus +
Streptococcus thermophilus
Streptococcus lactis +
L. bulgaricus +
сбраживающие лактозу дрожжи
S. lactis или S. cremoris
Различные термофильные
молочнокислые бактерии, в основном
Lactobacillus
Различные молочнокислые
бактерии в сыре
Вначале на поверхности сыра
растут грибы (Geotrichum
candidum и Penicillium spp.),
затем иногда развиваются
Bacterium linens и
В. erythrogenes
Propionibacterium spp.
Penicillium roqueforti
Некоторые микроорганизмы играют весьма специфическую роль в созревании
определенных сортов сыра. Синяя или зеленоватая окраска и неповторимый вкус
рокфора обусловлены ростом в толще сыра синей плесени Penicillium
roqueforti2. Характерные «ноздри» в швейцарском сыре образуются за счет
выделения двуокиси углерода — продукта пропионовокислого брожения молочной
кислоты под действием бактерий рода Propionibacterium.
Получение сливочного масла также является отчасти микробиологическим
процессом, поскольку для отделения жира в процессе сбивания необходимо
предварительное скисание сливок, которое вызывают стрептококки молока. Эти
микроорганизмы образуют небольшое количество ацетоина, спонтанно окисляемого до
диацетил а, обусловливающего вкус и запах масла. Стрептококки сильно различаются по
способности образовывать ацетоин, поэтому обычно пастеризованные сливки зара-
2 Иногда при изготовлении сыров, созревающих под действием плесени, используют
бесцветный мутант Penicillium roqueforti, чтобы учесть запросы тех потребителей, кому
нравится вкус, но неприятна окраска сыра.
жают чистыми культурами отобранных штаммов.
Во многих странах молоко подвергают спонтанному сбраживанию смешанного типа
под действием молочнокислых бактерий и дрожжей; при этом получаются кислые,
иногда содержащие небольшое количество алкоголя напитки (например, кумыс).
Роль микроорганизмов в производстве молочных продуктов суммирована в табл.
2.2.
Молочнокислое брожение
продуктов растительного
происхождения
На растительных продуктах обычно присутствуют определенные молочнокислые
бактерии. Эти микроорганизмы ответственны за процессы, происходящие при
приготовлении соленых огурцов, кислой капусты и маслин. При молочнокислом
брожении такого рода субстратом брожения служат присутствующие в растительных
продуктах сахара. Образующаяся молочная кислота придает продукту специфический
вкус и предотвращает дальнейшее развитие в нем микроорганизмов.
Молочнокислое брожение как средство сохранения продуктов от порчи
используется также при силосовании корма для скота. После того, как растительный
материал претерпел брожение, его можно хранить в течение длительного времени,
не опасаясь разложения.
Получение декстрана
Некоторые молочнокислые бактерии, относящиеся к роду Leuconostos, при
выращивании на сахарозе выделяют в среду большое "количество полисахарида,
который называется декстраном. Декстран — полиглюкоза с высоким, хотя и
варьирующим для разных штаммов молекулярным весом (от 15000 до 20000000). Эти
молочнокислые бактерии привлекли к себе внимание микробиологов из-за тех
неприятностей, которые причинили пищевой промышленности: они размножались в
установках по очистке сахара, и огромное количество образующегося клейкого
полисахарида очень мешало производству.
В настоящее время декстран производят промышленным способом. Это
производство стимулировалось тем, что, как оказалось, поперечносшитые нерастворимые в
воде производные декстрана можно использовать в качестве молекулярных сит.
Колонки с такими модифицированными декстранами (коммерческое название сефа-
декс) задерживают небольшие молекулы, что позволяет разделять растворенные
вещества, различающиеся по молекулярному весу. Колонки с сефадексом после
соответствующей калибровки можно использовать для определения молекулярных
весов в диапазоне от 700 до 800 000.
Другой класс полисахаридов, получаемых микробиологической промышленностью,
— это сложные в химическом отношении внеклеточные полисахариды, синтезируемые
аэробными псевдомонадами группы Xanthomonas. Благодаря своим физическим
свойствам эти вещества способны образовывать тиксотропные гели, устойчивые к
нагреванию. Эти свойства позволяют широко использовать данные полисахариды в
промышленности, в первую очередь в качестве смазочных материалов при бурении
нефтяных скважин и в качестве загустителя для водо-растворимых красок.
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ
МАСЛЯНОКИСПЫХ
БАКТЕРИЙ
Для высвобождения определенных компонентов растительных тканей издавна
используется вымачивание — регулируемое разложение растительных материалов под
действием микроорганизмов. Древнейший из таких процессов, который
использовался человеком на протяжении нескольких тысячелетий, — вымачивание льна и
пеньки для получения волокон, применяемых затем для изготовления холста. В
стебле растения эти волокна, состоящие из целлюлозы, соединены друг с другом
связывающим веществом пектином; разделить их физическими методами очень
трудно . Вымачивание разрушает пектин и разъединяет волокна. Стебли растений
замачивают в воде; по мере набухания развиваются аэробные микроорганизмы, которые
используют весь растворенный кислород и создают подходящие условия для
последующего развития анаэробных маслянокислых бактерий. Эти микроорганизмы
эффективно разрушают пектин и разъединяют волокна. Если вымачивание затягивается,
в среде могут развиться бактерии, сбраживающие целлюлозу, которые разрушают и
волокна.
Процесс, аналогичный вымачиванию, применяется для получения картофельного
крахмала. Его цель — освободить клетки картофельного клубня, содержащие
крахмал , от пектина, который их окружает.
Брожение с образованием
ацетона и бутанола
ацетонобутиловое
брожение
В течение последних 50 лет для производства промышленных растворителей
ацетона и бутанола широко использовались некоторые виды Clostridium. Многие кло-
стридии сбраживают сахара с образованием двуокиси углерода, водорода и
масляной кислоты. Некоторые из них превращают далее масляную кислоту в бутанол, а
уксусную кислоту — в этанол и ацетон. Промышленное освоение так называемого
ацетонобутилового брожения, которое осуществляется Clostridium acetobutyli-
cum, началось в Англии накануне первой мировой войны. Во время войны это
производство стало быстро развиваться, поскольку ацетон использовался как
растворитель при производстве взрывчатых веществ. С окончанием войны спрос на
ацетон упал, но само производство не утратило своего значения, поскольку
второй основной продукт брожения, бутанол, стал применяться как растворитель,
обеспечивающий быстрое высыхание нитроцеллюлозных красок, которые применяются
в автомобильной промышленности. Рентабельность производства была связана еще
и с тем, что в качестве побочного продукта брожения можно было получать
витамин рибофлавин.
В настоящее время эта отрасль микробиологической промышленности почти
полностью исчезла в результате развития более эффективных методов синтеза данных
продуктов. Ацетон и бутанол получают в больших количествах из нефти, а
рибофлавин — в основном микробиологическими методами, основанными на использовании
дрожжей.
Ацетонобутиловое брожение внесло важный вклад в развитие технологии
промышленной микробиологии. Это был первый крупномасштабный процесс, для успешного
протекания которого решающее значение имело исключение посторонних
микроорганизмов. Среда, используемая для выращивания Clostridium acetobutylicum,
благоприятна и для развития молочнокислых бактерий, которые быстро подавляют
дальнейший рост клостридиев. Еще более серьезная проблема — заражение среды
бактериальными вирусами, к которым клостридии весьма чувствительны. Таким
образом, ацетонобутиловое брожение может осуществляться только при тщательном
микробиологическом контроле. Создание этой отрасли промышленности привело к
первому успешному крупномасштабному внедрению метода чистых культур, который
позднее был усовершенствован в связи с промышленным производством
антибиотиков .
ПОЛУЧЕНИЕ
ЛЕКАРСТВЕННЫХ
ПРЕПАРАТОВ
За время, прошедшее после окончания второй мировой войны, возникла и очень
быстро развилась еще одна отрасль промышленности, основанная на использовании
микроорганизмов, — получение лекарственных препаратов, в первую очередь
антибиотиков и гормонов. Развитие этой отрасли имело очень важные и далеко идущие
социальные последствия. С помощью лекарственных препаратов удается излечивать
почти все инфекционные бактериальные заболевания, которые до начала эры
антибиотиков были основной причиной смертности. В США бактериальные инфекции в
настоящее время — более редкая причина смерти, чем самоубийства или дорожные
происшествия.
Развитие
химиотерапии
Роль приобретенного иммунитета как средства защиты организма от
определенных заболеваний, вызванных бактериями, была выявлена вскоре после открытия
роли микроорганизмов в этиологии инфекционных болезней. В течение нескольких
последующих десятилетий лечение таких болезней основывалось исключительно на
использовании антисывороток и вакцин и носило главным образом
профилактический характер; обычно после развития заболевания для его лечения удавалось
сделать очень немного.
Немецкий химик Пауль Эрлих разработал другой подход к лечению инфекционных
заболеваний; он попытался чисто эмпирически подобрать синтетические
химические соединения, обладающие избирательной токсичностью для патогенных
микроорганизмов . Этот подход к лечению инфекционных заболеваний он назвал
химиотерапией. Усилия Эрлиха увенчались некоторым успехом: в 1909 г. он нашел
синтетические органические соединения, содержащие мышьяк, которые были эффективны
при лечении сифилиса и других инфекций спирохетами, но давали опасные
побочные эффекты.
Следующий значительный успех в химиотерапии был достигнут также
эмпирическим путем. Исследуя антибактериальную химиотерапевтическую активность
анилиновых красителей, обнаружили одно эффективное соединение этого класса, прон-
тозил. Однако in vitro пронтозил не обладал никаким антибактериальным
действием, поскольку, как выяснилось позднее, его антибактериальная активность при
введении зараженным животным обусловлена образованием в организме бесцветного
продукта расщепления пронтозила - сульфаниламида. Сульфаниламид обладает
антибактериальной активностью как in vitro, так и in vivo. Вудс (D. D. Woods)
обнаружил, что подавление роста бактерий сульфаниламидом можно снять одним из
его структурных аналогов, n-аминобензойной кислотой (рис. 2.1). Отсюда Вудс
сделал ряд блестящих умозаключений: n-аминобензойная кислота является
нормальным компонентом бактериальной клетки; она обладает коферментативной
функцией; эта функция блокируется сульфаниламидом благодаря сходству его в
структурном отношении с n-аминобензойной кислотой. В действительности п-
аминобензойная кислота оказалась не коферментом, а биосинтетическим
предшественником кофермента фолиевой кислоты; сульфаниламид блокирует его превращение
в этот конечный продукт. Избирательная токсичность сульфаниламида обусловлена
тем, что большинство бактерий синтезируют фолиевую кислоту de novo, в то
время как млекопитающие получают ее с пищей.
Работа Вудса заложила основу для нового подхода к химиотерапии — синтеза
аналогов известных необходимых метаболитов. В последующие годы были
синтезированы и исследованы тысячи структурных аналогов аминокислот, пуринов, пири-
мидинов и витаминов, но полезных в химиотерапевтическом отношении веществ
оказалось среди них совсем немного.
NH2 NH2
v v
I I
SO,—NH2 COOH
Сульфаниламид Пара-аминобенэойная
кислота
Рис. 2.1. Структурные формулы сульфаниламида и n-аминобензойной кислоты
Прогресс, достигнутый современной химиотерапией, — результат счастливой
случайности: оказалось, что многие микроорганизмы синтезируют и выделяют
вещества, избирательно токсичные для других микроорганизмов. Эти соединения,
названные антибиотиками, произвели настоящую революцию в медицине.
Первый эффективный антибиотик был открыт А. Флемингом (A. Fleming) в 1929
г. Как и многие другие до него, Флеминг заметил, что на чашке с культурой
бактерий, загрязненной плесенью, рост бактерий вблизи колоний плесени
подавляется. Он сделал вывод, что плесень выделяет в среду какое-то вещество,
препятствующее росту бактерий. Поняв всю важность этого факта, Флеминг выделил
плесень, которая оказалась одним из видов Penicillium, и установил, что
фильтраты культуры содержат антибактериальное вещество, названное им
пенициллином .
Пенициллин оказался химически нестабильным, и Флеминг не смог очистить его.
Работая с неочищенными препаратами, он показал, что пенициллин чрезвычайно
эффективно подавляет рост многих бактерий, и даже с успехом использовал его
для наружного применения при лечении глазных болезней человека. Тем временем
была открыта химиотерапевтическая активность сульфаниламидов, и Флеминг,
разочарованный неудачами при попытке очистить пенициллин, прекратил дальнейшую
работу над этой проблемой.
Спустя десять лет группа английских ученых во главе с Флори (Н. W. Florey)
и Чейном (Е. Chain) возобновила исследования. Клинические испытания частично
очищенного материала были поразительно успешными. Но в это время Англия
воевала, и центр исследований переместился в США, где начались интенсивные
поиски способов получения пенициллина. Через 3 года пенициллин производился в
промышленных масштабах. Это поразительное достижение, учитывая множество
трудностей, которые пришлось преодолеть3.
Пенициллин до сих пор остается одним из наиболее эффективных химиотерапев-
тических препаратов для лечения многих бактериальных инфекций, в первую
очередь инфекций, вызываемых грамположительными4 бактериями. Необычайный успех
при таком лечении побудил к интенсивным поискам новых антибиотиков.
3 В СССР в 1942 г. 3. В. Ермольева и сотрудники получили высокопродуктивный штамм
Penicillum chrysogenum, на основе которого было налажено промышленное производство
пенициллина.
4 Метод Грама — метод окраски микроорганизмов для исследования, позволяющий
дифференцировать бактерии по биохимическим свойствам их клеточной стенки. Виды бактерий,
которые оказываются окрашенными в синий цвет, называют грамположительными
бактериями, а те, которые окрашиваются в красный — грамотрицательными.
Лабораторный ферментер для микробиологических исследований.
Второй клинически важный антибиотик, стрептомицин, эффективен против гра-
мотрицательных бактерий и возбудителя туберкулеза; он был открыт Шатцом (А.
Schatz) и Ваксманом (S. Waksman). Стрептомицин оказался первым антибиотиком,
обладающим широким спектром действия, эффективным против многих грамположи-
тельных и грамотрицательных бактерий. Впоследствии были обнаружены другие
антибиотики с еще более широким спектром действия (например, тетрациклины). Для
лечения грибковых заболеваний антибиотики оказались менее пригодными:
антигрибковые антибиотики, например нистатин и амфотерицин В, гораздо менее
эффективны в терапевтическом отношении, чем другие антибактериальные препараты.
Частично это обусловлено тем, что их токсическое действие гораздо менее
избирательно . Хорошие противовирусные антибиотики еще только предстоит найти.
С 1945 г. выделены и охарактеризованы тысячи различных антибиотиков,
синтезируемых грибами, актиномицетами или одноклеточными бактериями. Большинство
из них очень ценны в терапевтическом отношении. В настоящее время в больших
количествах производится около 50 антибиотиков; они используются как в
медицине, так и в ветеринарии. Их номенклатура довольно сложна; один и тот же
антибиотик часто имеет несколько названий. Для такого многообразия имеются две
причины. Во-первых, многие антибиотики сходны по своей структуре и образуют
отдельную группу. Необходимо дать название, как всей группе, так и каждому ее
представителю. Во-вторых, фирма, производящая данный антибиотик, присваивает
ему коммерческое название, которое юридически может использовать только эта
фирма. Кроме того, для защиты данной торговой марки закон требует, чтобы
этому антибиотику было дано еще одно название, предназначенное для широкого
использования , — родовое название. Наличие многочисленных названий у одного и
того же лекарства можно проиллюстрировать на примере антибиотика, которому в
США. присвоено родовое название рифампин. Родовое название того же соединения
в Европе — рифампицин, групповое название — рифамицин, коммерческое — ри-
фактин, рифадин и др.
Родовые названия, биологические источники и механизмы действия некоторых
антибиотиков приведены в табл. 2.3.
Химическая структура антибиотиков весьма разнообразна. В качестве примера
на рис. 2.2 приведены структурные формулы представителей некоторых классов
антибиотиков.
Таблица 2.3. Свойства некоторых антибиотиков
Класс
химических
соединений
р-Лактамы
Макролиды
Аминоглико-
ЗИДЫ
Тетрацикли-
ны
Полипептиды
Полиеновые
антибиотики
Родовое
название
Пенициллины
Цефалоспо-
рины
Эритромицин
Стрептомицин
Неомицин
Тетрациклин5
Полимиксин G
Банитрацин
Амфотерицин В
Нистатин
Хлорамфени-
кол6
Биологический
источник
Penicillium
spp.
Cephalospo-
rium spp.
Streptomy-
ces
erythreus
S. griseus
S. fradiae
Streptomy-
ces aureo-
faciens
Bacillus
polymyxa
B. subtilis
S. nodosus
S. nouresii
S. vene-
zuelae
Объект химиотера-
певтического
действия
Грамположительные
бактерии
Грамположительные
и грамотрицатель-
ные бактерии
Грамположительные
бактерии
Грамположительные
и грамотрицатель-
ные бактерии
Грамположительные
и грамотрицатель-
ные бактерии,
риккетсии, бедсо-
нии
Грамотрицательные
бактерии
Грамположительные
бактерии
Грибы
Грамположительные
и
грамотрицательные бактерии;
риккетсии
Механизм
действия
Подавляют синтез
бактериальной
клеточной стенки
(пептидогликана)
Подавляют функцию
5 0 S-субъединицы
рибосомы
Подавляют функцию
3 0 S-субъединицы
рибосомы
Ингибирует
связывание амино-ацил-
тРНК с рибосомой
Разрушает цито-
плазматическую
мембрану
Подавляет синтез
компонента
бактериальной
клеточной стенки
(пептид огликана )
Действуют на
мембраны , содержащие
стеролы
Подавляет работу
рибосомы на
уровне трансляции
Механизм
действия
антибиотиков
Поиски новых антибиотиков остаются чисто эмпирическим процессом, а их
физиологическое значение для продуцирующих их микроорганизмов неясно. Однако
причины избирательной токсичности антибиотиков в настоящее время в
большинстве случаев известны. В целом это связано с фундаментальными биохимическими
различиями между клетками прокариот и эукариот, а токсическое действие
антибиотиков есть следствие их способности подавлять одну необходимую
биохимическую реакцию, специфичную для клетки того или иного типа.
5 Сначала микробиологическим методом получают хлортетрациклин, а затем отщепляют от
него хлористый водород.
6 В настоящее время получают путем химического синтеза.
он/ н
NHCH,
Стрептомицин (аминогликаэид)
NH-C-NH,
ОН Н Дн
N
ОН О ОН О
Тетрациклин
ОН
CONH2
н,с^сн3
NO.
Эритромицин (макролид)
r-c-nh-ch—c^ "х:^1"3
В 1 I 1"СН3
О С N СН—СООН
(I
о
Пенициллины (fi-лактам)
СНз
н—с-он о
I D
H-c-NH-c-cHar
I
СН2ОН
Хлорамфеникол
ДАМ
L-Лёи L-ДАМ
L-Tpe
I
О-Фен
i
ДАМ 1-ДАМ
L^lAff
I
1-Тре
ДАМ СИ>
NH-C-(CH2)r-CH-CH2CH3
О
Полимиксин В (nonunenmudj
но
Н
н
НзС
ОН
Филипин
СНз
Рис. 2.2. Структурные формулы некоторых антибиотиков. Рисунок иллюстрирует
разнообразие классов к которым они относятся. Полимиксин В — циклический
полипептид, в который входят аминокислотные остатки: лейцин (Лей), фенилаланин
(Фен), треонин (Тре) и ос, у~Диаминомасляиая кислота (ДАМ).
Производство
антибиотиков
Антибиотики были первыми микробными метаболитами — продуктами промышленного
производства, которые не являются основными конечными продуктами метаболизма.
Их выход, рассчитанный исходя из количества превращенного основного источника
углерода в антибиотик, низок, и на процесс сильно влияют состав среды и
другие условия культивирования. Все это заставило предпринять интенсивные
исследования, направленные на повышение продуктивности процесса. Особенно успешным
оказался в этом плане генетический отбор. Штамм Penicillium chrysogenum
дикого типа, первоначально используемый для производства пенициллина, давал
примерно 0,1 г пенициллина на 1 л культуры. Был отобран мутант, который при тех
же условиях давал 8 г на 1 л, т.е. выход увеличился в 80 раз. Отбор нужных
штаммов после химического мутагенеза позволил получить новые формы с еще
более высоким выходом. С помощью такого последовательного генетического отбора
часто удавалось получить тысячекратное увеличение продуктивности. Отбор
проводился большей частью эмпирически, исходя из оценки способности множества
мутантных клонов образовывать антибиотик. Однако по мере получения новых
данных о путях биосинтеза антибиотиков подходы к отбору становятся все более
обоснованными. В настоящее время можно отобрать штаммы, в которых регуляция
синтеза известных предшественников данного антибиотика изменена в результате
мутации. Такие штаммы образуют большие количества предшественников, а иногда
и большие количества конечного продукта — антибиотика.
Penicillium chrysogenum на поверхности агара в чашке Петри.
Синтез антибиотиков начинается только после почти полного прекращения роста
микроорганизмов, продуцирующих их (рис. 2.3). Антибиотики принадлежат к
группе микробных продуктов, которые называют вторичными метаболитами, поскольку
их синтез не связан с ростом микроорганизмов. Регуляторные механизмы, которые
включают синтез вторичных метаболитов, как только прекращается рост, — очень
интересный, но почти неисследованный аспект биохимической регуляции.
Хотя все микроорганизмы, используемые для производства антибиотиков,
являются аэробами и выращиваются в условиях интенсивной аэрации, процесс
образования антибиотиков в технической литературе часто называют ферментацией. Ан-
тибиотики получают с помощью так называемых методов глубинного
культивирования в глубоких ферментерах из нержавеющей стали, содержимое которых
интенсивно аэрируют и перемешивают. Аэрация крайне необходима для повышения
продуктивности, и стоимость энергии, расходуемой на нее, составляет значительную
часть стоимости продукта.
*4|
•ч
к
3
^
13
X.
1 2.
S 1
«j
3
^
£
II у
\ж S I 1
20 40 60
йпрма и
i
Т~"
;
i . 1
80 100
\1600 «g
о
*
3
«;
1200 |
3
£
800 о
1400 2
.о
ьс
Рис. 2.3. Кинетика роста Penicillium chrysogenum (кривая I) и
образования пенициллина (кривая II).
Лропициллин
Метициллин
Ампициллин
Снсоииллин
О-о-сн-ci
сн,
СН,
осн.
Ч>-оснэ
U^VcH-c^
L JT« и
Рис. 2.4. Некоторые полусинтетические пенициллины, используемые
в настоящее время в клинике; справа приведены структурные
формулы введенных химически ацильных заместителей (рис. 2.2).
Когда микроорганизмы выращивают в аэробных условиях в ферментерах емкостью
в десятки тысяч литров в богатой неселективной среде, возникает множество
проблем, связанных с необходимостью поддерживания культуры, что совершенно
необходимо для успешного производства антибиотиков. Это стало ясно при
производстве пенициллина. Многие бактерии синтезируют фермент пенициллиназу,
катализирующую гидролитическое расщепление четырехчленного Р-лактамного кольца
пенициллина, в результате чего теряется антибиотическая активность препарата.
Загрязнение ферментера бактериями, продуцирующими пенициллиназу, может
привести к полному разрушению продуцируемого пенициллина.
В цехе ферментеров для производства пенициллина (Bristol-Myers Squibb).
Иногда антибиотики подвергают последующей химической модификации. Один из
примеров — химическое замещение ацильной группы природных пенициллинов (эта
группа обозначена в структурной формуле, приведенной на рис. 2.2, буквой R) с
образованием разнообразных полусинтетических пенициллинов (рис. 2.4). Еще
один пример — каталитическое отщепление хлористого водорода от хлортетрацик-
лина с образованием более активного соединения тетрациклина.
Устойчивость
микробов к
антибиотикам
Эра антибиотиков в медицине началась примерно в 50 годах прошлого столетия,
однако вопрос о том, как долго она продлится, остается открытым. Хотя поиски
новых антибиотиков продолжаются с прежней интенсивностью, частота их обнару-
жения резко снизилась; большинство действительно эффективных антибиотиков,
видимо , уже открыто. Кроме того, с угрожающей скоростью стали появляться
штаммы патогенных бактерий, устойчивых к антибиотикам. В то время, когда
пенициллин G только начал применяться в медицине, большинство штаммов
стафилококков были к нему чувствительны, а в настоящее время практически все
известные стафилококковые инфекции устойчивы к этому антибиотику. Еще более важная
проблема — появление штаммов бактерий, устойчивых одновременно к нескольким
антибиотикам, так называемых штаммов с множественной устойчивостью. Например,
с 1954 по 1964 г. частота встречаемости штаммов Shigella с таким свойством в
больницах Японии увеличилась с 0,2 до 52%.
Устойчивость бактерий к антибиотикам иногда обусловлена мутацией в
хромосомном гене, которая изменяет структуру мишени в клетке. Хорошим примером
такого рода служит устойчивость к стрептомицину, приобретаемая в результате
мутации. Этот антибиотик нарушает синтез белка в микроорганизме, прикрепляясь к
одному из белков 30S-субъединицы рибосомы. Некоторые мутации в гене,
кодирующем этот рибосомный белок, нарушают его способность связывать стрептомицин,
но не влияют существенным образом на работу рибосомы; поэтому клетка с
подобной мутацией становится устойчивой к стрептомицину.
Устойчивость может быть обусловлена и проникновением в бактериальную клетку
плазмиды, принадлежащей к классу факторов резистентности (R-факторы). Эти
плазмиды часто обеспечивают устойчивость одновременно к нескольким
антибиотикам. Они несут гены, кодирующие ферменты, которые катализируют химические
модификации антибиотиков; в результате получаются производные, лишенные
антибиотической активности. Например, устойчивость к стрептомицину, которую
сообщает клетке R-фактор, может быть обусловлена аденилированием, фосфорилирова-
нием или ацетилированием антибиотика; все эти химические модификации приводят
к утрате антибиотической активности. Множественная устойчивость штаммов
бактерий почти всегда обусловлена R-факторами. Поскольку эти плазмиды имеют
широкий спектр хозяев и достаточно часто передаются от одного вида бактерий к
другому, их распространение в естественных бактериальных популяциях,
безусловно, самый серьезный аспект проблемы устойчивости микроорганизмов к
антибиотикам. Если эта проблема не будет решена, терапевтическая эффективность
антибиотиков в будущем вряд ли сохранится.
Превращения стероидов
под действием бактерий
Холестерин (рис. 2.5) и химически близкие стероиды — структурные компоненты
клеточных мембран эукариот и, следовательно, универсальные химические
компоненты эукариотических организмов. В ходе эволюции у позвоночных выработались
специальные метаболические пути для превращения этих универсальных
компонентов клетки в новые функционально специализированные стероиды — стероидные
гормоны, участвующие в регуляции развития и метаболизма животных. Стероидные
гормоны образуются в специализированных органах путем вторичных
метаболических превращений холестерина — С27-стероида. Кортикостероидные гормоны
синтезируются в коре надпочечника; это С21-соединения, например кортизон (рис.
2.5); половые гормоны синтезируются в яичниках и в семенниках и являются С1П-
или Cig-соединениями (рис. 2.5). Таким образом, у позвоночных в результате
сравнительно небольших изменений основной стероидной структуры возникли два
новых подкласса стероидных молекул с высокоспецифичными физиологическими
функциями и с высокой биологической активностью.
Выяснение структуры и основных функций стероидных гормонов млекопитающих
было завершено после войны, но они стали применяться только в 1950 г. после
того, как было обнаружено, что кортизон чудесным образом снимает симптомы
ревматоидного артрита. В настоящее время кортизон и его производные широко
используются для лечения различных воспалительных процессов; кроме того,
стероидные гормоны нашли применение при лечении некоторых форм рака и в качестве
противозачаточных средств. Производство этих соединений стало в настоящее
время важной отраслью промышленности.
Рис. 2.5. Структурная формула холестерина (С27~стероида) и двух
стероидных гормонов млекопитающих, для которых холестерин
является биосинтетическим предшественником, — кортизона (С21-
стероида) и тестостерона (Cig-стероида).
Поскольку стероидные гормоны образуются в организме млекопитающего в
ничтожных количествах, было очевидно, что их выделение из организма животных не
может обеспечить потребностей в этих препаратах. Поэтому химики попытались
синтезировать стероидные гормоны из растительных стеролов, которые достаточно
широко распространены и могут быть получены без больших затрат. Однако вскоре
выявилось одно важное в химическом отношении препятствие. У всех
кортикостероидных гормонов в положении 11 ядра находится атом кислорода (рис. 2.6); он
включается путем специфического ферментативного гидроксилирования
биосинтетического предшественника в надпочечнике. Гидроксилировать стероидное ядро
химически не составляет труда, но ввести гидроксильную группу в определенное
положение необычайно сложно, и основным препятствием в разработке
экономически выгодного промышленного производства по синтезу кортизона из более
дешевых стероидов стал именно этот фактор.
Гидроксилирование
Образование двойной
связи чч.
и] 15J
Рис 2.6. Стероидное ядро с указанием нумерации атомов углерода и
локализации двух важных модификаций, осуществляемых микроорганизмами.
Затем было обнаружено, что многие микроорганизмы — грибы, актиномицеты и
бактерии — способны осуществлять частичное окисление стероидов, вызывая
небольшие, весьма специфичные структурные изменения в них. Локализация и
характер этих изменений часто определяются видом бактерий, так что, выбирая
подходящий микроорганизм, можно получить ту или иную модификацию в стероидной
молекуле. Особенно большое практическое значение имеет, конечно,
гидроксилирование стероидного ядра в 11-м положении, которое могут осуществлять Rhizopus
и другие грибы. Большое промышленное значение (особенно при синтезе
производного кортизона - преднизолона) имеет также процесс образования двойной связи
между атомами, находящимися в 1-м и 2-м положениях, путем дегидрирования,
осуществляемого Corynebacterium.
Большинство субстратов рассмотренных выше окислительных превращений,
осуществляемых микроорганизмами, нерастворимо в воде. Кроме того, модификация
субстрата, которую могут осуществить микроорганизмы, не обеспечивает их ни
углеродом, ни энергией. Поэтому стероидные субстраты добавляют в культуру к
моменту прекращения роста микробов в виде тонкодиспергированной суспензии.
Трансформированные продукты выделяются в среду. Несмотря на почти полную
нерастворимость субстратов в воде, многие из этих превращений происходят быстро
и с высоким выходом.
МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ
МЕТОДЫ БОРЬБЫ
С НАСЕКОМЫМИ
В середине прошлого века было описано образование кристаллических включений
в спорулнрующих клетках некоторых видов Bacillus. Все эти бациллы (Bacillus
thuringensis и родственные формы) патогенны для личинок (гусениц) некоторых
насекомых, в частности для ряда насекомых, принадлежащих к перепончатокрылым
(бабочки и близкие насекомые). После выделения кристаллических включений из
спорулнрующих бактериальных клеток было показано, что у личинок, питавшихся
листьями, которые покрыты очищенными кристаллами, воспроизводятся все
первичные симптомы, характерные для заболевания, развивающегося у насекомых при
естественном заражении. Кристаллы состоят из белка, нерастворимого в воде при
нейтральных или слегка кислых условиях, но растворимого в разведенной щелочи.
Содержимое кишечника личинки имеет щелочной рН, так что когда кристаллы
достигают кишечника, они растворяются и частично гидролизуются. Этот модифициро-
ванный белок действует на вещество, которое скрепляет клетки кишечника друг1 с
другом, вследствие чего содержимое кишечника свободно проникает в кровь
насекомого. Кровь сильно защелачивается, и развивается общий паралич. Смерть,
которая наступает гораздо позже, видимо, является результатом проникновения
бактерий в ткани организма.
Bacillus thuringensis под электронным микроскопом.
Кристаллы белка обладают весьма избирательной токсичностью для личинок
многих перепончатокрылых, но совершенно не токсичны для других животных (в том
числе для всех позвоночных) и для растений. Таким образом, они являются
идеальным средством борьбы со многими опасными насекомыми — вредителями,
уничтожающими урожаи сельскохозяйственных культур. Все это привело в последнее
время к развитию новой отрасли микробиологической промышленности —
крупномасштабному производству токсина, который вводится в распыляемые средства,
используемые для защиты растений от насекомых. При промышленном производстве
белковый токсин в химически чистом виде не выделяют. Вместо этого выращивают
большое количество бацилл, образующих кристаллы, собирают их после начала
споруляции вместе с кристаллами, высушивают и вводят в порошок.
ПОЛУЧЕНИЕ ДРУГИХ
ХИМИЧЕСКИХ ВЕЩЕСТВ
После того как стало ясно, что для синтеза сложного органического
соединения (например, антибиотика) часто дешевле использовать какой-либо
микроорганизм, чем синтезировать его искусственно, началось широкое применение
микроорганизмов в химической и фармацевтической промышленности. Такой способ
синтеза имеет большое преимущество и при получении оптически активных
соединений, поскольку химический синтез дает рацемические смеси, которые затем
приходится разделять.
Как уже обсуждалось выше, получение ацетона и бутанола с помощью микробов,
бывших в свое время основным источником этих соединений, сейчас заменено
почти повсеместно химическим синтезом. Тем не менее, многие сравнительно простые
и дешевые органические соединения получают все-таки микробиологическими
методами. К этим соединениям относится глюконовая кислота, которую образуют
Aspergillus niger и уксуснокислые бактерии, и лимонная кислота, продуцируемая
в клетках гриба А. niger.
Наглядный пример рентабельности промышленной микробиологии — производство
двух витаминов, витамина В12 и рибофлавина. Оба они в настоящее время
синтезируются преимущественно микробиологическими методами. Витамин В12
продуцируется некоторыми видами Pseudomonas. Хотя выход витамина очень низок, процесс
все-таки весьма рентабелен, учитывая высокую стоимость продукта: из-за
сложной структуры синтезировать витамин В12 искусственно очень трудно. Рибофлавин
(витамин В2) — гораздо более простое соединение, его легко синтезировать. Тем
не менее, этот витамин пока получают микробиологическими методами. Дело в
том, что некоторые патогенные для растений грибы (Ashbya gossypii и
Eremothecium ashbyi) образуют этот витамин в больших количествах и выделяют
избыток его в среду. В результате генетического отбора и совершенствования
методов культивирования были получены штаммы, образующие рибофлавин в таком
большом количестве, что витамин легко кристаллизуется в культуральной среде.
ПОЛУЧЕНИЕ ФЕРМЕНТОВ
Получение ферментов независимо от того, чистые они или частично очищены, —
важная отрасль промышленной микробиологии. Микробные ферменты широко
используются в медицине и промышленности (табл. 2.4).
ТАБЛИЦА 2.4. Перечень некоторых микробных
ферментов, получаемых в промышленных масштабах
Название
фермента
Диастаза
Кислотоустойчивая амилаза
Инвертаза
Пектиназа
Протеаза
Протеаза
Стрептокиназа
Коллагеназа
Липаза
Целлюлаза
Микроорганизм
источник
Aspergillus
orizae
A. niger
Saccharomyces
cerevisiae
Sclerotina
libertina
A. niger
B. subtilis
Streptococcus
sp.
Clostridium
histolyticum
Rhizopus sp.
Trichoderma
konigi
Применение
Производство глюкозных
сиропов ; лекарство, способствует
пищеварению
Способствует пищеварению
Изготовление сладостей
(предупреждает кристаллизацию
сахарозы)
Осветление фруктовых соков
Способствует пищеварению
Удаление желатины с
фотографических пленок для извлечения
серебра
Способствует заживлению ран и
ожогов
То же
Способствует пищеварению
То же
Катализируемая
реакция
Гидролиз
крахмала
То же
Гидролиз
сахарозы
Гидролиз
пектина
Гидролиз белка
То же
Гидролиз
белков
Гидролиз белка
(коллагена)
Гидролиз липи-
дов
Гидролиз
целлюлозы
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МИКРООРГАНИЗМОВ
В БИОЛОГИЧЕСКИХ ТЕСТ-СИСТЕМАХ
Микроорганизмы широко используются для биологических испытаний и тестов,
при определении концентрации различных соединений в сложных химических
смесях. Такие тесты можно применять для количественного определения факторов
роста, антибиотиков и других специфических ингибиторов роста.
Принцип определения факторов роста очень прост. Готовят среду, содержащую
все питательные вещества, необходимые для роста тестируемого организма, за
исключением того вещества, которое хотят определить. Если добавить это
вещество в среду в небольшом количестве, организм будет расти со скоростью,
пропорциональной количеству вещества. Таким образом, на первом этапе определяют
соотношение между количеством добавленного лимитирующего вещества и скоростью
роста микроорганизма (т.е. определяют коэффициент выхода). Пример определения
этого соотношения приведен на рис. 2.7.
0,2
QA 0,6 0,6
Пиридоксин. мг
U0
Рис. 2.7. Микробиологический метод определения пнридоксина.
Кривая представляет собой зависимость между весом сухой биомассы и
количеством внесенного пиридоксина. Использовался мутант плесени
Neurospora, нуждающийся в пиридоксине.
Если пробы материала, исследуемого на присутствие данного фактора роста,
добавить в основную среду, то его количество в пробах можно определить по
интенсивности роста. В биологических тестах часто используют молочнокислые
бактерии, поскольку они нуждаются в многочисленных факторах роста. Изменяя
основную среду так, чтобы лимитирующими были разные вещества, можно с помощью
одного и того же микроорганизма определить большое число различных
аминокислот и витаминов. Еще одно преимущество молочнокислых бактерий в таких
исследованиях состоит в том, что интенсивность их роста можно косвенно оценить по
количеству образовавшейся молочной кислоты. Содержание витаминов в продуктах
питания до сих пор определяют биологическими методами, но для определения
аминокислот в настоящее время применяют химические методы. Кроме того,
биологические методы определения — незаменимое средство обнаружения и очистки
новых факторов роста.
Количественное определение антибиотиков и других антимикробных веществ
проводится с помощью так называемого метода стерильных зон, который
первоначально был разработан для определения пенициллина. Агаризованную среду плотно
засевают индикаторными бактериями и на поверхность агара ставят ряд стеклянных,
цилиндров. В каждый из них помещают раствор антибиотика известной
концентрации и чашку инкубируют до тех пор, пока бактерии не вырастут. Во время
инкубации антибиотик диффундирует в окружающий агар и образует стерильную зону
подавления роста. Диаметр этой зоны есть функция концентрации антибиотика в
растворе, который был внесен в цилиндр. Калибровочная кривая, связывающая
диаметр зоны подавления роста с концентрацией антибиотика, позволяет
исследовать растворы, содержащие антибиотик в неизвестной концентрации. В другом
варианте стеклянные цилиндры заменяют бумажными дисками, смоченными растворами
антибиотика (рис. 2.8).
Рис. 2.8. Биологический метод определения антибиотиков. Чашку
Петри с питательным агаром засеяли исследуемыми бактериями и
нанесли на бумажные диски разное количество антибиотика. Измеряя
площадь зон, где рост бактерий подавлен, можно построить кривую
зависимости подавления роста от концентрации антибиотика.
Ликбез
ВСЕЛЕННАЯ В ЭЛЕКТРОНЕ
B.C. Барашенков
ВВЕДЕНИЕ
Мальчишкой я мечтал стать авиаконструктором. Это были первые послевоенные
годы, и мое воображение, еще не остывшее от военных сводок информбюро, было
захвачено проектами летающих танков-амфибий, сверхдальних бомбардировщиков,
истребителей «без мотора» — на реактивной тяге. О физике я не думал, она
казалась мне страшно скучной: динамометры, блоки, расчеты линз, нудные задачки
на теплоемкость. Но однажды мне в руки попала небольшая книжечка с
интригующим названием: «Лучи из мировых глубин». Откуда приходят к нам эти лучи, что
их порождает и разгоняет в пустом пространстве космоса до сверхвысоких
энергий — все было загадкой. Чтобы разгадать ее, ученые создавали сложные
приборы, опускали их в глубины океана, оставляли в недрах темных пещер, поднимали
на стратостатах в бескрайнюю голубизну неба. Опыты приносили новые загадки...
Оказалось, что физика — удивительно увлекательная и интересная наука! С
одной стороны — море фантазии: взрывающиеся частицы, бездны атомов, миры и
антимиры, а с другой — строгие доказательства, вязь математических формул,
понятных лишь посвященным. И я пошел учиться на физический факультет
университета.
С тех пор прошло сорок лет, и мне не наскучило заниматься физикой.
Сегодня физическая наука совсем не та, что была полвека назад. Современные
институты похожи на крупные заводы с сотнями научных сотрудников, тысячами
инженеров и рабочих. Залы, в которых размещаются физические установки,
сравнимы с крупными стадионами. И все это начинено сложнейшей электроникой и
автоматикой. Холод, при котором воздух становится жидким и течет как вода,
соседствует с температурами в десятки миллионов градусов, когда любое вещество
взрывается, как капля масла на раскаленной сковородке, мгновенно превращаясь
в плазменный газ. Давление в тысячи атмосфер и глубокий вакуум, в котором
редкие атомы удалены друг от друга, как звезды в космосе. Батискафы помогают
физикам устанавливать приборы на дне глубочайших океанских впадин, а ракеты
выносят их за пределы Солнечной системы.
Но, пожалуй, самое удивительное в современной физике — это неожиданно
тесная связь Вселенной, как целого, со свойствами элементарных частиц —
простейших, невидимых даже под микроскопом «кирпичиков», из которых «склеено» все
окружающее нас вещество. Казалось бы, совсем различные и несоизмеримые
объекты, но вот получается, что при определенных условиях Вселенная может обладать
свойствами микрочастицы, а некоторые микрообъекты, возможно, содержат внутри
себя целые космические миры. Во всяком случае, так говорит теория. Большое и
малое, сложное и простое — здесь все перепуталось.
Хитро устроена природа! Как говорится, поди разберись, где тут начало того
конца, которым кончается это начало!
Космология — наука, изучающая свойства и развитие Вселенной в целом. Она
пытается ответить на самые сокровенные вопросы мироздания: откуда произошел
наш мир, был он всегда или же «родился» из какой-то иной формы материи, чем
закончится его «жизнь» и закончится ли вообще? И самый главный вопрос: почему
наш мир таков, каков он есть? Разве не может быть Вселенной, где, например,
размеры всех атомов в десять раз больше, свет распространяется в несколько
раз быстрее, и кроме длины, ширины и высоты, есть еще четвертое, а может
быть, даже пятое и шестое измерения? Возможно, такие миры где-то существуют?
А если нет, то почему?
Если космология интересуется бескрайними далями, то физика элементарных
частиц, наоборот, устремлена в глубинные недра материи. Ее предмет —
микромир. Основной вопрос, на который она ищет ответ, — из чего построен наш мир,
что является его исходным «дном» и есть ли вообще такое «дно». Она исследует
первичные частички вещества — «семена вещей», как говорили древние ученые,
изучает сложные процессы их взаимопревращений.
Еще недавно космология и физика элементарных частиц считались совсем
разными науками. Теперь между ними выявлена тесная связь. Здесь еще много
нерешенных вопросов, тайн и поразительных парадоксов. Предполагается, что было
время, когда Вселенная имела размеры микрочастицы. Там в океанах бурлящей плазмы
обитали кентавры и сфинксы микромира — необычайно тяжелые, не дожившие до
нашего времени частицы. Время тогда вело себя неспокойно, оно то вдруг
поворачивало вспять, то опять выправлялось и текло в «нормальном» направлении.
Пространство тогда распадалось на отдельные порции-кванты, а вещество
превращалось во всполохи волн. Там часть могла быть больше целого, левое не
отличалось от правого, целые области пространства могли сворачиваться, как
раковина, схлопываться и проваливаться в «черные дыры». Безудержная фантазия
писателей-фантастов бледнеет перед диковинами, которые открывают нам
породнившиеся космология и физика элементарных частиц!
Вот об этом и пойдет речь в нашей публикации. Ее цель — познакомить
читателя с тем, как устроен окружающий нас мир в самом большом и самом малом,
рассказать о проблемах, надеждах и трудностях, лежащих на пути ученых,
пробивающих узкие тропки в Страну Неизвестного, которые превратятся потом в просто-
рные шоссе технического прогресса. Читатель увидит, какое благодатное поле
предоставляет физика для умелых рук и пытливого ума тех, кто изберет ее делом
своей жизни.
История науки учит, что всякий раз, когда человечество овладевает очередной
ступенькой лестницы, ведущей в глубь вещества, это приводит к открытию
нового, еще более мощного вида энергии. Горение и взрыв связаны с перестройкой
молекул. Внутриатомные процессы сопровождаются выделением в миллионы раз
большей энергии. С еще более мощным энерговыделением мы встречаемся на уровне
элементарных частиц. А что будет на следующих ступенях? Изучение строения
вещества — это одновременно и поиск новых источников энергии. Не зря говорят,
что нет ничего практичнее хорошей теории!
Когда речь идет о переднем крае науки, где самим ученым еще далеко не все
ясно, возникает трудная задача: как рассказать об этом так, чтобы было
достаточно просто и вместе с тем донести до читателя суть того, что волнует
специалистов. Кто-то, возможно, искренне удивится: в чем, собственно, проблема?
Ведь речь идет о вещах, хорошо знакомых ученому. Что стоит, мол, ему поведать
о том, что у него, как говорится, в зубах навязло!
Пожалуй, самое трудное здесь — это язык. Ученый говорит и думает на емком
профессиональном языке, где за каждым словом — уйма специальных понятий.
Экстраполяция, изоспин, интерференция, квантование — эти и множество других
терминов используются в разговорах ученых как нечто само собой разумеющееся.
Если запретить их, ученый буквально онемеет, потеряет язык. А как быть с
читателем, которому все эти термины как колдобины на дороге? Попытаться
переложить их на обиходный язык? Но тогда суть дела просто утонет в объяснениях, и
ваш рассказ не станут ни читать, ни слушать. Вот и приходится использовать
аналогии, заменять сложные понятия очень приближенными, зато наглядными
образами .
Впрочем, так поступают и сами ученые, когда разъясняют своим коллегам новые
понятия и идеи.
Трудные вопросы обладают свойством тянуть за собой вереницу новых. Никогда
нельзя сказать: я понял все. На заднем плане всегда остается частокол «как» и
«почему». Один из физиков любил повторять, что у понимания есть три стадии:
первая — когда кажется, что все ясно, вторая — когда появились вопросы, и
третья — когда эти вопросы затмили тот, с которого все началось. Это,
конечно, шутка, но в ней скрыта глубокая мысль. Чем глубже мы понимаем проблему,
тем серьезнее становятся рожденные ею новые вопросы.
По своему опыту знаю, что книги о науке полезно читать дважды. Первый раз
быстро, чтобы составить общую картину и в главных чертах уяснить, что к чему.
Потом еще раз — медленно и вдумчиво, разбирая детали, а главное, постоянно
задавая себе вопрос: почему? Бальзак как-то верно заметил, что ключом ко
всякой науке является вопросительный знак.
И еще одно. На переднем крае науки надо быть готовым встретиться с идеями и
фактами, которые покажутся несовместимыми со здравым смыслом. Не следует
только забывать, что «здравый смысл» — это всего лишь основанная на опыте
привычка видеть ход вещей в определенном свете, привычка, которая может
подвести в области новых явлений. Здесь надо семь раз подумать, прежде чем
сказать : это невозможно, этого не может быть.
Очень поучителен случай, который произошел в Парижской Академии наук в
конце XVIII века. Тогда большинство ученых отказывалось верить многочисленным
свидетелям падения метеоритов. Такого не может быть, и все, камней на небе
нет! И когда пришло очередное сообщение, подписанное мэром и многими жителями
одного из гасконских городков, академики приняли специальное решение о
необходимости более энергичной борьбы «с суеверием». Но камни с неба продолжали
падать, и Парижской Академии не оставалось ничего другого, как забыть о своем
опрометчивом решении.
В таинственных джунглях Страны Неизвестного следует быть очень осторожным.
Плохо, если мы тигра примем за большую домашнюю кошку, но и горящие в темноте
кошачьи глаза не следует путать с глазами монстра. Компасом тут служит
эксперимент. Только он, в конечном счете, может сказать, правильны наши
представления или нет.
Безусловно, здесь нет готовых ответов на все вопросы, которые возникнут у
читателя. Часть ответов может найти сам читатель, если будет размышлять,
сопоставлять и сравнивать прочитанное. А тем, кто захочет глубже заглянуть в
суть проблемы, полезно будет заглянуть в книги на эту тему.
ГЛАВА I.
Пять
ступеней
вглубь
Ступень молекул, ступень атомов... Сегодня известно пять таких ступеней, пять
этажей мироздания. Что находится на самых нижних из них? Есть ли что-нибудь
еще глубже? Куда ведет эта лестница — в бездну бесконечного или же, в конце
концов, мы спустимся в самый нижний этаж, в подземелье, где спрятаны главные
тайны нашего мира?
Какие законы управляют миром? Каждый этаж — удельное княжество, монастырь
со своим собственным уставом или же это — рядовая губерния единого
государства с обязательным для всех общим законом? Как устроено это государство — по
принципу монархии, когда где-то глубоко в недрах материи есть самый главный
Первоэлемент, или же по законам демократии с равноправными гражданами-
частицами на каждом этаже?
Итак, как устроен и из чего состоит наш мир в самых глубинных его слоях?
А как туда заглянуть, с помощью какого микроскопа? Может быть, там прячутся
«атомы пространства» — последние неделимые далее «пузырьки», внутри которых
больше уже ничего нет?
Масса вопросов, один сложнее другого. Попытаемся ответить хотя бы на
некоторые из них. Вступим на первую ступеньку лестницы, ведущей в недра материи.
Кто первым сказал «а»?
Знаменитый греческий ученый Фалес жил 2600 лет назад. Немногие
свидетельства о его жизни, которые дошли до нас сквозь толщу тысячелетий, говорят, что
это был общительный, жизнерадостный человек отменного здоровья, сочетавший
занятия наукой со спортом. Он не раз завоевывал олимпийские призы. И умер он
на стадионе от солнечного удара, когда в почтенном 78-летнем возрасте
аплодировал соревнованию олимпийцев.
Фалес долго прожил в Египте, стараясь проникнуть в тайны жрецов. Его знания
по геометрии и астрономии поражали современников. Особенно после того, как он
предсказал полное солнечное затмение. Это явление, когда солнце становится
черным диском и наступает ночь среди бела дня, даже сегодня порождает
подсознательный страх у многих людей. Можно представить, какое волнение и ужас
вызывало оно две-три тысячи лет назад!
Но главная заслуга Фалеса в том, что он первым поставил вопрос об исходных
элементах мира. Он раньше всех увидел лестницу, ведущую в глубь вещества.
Последующие двести лет греческие мудрецы, их называли философами —
любомудрами, принимали за первичные различные вещества и процессы. Чаще всего это
были вода (ей отдавал предпочтение и сам Фалес), воздух, земля, огонь. С
современной точки зрения, весьма наивные попытки. Седобородые греческие мудрецы
топтались на верхней площадке структурной лестницы, пытаясь ощупью найти ее
ступени.
Приборы, которыми располагали греки, были очень примитивны. Главными из них
были весы да еще сосуды для измерения объемов. Даже плохонькая физическая
лаборатория какой-нибудь маленькой нынешней школы показалась бы им
фантастической. Основным оружием древнегреческих ученых была логика. Оказывается, если
иметь острый глаз и светлую голову, то уже самых обычных явлений окружающей
жизни достаточно, чтобы получить важные выводы о глубинных свойствах вещей.
Это сделали последователи Фалеса — Левкипп и его ученик Демокрит. Они
пропустили ступеньку молекул и сразу шагнули на ступень атомов.
Когда спрашивают, кто первым открыл атом, ответ всегда вызывает удивление.
Его сначала придумали, почти на две с половиной тысячи лет раньше, чем
открыли. Это случилось в небольшом, как теперь говорят, заштатном, греческом
городке Абдеры. Хотя, по преданию, жители этого городка издавна почитались за
простофиль и недотеп, этого нельзя сказать об их знаменитых согражданах Лев-
киппе и Демокрите. О первом известно мало. Труды Левкиппа не сохранились, его
имя лишь изредка упоминается в книгах древних ученых. О Демокрите известно
значительно больше. Он происходил из очень богатой семьи, но, как повествует
легенда, все оставшееся ему наследство растратил на путешествия и учебу.
Растратить наследство в Древней Греции считалось одним из самых тяжких
преступлений и каралось изгнанием. Однако когда на суде Демокрит зачитал свой
труд, где излагалась идея атомов, жители Абдер — представьте себе! — не
только простили его, но даже наградили деньгами, оценив его труд суммой, большей
чем потерянное наследство!
С Демокритом связана масса легенд. Рассказывают, что даже смерть его была
необычной. Столетним старцем, почувствовав ее приближение, он, чтобы не
портить праздника своим родным, сумел продлить свою жизнь, вдыхая запах горячих
хлебов.
Слово «атом», точнее «атмон», было известно задолго до Левкиппа и
Демокрита . В переводе с греческого оно означает «неделимое». Так греки называли и
букву алфавита. По Левкиппу и Демокриту, атомы — буквы материальной азбуки
природы, бесконечное число твердых, неделимых далее частичек. Подобно семенам
растений, атомы могут быть различной формы: они круглые, пирамидальные,
плоские и так далее. Поэтому и состоящий из них мир неисчерпаемо богат в своих
свойствах и качествах. Цепляясь друг за друга крючками и крючочками (такие
крючочки есть и у семян растений), атомы образуют твердые тела. Атомы воды,
наоборот, гладкие и скользкие, поэтому она растекается и не имеет формы.
Атомы вязких жидкостей обладают заусеницами. Воздух — это пустота, в которой
носятся отдельные редкие атомы. Даже у огня, учил Демокрит, есть свои атомы.
Они острые и колючие, поэтому огонь и жжется.
Американский физик Ричард Фейнман, много сделавший для нашего понимания
глубинных этажей микромира (об этом еще пойдет речь ниже), как-то заметил,
что если бы Земле грозила гибель и нужно было бы предельно кратко
закодировать наше самое главное и ценное научное достижение, он выбрал бы слово
«атом». В нем огромный информационный заряд.
Атомистика Левкиппа и Демокрита предлагала простое наглядное объяснение
многим непонятным тогда фактам: почему от прикосновений верующих стирается
позолота и «худеют» руки статуй богов, почему мел остается мелом, как бы
тонко его ни истолкли, как распространяются запахи. Ведь иногда стоит только
коснуться какого-либо вещества, и его запах много часов, а то и дней,
сохраняется на руках и одежде. Подобных загадок было много. Конечно, их можно было
объяснить и по-другому, поэтому древнегреческая атомистика — это только
предположение, гениальная гипотеза. Для того чтобы превратить ее в строгий
научный вывод, потребовалось почти двадцать пять веков.
В средние века, когда место науки заняла слепая вера в то, что ответы на
все вопросы содержатся в святом писании, атомистику причисляли к изобретениям
дьявола. Сторонников атомного учения преследовали еще в XVII веке. В 1624
году в Париже был издан специальный декрет, грозивший смертной казнью за устное
или письменное распространение этого учения.
Права гражданства атому вернули лишь в начале прошлого века в связи с
успехами быстро развивавшейся химии. Без этого нельзя уже было разобраться в
разнообразии химических реакций. Главную роль в восстановлении прав атома сыграл
английский химик Джон Дальтон. Он же воскресил и стал широко использовать в
своих трудах забытое греческое слово «атом».
Атомная теория Дальтона не была простым повторением древнегреческой
атомистики. В новой теории число различных типов атомов хотя и велико — много
десятков (на сегодняшний день известно 109 различных атомов), но все же не
бесконечно, как у Демокрита. Дальтон нашел много фактов, убедивших ученых в том,
что атомы — это неделимые частицы ограниченного числа наипростейших веществ —
химических элементов. Все остальные вещества состоят из тесно связанных
больших и малых групп атомов — молекул. Они могут быть самыми различными — от
одноатомных молекул металлов до страшно сложных, состоящих из десятков тысяч
атомов белковых молекул. Это самая первая ступенька структурной лестницы,
атомы — следующая.
Анатомия атома
В 1869 году внимание ученого мира было обращено к холодным и строгим шпилям
Петербурга. Оттуда пришла сенсационная новость: 35-летний профессор
Петербургского университета Д.И. Менделеев установил, что между атомами существует
связь, которая проявляется в периодичности их свойств. Это было выдающимся
открытием. И не только потому, что теперь можно было пересчитать все типы
атомов, существующие в природе, в том числе и еще не открытые. Периодический
закон Менделеева подсказывал, что в природе должно быть что-то еще более
простое и первичное, чем атомы, то, что является причиной и порождает
периодичность атомных свойств. Другими словами, должна быть следующая, заатомная
ступенька. Неделимый атом должен делиться на части!
К такому выводу приводили и некоторые другие наблюдения. Так, было
известно, что под действием высокого напряжения металлы испускают отрицательные
электрические заряды. Московский физик А.Г. Столетов обнаружил, что такие
заряды (их стали называть электронами) выбиваются из металлов лучами света. Все
это наводило на мысль, что электроны входят в состав атомов. А отсюда сразу
следовал другой вывод: в атоме есть положительно заряженная часть — ведь в
целом-то вещество не имеет заряда, оно нейтрально.
Англичанин Дж. Томсон считал, что по своему строению атом похож на круглую
булку с изюмом: положительно заряженное тесто с изюминками — электронами. За
три года до конца XIX века Томсон измерил массу электрона. Оказалось, что он
почти во столько же раз легче атома водорода, самого легкого из всех атомов,
во сколько Земля легче Солнца. Возможно, именно эта аналогия навела француза
Ж. Перрена на мысль о том, что атом устроен наподобие Солнечной системы — в
центре тяжелое ядро с положительным электрическим зарядом, вокруг вращаются
планеты — электроны. Статья Перрена, увидевшая свет в первый год нового, XX
века, так и называлась: «Ядерно-планетарное строение атома».
Какая из этих двух моделей правильная — булка с отрицательно заряженным
изюмом или микроскопическая солнечная система, — решили опыты Эрнста Резер-
форда. Он первым потрогал, а лучше сказать — прощупал, атом с помощью альфа-
частиц .
Альфа-частицы — это ядра атомов гелия. Они испускаются распадающимися
атомами радия и, попадая на экран из светящегося материала, вызывают вспышки —
маленькие искорки в тех местах, где частицы столкнулись с экраном. Точно так
же экраны наших телевизоров светятся под действием пучка электронов. Так вот,
пролетая сквозь атомы, альфа-частицы испытывают на себе действие их
электрических полей, траектории частиц искривляются, и вместо одного светящегося
пятнышка, которое оставил бы нерассеянный пучок альфа-частиц, на экране
возникает россыпь искорок. При этом если экран установить в стороне,
противоположной направлению движения первичного пучка, то на нем тоже иногда
вспыхивают искорки — как будто некоторые альфа-частицы сталкиваются с чем-то очень
тяжелым и отскакивают в обратном направлении, как горошины от стального
бильярдного шарика. Роль такого шарика играет атомное ядро. Победила планетарная
модель Перрена. «Это было похоже на то, — вспоминал впоследствии Резерфорд, —
как если бы я увидел 16-дюймовый снаряд, отскочивший от листка газетной
бумаги !» (В опытах Резерфорда в качестве атомной мишени использовалась тонкая
фольга.)
Схема опыта Резерфорда.
Зная число слабо рассеянных и число отскочивших назад альфа-частиц, можно
вычислить размеры атома. Результат получился ошеломляющим: если сравнивать с
горошиной, то атом в сто миллиардов раз меньше, а его ядро еще в несколько
десятков тысяч раз мельче. Можно сказать и по-другому: если бы атом вдруг
вырос до размеров куриного яйца, его ядро сравнялось бы по величине с микробом.
Ну а само куриное яйцо стало бы в несколько раз больше нашей соседки Луны!
Это означает, что окружающие нас тела и мы сами состоим в основном из...
пустоты.
Герои научно-фантастического романа Георгия Гуревича «Темпоград» нашли
способ сжиматься до размеров муравья. Человеческий волос выглядел для них
длиннющей толстой змеей, а пыльца цветов — шарами величиной с арбуз. Воздух,
который кажется нам прозрачным и чистым, оказался заполненным массой плывущего
в нем мусора, подобно грязной реке в половодье. Это была поразительная
картина ! Но еще больше путешественники в микромир удивились, когда уменьшились до
размеров атома. Их поразила пустота, царящая в мире. Даже плотный кусок
железа оказался практически пустым. Лишь редко-редко, по одной на несколько
кубических метров (в масштабе уменьшившихся путешественников), в нем расположены
мелкие, едва различимые глазом пылинки — атомные ядра. Электронов вообще не
видно — они в тысячи раз меньше ядер. Но вот если бы кто-то из
путешественников попытался поднять ядро-пылинку, он был бы поражен его тяжестью: спичечная
коробка такого вещества весит столько же, сколько средней величины гора! В
исчезающе малом объеме ядра заключена практически вся масса атома, на
электроны приходятся лишь сотые доли процента. Плотность ядерного вещества в
десять триллионов раз превосходит плотность железа.
Внутри ядра
После того как Резерфорд «разглядел» в недрах атома его крошечное ядрышко,
многим казалось, что наконец-таки наука достигла самого дна природы — глубже
этого уже ничего нет. Но прошло всего каких-то двадцать лет и был открыт
нейтрон1 — частица по всем своим свойствам такая же, как ядро атома водорода —
протон, но только без электрического заряда. Нейтральный протон. Физикам
открылась еще одна, теперь уже четвертая по счету, ступенька в глубинах
микромира.
Назвать протоном ядро самого легкого и маленького по величине атома
предложил все тот же Резерфорд. Этот термин он образовал от греческого слова «про-
тос» — первый. Одновременно это напоминает протеин — простейший белок,
основу , из которой построены клетки всех живых организмов2. Резерфорд был уверен,
что ядра тяжелых атомов тоже каким-то образом должны быть связаны с протоном.
В имени его нейтрального собрата, нейтрона, отражено основное отличительное
свойство этой частицы — отсутствие заряда. Она не отталкивается электрическим
полем ядра и, как нож в теплое масло, проникает внутрь атомных ядер,
разваливая их на части или образуя новые ядра. Нейтрон оказался чрезвычайно удобным
«щупом» для зондирования внутренности ядер. После его открытия ядерная физика
двинулась вперед семимильными шагами.
В известной сказке А. Толстого длинноносый Буратино и его друзья открыли
волшебную дверь в каморке папы Карло маленьким золотым ключиком, который
мудрая черепаха Тортила нашла в глубоком илистом пруду. Для физиков таким
сказочным золотым ключиком стал нейтрон, с его помощью им удалось отомкнуть
кладовую атомной энергии. Но это уже совсем другая история...
Вернемся, однако, к атомному ядру. Вскоре после открытия нейтрона два
теоретика, немец Вернер Гейзенберг — тот самый, кто позднее руководил работами
по созданию атомной бомбы в фашистской Германии, — и советский физик Дмитрий
Дмитриевич Иваненко выдвинули гипотезу о том, что атомное ядро состоит из
протонов и нейтронов. Согласно их теории, оно по внешнему виду напоминает
плод граната с тесно прижавшимися друг к другу ягодками-частицами. В ядре
водорода таких частиц всего одна — один-единственный протон, в ядрах тяжелых
1 В 1930 Вальтер Боте и Г. Бекер, работавшие в Германии, обнаружили, что если высо-
коэнергетичные альфа-частицы, испускаемые полонием-210, попадают на некоторые лёгкие
элементы, в особенности на бериллий или литий, образуется излучение с необычно
большой проникающей способностью. Сначала считалось, что это — гамма-излучение, но
выяснилось, что оно обладает гораздо большей проникающей способностью, чем все известные
гамма-лучи, и результаты эксперимента не могут быть таким образом интерпретированы.
Важный вклад сделали в 1932 Ирен и Фредерик Жолио-Кюри. Они показали, что если это
неизвестное излучение попадает на парафин или любое другое соединение, богатое
водородом, образуются протоны высоких энергий. Само по себе это ничему не противоречило,
но численные результаты приводили к нестыковкам в теории. Позднее в том же 1932 году
английский физик Джеймс Чедвик провёл серию экспериментов, в которых он показал, что
гамма-лучевая гипотеза несостоятельна. Он предположил, что это излучение состоит из
незаряженных частиц с массой.
2 В то время была теория, что все белки состоят из минимальной структурной единицы -
протеина, серы и фосфора. По мере накопления новых данных о белках теория протеина
стала подвергаться критике, но, несмотря на это, до конца 1850-х всё ещё считалась
общепризнанной. Сейчас слово «протеин» является просто синонимом слова «белок».
элементов — например, в свинце или уране — их уже более двух сотен. Опыты
блестяще подтвердили эту теорию. Но оставалось загадкой, какие силы так
крепко связывают в ядерные капли заряженные и нейтральные частицы.
Чтобы понять, в чем тут дело, нам придется вернуться назад, к началу нашего
века.
Мезонный
бадминтон
Шел 1905 год. В России бушевал шторм революции. В студенческих аудиториях
бурлили сходки. Профессора университетов уходили в отставку, протестуя против
жестоких расправ царя с рабочими и студентами. А в далекой спокойной
Швейцарии Альберт Эйнштейн, молодой и мало кому известный сотрудник патентного
бюро, напечатал в журнале статью, в которой доказывал, что свет — это поток
частиц. Незадолго до этого он закончил учебу, но, не найдя лучшей работы, ему
пришлось временно стать чиновником.
Его статью мало кто принял всерьез. Идею о том, что свет состоит из
отдельных частичек-корпускул, высказывал еще великий Ньютон, но опыты не
подтвердили его гипотезы и в течение двух последующих столетий ученые не сомневались в
волновой природе света. О том, что свет, радиоизлучение, тепловое излучение
нагретых тел — все это разновидности электромагнитных волн, можно было
прочитать в любом учебнике физики. А из статьи Эйнштейна вытекало, что световые
частицы одновременно имеют свойства волны и корпускулы. Это частицы, которые
движутся по волновым законам. Когда энергия невелика, на первый план
выступают их волновые свойства. Образно говоря, они в этом случае чувствуют себя
нетвердо , их движение неровно и запутанно, как у пьяного. Наоборот, набрав
энергии, они приобретают уверенность, и их поведение тогда мало чем
отличается от потока быстрых электронов.
Частицы света похожи на двуликого Януса: с одной стороны — частица, с
другой — волна! Это нелегко себе представить, недаром даже самые лучшие физики
отказывались признать теорию Эйнштейна. Однако опыты приносили ей все новые и
новые подтверждения, и постепенно она завоевала всеобщее признание. Частицы
электромагнитного поля назвали фотонами от греческого слова «фотос» — свет.
Когда заряженные частицы взаимодействуют друг с другом, они обмениваются
фотонами — как будто играют в бадминтон. Одна частица испускает воланчик-
фотон , вторая его ловит и отбрасывает обратно. Чем частицы ближе одна к
другой , тем живее идет игра и тем сильнее их взаимодействие. Воланчик — фотон —
мелькает так быстро, что между партнерами протягивается что-то вроде
связывающего их ремня. Правда, он не сплошной, но это неважно — ведь и обычный
ремень при большом увеличении, как мы видели выше, состоит в основном из
пустоты!
Но вот нейтрон в такой бадминтон не играет. У него нет заряда, и фотоны он
просто не замечает. Ему нужны какие-то другие воланчики.
Во что играют внутри ядра нейтроны, первыми начали изучать советские физики
Д.Д. Иваненко и И.Е. Тамм (Игорь Евгеньевич Тамм впоследствии стал
академиком, одним из ведущих физиков нашей страны). Но прежде чем говорить об их
идее, следует познакомиться еще с двумя важными событиями, которые произошли
в физике почти одновременно с открытием нейтрона.
В реакции испускания ядром электрона была обнаружена таинственная пропажа.
Суммарная энергия ядра и электрона после реакции всякий раз оказывалась
меньше энергии исходного нераспавшегося ядра. Чуть-чуть меньше, но и это
недопустимо , так как закон сохранения энергии должен выполняться точно. Энергия не
может исчезать без следа или возникать из ничего — иначе можно было бы
построить вечный двигатель. Вот и пришлось физикам из двух зол выбирать мень-
шее: или признать, что не верен закон сохранения энергии, или допустить, что
энергию уносит какая-то неведомая неуловимая частица, не имеющая
электрического заряда. С такой гипотезой выступил швейцарский теоретик Вольфганг
Паули. Частицу назвали нейтрино — нейтрончик.
На другой стороне Атлантического океана американский физик Курт Андерсон
изучал космические лучи с помощью прибора, который называется камерой
Вильсона. Это плотно закрытый сосуд, заполненный насыщенными парами спирта. Такой
пар находится в крайне неустойчивом состоянии. Стоит только внутри
занимаемого им объема образоваться какой-либо неоднородности, как вокруг нее сразу же
начинают конденсироваться капельки тумана. Проходя сквозь камеру, заряженная
частица своим электрическим полем повреждает электронные оболочки атомов,
однородность среды нарушается, и там, где прошла частица, остается след —
сконденсировавшаяся струйка тумана, толщина и плотность которой зависит от массы
частицы. Похожее явление можно наблюдать, когда высоко в безоблачном небе
пролетает реактивный самолет. За ним тянется ровный белый след. Это те же
капельки тумана, которые сконденсировались на молекулах газов и частичках
топлива, выбрасываемых моторами самолета. Наверное, каждый не раз видел такой
след в небе. Тонкие белые полосы, они особенно хорошо смотрятся ранним утром
или вечером, когда их освещают косые лучи солнца.
н
Схема камеры Вильсона.
Если камеру Вильсона поместить еще и в магнитное поле — например, между
полюсами сильного электромагнита, — то траектории частиц изогнутся,
положительных — в одну сторону, отрицательных — в другую. (Вспомним правило буравчика
для направления электрического тока в магнитном поле!) Это позволяет
установить знак заряда частицы. Одна из стенок камеры стеклянная, и сквозь нее
хорошо видно, что происходит внутри. Такой метод исследования космических лучей
разработан советским ученым Д.В. Скобельциным. Им и воспользовался
американский физик.
Неожиданно для себя Андерсон обнаружил тонкие, выходящие из одной точки
следы, похожие на букву Л с загнутыми ножками. Одну половину буквы «рисовал»
электрон, вторую — точно такая же частица, но с зарядом противоположного
знака . Положительный электрон. Андерсон назвал его позитроном — от греческого
слова «позитро», то есть положительный.
Далее мы еще много раз будем говорить об удивительных близнецах-братьях
электроне и позитроне. Многие их тайны не разгаданы до сих пор. Но сейчас нам
важно только одно: сам факт существования в природе положительно заряженных
частиц — позитронов.
Основываясь на этом факте и на гипотезе Паули о нейтрино, Д.Д. Иваненко и
И.Е. Тамм предположили, что частицы внутри ядра обмениваются не только
фотонами, но еще и парами частиц, то есть могут испускать и поглощать сразу по
два воланчика — электрон и нейтрино или позитрон и нейтрино. Испустив
позитрон и нейтрино, или, наоборот, поглотив электрон и нейтрино, протон
становится нейтроном. Соответствующим образом ведет себя и нейтрон, он становится
протоном.
Может возникнуть вопрос: а зачем нужна пара частиц, разве протон и нейтрон
не могут обмениваться одним электроном или позитроном? Нет, не могут. Это им
строго-настрого запрещено. Дело в том, что частицы, подобно маленьким
волчкам, безостановочно вращаются вокруг своей оси. И вращение их одинаковое,
различие лишь в направлении — слева направо или справа налево. Отрываясь от
протона или нейтрона, рождающаяся частица может унести с собой их вращение, а
это невозможно — невращающихся протонов и нейтронов не существует. Когда же
испускается пара частиц, они могут вращаться в противоположных направлениях и
тогда в сумме пара никакого вращения не уносит.
Теория внутриядерных сил, разработанная Иваненко и Таммом, на некоторое
время стала главным событием физики. Однако более детальные расчеты вскоре
показали, что испускание двух воланов происходит слишком редко и образуемых
ими «ремней» (точнее было бы сказать — тоненьких ниточек!) недостаточно,
чтобы скрепить ядро.
Тем не менее, идея объяснить внутриядерные силы бадминтоном каких-то новых
частиц выглядела очень привлекательной. Это одна из тех идей, которые играют
роль теоретического трамплина. Молодой японский теоретик Хидеки Юкава пошел
дальше по этому пути. Он решил атаковать задачу с тыла — предположил, что
протоны и нейтроны обмениваются какой-то еще неизвестной нам частицей, и
путем сравнения расчетов с опытом попытался установить ее свойства. У него
получилось , что эта частица должна быть в двести — триста раз тяжелее
электрона, а частота ее испускания и поглощения в процессе бадминтона раз в тысячу
больше, чем для фотона. Бадминтон, когда вместо размеренной игры с легким
электромагнитным воланчиком партнеры с огромной быстротой перебрасываются
тяжелым валуном!
Частица, с массой в двести раз большей массы электрона, вскоре
действительно была обнаружена в космических лучах. Ее назвали мезоном, опять
воспользовавшись греческим корнем. «Мезо» по-гречески означает «средний». Средний
между электроном и протоном.
Используя греческие корни для своих терминов, физики отдают дань уважения
первым ученым-атомистам.
Итак, молекулы и атомы скреплены электромагнитными силами. Именно эти силы
играют здесь роль «строительного цемента». Внутри ядер действуют в тысячу раз
более мощные мезоиные силы. Поэтому ядра намного плотнее атомов. Грубо
говоря , в триллион раз. Для сравнения напомним, что плотность воздуха и железа
различается всего лишь десять тысяч раз, а здесь — триллион!
Вокруг
таблицы
Менделеева
Задержимся еще немного на ступени атомных ядер. Здесь много интересного.
Как известно, число протонов в ядре оказалось равным номеру химического
элемента в периодической таблице, составленной более ста лет назад Д.И.
Менделеевым. Ядра с одинаковым числом протонов могут быть «нагружены» различным
числом нейтронов. Такие ядра и соответствующие им химические элементы принято
называть изотопами, то есть «равнорасположенными» (находящимися в одной и той
же клетке таблицы), от сочетания слов «изо» — равный и «топ» — положение.
Изотопы почти не различаются по своим химическим свойствам, но, как правило,
сильно отличаются по ядерным. Например, один изотоп может быть равнодушным к
блуждающим вокруг него нейтронам, а другой, наоборот, жадно их поглощает,
увеличивая свою массу.
Чем больше в ядре протонов, тем сильнее они его распирают — ведь все они
имеют одинаковый положительный заряд. Когда их становится слишком много, ме-
3оиные «ремни» не выдерживают, рвутся, и ядро распадается. Поэтому таблица
Менделеева обрывается где-то недалеко за сотым элементом. Самый устойчивый
изотоп ядра с номером 94 (это плутоний, из которого делают атомные бомбы)
живет в среднем около двадцати пяти тысяч лет. 101-й элемент, менделевий,
распадается, прожив пятьдесят — шестьдесят дней. А последний, самый тяжелый,
известный сегодня элемент с номером 109 существует всего лишь доли секунды.
Охотиться на новые элементы очень непросто. В дебрях ядерных реакций они
рождаются считанными единицами. Рождаются и тут же исчезают. Единственное,
что успевают сделать физики, — засечь время их жизни от рождения до распада
да еще попытаться заметить какие-нибудь следы цепочки радиоактивных
превращений , в конце которой образуется новый элемент. Это все равно, как если бы
охотник старался определить, какого зверя он встретил в лесу, по редким
царапинам на коре дерева да скорости, с какой неведомый зверь перебежал поляну.
Здесь часто бывают ошибки и много споров. Появляется сообщение об открытии
нового элемента, а физики из другой лаборатории утверждают, что это всего
лишь новый изотоп давно известного ядра. Споры длятся долгие годы, иногда
десятилетия .
Скептики шутят, что поиск новых элементов напоминает ловлю черной кошки в
темной комнате, когда неизвестно, сидит она там или давно уже сбежала. И, тем
не менее, найдено уже 109 достоверно подтвержденных элементов!
Могут спросить: а зачем это нужно? Ну, будет изготовлен (синтезирован, как
говорят физики) еще один элемент, живущий сотую долю секунды? Дорогостоящий
научный спорт, погоня за рекордами?
Расчеты говорят, что в окрестностях 112-й клетки таблицы Менделеева, по-
видимому , существует «остров стабильности». Внутриядерные частицы собираются
там в особо устойчивые группы. Такое иногда бывает — добавляется в нужных
местах несколько подпорок, и разваливающаяся конструкция становится вдруг
устойчивой . Но больше добавить нельзя — упадет.
Как долго живут сверхтяжелые ядра на «острове стабильности», точно
неизвестно . Возможно, годы или десятки тысяч лет, как плутоний, а может, найдутся
такие, которые вообще не будут распадаться. Такие ядра были бы прекрасным
ядерным горючим. Они на пределе устойчивости, поэтому стоит задеть их слегка
нейтрону в атомном реакторе, как они распадутся с выделением большой энергии.
Концентрированное топливо для звездолетов, компактные атомные батареи для
судов и самолетов да мало ли что еще! Исследования продолжаются.
Однако не только остров стабильности манит ученых. В природе нет ядер,
которые состояли бы только из одних нейтронов. Если известные нам стабильные
ядра нагружать нейтронами, они становятся неустойчивыми. Но это — когда
нейтронов мало. Если собрать вместе сразу много десятков нейтронов, то такие
нейтронные капли, возможно, станут устойчивыми и не будут распадаться. У
теоретиков есть некоторые основания так думать.
Интересно, какими свойствами будет обладать нейтронное вещество? Может, на
этом пути удастся создать аккумуляторы нейтронов и сверхпрочную нейтронную
броню — непробиваемую защиту от любых излучений?
Вокруг таблицы Менделеева уйма интересных дел и заманчивых возможностей.
Брызги материи
Полвека назад, перед второй мировой войной, физики знали шесть частиц.
Четыре основных частицы-кирпичика: протон, нейтрон, электрон, позитрон, и две
вспомогательных частицы-воланчика: фотон и мезон.
Кстати, с мезоном произошла занятная путаница. Когда его обнаружили в
космических лучах, физиков удивило, насколько легко он проходил сквозь толстые
железные и свинцовые болванки. Оставалось загадкой, каким образом столь слабо
взаимодействующая частица может связывать протоны и нейтроны в ядрах. Ответ
был найден уже после войны. Оказалось, что существуют два вида мезонов: один
— слабовзаимодействующая, похожая на электрон частица, ее-то и открыли в
предвоенные годы, а другой — предсказанный Юкава несколько более тяжелый,
сильновзаимодействующий мезон. Физиков сбила с толку близость масс этих
частиц . Чтобы их различать, им в качестве ярлыка-этикетки присвоили греческие
буквы р. (мю) и я (пи) и стали называть мю- и пи- мезонами.
Была еще седьмая частица — нейтрино. Точнее, гипотеза о частице-невидимке,
которая взаимодействует с веществом так слабо, что успевает пройти не только
сквозь весь земной шар, но и сквозь всю толщу Солнца и не поглотиться. Она не
оставляет никаких следов в окружающем веществе. Эту частицу никто не
наблюдал , но в ее пользу говорили многие косвенные данные.
В том, что физики довольно быстро поверили в нейтрино, важную роль сыграл
авторитет ее изобретателя Вольфганга Паули. Знаменитый физик-теоретик еще при
жизни стал легендой. Человек весьма трудный в общении, он был очень
требователен к своим ученикам и сотрудникам и не всегда считался с мнением коллег,
тем более что в его собственных работах ошибки были крайне редки. Среди
физиков ходит много смешных историй и анекдотов, связанных с именем Паули. Его
знакомые шутили, что присутствие Паули действует не только на физиков, но и
на их приборы — как и физики, они начинают волноваться и сбиваться. Однажды
был подготовлен розыгрыш. Большие настенные часы в зале, где предполагалось
выступление Паули, с помощью электрического реле соединили с дверью.
Ожидалось, что когда Паули ее откроет (а он был человеком пунктуальным), часы
«испугаются» и встанут. Но этого не случилось — неожиданно отказало реле.
— Этого и следовало ожидать, — смеялись в зале, — сработал «эффект Паули»!
Четверть века физики вынуждены были мириться с тем, что в их рассуждениях и
расчетах присутствует невидимка. Поймали ее в опытах, выполненных уже после
второй мировой войны, когда появились мощные источники нейтрино — атомные
реакторы .
Пока шла война, физикам было не до частиц. Они разрабатывали радары,
аппаратуру для обнаружения вражеских подводных лодок, занимались атомным оружием
и массой других неотложных дел. Но после войны в различных странах — в
Советском Союзе, Западной Европе, в США. — стали один за другим создавать мощные
ускорители, способные разгонять протоны и электроны до гигантских энергией.
Ускоренные частицы дробили атомные ядра, и среди осколков физики то и дело
находили «золотые крупинки» новых, неизвестных дотоле частиц.
Брызги материи! Некоторые из них обладали настолько неожиданными
свойствами , что пришлось учредить особую категорию «странных частиц». Сегодня многие
из них хорошо изучены и уже не выглядят странными, но это название к ним
прочно прилипло, как прилипает иногда к человеку смешная детская кличка.
А далее открытия посыпались, как из рога изобилия. Редкий месяц не приносил
какой-либо новой частицы. Открывая очередной номер физического журнала, можно
было с уверенностью сказать, что там речь идет еще об одной частице. Теперь
частиц несколько сотен. Для их обозначения давно уже не хватает ни
греческого , ни латинского алфавитов. Некоторые частицы известны просто под номерами:
А1, А2 и так далее. Даже специалисты толком не знают, сколько открыто частиц,
— много!
В Калифорнии группа физиков-экспертов собирает, проверяет и анализирует все
сообщения об открытии новых частиц. Это очень важная и нужная работа, так как
иногда случается, что частицу открывают одновременно в нескольких институтах.
Ее измеренные в опыте параметры чуть-чуть различаются, она получает разные
названия, и возникает путаница. Эксперты составляют сводку всех частиц —
достоверно открытых и тех, относительно которых остаются еще некоторые сомнения.
Это толстенькая брошюра в несколько десятков страниц.
И вот что важно: если не считать частиц-кирпичиков протона, нейтрона и
электрона, то перечисленных в этой брошюре частиц нет ни внутри ядра, ни в
атоме. Они каждый раз заново рождаются в ядерных реакциях. Пословица говорит:
лес рубят — щепки летят. Но щепки — это кусочки того, что уже было. Частицы
же, как искры при ударе топора о металл, образуются в процессах столкновений.
В древнем мифе рассказывается о рождении богини Афродиты из морской пены.
Неистовый ветер ударил волну о берег, и из вспыхнувшей радуги брызг и белой
шипящей пены ступила на берег богиня красоты. Рождение частиц происходит не
менее эффектно, но не из пены, а из энергии, точнее, из массы, связанной с
энергией. Движущаяся частица весит больше неподвижной, поскольку кинетическая
энергия движения тоже имеет массу. За счет этой массы и образуются новые
частицы.
Большие ускорители как раз и создаются для того, чтобы разгонять частицы до
такой скорости, чтобы их энергии было достаточно для рождения новых.
Электроны, протоны, мезоны и другие частицы принято называть элементарными.
Если атомы и их ядра можно разделить на более простые части, то с
элементарными частицами это не удается. В любых известных сегодня реакциях эти частицы
лишь переходят друг в друга — взаимопревращаются. Если в одной реакции,
например, при распаде родились более легкие частицы, то в другой, наоборот,
образуются тяжелые. Никаких более простых «кусков» от частиц не отщепляется. В
то же время из них, как из кирпичиков конструктора, можно построить весь
окружающий мир во всей его красоте и разнообразии.
Ступень элементарных частиц необычайно богата своим содержанием. Каких
только здесь нет пород, гибридов и монстров! Некоторые из них следует
рассмотреть поближе.
Зоопарк в
микромире
Представим себе, что мы гуляем в таком зоопарке. Слева небольшая аллея леп-
тонов с клетками легких частиц, справа длиннющая, уходящая за горизонт аллея
со множеством загонов для массивных частиц-адронов. (Снова греческие корни:
«лепто» — легкий, мелкий и «адро» — тяжелый, крупный.)
Ряд адронов начинается с наших знакомцев — протона и нейтрона. Они
настолько похожи по своим свойствам, что физики считают их двумя состояниями одной и
той же частицы — нуклона. Когда у нуклона нет электрического заряда — это
нейтрон, если же в результате каких-то взаимодействий он получит заряд — это
будет уже протон.
Можно сказать, что у нуклона два лица — одно протонное, другое —
нейтронное. Если прибегнуть к другой аналогии, то нуклон можно уподобить
электрической лампочке. Когда она горит — это протон, выключена — нейтрон. Аналогия,
конечно, далекая, но, в общем-то, правильная. И если уж следовать ей, то пи-
мезон придется сравнить с электрической лампочкой, имеющей три состояния: ко-
гда она горит красным светом — это мезон с положительным электрическим
зарядом, если потушена — нейтральный мезон, а когда светит синим светом — это
мезон с отрицательным зарядом. Пи-мезон — частица с тремя лицами. В заряженном
состоянии она живет около стомиллионной доли секунды и распадается на мю-
мезон и нейтрино. В нейтральном состоянии время ее жизни еще намного — в сто
миллионов раз — меньше. Она почти мгновенно распадается на два
высокоэнергетических фотона.
Рядом стоит клетка с р (ро)-мезоном. Он во всем похож на пи-мезон, тоже
имеет три лица, только впятеро тяжелее и, кроме того, быстро вращается.
Движется и вращается, как бы навинчивается на свою траекторию. Вот только живет
ро-мезон очень мало, ничтожный миг — около 10~23 секунд. Это десятичная дробь
с двадцатью двумя нулями после запятой. Распадаясь, ро-мезон превращается в
два быстрых пи-мезона.
Недалеко от пи- и ро- мезонов помещается со (омега)-мезон. Это нейтральная
частица с массой, как у ро-мезона, и вдесятеро большим временем жизни. Она
тоже — маленький вращающийся волчок. Распадается на три пи-мезона, которые с
большой скоростью разлетаются в разные стороны.
С тройкой мезонов, обозначаемых греческими буквами я, р и со, мы еще
встретимся. Они играют важную роль в жизни протона и нейтрона.
Далее идут «странные частицы». Все они короткоживущие. Некоторые похожи на
нуклон, их называют гиперонами. Другие — «странные мезоны». Когда эти частицы
обнаружили, физики были удивлены тем, что они всегда рождаются парами, как
будто не могут жить друг без друга. Поэтому их и назвали «частицами со
странностью». Впрочем, вскоре нашлись еще более удивительные частицы, которые тоже
рождаются парами. Их появление и «черты характера» были предсказаны
теоретиками, и, когда их открыли, теоретики были так рады, что назвали их
«прелестными» .
Вслед за площадкой «прелестных частиц» мы видим множество загонов и клеток
с очень тяжелыми адронами. В сравнении с нуклоном некоторые из них выглядят
как бегемоты рядом с поросенком. Большинство из них такие неповоротливые,
что, едва успев родиться, тут же на месте распадаются на более легкие
частицы. Время жизни наименее устойчивых изображается десятичной дробью с более
чем двумя десятками нулей после запятой. Оставим их пока в покое — все равно
всех их не осмотреть — и перейдем на противоположную сторону аллеи. Там
расположены античастицы.
Первой античастицей, с которой познакомились физики, был позитрон. Когда он
сталкивается с электроном, вещество обеих частиц полностью переходит в
излучение — в фотоны. Происходит аннигиляция — уничтожение. Такие полярные, взаи-
моуничтожающиеся частицы стали называть частицей и античастицей. Так в науку
вошла идея антивещества.
Открытие античастиц принадлежит к числу тех сравнительно немногих научных
достижений, которые приобретают самую широкую известность. Воображение людей
поражает сама возможность полной трансформации вещества в излучение.
Когда хотят сказать о предельной степени разрушения чего-либо, часто
используют глагол «испепелить». При аннигиляции электрона с позитроном не
остается даже пепла. Все вещество — целиком, без остатка — превращается в
электромагнитное поле и уносится в пространство. Взрыв атомной или водородной
бомбы освобождает лишь несколько процентов запасенной в веществе энергии, при
аннигиляции происходит стопроцентное освобождение энергии.
Антипартнера имеет не только электрон. Они есть у всех элементарных частиц.
У протона есть антипротон, у нейтрона — антинейтрон и так далее. Это похоже
на то, как в мире живых существ есть особи противоположного пола — мужские и
женские. Правда, некоторые частицы — например фотон или нейтральный пи-мезон
— в одном лице совмещают должность частицы и античастицы. Однако таких «дву-
полых» частиц мало. Как правило, частица и античастица сильно различаются по
своим свойствам. У них противоположные электрические заряды, а если частица
нейтральная — например как нейтрон, — то противоположными оказываются другие
ее характеристики, в частности, направление вращения. Получается так, что
природа отражена в своеобразном зеркале: с одной стороны — частицы, с другой,
в «Зазеркалье», — античастицы. И все абсолютно симметрично. Две половинки —
мир и антимир! В одном случае атомы построены из электронов, протонов и
нейтронов , в другом — из позитронов, антипротонов и антинейтронов.
У писателя И.А. Ефремова есть фантастический рассказ о том, как в далеком
космосе встретились посланцы двух биологических рас — одной, живущей на
основе кислорода, и другой, основанной на фторе. Все очень похоже, но газ жизни
одной расы — смертельный, разъедающий яд для другой. Даже их дыхание опасно
друг для друга. То же самое было бы для существ, построенных из вещества и
антивещества. Все физические законы, все краски их миров совершенно
одинаковы; только от условия зависит, что назвать миром, а что — антимиром. Но при
соприкосновении — аннигиляция, взрыв!
Правда, полное излучение вещества происходит не всегда. Так при аннигиляции
нуклона с антинуклоном «сгорает» лишь часть вещества, другая его часть
остается в виде мезонных осколков. Тем не менее, даже с учетом несгоревших
«шлаков» энергия антипротонного и антинейтронного взрывов в несколько тысяч раз
больше энергии, выделяющейся при аннигиляции легких частиц — электрона и
позитрона. Это самое мощное энерговыделение, которое мы умеем осуществлять в
лабораторных условиях. Недаром писатели-фантасты часто используют
антивещество в качестве горючего для звездолетов будущего. Килограммовый слиток такого
вещества даст столько же энергии, сколько можно получить из нефтяного озера
глубиной в несколько метров и диаметром около километра. Это означает, что
всего несколько килограммов антивещества способны заменить все горючее,
которое сжигается на Земле за год.
Конечно, эти килограммы антивещества надо еще изготовить — синтезировать из
антипротонов и антинейтронов, а это очень сложная и энергоемкая задача. Пока
ученые научились изготавливать лишь самые простые антиядра, состоящие из двух
и трех античастиц: антидейтрон, антитритон и легкий изотоп антигелия.
Несколько лет назад этот изотоп был получен в опытах на ускорителе протонов,
построенном под Москвой, вблизи Серпухова. Синтез тяжелых антиядер —
исключительно трудная задача. Правда, трудности здесь технического порядка, никаких
принципиальных препятствий на этом пути нет. Возможно, что когда-нибудь
изготовление антиядер станет такой же отраслью большой индустрии, как в наши дни
производство кюрия и других трансурановых элементов.
Перейдем теперь на соседнюю аллею — к лептонам. Первыми мы встречаем здесь
три почти одинаковые частицы: электроны, я-мезон, и т-мезон. Различаются они
лишь своей массой (мю-мезон в двести с лишним раз тяжелее электрона, тау-
мезон — еще более тяжелая частица) да еще тем, что, в отличие от электрона,
мю- и тау- мезоны радиоактивные, они распадаются на электрон и нейтрино.
Правильнее было бы назвать их не мезонами, а тяжелыми электронами. До сих пор до
конца неясно, зачем потребовалось природе несколько различающихся по весу
«изданий» электронов.
Рядом с клетками электроноподобных частиц, как собачки у ног их хозяев,
устроились три нейтрино. Их так и называют: нейтрино электронное, нейтрино
мюонное и тау-нейтрино. Каждое из них рождается только вместе со своим
хозяином, сопровождает его в реакциях и на соседей не обращает никакого внимания.
Масса нейтрино равна нулю. Все они, как фотон, «бестелесные» и никогда не
стоят на месте. Их скорость всегда равна скорости света. Хотя в газетах
сообщалось, что точными экспериментами у нейтрино обнаружена маленькая масса,
контрольные опыты этого пока не подтвердили. Можно сказать, что нейтрино —
это «черный свет». Сочетание противоречивое, но в физике бывает и не такое!
Когда семейство лептонов состояло всего из трех частиц — безмассового
нейтрино, электрона, весящего почти в две тысячи раз меньше протона, и его
«антибрата» позитрона, фамилия «лептоны» была точной характеристикой этих
частиц . Однако после открытия мезонов мю- и тау-, которые в сотни раз тяжелее
электрона, легкими их можно называть лишь условно. Названия «лептон» и «ад-
рон» теперь стали чисто условными, фактически синонимами эпитетов «слабо»- и
«сильновзаимодействующий». (Все лептоны взаимодействуют значительно слабее
адронов.) Но такова уж сила привычки — физикам трудно отказаться от
примелькавшихся выражений.
ЭЛЕМЕНТАРНЫЕ ЧАСТИЦЫ |
Г
МЕЗОНЫ
АДРОНЫ
1
БАРИОНЫ
_1
ГИПЕРОНЫ
A. Zu* Ил* &£«***«
Л WvV' WA" VvVvVV- Л
+ Резонансы
(короткожнвущне частицы)
ЛЕПТОНЫ
т_
НУКЛОНЫ
р,п
Продолжение осмотра —
переулок монстров
Все клетки здесь пустые. Их обитателей еще только предстоит поймать. В
разных странах этим занимаются большие отряды физиков, вооруженные самой
совершенной техникой. Хотя клетки пусты, на каждой из них висит составленная
теоретиками табличка с описанием веса, размеров и повадок чудовищ.
Вот над одной из клеток с толстыми прутьями крупная надпись: «Магнитный мо-
нополь». И ниже красными буквами: «Осторожно! Частица-убийца!»
Это изолированный магнитный полюс. Южный без северного или северный без
южного . Расчеты показывают, что такой полюс, находясь рядом с протоном, будет
сливаться с ним в единую очень неустойчивую систему, которая практически
мгновенно распадается на позитрон и мезоны, один или несколько. И среди
осколков распада опять присутствует монополь, готовый к следующему «убийству»
нового протона и так далее. Монополи разрушают (лучше сказать — разъедают)
окружающее их вещество.
Но существуют ли в природе такие страшные частицы? Ведь хорошо известно,
что, разрезав магнит, нельзя получить двух кусков с разными магнитными
зарядами, каждый из кусков снова оказывается магнитом с двумя полюсами. Наверное,
каждый из нас не раз проделывал подобный опыт. Даже в школьной «Физике»
написано, что электричество имеет источники — заряды, а магнитных зарядов нет;
магнетизм порождается токами, то есть опять-таки электрическими зарядами,
только движущимися.
Все это так. Окружающее нас атомарное вещество действительно состоит лишь
из электрических зарядов. Но может быть, частицы с магнитным зарядом удастся
изготовить искусственно, например, с помощью ускорителей, как создают сегодня
атомы антивещества? Или, возможно, такие частицы существуют где-то в далеком
космосе, и нам следует иметь в запасе какие-то средства защиты на случай,
если кусок магнитного вещества вдруг вторгнется в нашу родную Солнечную
систему?
Впрочем, магнитные монополи могли бы сослужить нам хорошую службу. При
разрушении протонов выделяется огромная энергия, и, будь в нашем распоряжении
килограмм монополей, удалось бы удовлетворить все энергетические потребности
человечества. Энергию можно было бы извлекать из любого вещества. Достаточно
«поперчить» его щепоткой монополей. Это был бы действительно неисчерпаемый,
бесконечный источник энергии! А хранить монополи можно было бы в «магнитных
бутылках» — специальных ловушках, магнитное поле которых имеет форму бутылки
и предохраняет содержащиеся в ней частицы от соприкосновения с окружающим
веществом .
Понятно, как важно было бы «изловить» магнитный монополь. Физики-теоретики
тщательно проанализировали условия, при которых он может родиться.
Выяснилось , что эти условия не выходят за пределы известных нам физических законов
и, в принципе, могут реализоваться в природе, однако частицы, несущие на себе
магнитный заряд, должны быть необычайно тяжелыми — по меньшей мере в 1016 раз
тяжелее протона. Массу протона надо увеличить в триллион раз и еще умножить
на десять тысяч! Монополь весит больше бактерии и высится горой среди
остальных элементарных частиц.
Конечно, ни один ускоритель не в состоянии породить такое «микрочудовище».
Это не под силу даже самым высокоэнергетическим частицам космического
излучения. Столь массивные объекты могли образоваться лишь в первые мгновения после
рождения самой нашей Вселенной, когда ее температура и плотность были
фантастически велики и энергии хватало, для рождения самых тяжелых частиц. Об этом
мы подробно поговорим в следующей главе, а сейчас важно лишь запомнить, что,
подобно сумчатым животным Австралии, где-нибудь в космосе могли сохраниться
реликтовые магнитные частицы. Они очень редки, так как иначе было бы заметным
их опустошительное действие в окружающем веществе. Но может быть, физикам
повезет, и они когда-нибудь смогут воочию познакомиться с подобной частицей.
Пожалуй, мы несколько задержались возле клетки монополей, но уж очень
необычны повадки этих «зверей»! Зато у следующей клетки остановимся лишь на
минутку. Она приготовлена для максимона, еще одного монстра, вычисленного
теоретиками. Это самая тяжелая элементарная частица из всех, какие только могут
быть. Ее вес в сотни раз больше, чем у магнитного монополя, — что-нибудь
около микрограмма. Как у крупной, видимой глазом пылинки. Такой мастодонт и
элементарным-то называть как-то неудобно!
Максимой так тяжел, что под давлением своего веса проваливается сквозь дно
любого сосуда и «прокалывает» Землю вплоть до ее центра, поэтому, как и для
магнитного монополя, его клетка должна быть сделана из магнитных полей. Если,
конечно, они на него действуют — ведь о свойствах максимона (эту суперчастицу
предсказал советский академик М.А. Марков) известно очень мало. Честно
говоря, пока физики не очень уверены в существовании такой сверхтяжелой частицы.
Теоретические прогнозы не всегда оправдываются.
Наконец, у самого выхода из зоопарка элементарных частиц расположен загон
для фаерболлов. По-английски «фаерболл» — огненный шар. Это что-то похожее
одновременно на блуждающую шаровую молнию и на ослепительно яркий сгусток
атомного взрыва. Только в микроскопических масштабах. По мнению некоторых
физиков, такие фаерболлы образуются при столкновениях сильно разогнанных,
обладающих очень большой энергией частиц. Образуются и почти мгновенно
распадаются на более легкие частицы.
Скептики шутят, что фаерболл похож на знаменитое чудовище Несси из
шотландского озера Лох-Несс. Говорят о нем давно, но до сих пор неизвестно, сущест-
вует оно на самом деле или нет. Одни его видят, другие нет.
Может, фаерболлы вовсе и не элементарные частицы, а какие-то более сложные
образования. Не зря их загон расположен у выхода из зоопарка...
Закрыто
на учет
Итак, целая россыпь, сотни элементарных частиц! Как разноцветный бисер, на
любой глаз и вкус! А если верить теории, то при слиянии любой пары частиц
должна образоваться новая частица, поэтому число их вообще должно быть
бесконечным. Расчет показывает, что частиц, которые в два-три раза тяжелее
нуклона, должно быть сотни тысяч, а частиц с массой, впятеро большей, чем у
нуклона , — уже сотни миллионов!
Трудно согласиться с тем, что природе действительно понадобилось такое
огромное количество простейших «строительных деталей». Тем более, что весь мир
можно скомпоновать всего из четырех таких деталей: электрона, нуклона, пи-
мезона и фотона. Пи-мезоны нужны, чтобы «слепить» из нуклонов атомные ядра, а
фотоны и электроны — для того, чтобы «сплести» ажурные конструкции атомов и
молекул. Все остальные частицы кажутся просто лишними. Зачем они, если и без
них можно обойтись?
Когда слышишь такой вопрос, невольно вспоминаешь, как неискушенный в деле
человек пытается починить часы. У него всякий раз что-нибудь да остается — то
винтик, то шайбочка. И хотя поначалу кажется, что все в порядке — часы идут,
вскоре они почему-то ломаются. Так и с частицами. У природы нет лишних
«деталей». Если назначение некоторых из них остается неясным, это говорит лишь об
уровне наших знаний на данном этапе...
Отложим пока этот сложный вопрос до следующей главы. Там мы увидим, что
многие, кажущиеся сейчас лишними, частицы нужны были на ранних этапах жизни
Вселенной. Тогда без них просто нельзя было обойтись. Когда смотришь на
россыпь частиц, первое, что хочется сделать, — это попытаться все-таки выделить
какие-то «наиболее элементарные» частицы, из которых можно составить все
остальные . Говоря словами американского физика Р. Фейнмана, который затратил
много усилий на систематику элементарных частиц, такие попытки — что-то вроде
детской игры в кубики, из которых нужно собрать целую картинку. Кубиков
великое множество, и с каждым днем их становится все больше. Часть валяется в
стороне и как будто бы не подходит к остальным. Как определить, что они из
одного набора? Откуда известно, что вместе они должны составить цельную
картинку? Полной уверенности нет, и это несколько беспокоит. Вселяет надежду
лишь то, что у многих кубиков есть нечто общее: на всех нарисовано голубое
небо, все они сделаны из дерева одного сорта.
Игрой в частицы-кубики занимались многие. Ей отдали дань самые известные и
талантливые физики. И ничего не вышло: оказалось, что все частицы в равной
степени элементарны. Среди них нет «более простых» и «более сложных».
Однако их можно разбить на семейства, и членов каждого из них рассматривать
как различные состояния одной и той же частицы. (Вспомним еще раз об аналогии
с лампочкой, которая меняет свой цвет!) Так были найдены семейства, состоящие
из восьми и десяти частиц. Есть семейства, содержащие всего лишь по одной
частице. Это мезоны-холостяки.
Семейства объединяются в более сложные группы — кланы. Физики называют
такие семейства мультиплетами, а кланы — супермультиплетами (от слова «мульти»
— много). Сегодня хорошо изучены супермультиплеты, состоящие из 35 и 56
частиц.
Кроме того, выяснилось, что часть короткоживущих частиц можно считать
сильно нагретыми (физики говорят — возбужденными) состояниями остальных.
И самое главное — мультиплеты и супермультиплеты, оказывается, не являются
полностью изолированными друг от друга, а связаны определенными родственными
отношениями — правилами симметрии.
Если бы частицы, как людей, регистрировали в паспортном столе, то члены се-
мьи-мультиплета имели бы общую фамилию. В клане-супермультиплете были бы
представлены разные фамилии, но у всех семей — общие предки. Сами кланы тоже
имеют единых прапрародителей.
В целом получается что-то вроде периодической таблицы элементарных частиц,
наподобие той, с помощью которой сто лет назад Менделеев навел порядок среди
атомов химических элементов. И подобно тому, как менделеевская система
помогла открыть неизвестные ранее элементы, симметрия мультиплетов также
предсказывает существование новых частиц.
ПЕРИОДИЧЕСКАЯ СИСТЕМА ЭАБИБНТАРНЫХ ЧАСТИЦ
2
-2
000
Резон
Razon
р°
+i
+2
+3
-100-9ф- 0-10"3
Антигравитон Антифотон
Antigravrton Antiphoton
МО*"6
V"
Антинейтрино
Antineutrino
i+9
00-Г* _ 001+' . 010+3 . 100 ..
Т| ГГ у+ ф+
Заряд'минус' Заряд "плюс Фотон Гравитон
"'- - ■*'— л"— Gran
Minus
Plus
Photon
Sraviton
+3
10-1+* 10f,o^+ 1104"12 .
X X v+
Антикондексон Конденсон
Anticondenson Conaenson
Нейтрино
Neutrino
. 2
о
h s
a.
i5
+2
e
<
ft
Ключ
01-1
+2
U-магнитон
U-tnagniton
б"
011
44
S-магнитон
S-magniton
o-i-r*bg_ o.n-2bg+
Чбриый U-магнитон Черный S-матитон
Black U-magniton Blade S-magniton
Поля
8" & 5* - магнитное
V & V* - гравитационное
X" & X* - электростатическое
с- a s ♦ I- электромагнитное
-1-1Г[?
Черное актим^ино
Bacfcafltineutrino
.-10
,-8
-ю-гкy--1orV "110rV
Черный аитягодасон черный коиденсон Чёрное нейтрино
6m arttrondenson Black condenson Black neutrino
2E
О
x
1 ,s § $ 8
«55
x | g
luiii
0
b+3.2
3 я
•110
-6
Ьу
Черное нейтрино
Black neutrino
■3+2
Название /Name
JD
h
I
<
CD -3.2
11-1
l+ll
Электрон
Electron
i+5
e
in
+13
e+
1-1-Г
be-
Позитрон
Positron
+7
1-11
)e+
Черный электрон Черный позитрон
Black electron Black positron
•in
-5
-11-Г7
ve-
Виртуальный электрон Bmi
VtoaleJectron Virtual posbon
ve+
позитрон
1-1-1
-13
-1-11
-и
w
e+
Призрак электрона Призрак позитрона
Prisrack electron Prisrack positron
К периодической
0~ & в* системе химических
элементов
Д.И. Менделеева
+24 G" & е* - электрический ток
Общий закон взаимодействий
Г=10,), к] ;
Глубокий смысл таблицы Менделеева стал понятен лишь после того, как физика
шагнула на новую ступень структурной лестницы — выяснила, что ядра атомов
состоят из протонов и нейтронов. Можно предполагать, что и симметрия
элементарных частиц получит свое объяснение после того, как будет открыт следующий
ярус строения материи.
Физики нащупали такой ярус, и первые же шаги привели к сенсационным
результатам .
Когда часть
больше целого
Казалось бы, если частица элементарная, то она не должна иметь частей.
Иначе , какая же это элементарность, если есть более простые части! И вот первый
сюрприз, который природа преподнесла физикам, состоял в том, что элементарная
частица протон имеет части!
Когда рядом с протоном находится другой протон или нейтрон, он «играет» с
ними в мезонный бадминтон. Если же протон одинок, он играет сам с собой —
испускает пи-мезон и поглощает его обратно, снова испускает, ловит и так далее,
— как жонглер в цирке. Наверное, все не раз наблюдали, как быстрое мелькание
шарика создает впечатление, что вокруг жонглера их целое облако. Так и с
протоном. Очень быстро испуская и поглощая обратно мезон, он тоже создает вокруг
себя облако частиц. Время каждого отдельного акта испускания и поглощения
очень мало, но благодаря многократным их повторениям возникает усредненная по
времени пространственная размазка заряда и массы. Образно говоря, нуклон
пульсирует, а еще лучше сказать — мигает. Вспыхнет «мезонным светом»,
погаснет, потом все повторяется заново и так без конца.
Вот как интересно получается: вокруг нас твердые, застывшие тела, а на
микроуровне мир, как живой, там все дышит, пульсирует, вращается!
Испустив положительно заряженный мезон, протон превращается в нейтрон, а
нейтрон после испускания отрицательного мезона становится протоном. Если же
испускается нейтральный мезон, то протон остается протоном, а нейтрон —
нейтроном. Во всех случаях пи-мезон, как часть, входит в состав протона и
нейтрона .
Сам пи-мезон тоже окружает себя облаком частиц-мячиков. Он на короткое
время испускает пару пи-мезонов. Почему именно пару, а не один мезон — это
сложный вопрос, связанный с особенностями этой частицы. Для нас сейчас важно то,
что пи-мезон не только состоит из частей, но что эти части не отличаются от
целого. Мезон состоит из мезонов! Это все равно, как если бы из пчелиного
улья вылетали не пчелы, а другие, подобные ему, ульи.
Более того, на очень короткое время мезон может превратиться в нуклон и
антинуклон . Например, положительно заряженный мезон я+ — в протон и
антинейтрон , нейтральный мезон яО — в протон и антипротон и так далее. Тут уж часть
намного больше целого. Получается как в сказке — кит на воде, а вода на ките!
Это был второй поразительный сюрприз, преподнесенный природой физикам.
Сегодня известно, что все элементарные частицы имеют «мигающее» строение и
содержат внутри себя различные типы легких и тяжелых частиц. Чем легче
испущенная частица, тем дальше может она удалиться от центра, прежде чем будет
поглощена обратно. Тяжелые частицы, наоборот, жмутся ближе к центру. Поэтому
внутренняя центральная часть любой элементарной частицы (ее называют керном —
сердцевиной) значительно более массивная и плотная, чем периферия, окраина.
Всякая элементарная частица окутана слоистым «облаком» или, как еще
говорят, одета в «шубу» из рождающихся и быстро исчезающих частиц. Даже кванты
света — фотоны и всепроникающие нейтрино — имеют свои «шубы». Вокруг них рож-
даются электроны и позитроны. Только это происходит весьма редко, и «шубы» у
фотона и нейтрино необычайно «воздушные», почти эфемерные, как говорится, на
рыбьем меху! Лишь на расстояниях, в тысячи раз меньших «шубы» протона, эти
частицы приобретают нечто вроде тонкого «свитера», состоящего из мю-мезонов.
Такую же тонкую и тесную «шубу» имеет и электрон.
Элементарные частицы, в свою очередь, тоже состоят из элементарных частиц.
Получается единая крепко сплетенная сеть, где нет начала и конца, а все
частицы одновременно являются и элементарными и сложными. Понятия простого и
элементарного в современной физике не совпадают. И самое удивительное здесь
то, что часть может быть больше целого. Ничего подобного еще никогда не
встречалось. Известный советский физик-теоретик Д.И. Блохинцев как-то в шутку
заметил: если атом уподобить органу, то элементарная частица — это аккордеон,
рождающий не звуки, а музыкальные инструменты: то барабан, то скрипку, а
иногда и большой концертный рояль!
В окружающем нас мире «больших», макроскопических, явлений это противоречит
здравому смыслу, выглядит полнейшей бессмыслицей. Но в микромире такое
возможно, природа устроена хитрее и изобретательнее любой человеческой фантазии.
Но как быть с законами сохранения массы и энергии? Ведь если протон,
оторвав от себя увесистый «кусочек» в виде пи-мезона, остается тем же протоном,
откуда взялся «материал» для мезона? Что-то тут не так, не может же, в самом
деле, мезон возникнуть «из ничего»!
Энергетическая ванна
Противоречие, можно сказать, налицо. Особенно, когда мезон распадается на
нуклон и антинуклон. Конечные частицы в этом случае весят в четырнадцать раз
больше начальной. Чтобы понять, как это может быть, нам придется отправиться
в далекое путешествие — снова в Древнюю Грецию, а точнее, в окруженный
высокими стенами греческий город на юге Апеннинского полуострова, где жил
знаменитый греческий ученый Архимед. Его интересовали не только глубокие
теоретические проблемы, много времени он отдавал решению практических задач —
конструировал подъемные механизмы, создавал военные машины для обороны города, а
иногда занимался и более мелкими, но не менее трудными вопросами. Один из
таких вопросов задал ему правитель города царь Гиерон. В благодарность за
победу, одержанную его войском, царь решил пожертвовать богам золотой венец. Он
отвесил мастеру необходимое количество золота, но когда тот принес
изготовленную драгоценность, Гиерон — по преданию, очень скупой и жестокий человек —
усомнился в его честности и повелел Архимеду придумать, как изобличить плута,
не портя, однако, драгоценного венца. Архимед долго не мог сообразить, как
справиться с таким необычным поручением. Но вот однажды, садясь в ванну, он
заметил, что погруженное в воду тело заметно легчает. Искомое решение задачи
четко предстало перед его умственным взором. Говорят, что с криком: «Эврика!»
(«Нашел!») — обрадованный Архимед среди бела дня голым бежал по городу к
дворцу царя.
Эффект Архимеда — жидкость снизу давит на тело и компенсирует часть его
веса . Об этом идет речь на уроках физики в седьмом классе. И вот оказывается,
что этот «банный эффект» играет важную роль внутри элементарной частицы.
Только место воды там занимает энергия. Образно выражаясь, «куски» частицы
погружены в силовое поле взаимодействия — в своеобразную энергетическую
ванну, и их масса уменьшается. Энергия взаимодействия внутри частицы имеет
отрицательный знак — ведь для того, чтобы растащить притягивающиеся друг к другу
части, надо затратить энергию. Она-то и компенсирует излишек энергии частей
элементарной частицы.
Энергетическая «ванна» есть и в атоме. В нее «налита» энергия электромаг-
нитного взаимодействия электронов с ядром. Оно в тысячи раз слабее сил,
действующих внутри элементарных частиц, поэтому плотность энергии во
внутриатомной «ванне» очень мала и погруженные в нее электроны почти не теряют в своем
весе, так же, как мы, люди, в бассейне земной атмосферы.
Плотность энергии, которой наполнено ядро атома, значительно больше. Потеря
веса здесь составляет уже проценты. А внутри элементарных частиц
взаимодействие их частей настолько велико, что они как бы «растворяются» в энергии
взаимодействия. Получается что-то вроде сильно разваренных ягод в густом варенье.
На связь частей уходит значительное количество общей энергии и массы. В этом
главное отличие элементарной частицы от атомного ядра и всех других
микрочастичек, которые мы называем составными, хотя все они имеют сложное внутреннее
строение.
Современную физику нельзя просто выучить, к ней надо еще и привыкнуть!
Но с лестницей, которая ведет в недра материи, происходит что-то странное.
Атомы расположены глубже молекул, ядра глубже атомов, а вот в протоне уже все
смешалось. Ступеньки налезают друг на друга, громоздятся... Уже и не скажешь
сразу, спускаемся мы или топчемся на месте...
Когда какой-то вопрос или задача становятся слишком сложными и запутанными,
полезно взглянуть на дело с несколько иной точки зрения. Это часто наводит на
неожиданную мысль, и все упрощается. Именно так поступил Христофор Колумб с
задачей о яйце. Говорят, однажды, привлеченный громкими голосами, он вошел в
кубрик, где красные от возбуждения матросы на спор (ставка — увесистый
столбик золотых монет) старались поставить яйцо на попа. Они поливали стол вином
и маслом, мазали его салом, но яйцо падало. Колумб некоторое время наблюдал,
потом легким ударом о стол смял скорлупу на конце яйца, и оно осталось
стоять .
Попытаемся и мы подойти к поиску следующих ступеней структурной лестницы с
новой стороны — с позиций эксперимента. Забудем, что протон элементарный, и
попробуем просветить его какими-либо лучами, чтобы увидеть, «из каких
элементов состоит элементарное». Возможно, это поможет нам разобраться в запутанной
картине «одежек без застежек» внутри элементарных частиц.
Как заглянуть
внутрь протона?
Величина самых мелких пылинок, которые мы еще можем разглядеть
невооруженным взглядом, составляет около пятидесяти микрон (напомним, микрон — тысячная
часть миллиметра). Это примерно половина толщины человеческого волоса. Те, у
кого особо острое зрение, способны рассмотреть предметы и в полтора-два раза
более мелкие.
Но это уже предел. Далее нужно использовать увеличительные стекла и
микроскоп . С их помощью можно разглядеть детали размером вплоть до сотых долей
микрона. Наглядно представить себе, что означают такие размеры, лучше путем
сравнений. Микробы имеют величину от нескольких десятых микрона до одного
микрона. Приблизительно таков же диаметр капелек жира в коровьем молоке.
Частички табачного дыма в десять раз меньше, самые мелкие из них около сотой
части микрона.
Объекты, меньшие сотых долей микрона, в оптический микроскоп увидеть
нельзя, даже если снабдить его очень большими и сильными линзами. Дело в том, что
такую величину имеет длина волны видимого света. Более мелкие предметы
световые волны огибают, и мы их не видим, подобно тому, как радиолокатор с большой
длиной радиоволны не замечает перископ подводной лодки. Наше видение
предметов основано на том, что они поглощают или рассеивают падающую на них
световую волну — вообще как-то ее изменяют. Это изменение и фиксирует наш глаз.
Если же волна огибает препятствие, как вода в ручье мелкий камешек, мы его
просто не замечаем.
Чтобы заглянуть внутрь объектов, меньших нескольких сотых микрона, нужно
использовать электронный микроскоп, в котором световой луч заменен пучком
быстрых, или, как говорят физики, «жестких», электронов, а наш глаз —
светочувствительным экраном или фотопластинкой. У электронного микроскопа увеличение
приблизительно в тысячу раз больше, чем у оптического, и с его помощью можно
увидеть (а точнее, сфотографировать) детали с размерами вплоть до десяти
тысячных долей микрона (Ю-8 сантиметров). Таким путем удается рассмотреть даже
отдельные крупные атомы. На фотографиях они похожи на густо намотанные
окружности толстой паутины или на кружевную салфеточку, если рассматривать ее
издали. Подобно световым частицам-фотонам, электроны обладают волновыми
свойствами. Они тоже огибают мелкие предметы, и это как бы размазывает картину,
делает ее расплывчатой и нечеткой. Образно говоря, электронный пучок при своем
движении как бы немного дрожит, траектории частиц несколько размазываются, и,
чтобы сфокусировать изображение, приходится использовать очень быстрые
электроны, инерция движения которых способна превозмочь волновое дрожание пучка.
(Поэтому такие электроны и называют жесткими.)
ЭЛЕКТРОННАЯ
ПУШКА
АНОД
I i
МАГНИТНЫЕ
ЛИНЗЫ
ОБРАЗЕЦ
ДИФРАКЦИОННАЯ
КАРТИНА
ИЗОБРАЖЕНИЕ
БОКОВОЙ
ДЕТЕКТОР
ЭЛЕКТРОННАЯ
ПУШКА
АНОД
МАГНИТНЫЕ
ЛИНЗЫ
ОТКЛОНЯЮЩАЯ
СИСТЕМА
КОЛЬЦЕВОЙ
ДЕТЕКТОР
Электронный микроскоп. До 1980-х годов электронный микроскоп,
разработанный в 1930-х, оставался единственным способом заглянуть в нано-
мир. Сканирующий ЭМ (справа) позволяет получать данные не только о
поверхности образца, но и о его химическом составе.
Почему электрон обладает волновыми свойствами — это сложный вопрос. Ответ
на него дает квантовая механика. Позже нам еще предстоит большой разговор об
этом, не будем забегать вперед. С точки зрения обычной школьной физики, вол-
новые свойства электрона объяснить и понять довольно трудно, но в науке
всегда приходится что-то принимать на веру, прячась за спасительной формулой:
это следует из опыта. Иначе мы рискуем утонуть в деталях.
Рассказывают, что однажды французский математик Жан Д'Аламбер, устав от
долгих попыток объяснить доказательство теоремы одному из своих учеников,
воскликнул в отчаянии:
— Честное слово, эта теорема верна!
Реакция ученика была мгновенной:
— Месье, этого вполне достаточно! Вы — человек чести, я — тоже. Ваши
уверения — самое лучшее доказательство!
Вот и мы давайте последуем примеру этих благородных людей и поверим пока на
слово квантовой механике, тем более что опыт хорошо подтверждает ее выводы.
Итак, электронный микроскоп позволяет добраться до границы атомов. Если
увеличить энергию электронов, сделать их еще жестче, тогда можно «просветить»
и более мелкие объекты — атомные ядра и их «детали» — протоны и нейтроны. Для
этого нужны ускорители частиц.
Это громоздкие и чрезвычайно сложные инженерные сооружения, создание
которых сегодня под силу только крупным странам. Тем не менее, несмотря на их
сложность, основной принцип действия ускорителей понять не трудно. По своему
устройству они похожи на кольцевое метро, только вместо поездов по кругу
бегут сгустки частиц. Удерживает их на круге магнитное поле, а в промежутках,
на каждой станции, на них действует «подстегивающее» электрическое
напряжение . Поезда метро на станциях останавливаются, а сгустки частиц, наоборот,
получают здесь дополнительный толчок электрическим «хлыстом». Чем дольше
крутится частица, тем больше ее энергия.
Ускоритель можно уподобить праще, которую воины когда-то применяли для
метания камней: заложенный в нее камень (в данном случае сгусток частиц)
раскручивается и с силой выбрасывается наружу.
Если убрать магнитное поле, ускоряемые частицы будут двигаться по прямой,
это так называемый линейный ускоритель. Его размеры очень велики, так как
частица проходит такой ускоритель только один раз, без возврата. И чтобы
разогнаться до большой энергии, она должна пробежать большое расстояние с
многими промежуточными станциями «подстегивания».
Академик В.И. Векслер, один из лучших советских специалистов по
ускорителям, сравнивал циклический ускоритель с круглым манежем для лошадей, а
линейный — с прямым треком ипподрома, вдоль которого лошадь, подгоняемая ударами
шпор всадника, летит как стрела.
Понятно, что ускорять можно не только электроны, но и все другие заряженные
частицы — например протоны, — и даже тяжелые ядра атомов. Однако легкие и
очень маленькие электроны особенно удобны для «просвечивания» других, более
крупных частиц.
Ускоритель частиц изобрели незадолго до второй мировой войны. Самый крупный
в Европе создавался тогда в Ленинграде, в Радиевом институте. Уже в то время
физикам было ясно, что эти машины — ключи к нижним этажам микромира.
Строительство ускорителя потребовало создания мощных вакуумных насосов — ведь
пучок частиц должен разгоняться в условиях почти полного вакуума, так как иначе
столкновения с молекулами газа рассеят его задолго до конца ускорения.
Потребовались особо сильные электромагниты, дистанционное управление, специальная
защита, поскольку работающий ускоритель — источник смертельно опасных
излучений. Целый комплекс проблем! Война помешала завершить строительство, но
накопленный опыт помог в создании значительно большего ускорителя в Дубне. Здесь,
на болотистом островке, отгороженном руслами трех рек — Дубны, Сестры и
Волги, — в конце сороковых годов был получен пучок протонов с рекордной по тем
временам энергией. Ранее такие высокоэнергетические частицы можно было ветре-
тить лишь в космических лучах. В газетах так и сообщалось: группе ученых
(некоторые из них принимали участие еще в строительстве ленинградской машины)
присуждена Сталинская премия за создание генератора космических лучей.
По сравнению с его высокоэнергетическими младшими братьями, построенными и
строящимися в Советском Союзе, в США, в странах Западной Европы, первый дуб-
ненский ускоритель выглядит весьма скромно. Даже у его соседа — знаменитого
дубненского фазотрона, построенного на несколько лет позднее, — энергия почти
в пятнадцать раз больше. Однако «зрение» первого дубненского ускорителя было
в свое время самым острым, почти в сто тысяч раз острее, чем у электронных
микроскопов, и с его помощью физики впервые смогли «прощупать» расположение
протонов внутри атомного ядра.
Схема слабофокусирующего синхротрона или синхрофазотрона: 1 —
инжектор; 2 — система ввода; 3 — вакуумная камера; 4 — сектор
электромагнита; 5 — прямолинейный промежуток; 6 — ускоряющее устройство.
Магнитное поле перпендикулярно плоскости рисунка.
Но внутреннее строение самого протона этот ускоритель еще не чувствовал.
Протон для него оставался точкой. Заглянуть внутрь этой частицы удалось лишь
пять лет спустя, когда на Тихоокеанском побережье США, вблизи города Сан-
Франциско , был построен мощный ускоритель электронов.
Партонная «икра»
Электронное «просвечивание» показало, что протон действительно не точка, а
довольно крупный объект с радиусом, всего лишь в несколько раз меньшим
радиуса легких атомных ядер. Это что-то около триллионной доли миллиметра — 10~13
сантиметров.
Вещество в протоне, как и в атоме, сконцентрировано, главным образом, в его
центральной части. Однако если атом состоит в основном из пустоты, то в
протоне нет резкой границы между оболочкой и центральным остовом — керном. Атом
своим строением напоминает Солнечную систему, а протон больше похож на
планету с массивным центральным ядром и окружающей ее протяженной атмосферой.
Радиус протонного керна всего лишь в несколько раз меньше размеров его мезоннои
«шубы».
Можно было ожидать, что аналогичное строение имеет и нейтрон. Простая
модель, в которой нуклон жонглирует мячиком-мезоном, подсказывает, что окраин-
ные области протона и нейтрона отличаются лишь знаком заряда: у протона там
«танцуют» мезоны яО и я+, у нейтрона — яО и я-. Опыт неожиданно показал
совсем другое. Радиус облака электрических зарядов в нейтроне получился равным
нулю! Иными словами, внутри этой частицы есть что-то такое, что полностью
нейтрализует заряд мезонного облака, или... или не верна модель жонглирования,
а это, в свою очередь, означает, что наши представления о строении
элементарных частиц несправедливы в самой своей основе, и физикам придется начинать
все заново. Было от чего прийти в волнение!
Результат опытов с нейтроном долго оставался загадкой. Для его объяснения
предлагалось множество гипотез, физики разных стран съезжались на специальные
конференции, чтобы сообща попытаться понять, в чем тут дело. Но «парадокс
нейтрона» не поддавался их усилиям.
Разгадать загадку пытались и мы в Дубне. Непонятно, почему происходит
нейтрализация заряженных «облаков» в нейтроне, но это, по существу, следующий
вопрос, прежде нужно убедиться в том, что такие облака там существуют. Это
можно сделать, если поместить нейтрон в сильное электрическое поле, тогда его
положительные заряды сместятся в одну сторону, а отрицательные — в другую.
Нейтрон растянется, из шарика превратится в гантель, что скажется на его
взаимодействиях с атомными ядрами. Идея простая, но заметить растяжение
нейтрона на опыте так и не удалось, этому мешали побочные эффекты.
Разгадка пришла после открытия тяжелых мезонов ро и омега. Как это уже не
раз случалось в истории науки, природа в разнообразии своих законов оказалась
куда более изобретательнее физиков. Выяснилось (кто бы мог подумать!), что
при определенных условиях пи-мезоны могут как бы «слипаться», образуя новые
короткоживущие частицы. Это как раз и есть омега- и ро-мезоны. Из таких
быстро слипающихся и снова разваливающихся частиц-капель и состоит мезонная
«шуба» нуклона. Одиночные мезоны встречаются в ней редко. В протоне условия
благоприятствуют образованию заряженных мезонных «капель», в нейтроне —
нейтральных, поэтому электроны и не чувствуют мезонной «шубы» нейтрона. Для них
она прозрачна. Чтобы ее обнаружить, нейтрон надо «прощупывать» пучком жестких
протонов, которые чувствуют мезонную «мякоть» нейтрона. Во всех
взаимодействиях нейтрон ведет себя как частица с размазанной в пространстве массой и
равным нулю радиусом распределения электрических зарядов.
Мы видим, что просвечивание электронами принесло много новых сведений о
строении нуклонов, однако не внесло упрощения в картину, наоборот, она еще
более усложнилась. Если вспомнить аналогию с жонглером, то можно было бы
сказать , что он играет сразу с несколькими шариками, которые иногда слипаются в
пары и тройки. Положение прояснилось лишь после того, как энергию электронов
подняли настолько, что они стали чувствовать в нуклоне детали, которые
вдесятеро меньше его диаметра.
Если бы протон представлял собой единую монолитную систему, состоящую из
перекрывающихся частей, которые по своим размерам не уступают целому, то,
согласно третьему закону Ньютона, величина импульса столкнувшегося с ним и
отскочившего электрона давала бы сведения о скорости движения протона как
целого . Это как в радиолокации — при слежении за летящим самолетом отраженный луч
приносит сведения о его размерах и скорости. Оператор на экране видит четкую
светящуюся точку. В опыте с рассеянием очень жестких электронов получилось
иначе — вместо четкой точки на экранах приборов было видно размытое пятно.
Правда, в опыте использовались не светящиеся экраны, как это делал когда-то
Резерфорд при просвечивании атома, а более сложные регистрирующие приборы, но
все равно после обработки с помощью ЭВМ их показания в виде точек и пятен
можно вывести на экран телевизора. И они получались не такими, как это должно
быть для монолитного нуклона.
В чем тут дело, первым понял американский физик Р. Фейнман. Его имя уже не
раз упоминалось на страницах нашей публикации. Среди коллег он известен своим
веселым остроумием, и это часто помогает ему находить ответ на самые трудные
вопросы, которые преподносит физикам эксперимент. Во время второй мировой
войны он участвовал в расчетах американской атомной бомбы. Работы велись в
строгом секрете, и в конце рабочего дня офицер безопасности запирал все
материалы в стальной сейф с цифровым кодом. Фейнман каким-то образом сумел
разгадать код, и однажды, открыв утром сейф, дежурный офицер поднял тревогу — в
сейфе со сверхсекретными чертежами и расчетами лежал клочок бумаги, на
котором было написано: «Угадай, кто?» От строгого наказания Фейнмана спасла лишь
его репутация выдающегося ученого.
Так вот, анализируя результаты новых опытов по рассеянию электронов,
Фейнман использовал аналогию с радиолокацией. Когда самолет или ракета
разваливаются на куски, к оператору следящей радиолокационной станции приходит
отражение от каждого из них — целый набор отраженных лучей, и вместо яркой точки он
видит на экране размазанное световое пятно. В своей статье Фейнман привел
пример с роем пчел: близорукий человек видит его как единый темный ком, а
наблюдатель с острым зрением различает множество снующих насекомых. Таким
образом, сделал вывод ученый, нуклон тоже является роем каких-то очень мелких
частичек. Из них состоит его керн и мезонная «шуба». Эти частицы стали
называть партонами — от английского слова «парт», то есть часть.
Теперь можно спросить: так все-таки что же такое нуклон — орешек-керн,
одетый в толстую мезонную «шубу», или же комочек мелкозернистой партонной
«икры»? Этот вопрос напоминает индийскую притчу о том, как слепцы пытались
рассказать , что такое слон. Слепец, который находился возле его ноги, сказал,
что слон похож на большое дерево. Второй ощупал хобот и заявил, что слон —
толстая кожаная кишка. Третий же, потрогав хвост, стал уверять, что слон —
это всего-навсего лишь маленькая змейка. Каждый из них был прав, но только
частично: истинная картина, подобно мозаике, получается сложением всех их
рассказов. Объекты микромира, их противоречивую сущность тоже нельзя
отобразить одной картиной, они слишком сложны для этого. Наглядное представление о
нуклоне — это набор многих отдельных картинок.
При крупномасштабном рассмотрении нуклон предстает перед нами как сгусток
накладывающихся и проникающих друг в друга мезонов и более тяжелых
элементарных частиц. При большем увеличении становится заметной мелкозернистая
структура этих частиц, и нуклон выглядит как шарик, наполненный партонной «икрой».
В целом картина приобрела более привычные нам черты: нуклон состоит из
маленьких частичек-партонов, подобно тому как атомное ядро складывается из
меньших, чем оно само, нуклонов. Большее состоит из меньшего, части-кирпичики
не похожи на слепленное из них целое. Ступеньки структурной лестницы
выправились и снова пошли вниз.
Но на этом история с партонами не закончилась. Их открытию очень
обрадовались теоретики, которые занимались классификацией в быстро разраставшемся
зоопарке элементарных частиц. Они уже давно догадывались о существовании
таких частиц, только называли их по-своему — кварками.
«Три кварка для
мистера Марка!»
Выше уже говорилось, что элементарные частицы нельзя разделить на более и
менее элементарные, все они равноправны. Однако их можно распределить по
семействам, связанным между собой правилами родства. Так же, как в настоящем
зоопарке, где звери распределены по родам, семействам, отрядам. Для
элементарных частиц роль родственных связей играют правила симметрии: частицы
укладываются в симметричные по своим свойствам группы. Сложные семейства, насчи-
тывающие десятки частиц-членов, расщепляются на более простые подсемейства,
те — на еще более простые. В целом получается таблица, которую можно назвать
периодической системой элементарных частиц.
Самое простое семейство в ней, лежащее в основе всех других, занято
частицей, имеющей три состояния. (Вспомним снова аналогию с электрической
лампочкой , которая меняет свой цвет! Но вот что смущает: правила симметрии приводят
к выводу, что заряд этой частицы (назовем ее пока частицей «икс») меньше, чем
у электрона. В одном состоянии (лампочка горит белым светом) он составляет
треть заряда электрона, в двух других (синий и красный цвет) — две трети.
Однако дробных зарядов никто никогда не встречал. С давних времен хорошо
известно, что электрический заряд всех тел всегда — целое кратное заряда
электрона (нуль тоже целое число!).
Настораживают и другие характеристики икс-частицы. По одним свойствам ее
следует считать нуклоном, по другим — мезоном. В некоторых отношениях она
должна вести себя, как типичная странная частица, в других же аспектах она
похожа на обычные, нестранные частицы. Все у нее не так, как у «нормальных
частиц»!
В древних мифах упоминаются кентавр, получеловек-полулошадь и сфинкс —
существо с лицом человека и с туловищем льва. Подобным фантастическим гибридом
в глазах физиков выглядит и частица икс. Вообразите на минутку, что вы видите
сфинкса, мирно пасущегося в стаде коров, или большого черного морского конька
с зонтиком среди гуляющей по морскому берегу публики. Можно представить, как
бы вы удивились! Вот так же встретило предсказанную теоретиками икс-частицу и
большинство физиков — с недоверием и подозрительностью, а некоторые так
просто с юмором, как очередной «загиб» досужих на выдумки теоретиков.
С другой стороны, если сложить три икс-частицы вместе, то в зависимости от
того, какие состояния «иксов» выбраны для сложения, эта триада приобретает
свойства протона, нейтрона или одной из более тяжелых частиц гиперонов.
Невольно приходит мысль, что удивительные «иксы» как раз и являются теми
первичными блоками-кирпичиками, из которых можно составить все другие частицы
подобно тому, как из протонов и нейтронов складываются ядра всех химических
элементов в таблице Менделеева.
Первыми эту идею выдвинули два американских теоретика — Мюррей Гелл-Ман и
Джордж Цвейг. Они же придумали и название икс-частице — кварк.
О происхождении этого странного термина среди физиков в ходу две легенды.
Согласно одной, он появился как шутка — в немецком языке слово «кварк»
означает одновременно: «творог», «протоплазма» и... «чепуха». Поначалу придумавшие
кварк теоретики с юмором относились к своему изобретению. Другая легенда
утверждает, что это слово взято из романа Джойса «Поминки по Финнегану». В
бредовом сне герой этого романа видит летящие за его кораблем чайки, которые
человеческими голосами выкрикивают бессмысленную фразу: «Три кварка для мистера
Марка!» Вот этим коротким гортанным словом из «области бреда» и
воспользовались теоретики.
Когда кварки замелькали на страницах теоретических статей, многие ученые
считали их всего лишь неким курьезом, временными строительными лесами на пути
к более совершенной теории. Однако не успели физики оглянуться, как
оказалось , что с помощью кварков очень просто и наглядно объясняются самые
различные экспериментальные факты, а теоретические вычисления сильно упрощаются.
Без кварков стало просто невозможно обойтись, так же, как, например, в химии
нельзя обойтись без атомов и молекул.
В теории Гелл-Мана и Цвейга нуклон, гипероны и другие похожие на них
тяжелые частицы состоят из трех кварков. Мезоны состоят из «слипшихся» кварка и
антикварка. Последние — такие же «сердитые» родственники, как электрон и
позитрон. Их электрические заряды отличаются знаком, а столкнувшись, они могут
в пух и прах разнести друг друга — аннигилировать. Но это происходит не
всегда. Иногда бывает так, что вместо взаимоуничтожения частица и античастица,
как борцы на арене цирка, начинают кружиться одна вокруг другой. Образуется
короткоживущая система, где частицы погружены в общую энергетическую «ванну».
С помощью «кваркового конструктора» можно построить всю таблицу
элементарных частиц — иногда простым сложением, а иногда придавая дополнительное
вращение «частям» уже построенных частиц. Исключение составляют упрямые лептоны,
их никак не удается породнить с кварками. Почему это так, мы выясним позднее,
а пока будем иметь дело лишь с адронами. Их намного больше, чем лептонов.
(Если кто-то забыл, чем отличаются адроны от лептонов, полезно вернуться на
несколько страниц назад и еще раз прогуляться по «зоопарку» частиц.)
Подобно тому как это было когда-то с периодическим законом Менделеева для
химических элементов, кварковая систематика позволила вычислить параметры и
предсказать поведение новых частиц, которые затем были открыты на опыте. Но
сами кварки по-прежнему оставались чисто теоретическими объектами. О них
много говорили и писали, но они упорно не хотели проявлять себя в опытах.
Вот тут-то и вышли на арену феймановские партоны. Оказалось, что внутри
протона и нейтрона ровно по три партонных икринки и параметры их в точности
такие, как у кварков. В частности, их заряд равен 1/3 и 2/3 электронного.
Точнее, один тип партонов имеет заряд -1/3, два других +2/3. Три типа парто-
нов — три состояния кварка. Стало ясно, что партоны и кварки — это одни и те
же частицы. Теоретики и экспериментаторы пришли к ним с разных сторон.
Казалось бы, наконец-то удалось свести концы с концами. Однако счастье
никогда не бывает полным, и в любой бочке меда есть своя ложечка дегтя. Физиков
очень беспокоило то, что в свободном виде, так сказать, наяву, кварки никто
не наблюдал, хотя с тех пор как их изобрели, прошло уже достаточно много
времени. Почему кварки встречаются лишь связанными в пары и тройки? Получается
так, что, подобно подпоручику Киже в известном рассказе Юрия Тынянова, кварки
«присутствуют, но фигуры не имеют»! В чем же здесь дело? Может, мы в чем-то
здорово ошибаемся и кварковый этаж природы устроен совсем не так, как мы его
себе представляем?
Погоня за
невидимками
Поиск свободных кварков стал одной из основных забот физиков. Не выяснив, в
чем тут дело, нельзя было двигаться дальше, и на решение этой задачи была
брошена вся мощь современной экспериментальной физики.
Самый характерный признак кварка — его дробный заряд, меньший заряда
электрона. Вот за этот признак и ухватились охотники за невидимками.
Когда заряженная частица проходит сквозь вещество, она своим электрическим
полем срывает часть электронов с оболочек атомов — ионизует их. Вдоль пути
частицы выстраивается цепочка таких «ободранных» атомов. Физики называют их
ионами. Чем больше заряд частицы, тем большее число ионов отмечает ее путь.
Поэтому ионизационные следы кварков в веществе должны заметно отличаться от
следов других частиц. Они менее плотные. Расчет показывает, что кварк с
зарядом 2/3 образует в два с половиной раза меньше ионов, чем частица, обладающая
единичным зарядом. А кварк с зарядом 1/3 — почти в десять раз меньше. Вот по
таким «рыхлым», разреженным следам и можно надеяться отыскать кварк среди
других элементарных частиц.
Плотность следа зависит также от массы частицы и ее скорости. Быстрая,
легкая частица, подобно глиссеру на воде, должна оставлять лишь слабый, едва
видимый след, а медленная и тяжелая, как ледокол во льдах, будет образовывать
широкую полосу повреждений. Однако физики давно уже научились измерять массы
и скорости частиц и в «чистом виде» выделять только ту часть ионизации,
которая связана с различием зарядов частиц.
Конечно, сама по себе цепочка ионов вдоль пути частицы остается невидимой,
подобно тому как невидимо изображение на непроявленной фотопленке. Чтобы
увидеть ионизационные следы частиц, нужны особые условия или специальная
обработка материала. Для этого можно воспользоваться, например, камерой Вильсона
в магнитном поле, с помощью которой полвека назад был открыт позитрон.
Цепочка заряженных ионов выполняет в ней роль центров конденсации, вокруг которых
«проявляется» след частицы в виде полоски тумана. Магнитное поле изгибает ее.
Радиус изгиба зависит от величины электрического заряда частицы, а
направление изгиба — от его знака.
Вместо пересыщенного пара, который применяется в камере Вильсона, можно
использовать перегретую жидкость с температурой немного выше точки кипения. Она
мгновенно вскипает вдоль траектории ионизующей частицы и отмечает ее
гирляндой мелких пузырьков — как в стакане с нарзаном. Чем сильнее заряжена
частица , тем больше образуется таких пузырьков.
След частицы можно сделать видимым также с помощью фотопластинок, подобных
тем, что применяются в обычном фотоателье, только фотослой у них нужно
приготовить по специальному рецепту — он должен быть чрезвычайно
высокочувствительным, чтобы реагировать даже на очень слабые ионизационные повреждения.
Химически ионы значительно более активны, чем неповрежденные атомы, поэтому
проявитель сильнее всего действует на те участки фотослоя, которые повреждены
частицами (или светом), и в результате получается отчетливая фотография
следов.
Есть и другие способы «проявить» ионизационные следы частиц. Однако ни в
одном из таких экспериментов дробных электрических зарядов обнаружить не
удалось . Их искали среди потоков частиц, рождающихся в ядерных реакциях на
ускорителях , искали в космических лучах... И... ничего, никаких следов кварков!
Одно время физики думали, что «вышелушить» кварки из протонов и нейтронов
мешает их очень большая масса. Плавая в энергетической «ванне» внутри
нуклона, они становятся гораздо легче, и, чтобы превратиться в свободные тяжелые
кварки, им нужно здорово «поправиться». Этого нельзя сделать без усиленного
энергетического «питания», поэтому выбить кварк из нуклона, вдоволь
«накормив» его энергией, может лишь сильно разогнанная частица. А поскольку кварки
в опытах не рождаются, это означает, что мощности современных ускорителей еще
недостаточно, и поймать кварк, возможно, удастся только в далеком будущем.
Вывод очень пессимистический.
Правда, есть еще один источник высокоэнергетических частиц-снарядов —
космические лучи. Там встречаются частицы с энергией в тысячи и даже миллионы
раз большей, чем дают ускорители. Казалось бы, уж они-то должны разбивать ну-
клонные «орешки» на кварки! Тем более обескураживающей была для физиков
неудача всех попыток обнаружить эти частички.
Может быть, причина в том, что высокоэнергетических «снарядов» в
космических лучах крайне мало и редкие случаи рождения кварков просто ускользают от
внимания наблюдателей?
Кварки вокруг нас
Космические частицы очень высокой энергии действительно весьма редки, но
зато выбитые ими кварки должны постепенно накапливаться в веществе нашей
планеты — ведь, однажды образовавшись, кварк уже не может исчезнуть. Он не
способен распасться на обычные частицы, так как заряд-то у него дробный, а
дробь, как ни крути, нельзя превратить в целое. Если кварк поглотится
протоном или нейтроном окружающего вещества, то при этом снова образуется объект с
дробным электрическим зарядом — еще один тип кварков, только несколько более
тяжелых. Кварковое вещество неуничтожимо, точнее, почти неуничтожимо, так как
исчезнуть и превратиться в обычные частицы кварк все же может, когда он
столкнется с антикварком и произойдет их аннигиляция, взаимоуничтожение.
Однако вероятность таких столкновений для рассеянных по веществу кварков и
антикварков чрезвычайно мала. А если к тому же учесть, что космические частицы
бомбардируют нашу планету уже многие миллиарды лет, то за это время в земном
веществе должно накопиться огромное количество кварков. Вот тут-то их и можно
попытаться обнаружить.
Есть еще одна причина, почему окружающее нас вещество должно быть
«нафаршировано» крупинками кварков. В следующей главе мы увидим, что когда-то, очень-
очень давно, Вселенная была в раскаленном состоянии. Все частицы тогда
двигались с большой скоростью и имели огромную энергию, кварки были свободными,
несвязанными частицами. Потом Вселенная несколько остыла. Почему это
произошло, опять-таки будет объясняться в следующей главе, сейчас нам важно лишь
знать, что настало время, когда кварки стали слипаться в адроны. Сталкиваясь,
они образовывали общую энергетическую «ванну», сразу теряли в ней вес, а
излишнюю массу «выплескивали» в виде излучений, подобно тому, как толстый
человек расплескивает воду, садясь в наполненную до краев ванну. Кварки сливались
в адроны, а разбить их обратно у окружающих частиц энергии уже не хватало. В
раскаленной Вселенной они носились, как разъяренные пчелы вокруг разбитого
улья, в остывшей они стали похожи на суетливых, но осторожных муравьев,
снующих вокруг своей кучи из рыжих иголок. Так «сварилось» вещество нашего мира.
Но отдельные кварки при этом могли, так сказать, замешкаться и оказаться в
окружении одних адронов, не имея партнеров для слияния. Это похоже на
известную детскую игру: ее участники бегают по площадке, не обращая внимания друг
на друга, вдруг звучит сигнал, и каждый торопится объединиться с соседом в
пару. А кто не успел — водит.
Заблудившиеся кварки-неудачники должны сохраниться до наших дней. Они до
сих пор странствуют по миру в поисках своих «суженых».
Расчеты, выполненные академиком Я.Б. Зельдовичем и его коллегами, показали,
что в каждой пылинке окружающего нас вещества с диаметром в тысячную долю
миллиметра должно быть примерно по одному заблудившемуся кварку. К этому
следует добавить еще кварки, рожденные космическими лучами. Концентрация
получается очень высокой. Тем более что это в среднем, а на самом деле кварки могут
распределяться очень неравномерно, и в некоторых веществах их концентрация
может быть еще выше. Все это выглядело весьма оптимистично, и многие
лаборатории мира с энтузиазмом взялись за ловлю свободных кварков. Началась
буквально кварковая лихорадка. Кварки искали не только специалисты-физики, но и
химики, инженеры и даже биологи. Многим казалось, что с помощью современной
техники обнаружить кварки не сложнее, чем отыскать крупинку золота в куче
золотоносного песка.
Был момент, когда казалось, что кварковая жар-птица уже в наших руках.
Солидный американский физический журнал, а вслед за ним научно-популярные
журналы и газеты объявили об открытии дробных зарядов. Однако «допрос с
пристрастием» показал, что этот результат ненадежен и, возможно, обусловлен какими-
то неучтенными особенностями эксперимента.
Сегодня, пожалуй, наиболее точный метод поиска кварков основан на том, что,
блуждая в веществе, кварки с отрицательным электрическим зарядом будут
прилипать к положительно заряженным атомным ядрам. Образуются «кварковые атомы»,
которые по своим свойствам несколько отличаются от обычных атомов. Этим можно
воспользоваться для концентрирования и выделения «кваркового вещества».
Метод напоминает старый студенческий анекдот о том, как поймать льва в
пустыне Сахара: надо растворить весь сахар в воде, тогда лев выпадет в осадок!
Были исследованы железные метеориты, различные минералы, морская вода,
выбросы вулканов во время их извержений, лунный грунт и прочее. Были
исследованы все экзотические уголки, до которых могли только добраться фантазия и руки
физиков. Измерения были настолько точными, что если бы в десяти кубометрах
воды (по объему это хотя и не целая Сахара, но весьма приличная цистерна!)
содержались всего один-два кварка, то они были бы обнаружены. Точность
фантастическая! Если бы такие возможности имели золотоискатели, они смогли бы
легко обнаружить крупинку золота в песчаной горе размером с десяток Эверестов и
даже больше.
И, тем не менее, все опыты оказались неудачными — кварков не обнаружили.
Это можно было бы понять, если допустить, что кварки не просто очень
тяжелые, а чрезвычайно тяжелые частицы. Дело в том, что корда частицы
«выкристаллизовывались» из первичного аморфного вещества юной Вселенной, тяжелым
частицам это давалось труднее, первыми и в большем количестве «выпадали в осадок»
легкие частички. (Мы опять несколько забегаем вперед, об этом пойдет речь в
следующей главе, но что делать, многие разделы физики переплетаются и их
нельзя расположить «голова в голову»!) Поэтому чем больше масса кварка, тем
меньше их блуждает сегодня вокруг нас. В своих расчетах теоретики
предполагали, что кварк в пять — десять раз тяжелее протона, а для того чтобы объяснить
отрицательный результат опытов, необходимо допустить, что масса кварка в
миллиарды миллиардов раз больше. Кажется невероятным, чтобы часть протона, его
долька, весила в миллиарды миллиардов раз больше его самого, — гора Казбек
внутри горошины!
Сегодня большинство физиков считает, что свободных, изолированных кварков в
природе вообще нет. Кварки наглухо «заперты» внутри элементарных частиц, и
никакими силами выбить их оттуда нельзя. Советский физик Я.Б. Зельдович одним
из первых пришел к выводу, что в мире действует какой-то закон, который
строго-настрого запрещает вылет кварков из адронов.
Но из чего же тогда сделаны «стенки» адрона, если ни один снаряд, даже
самый высокоэнергетический, не может их разрушить?
Пленники
резиновой
«тюрьмы»
Опыты по зондированию нуклона доказали, что в центре элементарной частицы
кварки почти не связаны взаимодействием и ведут себя как плавающие в воздухе
надувные шарики. Если же кварки пытаются разойтись, то сразу же возникают
стягивающие их силы. Другими словами, как самостоятельные частицы, кварки и
антикварки существуют лишь в глубине элементарных частиц, а на их периферии
кварки могут находиться лишь в форме связанных сгустков — например, в виде
пи-мезонов.
Интересно получается: в атомах и в их ядрах сильнее всего связаны
внутренние наиболее плотные слои, а вот кварковый каркас элементарных частиц,
наоборот, наиболее жестко и крепко сцементирован на периферии. Недаром физики
шутят о «центральной свободе» и «периферическом рабстве» кварков, а английский
термин «кварковый конфайнмент» — буквально: «пленение кварков», «кварковая
тюрьма» — встречается на страницах самых серьезных научных статей!
Хотя ни один снаряд не может расколоть адронные «орешки», было бы неверным
считать, что их стенки тверды, как танковая броня или железобетонный колпак
дота. Сквозь эти стенки глубоко внутрь протона и нейтрона проникают пучки
зондирующих электронов, их пронизывают насквозь фотоны и нейтрино. И в то же
время их не может преодолеть ни один внутренний кварк.
С первого взгляда неясно даже, как связать такие, казалось бы, несовмести-
мые, взаимоисключающие особенности кваркового строения частиц. Тем не менее,
их можно понять с помощью весьма простой модели. Представим себе, что между
кварками натянуто что-то вроде резиновых нитей. Когда кварки близко один от
другого, нити провисают, и кварки чувствуют себя свободными — резинки не
мешают их движению. Но как только кварки расходятся, нити натягиваются, и тем
сильнее, чем больше расстояние между их концами. Кварки сразу оказываются
спутанными «по рукам и ногам».
Модель связанных кварков.
В старой вьетнамской сказке рассказывается о страшной змее, которую не смог
убить ни один воин. У нее вместо хвоста была еще одна голова, а когда змею
рассекали мечом, на месте разреза мгновенно вырастали новые головы, и вместо
одной змеи к сражению были готовы уже две. Мезон похож на такую двухголовую
змею, а нуклон — на клубок из трех змей. Если в один из кварков, находящихся
внутри мезона, «выстрелить» быстрым электроном, этот кварк получит большой
импульс и отскочит. Но его движение будет продолжаться лишь до тех пор, пока
натяжение удерживающих резиновых нитей не возрастет настолько, что их энергии
станет достаточно для рождения новой пары кварков. Не выдержавшая напряжения
нить рвется, в точке разрыва выделяется накопившаяся энергия, и рождаются два
кварка, точнее, кварк и антикварк с противоположными зарядами. (Сохранение
электрического заряда — такой же строгий закон природы, как и закон
сохранения энергии.) Антикварк и выбитый электроном кварк «слипнутся» и образуют
мезон, а оставшийся кварк займет внутри частицы место выбитого кварка. И в
результате все будет выглядеть так, как будто кварк остался на месте, и
одновременно за счет энергии растянувшего нить электрона родился мезон — был один
мезон, стало два!
Похожим образом ведет себя и нуклон. Каждый раз, когда пытаются выбить из
него кварк, рождается новый мезон, а нуклон остается невредимым.
Теперь должно стать понятным, почему не удается расколоть нуклон на три
кварка: сколько по нему ни бей, из него всякий раз будут вылетать целые
частицы — адроны, а не их осколки — кварки и антикварки!
Модель резиновых нитей самая простая, но не единственная, используемая
физиками для описания кваркового строения элементарных частиц. Есть еще модель
пузыря с упругими, эластичными стенками, которым не дает сжаться давление
кваркового газа. Правда, газовых частиц в таком пузыре всего лишь две или
три, и говорить о газе здесь можно лишь с большой долей условности. В научных
статьях эту модель часто называют также «кварковым мешком». Физики, которые
ее разрабатывают, получили шутливое прозвище «мешочников». Есть и другие
модели.
Конечно, все они представляют собой очень упрощенное, сильно усредненное
описание реального положения дел. Мы еще только прикоснулись к кварковым
явлениям . Пока это клубок противоречивых гипотез и фактов. Нечто похожее в
физике уже было, когда создавалась теория атома. Тогда тоже было много
различных наглядных моделей, с помощью которых ученые пытались если не объяснить,
то хотя бы привести в систему новые факты. Физикам придется еще много
потрудиться, чтобы превратить кварковые модели в такую же строгую теорию, какой
является сегодня теория атома.
И первый вопрос, который здесь возникает: почему межкварковые силы не
похожи на все другие? Электромагнитное взаимодействие, сила тяжести, мезонныи
бадминтон нуклонов — все они уменьшаются с увеличением расстояния. Вспомним
закон Кулона или закон всемирного тяготения Ньютона: сила обратно
пропорциональна квадрату расстояния. Расстояние увеличивается вдвое, сила уменьшается
вчетверо. Ядерные силы уменьшаются еще быстрее. Такое поведение сил вполне
понятно — чем дальше частицы, тем слабее они действуют друг на друга. А вот
кварки почему-то предпочитают взаимодействовать издалека. Из чего же состоит
«резиновый клей», стягивающий их в адронные капли?
«Глюонныи клей»
Для физика такое заглавие звучит как «масляное масло», потому что слово
«глюон» уже само происходит от английского «глу» — клей. Придумал частички-
глюоны все тот же Ричард Фейнман. Он отвел им роль воланчиков в бадминтоне
партонов — кварков. Другого способа организовать взаимодействие физика не
знает. Ведь если частицы взаимодействуют, между ними должно что-то
передаваться .
Глюоны очень похожи на частицы света — фотоны. У них тоже нет массы, и они
движутся со скоростью света. Однако в отличие от зарядово-нейтральных
фотонов, они «измазаны» зарядом. Фотон никакого нового электрического поля вокруг
себя не создает. Наибольшую интенсивность поле имеет вблизи заряда — его
источника , а далее оно постепенно рассеивается в пространстве и ослабевает.
Глюон же своим собственным зарядом рождает новые глюоны, те, в свою очередь,
— следующие и так далее. Происходит лавинообразное саморазмножение. Поэтому-
то глюонное поле и не ослабевает, а, наоборот, возрастает при удалении от
породившего его кварка. «Глюонныи клей» напоминает тесто на дрожжах, его так же
«распирает».
Если вернуться к наглядной картине бадминтона, то следует сказать, что
отброшенный кварковой ракеткой глюон-воланчик сразу же начинает, как пеной,
обрастать новыми глюонами, и в результате удаленные кварки обмениваются целыми
комками воланчиков. Их связь становится более сильной. Это объясняет, почему
«глюонныи клей» обладает свойствами резины.
Каждый кварк утоплен в толстом комке глюонной резины. «Голыми», очищенными
от клея, кварки становятся лишь в центре частицы. Зондирование центральных
областей нуклона дало неожиданный результат: голые кварки — очень легкие
объекты, их масса в сто раз меньше нуклонной. Оказывается, нуклон и другие
элементарные частицы состоят в основном из глюонного клея. Шарики, наполненные
глюонной «жидкостью», с маленьким пузырьком в центре!
Как и кварки, глюоны — вечные пленники. В лавинообразном образовании
глюонной «пены» энергия начального глюона быстро делится на все более и более мел-
кие порции, и глюон «тает» — растворяется в комке рожденных им новых глюонов.
Он не может уйти далеко от места своего рождения.
Тем не менее, глюоны оставляют видимые следы. При столкновении с
зондирующим электроном глюон иногда получает такой сильный толчок, что его энергии
хватает не только на образование глюонной «пены», но и на рождение кварк-
антикварковых пар. Эти пары сразу же слипаются в мезоны и вылетают в виде
узкой, «кинжальной» струи частиц. Можно сказать, что получивший большой импульс
глюон так резко тормозится на краю частицы, что его энергия струей
«выплескивается» наружу. Узкие мезонные струи наблюдались во многих экспериментах.
Глюон — частица, изобретенная за письменным столом теоретика, однако
сегодня нет сомнений в ее реальном существовании.
Аромат и
цвет
кварков
С тех пор как выдумали кварки, прошло уже четверть века, и их уже давно
перестали считать «чепухой». Курьезный намек на это остался лишь в их названии.
Для физика глюоны и кварки сегодня такие же привычные объекты, как атомы и
молекулы.
Знаменитый французский математик Анри Пуанкаре как-то заметил, что всякой
истине суждено одно мгновение торжества между бесконечностью, когда ее
считают неверной, и бесконечностью, когда она становится тривиальной. Правда,
кваркам до тривиальности еще далеко, они до сих пор преподносят сюрпризы.
Поначалу считали, что кварки имеют три состояния. Семейство трех братьев-
близнецов . Фраза «Три кварка для мистера Марка» имела тогда прямой смысл. Два
кварка нужны, чтобы построить нуклон и пи-мезон. Третий — для конструирования
странных частиц. Вскоре, однако, были открыты «прелестные» и «очарованные»
частицы, и для них пришлось ввести еще два кирпичика-кварка. А недавно был
обнаружен шестой кварк. Эти три кварка значительно тяжелее своих собратьев,
их масса больше нуклонной.
Теперь уже не три, а шесть кварков для мистера Марка! Чтобы различать, им
присвоили номера — первый, второй и так далее. Однако это неудобно, поскольку
все шесть кварков совершенно равноправны, и какой из них называть первым, а
какой последним, зависит от конкретной задачи. Поэтому предложено считать,
что все кварки обладают общим свойством — ароматом, но каждый из них пахнет
по-своему. Шесть кварков — шесть запахов.
Конечно, кварк нельзя понюхать, и никакого аромата в обычном понимании у
него нет. Это только удобный термин, такой же, как «странность», «очарование»
или «прелесть», с помощью которых описывают определенные свойства частиц.
Физики любят использовать необычные и поэтому легко запоминающиеся названия.
Иногда это приводит к забавным недоразумениям. Некоторое время мне пришлось
работать в отделе, начальник которого весьма формально выполнял свои
обязанности. Подчиненным это надоело, и вот однажды один из них среди прочего
оборудования заказал пару оптических осей. (Оптическая ось, как известно, это —
воображаемая линия, соединяющая фокусы линзы.) Наш начальник, по обыкновению,
не глядя «подмахнул» заказ, а ответственный за поставку оборудования
хозяйственник, доверяя авторитету нашего титулованного начальника, принял все за
чистую монету. Понятно, что никаких оптических осей институт не получил.
— Мне предлагали, но толстоваты, отказался! — попытался вывернуться на
отчетном собрании хитрец снабженец, но его слова утонули в громовом хохоте.
Не смеялся один начальник.
Ныне хозяйственник стал опытным, а лет двадцать — тридцать назад еще можно
было выписать дефицитный растворитель для протирки тех же оптических осей или
для смывания «ионных пятен» с экрана телевизора!
Испуская или поглощая глюон, кварк изменяет свой «цвет». Подобно снующим
над цветами пчелам, глюоны «измазаны» пыльцой-зарядом. Сядет такая «пчела» на
кварковый «цветок», и он сразу приобретает другой цвет, улетит — опять новый
цвет, в зависимости от того, сколько и какой зарядовой «пыльцы» унесла глюон-
ная «пчелка».
Кварковый заряд «цвет» во многом похож на электрический. Он также может
быть большим или маленьким, положительным или отрицательным (в последнем
случае говорят, что цвет сменился антицветом). Но есть одно принципиальное
отличие. Как бы ни изменялся электрический заряд, он всегда остается
электрическим зарядом. Цветовой же заряд может изменить еще и свой цвет. Фактически
это сразу три независимо изменяющихся заряда, которые к тому же могут еще и
переходить один в другой. Цветные системы несравненно богаче по своим
свойствам, чем электрические.
Кварковая модель.
Попытайтесь представить себе, как изменился бы окружающий мир, если бы
вдруг появились три типа электрических зарядов. Три сорта света и радиоволн,
цветное электричество, разные типы атомов...
С открытием «цвета» микромир стал в наших глазах многограннее и ярче, но
кварков теперь уже восемнадцать. Этот факт тоже начинает беспокоить — уж
очень сложной становится «самая элементарная» частица. Видимо, в недрах
микромира от нас скрыто еще что-то очень важное...
Упрямые лептоны
Есть еще одно беспокоящее обстоятельство. Кварки позволили навести порядок
среди элементарных частиц, помогли понять, что творится внутри этих
мельчайших капелек вещества. Однако лептоны остались в стороне — их нельзя «склеить»
из кварков.
Три электронно-подобных брата, е, я и т с тремя собачками-нейтрино и шесть
античастиц — три «антибрата» и три «антисобачки». Эти «упрямцы» стоят
особняком от других элементарных частиц и не хотят иметь с ними дела —
взаимодействуют слабо. Все они точечные, по крайней мере, раз в тысячу меньше остальных
частиц. Такое впечатление, будто они сделаны из другого «теста»!
По размерам и по специфичности, выделенности своего поведения лептоны ближе
к кваркам, чем к составным частицам — адронам. Ведь кварки тоже очень мелкие
частички. Да и число лептонов — шесть — таково же, как число кварков в каждой
цветной шеренге. Едва ли такое сходство случайно, в природе ничего не бывает
«просто так»...
А что, если лептоны лежат на той же «сверхэлементарной» ступени структурной
лестницы, что и кварки? Более того, может, они вообще близкие родственники?
На побережье лазурного Адриатического моря, вдали от крупных промышленных
центров, расположен международный Институт теоретической физики. Он
содержится на деньги многих государств, и работать туда приезжают ученые со всех
краев света — от Японии до Америки. Обмен мнениями, споры, совместные расчеты —
все это очень способствует работе теоретиков. Несколько лет назад два
сотрудника этого института, его бессменный директор пакистанский физик Абдус Салам
(член Академии наук СССР) и английский теоретик Джордж Пати, выдвинули смелую
гипотезу о том, что лептоны не самостоятельные частицы, а всего лишь
четвертое цветное (точнее, бесцветное, белое) состояние кварка.
Этих физиков не смутило большое различие свойств частиц, объединенных ими в
кварковое семейство, — «бестелесных», не имеющих электрического заряда и
движущихся со скоростью света нейтрино, с одной стороны, и тяжелого шестого
кварка с дробным зарядом и массой, больше нуклонной, — с другой.
Электрические заряды лептонов 0 и 1, то есть 0/3 и 3/3, хорошо укладываются в один ряд
с зарядами кварков:
0/3, +1/3; +2/3, +3/3.
Что же касается различия масс, то, по мнению Салама и Пати, это результат
влияния окружающего фона. Ведь вокруг всякой частицы образуется облако
испущенных ею частиц-воланчиков, которые экранируют частицу и изменяют ее
свойства. Только такие заэкранированные, закутанные в облака частицы с измененными,
или, как говорят физики, эффективными, свойствами и наблюдаются в опытах.
Здесь мы снова встречаемся с эффектом Архимеда: внутри облака частица
чувствует себя, как в ванне. А поскольку плотность и состав облака зависят от
величины заряда и от других ее характеристик, вес членов кваркового семейства
оказывается различным. Для одних ванна кажется наполненной водой, для других
— вязким маслом, а для третьих — густым сиропом, в котором они полностью
теряют свой вес и приобретают невесомость.
О том, что члены семейства-мультиплета могут иметь разные массы, известно
давно. Например, заряженные пи-мезоны несколько тяжелее яО-мезона:
распределенное вокруг них электрическое поле дает добавку к их весу. Однако все эти
расщепления составляют проценты, а в кварк-лептонном семействе они очень
великие — на малых расстояниях, в тысячи раз меньших размеров адронов,
действуют более мощные силы, и энергетические «ванны» вокруг частиц оказываются
весьма эффективными.
На самом деле, конечно, все обстоит значительно сложнее, даже специалистам-
теоретикам здесь еще не все ясно, но в первом приближении картину можно
«нарисовать» с помощью экранирующих облаков и энергетических ванн.
Новая теория сократила список независимых элементарных частиц, сделала их
таблицу более стройной. Однако одного этого еще недостаточно для того, чтобы
физики поверили в гипотезу о тесной связи кварков с лептонами. Ведь, по
существу, новая теория лишь заменила один непонятный факт, «упрямство лептонов»,
другим — их «кровным родством» с кварками. Это все равно, что пытаться старую
тайну объяснить с помощью новой загадки. Как говорит пословица: «Хрен редьки
не слаще».
Можно придумать целую цепочку гипотез, где каждая следующая нужна лишь для
оправдания предыдущей. Так однажды в наш институт пришло письмо, автор
которого, десятиклассник, выдвигал гипотезу: раз все в природе развивается, то
должны развиваться и частицы, поэтому нейтрино, электрон, протон и так далее
— это одна и та же частица в разные периоды ее жизни. Чтобы объяснить, почему
нет частиц, соответствующих промежуточным моментам времени, вводится еще одно
предположение: время только кажется непрерывным, а на самом деле в нем есть
прорехи, поэтому промежуточных моментов просто не существует. Дальше автор
письма не пошел, но если пофантазировать, то цепочку гипотез можно
продолжить. В институты приходит много подобных писем. Их общий недостаток —
произвольность допущений. Современная физика (равно как и другие разделы знания)
таких гипотез не признает, считает их ненаучными.
Но так было не всегда.
«Бритва Оккама»
Шесть с половиной веков отделяют нас от эпохи, когда жил Уильям Оккам —
член Ордена нищенствующих монахов, человек очень образованный, выступавший с
лекциями по богословию и логике. Это было время, когда наука играла роль
робкой служанки церкви и ютилась на задворках монастырей и соборов. Главным
«научным» доводом тогда было: «Это вытекает из святого писания», или просто:
«Так угодно богу». Однако накапливались экспериментальные данные, люди все
больше и больше узнавали об окружающем мире, и в среде ученых монахов голос
слепой веры все чаще сменялся голосом разума: почему же все-таки так, а не
иначе? К числу таких размышляющих монахов принадлежал и Оккам.
С портретного наброска в рукописи XIV века смотрит коротко остриженный,
аскетического вида монах в рясе, с худым, продолговатым лицом и внимательными
глазами. О его происхождении и юношеских годах мы знаем мало. Доподлинно
известно лишь то, что первую часть жизни он провел в Англии, где его
остроумные, часто язвительные, но всегда трудно опровергаемые выступления быстро
принесли ему известность. Кончилось тем, что канцлер Оксфордского
университета обвинил его в ереси и под стражей отправил в Авиньен — тогдашнюю
резиденцию папы, где в ожидании суда Оккам долгих четыре года провел в заключении.
Следствие тянулось, суд постоянно откладывали, а тем временем от Оккама
обещаниями и угрозами старались добиться смирения и покаяния. Однажды ночью
вместе с двумя другими узниками ему удалось бежать. На лошадях в большой спешке
они добрались до побережья, где их ждала галера. Всю дальнейшую жизнь Оккам
посвятил борьбе против папы.
В то время было обычным строить длинные схоластические рассуждения, цепляя
одно предположение за другое. Для объяснений явлений природы привлекалось
множество различных гипотез о всевозможных «тонких», не ощущаемых нами
«флюидах» , субстанциях и «сущностях». Понятно, что таким путем удавалось
объяснить , а главное, согласовать со священным писанием все что угодно. В
словесных дуэлях со своими противниками Оккам первым стал использовать в качестве
оружия принцип: «Не следует с помощью большего делать то, чего можно
достигнуть меньшей ценой», или более кратко: «Сущностей не следует умножать сверх
необходимого». Этот принцип, как бритва, срезал слабо обоснованные доводы
противников, позволяя вылущивать зерна истины. С тех пор «бритва Оккама»
стала одним из основных принципов, краеугольным камнем научного исследования.
Второй краеугольный камень — обязательная проверка экспериментом. Были
века, когда ученые не очень заботились о проверке своих теорий опытом. Доказа-
тельства на основе логических рассуждений считались более надежными и
убедительными, чем эксперименты, всегда несколько неточные и зависящие от
приборов . Например, крупнейший ученый древности Аристотель в своих трудах
утверждал , что у женщин зубов меньше, чем у мужчин. Ему и в голову не приходило
проверить это утверждение опытом, хотя он дважды был женат. Этот пример
выглядит историческим анекдотом, но он правильно передает атмосферу
пренебрежения к эксперименту, которая царила в науке в течение многих веков. В
современной науке проверка экспериментом обязательна, опыт — главный судья. Какой
бы логически стройной и замкнутой ни была теория, до тех пор, пока ее выводы
не подтверждены на практике, она относится к разделу недоказанных гипотез.
Если же теория такова, что ее выводы можно проверить опытом лишь когда-то в
очень далеком будущем, то ученые подходят к ней с большой осторожностью.
Все вокруг
радиоактивно!
Вернемся к гипотезе о кварк-глюонном родстве. Теория Салама и Пати была
первой разведкой в этом направлении. Как говорил Гете, смелые мысли подобны
передовым шашкам в игре — они гибнут, но обеспечивают победу! Сегодня физики
отдают предпочтение другим, более совершенным вариантам теории. Но все они
обладают общим недостатком: их предсказания и выводы можно проверить лишь при
очень высоких энергиях, в миллиарды раз превосходящих то, что дают
современные ускорители. Энергии космических частиц для этого также недостаточно. Даже
у самых быстрых из них энергия в сотни раз меньше того, что нужно.
Казалось бы, кварк-лептонным теориям уготована участь пылиться в дальнем
ящике письменного стола теоретиков. Есть такие теории, о которых говорят, что
они «из области фантастики и, может, даже не научной»!
К счастью, природа оставила маленькую, как замочная скважина, щелку, через
которую уже сегодня можно заглянуть в край сверхвысоких энергий.
В теориях, основанных на кровном родстве лептонов и кварков, пчелки-глюоны,
перенося цветовую «пыльцу», могут сделать красный, синий или желтый цветок
белым, то есть превратить его в лептон. Составная частица адрона, внутри
которого произошло такое превращение — например протон, — сразу же распадется,
поскольку частиц, состоящих из смеси лептонов и кварков, в природе нет.
Подобной радиоактивности протона нет ни в одной другой теории, поэтому если ее
обнаружат на опыте, это будет убедительным доказательством того, что лептоны
и кварки — близкие родственники.
Правда, вывод о радиоактивности протона несколько пугает. Получается, что
радиоактивно и с течением времени должно распасться все — все атомы мира.
Оптимистической такую перспективу не назовешь!
Однако опасаться нам нечего. Расчет говорит, что протоны распадаются крайне
редко. В стакане воды один распад происходит за десять тысяч лет, а чтобы
распадалось по одному протону в сутки, нужен большой пруд, объемом со
школьный спортзал. В теле человека за всю его жизнь, от рождения до смерти, в
среднем распадается не более одного протона. Как видно, потери невелики.
Пройдет неисчислимое количество лет, прежде чем убыль атомов в мире станет
заметной.
Как же обнаружить
такие сверхредкие
события?
Прежде всего заметим, что у протона — положительный электрический заряд,
поэтому при его распаде должна обязательно образоваться какая-то положительно
заряженная частица, она распадается на более легкие частицы и так далее до
тех пор, пока не образуется позитрон, которому распадаться больше уже не на
что. Двигаясь в веществе, он столкнется с одним из атомных электронов и
превратится (аннигилирует) в кванты света. Эти искорки света — сигналы о
происшедших в веществе «протонных катастрофах». Засечь их труднее, чем найти
иголку в стоге сена. Приходится наблюдать сразу за очень большим числом протонов,
для чего используют огромные объемы прозрачной жидкости — иногда тысячи или
даже десятки тысяч тонн — и много высокочувствительных детекторов света. Это
можно сравнить с сетчатыми глазами гигантской стрекозы, застывшей в ожидании
добычи. Чтобы исключить фон космических лучей, где есть свои позитроны,
измерения выполняют глубоко под землей, например, в шахте для добычи золота в
Южной Америке глубиной три километра или у нас на Кавказе в толще гор. А для
того чтобы долгожданные искорки протонных распадов не затерялись в хаосе
всевозможных случайных помех, применяются сложные системы электронной фильтрации
регистрируемых сигналов.
Опыты продолжаются уже несколько лет, и, хотя ни одного случая распада
протона до сих пор не обнаружено, физики не складывают оружия. Создаются
установки еще большей величины, а некоторые из проектируемых выглядят просто
фантастическими. Так, планируется строительство прибора с объемом в кубический
километр. Куб со стороной, равной высоте почти двух Останкинских
телевизионных башен! Такое циклопическое сооружение можно разместить лишь в толще
океана или в глубоком озере, например в Байкале.
Поиск протонных распадов часто называют экспериментом века. Его успех будет
веским доказательством того, что наши представления о глубинах микромира в
целом правильны. Напротив, отрицательный результат прозвучит тревожным
сигналом о том, что физики в чем-то крупно ошибаются, и тогда придется искать
новую дорогу в недра микромира. Понятно, почему физики с таким интересом
встречают все сообщения с «протонного фронта»! Да и не только физики, результат
опытов очень важен также для астрономов и философов — ведь от его исхода
зависят предсказания дальнейшей эволюции и судьбы окружающего нас мира.
«Великое объединение»
Слои «облаков», окружающие частицы, экранируют их заряды, поэтому, надевая
«шубы», частицы изменяют не только свои массы, но и заряды. Другими словами,
расщепление массы «голой» частицы при облачении ее в «шубу» должно
сопровождаться распадом единого исходного взаимодействия на несколько отличающихся по
своим свойствам типов. Можно думать, что четыре основных вида сил,
действующих между частицами — очень сильные «цветовые», умеренно сильные
электромагнитные, слабые силы всемирного тяготения (гравитация), очень слабые,
проявляющиеся в распадах частиц, — как раз и есть проявление этого расщепления.
Если бы можно было заглянуть внутрь облачного покрова частиц — например,
так, как это делают на планете Венера с помощью спускаемых на парашютах
станций-зондов, — частица с различных высот выглядела бы заряженной по-разному.
Именно так, всегда различно заряженными, видят друг друга сталкивающиеся
частицы. Чем больше их энергия, тем глубже они проникают друг в друга и тем
отчетливее ощущают «дыхание» их центральных неэкранированных зарядов. Поэтому
можно ожидать, что с ростом энергии различные типы взаимодействий будут
становиться все более похожими и при очень высоких энергиях сольются в одно-
единое взаимодействие. Произойдет «великое объединение» всех сил природы.
Реальное положение дел несколько сложнее. Экранирующие облака образуются не
только вокруг заряда, но и вокруг каждой частички-воланчика, которыми
прощупывают друг друга сталкивающиеся частицы. Воланчик тоже превращается в целое
семейство частичек-сестричек, различающихся фасоном своих «шубок». Если она
очень тяжелая, воланчик переносит взаимодействие только на ультрамалые
расстояния. Вдали от центра частицы такие воланы почти не встречаются, и
связанное с ними взаимодействие проявляется там очень слабо. В других случаях
воланы — «легко одетые» частицы, они способны далеко уйти от испустившего их
заряда, и с их помощью происходит взаимодействие на больших расстояниях.
Тип взаимодействия, его свойства зависят от экранировки заряда и от его
переносчиков — воланов. Лишь в глубине частицы, вблизи ее «обнаженного» заряда,
где воланчики еще не успели полностью надеть свои «шубки», все типы
взаимодействий становятся одинаковыми — сходятся воедино.
Не только строение, но и силы, связывающие «самые элементарные» частицы,
лептоны и кварки, оказываются необычайно сложными. Простейшими точками эти
частицы никак не назовешь!
Все действующие в природе силы можно представить в виде развесистого
дерева, растущего из недр Вселенной. В обыденной жизни мы имеем дело с его
многочисленными веточками и листьями. Углубляясь в микромир, мы сначала
встречаемся с более крупными ветками, потом с сучьями и, наконец, с его стволом.
Понять, что природа устроена таким образом, физикам было очень непросто. Ведь,
например, сила тяготения двух электронов в миллиарды миллиардов раз меньше их
электромагнитного отталкивания. Трудно поверить, что это — «ветви» одного
дерева!
К идее «великого объединения» физики пришли совсем недавно — каких-нибудь
пятнадцать — двадцать лет назад, хотя первый шаг в этом направлении был
сделан очень давно, еще полторы сотни лет назад, английскими учеными Майклом Фа-
радеем и Джеймсом Максвеллом. Они жили в эпоху, когда наука, по существу, еще
только приступала к детальному изучению окружающей природы, и многие
удивительные факты лежали буквально на поверхности, их можно было исследовать в
любой маленькой лаборатории, тем более что для опытов не требовалось
многоэтажного оборудования с десятками специалистов, как в современных институтах.
В большинстве случаев было вполне достаточно нескольких стеклянных трубочек,
куска сургуча и мотка медной проволоки. Просто поразительно, сколько
замечательных открытий было сделано в то время и с помощью самых примитивных
средств! В это золотое для физики время и была установлена связь трех издавна
известных, но с первого взгляда таких различных по своей сути явлений —
света, электричества и магнетизма. Фарадей обнаружил это на опыте, а Максвелл
создал теорию.
В жизни и в характере этих людей было мало похожего. Фарадей, сын кузнеца и
горничной, не закончивший даже начальной школы, с двенадцати лет вынужденный
работать разносчиком газет, а затем подмастерьем мелкой печатной мастерской.
Максвелл родился на сорок лет позже в аристократической шотландской семье и
еще в юности получил блестящее образование. Майкл Фарадей отличался
необычайным трудолюбием и целеустремленностью. Он в двадцать пять лет издал свою
первую работу, а в тридцать три года был избран членом Лондонского королевского
общества — для высокомерной и чопорной Англии факт удивительный. Наука для
него была целью и смыслом жизни. Для Джеймса Максвелла, богатого и
обеспеченного человека, научные изыскания не являлись источником существования. Они
были лишь его увлечением. Он разбрасывался в своих интересах, брался за
решение самых разнообразных задач. В статьях Фарадея нет ни одной математической
формулы, Максвелл блестяще владел математикой и использовал в своей работе
самые сложные ее разделы.
Общим у этих ученых было самое главное — глубокое проникновение в суть
изучаемых физических проблем. Каждый из них не мог бы сделать того, что сделал
другой. А вместе они создали электродинамику — науку, которой мы обязаны
электростанциями и электромоторами, радио и телевидением и множеством других
веществ, без которых трудно представить современную жизнь.
Фарадей первым открыл электромагнитное поле. Он доказал, что электричество
и магнетизм — это два компонента единого целого: распределенного в
пространстве поля. Если ранее считалось, что мир состоит только из вещества, то
Фарадей добавил к этому новую сущность — электромагнитное поле, которое может
быть «привязанным» к зарядам и токам, порождая действующие вокруг них силы,
либо отрываться от них в виде светового излучения.
Мы уже знаем, что поле — это совокупность частиц-фотонов, движущихся по
волновым законам. Ничего этого ни Фарадею, ни Максвеллу, понятно, не было
известно . Они представляли себе поле в виде особых напряжений в заполняющем
пространство эфире, чем-то вроде натянутых резиновых нитей и трубочек.
Фарадей называл их силовыми линиями. Они стягивали или, наоборот, подобно
пружинкам, расталкивали заряды и токи. Приближенная, но очень наглядная модель,
хорошо имитирующая свойства электромагнетизма!
Следующий шаг на пути к «великому объединению» был значительно более
трудным. Он был сделан лишь в середине 60-х годов XX века. Внимание физиков тогда
привлекли слабые взаимодействия. Они обладали странной особенностью: для всех
других сил можно указать промежуточное поле, кванты которого служат
воланчиками в бадминтоне взаимодействующих частиц, а вот в распадных процессах
частицы «разговаривают», так сказать, напрямую, без всяких посредников, толкая
друг друга, как бильярдные шарики.
Естественно предположить, что в этом случае тоже происходит обмен
воланчиками, но только такими тяжелыми, что весь процесс происходит на очень малых,
еще не доступных нам расстояниях, а со стороны это выглядит, как будто
частицы просто толкают друг друга. На больших расстояниях проявляется лишь «хвост»
взаимодействия. Это объясняет, почему оно такое слабое. Сильным оно
становится внутри лептонов и кварков.
Расчеты показали: если бы не большая масса промежуточных частиц, то такое
взаимодействие по своим свойствам было бы очень похожим на электромагнитное.
И вот трое физиков — Абдус Салам, Стив Вайнберг и Шелдон Глешоу — допустили,
что фотон и тяжелые промежуточные частицы слабого взаимодействия — это одна и
та же частица, только в различных «шубах». Разработанную ими теорию — ее
стали называть «электрослабой», поскольку она, как частный случай, содержит
электродинамику и старую теорию слабых взаимодействий — вскоре подтвердил
эксперимент. В опытах на ускорителях были выловлены тяжелые воланчики
электрослабого поля — три брата-мезона с массой, почти в сто раз большей
протонной.
Создание теории электрослабого поля и экспериментальное открытие его
тяжелых квантов было отмечено сразу двумя Нобелевскими премиями — самыми
почетными международными наградами ученым.
В развитии науки бывают этапы, когда она летит вперед, как корабль с
надутыми ветром парусами. Одна идея рождает другую, успех следует за успехом!
Мощный прорыв в Страну Неизвестного! Не дожидаясь подхода тяжелой артиллерии
эксперимента, теоретики атакуют опорные пункты, стараясь как можно дальше
продвинуться в глубь неизвестного. В тылу остаются невыясненные детали,
отложенные проблемы, болота сомнений. Все это потом, прежде нужно овладеть
главными позициями, создать общую картину. О таком времени впоследствии
вспоминают : «Золотой век»!
Такое счастливое время переживает теперь физика. Вдохновленные открытием
электрослабого поля, теоретики с ходу сделали еще один шаг — объединили его с
цветовым полем. Семейства фотона и трех его братьев-мезонов породнились с
глюонами. Новая семья отвечает за перенос цвета и аромата, связывает кварко-
вые и лептонные состояния. А самые смелые теоретики присоединили к
объединенному полю еще и гравитацию — всемирное тяготение. Получилась чрезвычайно
сложная теория, где на каждом шагу встречаются неожиданные пропасти, тупики и
узкие скользкие тропы. Это область теоретических поисков и гипотез, полигон,
где теоретики обкатывают свои творения. Здесь масса вопросов, мало ответов и
много надежд.
Элементарные частицы
Материя
Бозон Хиггса (?)
Переносчики взаимодействий
Кварки
Лептоны
i |
Электроны
i i i i
Фотоны W±- и Zo-бозоны Глюоны Гравитоны (?)
Адроны
I
Г
Мезоны Барионы
Нуклоны
Атомы
Электромагнетизм Слабое
Квантовая
электродинамика
I
Сильное Гравитация
Квантовая Квантовая
хромодинамика гравитация
Электрослабая теория
I
(?)
1
Теория Великого объединения (?)
Молекулы
Составные частицы
i
Теория всего (?)
Взаимодействия и теории
Краткий обзор различных семейств элементарных и составных
частиц, и теории, описывающие их взаимодействия.
Как открыть
новую частицу?
Иногда это происходит случайно. Интересуются чем-то другим и неожиданно для
себя натыкаются на новую, неизвестную ранее частицу. Как говорится, шел-шел и
вдруг споткнулся о кошелек с золотом на дороге! Так был открыт позитрон, а в
50-х годах целое семейство странных частиц. Удивление физиков этим событием
навечно запечатлено в их названии. Однако такое бывает редко. Как правило,
частицы ищут по подсказке теоретиков, уже кое-что зная об их свойствах.
Современный эксперимент слишком сложен и дорог, чтобы вслепую прочесывать дебри
микромира, надеясь на удачу — авось, мол, повезет. Серьезный опыт сегодня
стоит миллионы рублей и выполняется в течение нескольких лет. Это не пальба
по площадям, а прицельный выстрел с закрытых позиций по цели с точно
рассчитанными координатами.
Их расчет основан на теории, которую еще в прошлом веке создал французский
математик Эварист Галуа. Ее основные положения он записал в ночь перед
роковой дуэлью. На следующий день выстрел из пистолета оборвал жизнь
двадцатилетнего ученого. Он умер, так и не узнав, что создал одну из самых замечательных
математических теорий.
Галуа изучал симметрию среди элементов множеств. Что такое множество,
теперь знают уже в начальной школе, а во времена Галуа этим занимались лишь
немногие математики. Так вот, двадцатилетний Галуа вывел правила, на основании
которых из элементов множества можно составить изолированные группы —
семейства, члены которых симметричны. Когда совершается какое-либо преобразование
множества (например, те, которые изучают в школе, — отражение, вращение,
сдвиг и тому подобное), члены каждой из групп просто меняются между собой
местами. Преобразование изменяет соотношения между элементами множества, а
внутри семейств они остаются неизменными. Правилами Галуа сегодня и
пользуются физики, чтобы находить семейства частиц — мультиплеты. Их члены — разные
состояния одной и той же частицы. Как лампочка, вспыхивающая разным цветом,
или что-то вроде кристалла, каждая грань которого — новое состояние. Именно
так теоретики пришли к идее кварка. По правилам теории Галуа были вычислены
мультиплеты адронов, и простейший из них был назван кварком.
Самое трудное — выявить симметрию. Обычно она сильно замаскирована
расщеплением масс частиц. Здесь легко ошибиться. Поэтому всякий раз, когда в
свойствах частиц удается найти новую симметрию, это бывает важным событием в
физике . Последующее, как говорится, уже дело техники.
А когда параметры частицы определены, в игру вступает эксперимент. Бывает,
что в рассчитанном месте частицу не находят, и теоретикам снова приходится
садиться за расчеты: уточнять симметрию, вычислять новые мультиплеты,
прикидывать, какой, легкой или тяжелой, должна быть частица, определять реакции, в
которых вероятнее всего ее присутствие. Не зря говорят, что теоретик работает
в основном на мусорную корзинку! Прежде чем будет получен результат, ему
приходится опробовать и сопоставить кучу вариантов.
Теория в современной физике занимает исключительное место. Она строит мосты
между островками разрозненных экспериментальных фактов и, выдвигая гипотезы,
позволяет далеко уходить от них в область неизвестного.
Подведем итоги
Подсчитаем, сколько же теперь, после всех слияний и объединений, осталось у
нас частиц.
Для построения адронов нужны три частицы: кварк, антикварк и глюон. Добавив
к ним электрон, позитрон и фотон, построим все атомы (позитрон нужен, чтобы
построить антивещество). Два тяжелых лептона и три нейтрино нужны для
объяснения распадов частиц. Наконец, чтобы слить атомы в большие макроскопические
тела, требуется еще квант поля тяготения — гравитон.
Итак, семь частиц-кирпичиков, столько же «антикирпичиков» и три склеивающих
частички. Весь мир из семнадцати частиц!
В электрослабой теории число склеивающих частиц остается неизменным, так
как три тяжелых брата-мезона и фотон — одна семья — частица. Зато число
кирпичиков сокращается: электрон и нейтрино рассматриваются, как два состояния
одной и той же частицы, то же для мю- и тау-мезонов. Вместо шести лептонов
стало три. Однако для внутренней согласованности теории пришлось допустить,
что в природе существует еще один тип частиц — несколько напоминающих пи-
мезон, но подобно глюонам обладающих свойствами саморазмножения и
самосклеивания. Их называют хиггсонами, по имени английского теоретика П. Хиггса,
который первым начал изучать их свойства. Хотя хиггсоны еще не обнаружены на
опыте3, большинство физиков не сомневается в их существовании. В следующей
главе мы увидим, что они играют чрезвычайно важную роль в эволюции Вселенной,
и это еще больше повышает интерес к этим частицам.
В целом число частиц сократилось на пять единиц — с семнадцати до
двенадцати.
3 В марте 2013 года учёные ЦЕРН пришли к выводу, что открытая ими в июле 2012 года
частица действительно является бозоном Хиггса. Однако ещё не установлено точно,
является ли эта частица бозоном Хиггса, предсказанным Стандартной моделью, или это
другой вариант бозона Хиггса.
Объединение электрослабого и сильного взаимодействий уменьшило число частиц
до семи. Остались кварк (лучше сказать, лептокварк), антикварк, увеличивший
число своих состояний глюон, гравитон и несколько (скорее всего, три) хиггсо-
нов.
Если не считать хиггсовых частиц, число которых пока еще зависит от
конкретного варианта теории, то после «великого объединения» всех четырех типов
взаимодействий остаются только три частицы: частица-кирпичик, соответствующий
ей «антикирпичик» и частица-волан.
Казалось бы, наконец-таки физика достигла самого дна природы: объединены
все силы, число частиц сокращено до предела, создана и шлифуется единая
теория. Природа, однако, любит сюрпризы. Внутри новой теории физики неожиданно
обнаружили мину, готовую вдребезги разнести все надежды на построение
«последней теории всех сил и взаимодействий».
Физические теории обладают замечательным свойством: их математические
формулы не просто описывают опыт, а являются его обобщением, и поэтому их
содержание всегда значительно богаче исходных экспериментальных данных. Они
предсказывают новые факты и часто приводят к выводам, которые их создатели не
ожидали. Так случилось и в этот раз. Из формул теории следует, что лептоны и
кварки, по-видимому, состоят из еще более мелких «зернышек».
Час от часу не легче! Значит, опять новые частицы и новые виды
взаимодействий? И все пошло по новому кругу?
Пока можно говорить лишь об идее. Свойства и число «зернышек» не известны,
они изменяются от одного варианта теории к другому. Даже общепринятого
названия у «зернышек» еще нет. Часть физиков использует приставку «пре» и называет
их «прекварками», другие ученые говорят о пракварках (вспомним слова
«прабабушка», «прадедушка»), а некоторые предпочитают словечко «преоны». Есть и
другие названия.
Прачастиц, по-видимому, два или три семейства, каждое из которых состоит из
нескольких «прасестер» и «прабратьев». Известно несколько наборов таких
«мозаик» , и пока не ясно, какому из них следует отдать предпочтение.
После надежд на построение единой всеобъемлющей теории результат весьма
неожиданный и обескураживающий...
Впрочем, неожиданным он кажется лишь с первого взгляда. Если посмотреть
внимательнее, то, напротив, он выглядит вполне естественным. Уж очень
сложными стали семейства кварков и глюонов! Трудно поверить, что «самые
элементарные» частицы характеризуются столь большим числом параметров. История науки
говорит, что каждый раз, когда элементарный объект становился слишком
сложным, в нем обязательно находили более простые составляющие. Так было с
атомом, с его ядром, с элементарными частицами. Физика ступала на следующую
ступень структурной лестницы, и картина упрощалась. По-видимому, это повторяется
и в случае кварков. Простейшими их можно назвать лишь условно. У них целый
гардероб «платьев», «пальто» и «шуб». Их простота подобна кажущейся простоте
часов, которые мы носим на руке, — металлический кружок с двумя стрелками,
только и всего, а если покопаться...
Салам и Пати первыми заметили, что параметры всех двадцати четырех членов
кварк-глюонного семейства можно получить сложением трех преонов. Теперь и
теория «великого объединения» подсказывает, что частица-кирпичик, а вместе с
ней и склеивающая частица-волан являются составными. Число самых простейших
снова стало расти.
Где же конец?
Прежде чем ответить на этот вопрос, выясним, каких наименьших расстояний
может достичь эксперимент в ближайшем и отдаленном будущем. И вообще, делятся
ли расстояния до бесконечности на все меньшие и меньшие или же, может быть, в
природе существуют какие-то первичные «атомы» пространства, дальше которых
уже больше ничего нет? Ведь есть же минимальные порции энергии — кванты,
почему же не может быть геометрических квантов — атомов пространства и времени?
Как мы уже знаем, размеры протона и других адронов — 10~13 сантиметров, то
есть около триллионной доли миллиметра. Самые маленькие пространственные
интервалы, которые можно сегодня исследовать с помощью ускорителей частиц, в
тысячу раз мельче. Для этого сталкивают два пучка частиц — один навстречу
другому. Энергия относительного движения разогнанных навстречу друг другу
частиц так велика, что размазка их траекторий из-за волнового дрожания меньше
Ю-16 сантиметров. По сравнению с протоном такие расстояния все равно, что
маковое зернышко рядом с футбольным мячом.
Конечно, для этого не строят двух ускорителей, «бьющих» пучком протонов в
лоб друг другу. Делают по-другому. Ускоренные протоны, порция за порцией,
«закачивают» в окруженное магнитным полем вакуумированное кольцо. Сильное
магнитное поле загибает траектории частиц и удерживает их на круговой орбите.
А когда частиц в кольце накопится достаточно много, поле выключают, и пучок
частиц «выстреливает» навстречу основному пучку из ускорителя. Иногда
«накачивают» сразу два кольца, которые разряжаются протонным зарядом навстречу
друг другу.
Адронный коллайдер
по размеру немного меньше,
чем Третье транспортное кольцо
Европейский
центр ядерных
ис следований
Детектор бозсна
Хмггса-2
«наземный отсек'
Детектор столкновения
тяжелых ионов
ыаэемный отсек!
Большой адронный коллайдер.
В недалеком будущем на этом пути удастся достичь расстояний порядка 10~
сантиметров, то есть в десять тысяч раз меньше протона. В Советском Союзе и в
других странах проектируются и уже создаются необходимые для этого
ускорители. Но это, по-видимому, близко уже к пределу. Современные ускорители —
циклопические установки стоимостью в сотни миллионов и даже в миллиарды рублей,
а дальнейшее углубление в микромир требует просто фантастических сооружений.
Чувствуется, что здесь нужны какие-то принципиально новые физические идеи.
Одна из таких новых идей принадлежит итальянскому физику Ферми. Он
предложил использовать в качестве ускорителя... всю нашу планету. Ведь Земля создает
вокруг себя магнитное поле, которое можно использовать для того, чтобы
удержать на космической орбите пучок разгоняемых частиц. Ускорять частицы будут
расположенные вдоль орбиты спутники с солнечными батареями. Вакуум в космосе
обеспечен, поэтому пучок частиц без всякого рассеяния может обежать вокруг
Земли огромное число раз, постепенно разгоняясь до гигантских энергий. В
земных условиях основные затраты связаны с созданием магнитного поля и
поддержанием вакуума в камере ускорителя, а в космосе все это бесплатно!
Но пока — это область научной фантазии, и единственным источником частиц
сверхвысоких энергий остаются космические лучи. Среди частиц, входящих в их
состав, встречаются такие, которые позволяют зондировать расстояния в десять
миллионов раз меньше размеров протона. Плохо вот только, что космических
частиц с такой высокой энергией крайне мало, и опыты с ними неточны. Тем не
менее, если позволить себе пофантазировать, то можно представить, что когда-
нибудь в космосе будут созданы ловушки-накопители таких высокоэнергетических
частиц, которые можно использовать для изучения их встречных столкновений,
так, как это делается в опытах со встречными пучками на ускорителях. И вот
тогда можно будет добраться до умопомрачительно малых расстояний порядка 10~25
сантиметров. Протон по сравнению с такими расстояниями выглядит, как орбита
Земли по сравнению с тарелкой.
Как достичь еще меньших расстояний, пока совершенно неясно. Возможно, для
этого потребуется какая-то новая физика. Об этом можно лишь строить догадки.
Во всяком случае, расстояния в 10~25 сантиметров еще очень далеки от «красной
черты», проходящей где-то на уровне 10~33 сантиметров. Действующие там силы
так велики, что пространство сворачивается в крохотные пузырьки. Это и есть
геометрические кванты. Меньших расстояний в природе не бывает. На этом уровне
пространство становится неустойчивым, похожим на пчелиные соты или на губку,
состоящую из перекрывающихся пор-пузырьков. О сворачивающемся пространстве,
как и почему это происходит, мы подробно поговорим в следующей главе.
А квант времени? Это интервал, за который свет успевает пробежать от одного
края пространственного «атома» до другого, — 10~43 секунд. Самый краткий миг,
который только может быть в природе, — ведь ничто не может пересечь
пространственный «атом» быстрее света.
В промежутке между 10~16 и 10~33 сантиметрами, между уже достигнутым и самым
малым, может разместиться бесконечное число различных форм и типов
микрообъектов. На каждой ступени лестницы, ведущей в недра материи, мы находим
множество новых свойств и новых физических объектов. Для их объяснения нам
приходится спускаться на следующую ступень и так далее. Как метко заметил однажды
французский ученый Пьер Буаст, границы науки похожи на горизонт: чем ближе к
ним подходим, тем дальше они отодвигаются! Природа неисчерпаема в своем
многообразии. Однако его нельзя представлять себе, как бесконечную, чисто
механическую делимость, когда каждый элемент состоит из еще более мелких. Мы уже
видели выше, что «более глубокое» — это не всегда «меньшее по размеру».
Неверно думать, что природа устроена наподобие бесконечного ряда вложенных друг
в друга колесиков, каждое из которых обязательно содержит внутри себя еще
меньшее. Мир может быть устроен значительно хитрее!
Может случиться так, что, изучая микромир, мы будем встречаться со все
большей и большей энергией, и конца не будет — круг, так сказать, замкнется:
в микромире мы снова встретимся с объектами и явлениями макроскопического
масштаба. Не исключено, что в недрах элементарных частиц природа спрятала
вторые ворота в космос, и «выйти к звездам» можно не только на ракетах, но и
с помощью ускорителей. Правда, космические ворота микромира необычайно узкие
и преодолеть их труднее, чем верблюду пролезть сквозь угольное ушко. Но
трудно не значит невозможно!
Вот об этом и пойдет речь в следующей главе.
(ПРОДОЛЖЕНИЕ СЛЕДУЕТ)
Литпортал
ПЫЛЬЦА
Джефф Нун
(Окончание)
Суббота 6 мая
Белинда, наши истории сходятся вместе, все ближе и ближе, ближе к моменту,
когда они сольются в одну.
Километры, километры и километры; волны психоделического света на
теряющемся в дыму потолке. Волны музыки. Система играет "Земляничные поляны", и Бода
отдается ласковому потоку. Ванита-Ванита, чувственная темнокожая хозяйка с
выдающейся во всех отношениях фигурой и полуметровой прической афро, вся
уходит в танец этой северной страсти. Она обнимает Боду за талию и скользит
вместе с ней вниз...
Темная комната полна сияющих перьев, в нее спускается Бода. На влажных
стенах - яркие разноцветные пучки. Повсюду на полу коробки звукового оборудова-
ния со вскрытыми корпусами, вывалившимися проводами, соединенными друг с
другом. Провода свиваются, как стебли, в сложном любовном узле. Некоторые
подключены к старому аккумулятору, другие - к электросети, остальные цепляются
за провод, прикрученный к патрону для лампочки на потолке. Сам Гамбо Йо-Йо
сидит внутри клубка и присоединяет белый и голубой провода к красному. Искры.
Бода чувствует в своей Тени жар: в ее дым толчками входят знания. Под
потолком гуляют мягкие потоки воздуха от четырех вентиляторов на стойках, и в этих
потоках плавают перья разнообразных цветов, как осколки сна. Белинде не по
себе среди этого движения. На монтажной плате вырастают язычки лучистого
огня. Гамбо Йо-Йо гасит пламя плевком. "Битлы" включены на такой громкости, что
кажется, будто вся комната пульсирует в едином ритме. То тут, то там
вспыхивают созвездия огней - как светомузыка. На стенах переливаются случайные
изображения, высвеченные старомодными кинопроекторами. Ванита-Ванита отпускает
Боду, не сумев разбудить в ней танец. Резкий ритм качает тело Ваниты-Ваниты,
захватывает целиком. Бода чувствует себя забытым незваным гостем. В лиловом
тумане висит запах пбумерап.
Все какое-то нереальное.
Гамбо Йо-Йо - это волшебник средних лет, весь в морщинах, спрятавшийся за
спутанной копной грязно-светлых волос. Он одет в лиловые широкие штаны и
вывернутую ветхую рубашку. Пока молчит. Его обмазанные вазом губы не отрываются
от трубки, ведущей к шару бурбулятора, где пузырится жидкий "бумер". Бода
чувствует запах сладкой жидкости, когда она превращается в дым, прикасаясь к
Тени. Ей хочется вобрать этот запах в себя, и когда Гамбо отрывает ото рта
трубку и предлагает ей, она без колебаний принимает его дар.
В мир нисходят Мир и Любовь. - Полегче, полегче... - Голос Гамбо витает
где-то далеко. - Это мощная штука. Сделай пару глотков и все.
Этот нелегальный сорт - крепкий коктейль опасности и блаженства. Сознание
Боды блуждает по лабиринту наслаждений. Гамбо что-то говорит ей, но из-за
наркотика и музыки слов не разобрать. Может, что-то о ее прошлом?
Мир-водоворот. Цвета и вспышки сливаются в гармонию любви. Бода уже не
понимает , где она. Комната шатается, полная света, тепла и перьев.
- Я не знаю, кто я, - полуотвечает она. - Это загадка.
Гамбо поводит руками в воздухе медленным танцевальным движением, как в тай-
цзи, и громкость музыки немного уменьшается. Теперь Боде удается его
расслышать .
- Замечательно... ода... тебя ведь не сгружали, йо-йо? - Без радиофильтров
голос Гамбо высокий и дребезжащий, убитый слишком большими дозами наркотиков
и блаженства.
- Я не знаю, что там было, - отвечает Бода, возвращая Гамбо трубку. -
Отключилась, когда кэб освободился. Я теперь совсем одна. Ничего не помню.
- Да, крепко тебе выебали мозги.
- Я не помню даже, как меня зовут. Даже какая у меня фамилия.
- Дотаксишное погонялово? Нет проблем. Я скажу.
- Ты знаешь?
- Ну конечно, суперсладкая. Погоди. Запись почти кончилась... - Гамбо
щелкает переключателем на старом студийном микрофоне и начинает комментарий,
пока затихает музыка. Самодельные усилители частот преобразуют голос в густой
бас, несмотря на одолевающие Гамбо порывы к чиханию. А прежде чем заговорить,
он засовывает в рот сине-серебряное перо:
- Извините. У нас были "Битлз", а теперь с вами Гамбо Йо-Йо с особыми
новостями. Сегодня со мной на волне в гостях таинственная звезда. Сейчас мы
послушаем "Пинков", альбом "Волынщик у врат зари", весь целиком, люди, а старый
Док пока поболтает со своим гостем. Наш автобус вернется к вам как можно
скорее с последними известиями про беглого иксера. Ооооопа! Кажется, тут я про-
говорился. Истинная правда, обожаю распускать язык.
Ванита-Ванита опускает иголку на дорожку в виниле. Настоящий проигрыватель
времен шестидесятых, компактный, чувствительный, басовые частоты усилены с
помощью наворотов, описанных в номерах "Популярной вирт-механики". Провода от
развернутой задней стенки деки ведут к усилителям с перьями, воткнутыми в
некоторые разъемы. На стенах комнаты волнами света переливаются высокие частоты
и басы. На шкаф с пластинками водружен самодельный счетчик пыльцы, собранный
из радиоламп и перьев. Показание: 1594 и продолжает повышаться.
- Ты поняла, что делать? - спрашивает Гамбо.
- Ну, я же здесь.
- Вам следует выразить некоторое уважение, мадам, - говорит Ванита. - Не
многих принимают во Дворце Гамбо.
Вода не знает, что сказать. Музыка оплетает ее стягивающими волнами
наслаждения . Она никак не может поверить, что знаменитое хай-тековое звучание Гамбо
достигается на железе такого низкого качества, и говорит ему об этом. Гамбо,
кажется, и не собирается отвечать; его крыша уже улетела в неведомые дали. Он
медленно покачивается, как змея.
- Гамбо любит как проще, - сообщает ей Ванита, танцуя в новом, более
свободном ритме.
- Зачем нужно это сине-серебряное перо?
- Это Вишневый торчок. Собственное изобретение Гамбо. Понимаешь, он в
полном улете двадцать четыре часа в сутки. Будь уверена, он без перерывов торчит
с тысяча девятьсот шестьдесят шестого, а тогда он еще даже не родился.
Вишневый торчок помогает ему на минутку затормозиться.
- О Боже!
- А ты думала наоборот, ага?
- Он в самом деле может мне помочь, Ванита?
- Детка, гораздо лучше, чем кто-либо другой. Гамбо слушал их разговор, лежа
на полу; его глаза смотрели в другой, тихий мир. Теперь пальцы Гамбо лениво
тянутся к перу Вишневого торчка. Он облизывает его и говорит:
- Все, что ты тут видишь, Бода, - настоящая техника шестидесятых. Конечно,
вся переделанная под футуристические стандарты, но все-таки я считаю, что это
потерянное десятилетие было самым лучшим. Ты что-нибудь знаешь про те
времена, иксер?
- Не очень много.
- Это было время хэппенингов, время цветов. Время перемен. Поэтому мне так
нравится аллергия, несмотря на ее опасность. Цветы возвращаются, мир начинает
шевелиться. Город, блядь, наконец пустил сок.
- Ты не мог бы рассказать о моем прошлом?
- Сейчас доберемся. Йо-йо! Аааааааапчхххххи!!!!
- Gesundheit1, - говорит Ванита-Ванита.
- Спасибо. Красота. - Гамбо поводит руками, и спроецированные изображения
переходят в длинные цепочки слов послания, которое появляется на стене.
История Боды. - Я стырил это из кэб-архивов. Интересное чтиво, сладкая... - И Йо-
Йо снова отключается.
Бода читает на стене свое прошлое. Настоящее имя: Белинда Джонс.
Особенности: тень и дронт. Дата, место рождения. Мать: Сивилла Джонс. Профессия
матери : теневой коп.
- Моя мать - коп.
Гамбо снова колбасит. За него говорит Ванита:
- Она на самом деле теневой коп. А теперь в программе - дочь копа. Гамбо
оно в кайф, точно тебе говорю.
1 Будь здоров, нем.
- Мы жили на Виктория-парк?
- Кэб-архивы никогда не врут. Бода смотрит на Ваниту.
- Ну... очень редко, детка.
- Моя мать еще живет там?
- Легко можно выяснить, Бода. Или лучше называть тебя Белинда?
Секунда на размышление.
- Белинда.
- Белинда, Белинда! - кричит обдолбанный непогрешимый Гамбо. - Зашибись! С
возвращением. - Гамбо вновь отводит руки, и иксерская история растворяется в
музыке "Пинк Флойд".
- Не волнуйся. Узнать Гамбо - значит, сразу его полюбить, - говорит Ванита.
- Ну, и какие ощущения?
- В том-то и проблема. . . что я не могу разобраться. Такое чувство, что я
растратила всю жизнь на воспоминания ни о чем. Хочется, чтобы со мной была
карта. Без нее я все время чувствую себя потерянной.
- Поэтому ты и пришла к нам?
- Я хочу найти убийцу Койота. Теперь это мое дело. И чтобы сделать его, мне
понадобится карта.
- Что ты успела узнать?
- Так на самом деле вы не думали, что я убийца?
- Гамбо знает, что ты не убийца, Бода. Он прошелся по архивам "Икс-кэба".
Официальное подтверждение от Гамбо. Колумб обманул копов.
- Смерть Койота как-то связана с пыльцой.
- Мы знаем.
- Колумб - тоже.
- Тем лучше. Гамбо подозревает, что Крекер тоже приложил к этому руку.
Появляется фотография Крекера, спроецированная на дрожащую стену из головы
Гамбо.
- Я его знаю, - говорит Белинда. - Пассажир сказал, что его зовут Девиль.
Это Крекер?
- Да. Начальник копов.
- Крекер пытался убить меня.
Гамбо отрывает губы от трубки ровно настолько, чтобы проорать: "Бешеный
свиненок!". Белинда не обращает внимания:
- Почему они хотят меня убить, Ванита?
- Ты просто слишком много знаешь, Белинда.
- Я ничего не знаю. Я совсем одна.
- Теперь нет. Ты нужна Гамбо.
- А ты всегда говоришь за Короля хиппов?
- Сама-то как думаешь?
- Я пришла сюда по своей воле, Ванита. И не для того, чтобы слушать этот...
этот обдолбанный хипповский треп.
Ванита умолкает. Гамбо булькает бурбулятором, стекло которого искривляет и
вытягивает его лицо. Потом чихает.
- Будь здо...
- Ванита, отстань!
Это Бода, она сама от себя такого не ожидала. Она переступает через клубок
проводов к месту, где сидит Гамбо. Она выдергивает трубку у него изо рта,
хватает из воздуха перо Вишневого торчка - хрустят пальцы, жгучая боль, перья
щекочут кожу. Все равно.
- Белинда, стой...
Цветной голос Ваниты. Все равно. Перо должно отправиться куда следует.
Белинда тыкает им в рот Гамбо. Он давится и отплевывается, но она заставляет
его глотать.
Глубже.
- Мне сказали, что аллергия появилась из мира Вирта под названием Пьяный
Можжевельник. Это так? Гамбо! Это так?
- Точно как я думал. - Глаза Гамбо слезятся от внезапного возвращения в
реальность .
- Объясни мне, что такое Пьяный Можжевельник.
- Это зеленое райское перо. Очень редкое. Гамбо ни одного не видел уже
много лет.
- Что значит "райское перо"? Ну!
- Пошла ты!
- Гамбо...
- Ванита, не встревай. - Дальше снова с Гамбо. - Мы помогаем друг другу или
как? Может, мне напустить на тебя Тень? А? Хочешь? Попробуешь теневой трах?
- Нет, нет. .. пожалуйста... В Можжевельнике можно оставить свой разум после
смерти. Ты можешь жить там вечно, во сне. Это преисподняя, где правит некто
Джон Берликорн. Там он живет со своей молодой женой, Персефоной.
- Персефона - последний пассажир Койота.
- Точно! Вот оно.
Белинда отпускает Гамбо. Ванита подходит успокоить его.
- Все нормально, Ванита. Суперклево. - Он поворачивается к Белинде и
фокусирует на ней взгляд. - Потому тебя и хотели убить, драйвер. Ты слишком много
знаешь о сонном семени. Вирт вторгается в наш мир, а Персефона - источник
аллергии . Колумб - путь, по которому приходит пыльца.
- Значит, Колумб убил Койота, когда он доехал до места?
- Может быть, сейчас важнее остановить проникновение Вирта. Опасность
смертельная, каждый раз, когда кто-то чихает, он ставит еще одну подпись под
нашим приговором.
- Мы что-нибудь можем сделать?
- Ааааааааапчхххххххи!!!!! Простите. - Гамбо вставил перо Вишневого торчка
обратно в рот, чтобы еще раз глотнуть реальности, и продолжил: - Нужно, чтобы
ты встретилась с Колумбом.
- Ты можешь это устроить, Гамбо? - спрашивает Белинда.
- Можно устроить, но это опасно. Хочешь рискнуть?
- Хочу.
- Первый шаг - снова подключить тебя к карте Улья.
- Я готова.
Рот Гамбо искривляется в черной от травы ухмылке, которую не может скрыть
даже занавесь его волос. Потом он смотрит на большие морские часы в нише на
стене. Они показывают 11:42. Гамбо сдвигает настройку так, что рисунок музыки
пПинк Флойд" превращается во множество черно-желтых насекомых, которые
ползают по стенам.
- Это иксерская карта, - говорит он.
- О Господи.
- Но сначала... эфир...
Зеро Клегг позвонил мне в субботу утром, без пяти двенадцать, и спросил,
слушала ли я в последнее время Гамбо.
- Все, все, можешь не говорить, - сказал он, прежде чем я успела вставить
хоть слово. - По твоей реакции, Си, сразу понятно, что нет.
- А что он передает? - спросила я. - Список всех известных муняшек? - За
ночь, как обычно, было обнаружено полдесятка трупов мунят.
- Хуже.
- Говори.
Зеро притих. Это было необычно. Что-то не так. За сто пятьдесят два года
жизни со мной происходило множество странных и неожиданных вещей, но слова,
которые я услышала в тот день по телефону, навсегда останутся в самых
глубинах моей Тени. Зеро поставил мне запись утренней передачи Гамбо Йо-Йо, с
11:42 до 11:45. В начале записи слышалась затихающая музыка, потом, когда
музыка еще не успела кончиться, включался голос. Говорил не Гамбо, более того,
голос был женский...
"Жители Манчестера, с вами на волне Гамбо беглый иксер Бода. (ЧЕТЫРЕ
СЕКУНДЫ ТИШИНЫ.) Теперь меня зовут Белинда Джонс. Это мое дотаксишное имя. Я не
убивала Койота и никогда бы не сделала ничего подобного. "Икс-кэб" дала
ложные сведения о моем кэбе: в тот момент его не было рядом с Алекс-парк. Колумб
пытался меня подставить. Может, я чересчур много знала об его секретных
планах, а может, просто слишком любила Койота. У меня так и не получилось об
этом сказать. Его рано отняли у меня, так рано... (ДВЕ СЕКУНДЫ ТИШИНЫ.) Я
решила расследовать, кто на самом деле его убил. В том рейсе, который стал для
него последним, Койот вез пассажирку по имени Персефона. Этот заказ Койоту
устроил Колумб. Королю кэбов помогают копы. Сам Крекер... Крекер пытался
убить меня. Плохо старался, копанутый придурок. Персефона - девочка десяти
или одиннадцати лет. Возможно, она - причина аллергии. Если у вас есть какая-
то информация, звоните Йо-Йо. Он передаст это мне. (ДВЕ СЕКУНДЫ.) Содержание
пыльцы 1607 и продолжает расти. (ПЯТЬ СЕКУНД). Сейчас Гамбо поставит "Помнишь
ли ты свою маму (Она стоит в тени)" - "Роллинг Стоунз". Специально по просьбе
Сивиллы Джонс из манчестерской полиции. Как тебе последний матч по виртболу,
Сивилла? (ДВЕ СЕКУНДЫ.) Слушайте мои следующие новости через час. Я уступаю
место Мику и его группе, (ТРИ СЕКУНДЫ). Э... Гамбо, ну как?"
Теперь второй голос - Гамбо: "Все нормально, малышка. Ааааааапчххххиииииии-
ии!!! Извините. Продолжение разговора с нашим беглым иксером - сегодня в час
дня. Оставайтесь с нами, понятно?"
Потом началась музыка, Зеро выключил запись и взял трубку. Но он ничего не
сказал. Я слушала его тяжелое хриплое дыхание в темноте моей сжавшейся до
дрожи Тени. Он чихнул в трубку и сказал:
- Понимаешь, что это значит? Твоя дочь у Гамбо.
- И что, Зеро? Я хочу вернуть ее.
- По-моему, важнее разобраться с аллергией.
- Это по-твоему.
- Успокойся, Дымка.
- Она моя дочь, Зеро. Я годами ее искала. Клегг снова умолк. Я услышала,
как он чихнул куда-то в сторону, потом снова заговорил:
- Ну ладно, Джонс, договоримся так. Я приведу к тебе Томми Голубя, и мы...
В этот момент я повесила трубку. Дай ему косточку, он и... и так далее.
Похоже, среди далеких предков Зеро была чистокровная ищейка.
Все меня раздражало, из головы не шли видения летающих перьев. В спальне
кричал сын. Я отправилась удовлетворять его потребности. Хотя это нужно было
скорее мне, чем ему: просто попытки помочь моему первенцу приносили мне
какое-то облегчение. В комнате были заткнуты все щелки, но пыльца уже успела
проникнуть внутрь. Из хилого тела, покрытого жесткой коркой застывшей слизи,
вызывалось приглушенное дыхание (я изо всех сил пыталась счистить эту корку,
но всегда появлялась новая, мокрая и скользкая). Я боялась, что ему осталось
не больше нескольких дней. Здесь нужно объяснить, что для неполноценных
существ смерть - вовсе не то же самое, что для настоящего живого. Для смертных
она враг, и они сражаются до последнего вздоха. Напротив, НПС, когда приходит
время, чувствуют нечто похожее на любовь: наконец прекращается борьба между
несовместимыми началами их родителей. Жизнь и смерть сливаются в томном
поцелуе . И все, что нужно после, - позволить темной стороне души отвести тебя в
постель. Их постель - могила, на этом ложе они родились, на нем же и умрут.
Что отделяет Сапфира от момента, когда он уйдет? Вдох? Чих? Очередной скачок
содержания пыльцы? У меня нет выбора, я должна найти способ помочь ему. То,
что все щели в комнате законопачены, на самом деле нужно только мне, особенно
сейчас, когда я услышала, какую песню поставила для меня дочь. Помнишь ли ты
свою маму, вот она, стоит в тени? По телу пробежала дрожь, рябь по дыму. Я
настроилась на волну Гамбо и опять услышала, как он хвастается, что отныне
Бода остается в его тайном убежище, "где копы никогда не сумеют ее найти. С
перерывами в час она будет рассказывать Манчестеру историю своей
необыкновенной жизни. Специально для "Радио Йо-Йо", покажем нос всему Северо-Востоку".
На этом месте он от души засмеялся, и от его смеха я просто взбесилась.
Потом я села и, чтобы успокоиться, взяла початую бутылку красного вина,
оставшуюся с прошлой ночи. Всего за двадцать минут я ее прикончила, а еще за
пятнадцать я успела основательно распробовать и вторую. При этом я выкурила
по крайней мере тридцать "напалмов". Вкусив всех запретных плодов, я
сладостно опускалась в объятия Диониса. Казалось, весь сахар у меня в крови
превратился в алкоголь. Моя Тень захлебнулась и утонула в вине. Надпись на пачке
"Напалма": "КУРЕНИЕ ЛЕЧИТ ДУШУ - ЛИЧНЫЙ ИИСУС ЕГО ВЕЛИЧЕСТВА".
Первый раз в жизни "напалмы" мне не помогли.
В час я снова включила "Радио Йо-Йо", надеясь услышать рассказ Белинды о
своей жизни, о моей жизни. Наверное, я достигла крайней степени отчаяния.
Гамбо Йо-Йо усмехался сквозь свои космы.
- Отличная передача, Белинда. Для новичка. Теперь смотри. Черт, последний
раз так здорово мне было уже, черт знает, сколько лет назад.
Тут мы снова перенеслись в 11:46 утра все той же субботы.
Гамбо и Белинда остались наедине, Ванита исчезла в каком-то длинном
коридоре. Гамбо хорошо дало по мозгам Вишневым торчком, он стал почти нормальным,
тыкает в стены, на которых мерцают таксишные дороги:
- Это карта Улья в рабочем состоянии. Желтые точки - кэбы, черная сетка -
дороги. - Гамбо трогает настройку, и плоскость карты разворачивается на сто
восемьдесят градусов. - Разве не замечательно? Мы можем наблюдать ее под
любым углом, из любой точки. Следи за дорогой, драйвер.
Теперь Белинда летит по Оксфорд-роуд, почти как раньше внутри Тошки. Только
вид с высоты.
- Где Колумб? - спрашивает она.
- Колумб - вся эта штука в целом. В чем и его слабость, понимаешь?
- Почему? - Белинда заинтригована.
- Свич стал чересчур силен. За деревьями не видит леса, за кэбами - дороги.
- Знаешь, что он делает какие-то серьезные изменения в карте?
- Вот это как раз меня и раздражает. Мы же оба как бы доставщики - и Гамбо,
и Король кэбов. Связь - это сила. Каждый из нас принял обязанности по
установлению связи между людьми, а этот мудак берет и использует связь в своих
целях. Так что, Белинда нам надо по быстрому все сделать, ага?
- А что ты можешь сделать?
- Смотри... - Гамбо снова щелкает переключателями, изображение
концентрируется на одном из икс-кэбов. - Видишь этот кэб, Белинда? - Спрашивает он.
Белинда кивает. - Это мой кэб. Кэб Гамбо Йо-Йо. Волшебный Автобус.
- Такого кэба нет, - говорит Белинда. - Официально. Но все-таки этот старый
хипповский кэб тут. Ты же видела снаружи Волшебный Автобус?
- Видела.
- Это мой икс-кэб.
- Не может быть.
- Ты же видишь, что может. Смотри... - Гамбо берет управление, и хиппи-кэб
на карте сворачивает налево, с Оксфорд-стрит на Витворт.
- Но кто его водит? - спрашивает Белинда.
Гамбо смеется:
- Я. Никто. Это мнимый кэб. Как раз от него я получаю сведения о карте.
Колумб даже не знает, что существует такое волшебное такси.
Белинде кажется, что от того, что она узнала, ее голова сейчас взорвется:
это знание противоречит всем ее представлениям о карте.
- Это неправильно, - стонет она.
- Именно. И я могу сделать то же самое для тебя с Тошкой. - Гамбо снова
смотрит на часы. 11:52. - Но нужно начинать быстрее, - говорит он ей. - Ну
что, Белинда? Ты хочешь обратно на карту?
- Да, да, начинай. Хочу.
Гамбо исполняет соло на грохочущей древней пишущей машинке - провода от ее
обнаженных внутренностей любовно вплетаются в общий клубок. Гамбо протягивает
руку и, не глядя, берет из воздуха серебряное перо, не обращая внимания на
пробивающий чих. Он сует перо в рот, всасывает внутрь, потом вынимает.
Вставляет мокрое перо в разъем покореженного трансформатора. На стене поверх ик-
серской карты появляется бегущая строка: "ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В ЛЕТУЧЕЕ СЕРЕБРО.
ПРОБНАЯ ВЕРСИЯ. БУДЬТЕ ДОБРЫ, ЗАПЛАТИТЕ ЗА РЕГИСТРАЦИЮ".
- Шли бы вы на хуй, - заявляет Гамбо. - Информация должна быть бесплатной.
Он что-то настраивает, пока на фоне карты не появляется всплывающее меню, и
говорит Белинде:
- Каждое утро в 11:59 карта получает обновление от Совета. Этот момент
можно использовать. Через эту дверь мы и пройдем. - Пальцы Гамбо танцуют по
клавиатуре . - Аааааааапчххххххиииии!!!!! Извиняюсь. Бля, эта аллергия меня
убивает. Скажи-ка мне название для новой улицы.
- Что?
- Белинда, я не шучу. Времени будет мало. Давай, новое название...
- Кривая дорожка, - отвечает Белинда, и из темноты возникает название.
- Есть.
Гамбо открывает на изображении карты дополнительное окно. Ровно 11:57.
Пробегает пальцами по клавишам. В окне видно, как совмещается с картой новая
улица под названием Кривая дорожка. В другом окне у Гамбо открыта база данных
властей. В поле окна втиснуты все последние обновления карты. Гамбо
располагает окно Кривой дорожки над окном Совета. Потом объединяет их. Теперь Кривая
дорожка зарегистрирована как новая дорога, которая сегодня должна быть
открыта.
- Не волнуйся, - говорит он Белинде. - Все наши данные зашифрованы по
черному. Скажи мне икс-кэб номер Тошки, пожалуйста.
Белинда называет номер, потом Гамбо Йо-Йо перетаскивает иконку икс-кэба с
панели над изображением. Он объединяет иконку с номером и помещает ее на
мнимую улицу Кривая дорожка. Уже 11:59, и Гамбо с Белиндой молча смотрят, как
карта всасывает в себя обновления из Совета.
- Ну вот, драйвер, - говорит Гамбо. - Ты на связи. Белинда придвигается к
изображению. По карте Улья носятся ярко-желтые иконки. На востоке от города в
месте, где раньше не было ни одной дороги, появилась новая улица, Кривая
дорожка, и на этой улице торчит затемненная иконка ее собственного кэба, Тошки,
который ждет драйвера. Гамбо объясняет, что иконка темная, потому что
настоящий Тошка сейчас не на карте, но как только она проведет его через границу,
этот значок, как и остальные, станет живым и ярким, только особенного цвета.
- Мы с тобой сможем разговаривать через ту же систему, - говорит он. - И
мистер Великий Свич нас ни черта не услышит.
Гамбо смеется. Белинда спрашивает его, как все это работает.
- Да очень просто: троянский конь. Ты вписываешь в обновление новую улицу,
мнимую, и ставишь там свой кэб. Колумб считает, что улица вот она, а на самом
деле ее не существует. И твой кэб катается по этой невидимой дороге. Такая
вирусная улица. Мой Волшебный Автобус живет на улице Земляничные поляны. Там
же на карте находится и этот дом... Земляничные поляны. Вот почему власти не
могут узнать мой адрес. Кэбы, копы, власти - Гамбо на всех на них плевать.
Карта снова твоя, Белинда.
- Спасибо, - благодарит Белинда Гамбо, чувствуя, как ее голову вновь
заполняет знание. - Но она не приближает меня к Колумбу. Ты обещал кое-что
большее.
- Есть один способ.
- Рассказывай.
- С возвращением, любовь моя.
Гамбо смотрит за спину Белинды. Белинда оборачивается. В проеме стоит Вани-
та-Ванита, держа за руку девочку. На девочке купальный костюм, а волосы
блестят от воды. Забрызганные перья тут и там запутались в мокрых локонах.
- Она была в бассейне, Гамбо, - говорит Ванита.
- Зашибись. Даже заебись.
- Блаш... - говорит Белинда. - Это ты?
- Это я.
- Ты знаешь Гамбо?
- Я всех знаю, Бода.
- Белинда... меня зовут Белинда.
- Шиза. Одна на всех. - Блаш держит черное перо между роняющих капли
пальцев.
- Черный Меркурий? - спрашивает Белинда.
- Мое сокровище.
- Сокровище всего мира, - объявляет Гамбо.
- С ним можно добраться до Колумба? - спрашивает Бода, подумав, что,
наверное, так же Койот разговаривал с Королем Кэбов.
- Сделать это можешь только ты, детка, - отвечает Гамбо. - Ведь ты у нас
отличный драйвер.
В час дня я настроилась на волну Гамбо, надеясь снова услышать голос
дочери. Но вместо нее был пират-хиппи, который наказал мне сидеть на месте и
слушать . . .
- Люди, люди, люди! Слушайте и скажите всем знакомым. Сегодня в два мы
собираемся вместе поймать волну. Мы заберемся в Вирт, и будем искать причину
аллергии и способ от нее избавиться. Ага, именно так. С нами будет
путешествовать сама Белинда Джонс, экс-икс-кэб-драйвер. Она хочет поймать Колумба во
сне. Мы думаем, что это Колумб направляет аллергию из мира под названием
Пьяный Можжевельник, то есть Колумб берет ее пассажиром и на нем она добирается
сюда. Бода поведет свой дикий кэб к источнику всей мерзости. Там она
предъявит Колумбу счет за все его преступления. Оставайтесь с нами и скажите всем.
Это все равно, что полет на Луну. Такое происходит впервые. Задраивайте люки.
Ведь вы в курсе, что только со стариной Гамбо можно улететь так далеко.
Я выключила радио.
Моя Тень словно сгустилась. Да как же Белинда может попасть в Вирт? Ведь
она дронт, Неведающая. Если только ее поведет за собой кто-нибудь вроде Томми
Голубя, человек-перо. Но пойдет ли моя дочь на такой риск?
По всему Манчестеру люди собираются послушать новости. Слушают в барах и
магазинах, у газетных киосков и в супермаркетах. Даже на улицах
громкоговорители откуда-то сверху вещают голосом Гамбо Йо-Йо, вырывая всех из
обыденности . Его путешествие заставило людей выйти из домов. Им стало все равно. Вот
они стоят группами, все в респираторах, чихают в окружении цветов.
Гулкий голос разносится из репродукторов на вокзалах Пикадилли и Виктория.
Пассажиры откладывают отъезд, боясь пропустить передачу.
В Боттлтауне склонились над радио Твинкль и Карлетта. Они знают, что Блаш
связалась с Гамбо и что она как-то участвует в их путешествии. Твинкль
обнимает Карлетту, вытирает девочке-щенку нос, когда та чихает.
Зеро Клегг слушает радио у охранников Первой башни в Намчестере. Томми
Голубь сидит рядом с ним на плюшевом диване.
Крекер дома, его окружают дети, поднявшие ужасный визг и шум. Он кричит,
чтобы все заткнулись, блядь, и не мешали слушать...
13:15.
Радио...
Люди выстраиваются на Маркет-стрит и Пикадилли-гарденз. Почти все они в
респираторах. Цветы покрывают каждую машину, каждый дом. Припаркованные
бампер к бамперу машины наполнили улицы ослепляющим сиянием нагретого хрома.
"Радио Гамбо" включено в тысячах точек по всему городу. У некоторых
слушателей во рту перья Гамбо, но большинство предпочитают слушать вместе с другими.
Коллективный опыт. Никто не смеет шевельнуться, боясь что-то пропустить.
На пустыре перед Дворцом Гамбо собирается племя пестафари; они застывают на
месте, некоторые на двух лапах, некоторые на четырех. Ветерок нехотя треплет
покрышки раггамаффинских типи. Горит костер. На огне поджаривается шмат мяса
размером со свинью. Веретенообразные скульптуры, воздвигнутые в честь какой-
то мутантной собачьей богини, злобно косятся на яркое солнце. Старые фургоны
и разбитая "скорая помощь" поставлены по дуге, кончающейся раскрашенным
"транзитом" с надписью "Волшебный Автобус". Это машина самого Гамбо, а соба-
колюди - его последователи и защитники. И у всех до середины спины свисают
толстые дредлоки с ползающей по ним живностью. Все молчат. Большая часть
племени носит респираторы, поднятые на лоб очки время от времени поблескивают на
солнце. Все они слушают передачу из громкоговорителя на стене Дворца Гамбо.
Внутри Ванита-Ванита ведет Белинду за руку в комнату на втором этаже
Дворца. Дверь открывается в темноту.
Внутри, там колонки, играет музыка Гамбо, тихо, тихо...
Глаза Белинды постепенно привыкают к темноте. Чуть слышное чавканье. На
полу перед ней шевелится что-то мокрое.
Дух зомби.
От входа и до самого потолка у противоположной стены комната полна
полуживыми. Раздутые тела. Исчадия Манчестера. Их ноздри извергают комки слизи.
- Боже мой! - вырывается у Белинды. Голос Ваниты:
- Гамбо дает приют отчаявшимся.
- Спаси... пожалуйста, спаси нас, - раздается низкий голос зомби. Он
напоминает Белинде о Бонанзе - зомби, который помог ей сбежать из отеля Кантри
Джо в Лимбо.
13:30.
В самом центре своей паутины дорог медленно шевелится Колумб, Король кэбов,
и ждет, ждет, ждет...
На Динзгейт и Кросс-стрит, Оксфорд-роуд и Уилмслоу, Рокдейл-роуд и
Принцесс, Ист-Мос-лейн и Блэкфрерз собираются тысячи людей, слушают музыку,
доносящуюся сквозь двери магазинов и опущенные стекла остановившихся машин. Где-
то в этой путанице и Роберман - и на кэб-волне, по которой трахали его мозги,
теперь звучит песня, вездесущая песня.
13:45.
Белинда Джонс уже болтает голыми ногами в бассейне, свернувшемся кольцом в
подвале Дворца Гамбо. Дитя Вирта Блаш тоже тут, тоже с голыми ногами. Блаш
объясняет Белинде, что если выбрать правильный путь и не сворачивать с него,
то все, что должно произойти, произойдет.
- Ты особенная, Белинда, - говорит она, болтнув ногой. - Ты очень похожа на
Койота. Шизово наивная. Но сильная, бешеная. Вы оба отличные драйверы и
подошли бы друг другу. Конечно, вам уже не быть вместе, но это значит, что
остается только как-то отомстить.
- Я слабая, Блаш, - говорит Белинда, а вода плещет вокруг лодыжек, словно
холодные руки, который хотят схватить Белинду и утащить вниз. - Не знаю,
выдержу ли я этот трип. Я боюсь Вирта.
- Ты боишься, я боюсь, да весь Манчестер просто шизеет со страха. Только
разве у тебя есть выбор? По-моему, нет. Ты одна из лучших, Белинда, просто ты
еще не поняла. Ты, я, Гамбо и Черный Меркурий; если ты видишь какой-нибудь
лучший способ навестить Колумба, можешь мне о нем рассказать.
Тишина. Только неспешными волнами ходят по подвалу глубокие тени, да
плещется вода вокруг лодыжек героя поневоле.
13:50.
Гамбо ставит Дорз, "Riders in the Storm" - и печальная, тягостная мелодия
поднимается из радиоприемников и громкоговорителей и облаком нависает над
городом. . .
Гамбо и Бода: двое всадников сна.
Кто еще поможет городу?
Время остановилось, солнце застыло в одной точке. Мир Манчестера вращается
вокруг пиратского пера и ждет спасения.
13:52.
Кто-то звонит Зеро Клеггу. Он зол, потому что звонок прервал его ожидание,
но только один человек из его знакомых до сих пор пользуется телефоном.
- Ты, Дымка? - спрашивает он.
- Я, - отвечает Сивилла.
- Чего тебе?
- Можешь найти Томми Голубя?
- Он тут рядом.
- Дай ему трубку.
- Сивилла, что случилось?
- Я согласна, Зеро.
В тайном Дворце Гамбо в руке у пирата-хиппи перо Черного Меркурия. Движения
Гамбо высекают снопы искр из горы электрооборудования. Белинде хочется
отбежать от искр и в то же время приблизиться к ним. Ее Тень разрывается. Время -
13:56.
- Так, все! - кричит Гамбо. - Отправляемся. Его глаза не отрываются от
Черного Меркурия. Даже сквозь пленку слез и слизи в них просвечивает нечто
порочное. Красноречивое свидетельство ушедших шестидесятых, когда свободная
любовь имела право на существование.
- Какое красивое перо. Я хочу тебя, перышко.
- Гамбо, мне страшно, - говорит Белинда. Я ведь дронт.
- Да. Но малышка... - он похлопал Блаш по голове. - Она сама перо. Она
поведет твою Тень. Добрый драйвер и хозяйка перьев, скользящие сквозь Вирт. Вы
очаровательная пара. Ну давай, драйвер, ты же нас всех заставила слушаться. Я
все время буду с тобой. И все, кто живет в Манчестере, тоже. Я буду добрым
сказочником. Просто помни закон Хобарт: если отобрать что-то у Вирта, Вирт
отберет что-нибудь у тебя. - Гамбо чихает. - Ладно, люди, давайте уже
выясним, из-за кого появилась эта аллергия. Ванита?
Ванита целует Гамбо, забирая перо у него из рук. Он щелкает какими-то
переключателями, принимая еще дозу Вишневого торчка, чтобы прочистить мозги, и
наклоняется к бакелитовому микрофону.
- Люди Манчестера! Вы все собрались? Вы изголодались по любви? Это были
"Дорз" с песней "Riders in the Storm". Время - ровно два, к вам пришел доктор
Гамбо и принес лекарство от всех хворей. Аллилуйя! У меня тут отличная
команда. Тут Ванита-Ванита за пультом. Тут рожденная Виртом Блаш. Тут беглый
драйвер Белинда Джонс. И, конечно, с нами мои дорогие слушатели. Оседлаем ураган!
Ванита скармливает Черный Меркурий щели в стеке электроники, залечивает его
коктейлем Гамбо и потом протягивает Блаш. Белинда посылает в Блаш свою Тень,
и одновременно девочка проталкивает черное перо глубоко в горло. Дорожная
муть, в которой проявляется новый мир. Чувства расплываются по городу. Жители
внимают им - с помощью Гамбо.
- Говорит Йо-Йо. Я беру вас с собой в поход первооткрывателей, в чужой мир
планеты Икс-кэб. Впервые на радио. Прямо сейчас, друзья мои. Полный,
окончательный и бесповоротный улет. И кто же сыграет саундтрек к нашей авантюре
лучше, чем этот парень? "Лиловый туман"! Веди нас, Джими.
Томми Голубь протянул ко мне руки. Нахлынуло отвращение. Тень забилась. Она
едва не оставила мое тело, настолько силен был испуг, даже комната яростно
закачалась. В нее проникли сны.
- С тобой ничего не случится, Сивилла, - сказал Томми Голубь. - Аллергию ты
никак не подхватишь. Понятно?
- По хрену мне аллергия.
- Сивилла, не бойся...
- Да не боюсь я, блядь!
Но внутри у меня все дрожало. Моя Тень будто распадалась. Гамбо Йо-Йо все
еще говорил по радио. Это пират забирал мою дочь в реальность Вирта. Он
говори про грандиозный прорыв - впервые дронт посещает мир снов. Сравнивал его с
полетами на Луну, с открытием новой страны. "Один маленький шаг для девушки -
один гигантский прыжок для рода дронтов".
- На самом деле ты не попадешь в Вирт. Ты пошлешь мне свою Тень. Затем я
перенесу свое тело в Вирт. В моем теле будет твой разум. Если все пойдет по
плану, мы вместе окажемся в Вирте. В Пьяном Можжевельнике. Но дыра закрыта
чем-то вроде односторонней мембраны: она выпускает наружу пыльцу, но внутрь
не пропускает ничего. Я пытался. Они оттолкнула меня. Это было больно. Я
рассказываю тебе сейчас, чтобы ты знала, чего можно ждать. Думаю, мне удастся
провести внутрь твою Тень. Я думаю, что ты достаточно. . . ну. . . достаточно
дымчатая. Туманная, Понимаешь ?
- Но мне страшно...
- Я буду рядом.
- Не будет никаких проблем, нет? - Это Зеро сказал Томми Голубю. - Уверен?
Это же райское перо, не хер собачий. Вдруг она там умрет? Ты делал раньше
такое ... такую хрень с тенеобменом? Потому что если...
Я едва слышала их сквозь туман, пока моя Тень боролась со страхом.
- Мы будем наблюдать за вашим проходом через следящие перья, - я не сразу
поняла, что теперь Зеро говорит со мной. - Если что. . . мы сразу вытянем вас
туда. Ладно? Нам будет тяжело тебя потерять.
Какие-то эпизоды жизни, образы Белинды и Сапфира. Мои дети...
- Начнем.
И я потянулась к разуму Томми Голубя, позволяя дымным пальцам бегать по
нему в поисках места, за которое можно схватиться. В ответ Голубь крепко
уцепился за меня, и я закружилась в рассеянном свете - бритвенно острые вспышки
желтого и красного жалили мою Тень. Ощущение такое, будто грызешь кусок
стекла. Я сразу попыталась вырваться, оборвать неприятные ощущения, но Томми
держал меня за горло.
- Спокойно, Сивилла, - сказал он. - Все в норме. Мы проходим. Держись.
Его перистые руки сжали мои, и мы устремились Низ, в царство мифов.
Мой самый первый сон.
Мои крылья.
Мы с Томми Голубем осторожно проплыли через свет и погрузились в темноту.
Он успокаивающе говорил:
- Не волнуйся. Я здесь. Я рядом. Мы идем. Уже скоро. Спокойно. Никаких
проблем . Уже скоро. Уже скоро.
Я не успевала думать. . . эта темнота. . . не отдалась. . . иные, такие странные
существа двигались... в темноте... в моих мыслях.. . лики боли и утраты. ..
быстрее , не поймать... их мир и мой мир... становились одним...
Я подняла руку к лицу, но не почувствовала ничего. Ни пальцев, ни рук, ни
плеч, ни тела, ни головы, ни лица, ни голоса - только настойчивое сознание
того, что я еще существую. Дверь открывается. Открывается. Дыра. Она дышит.
Дверь дрожит. За дверью - другая дверь, и Томми Голубь тянет меня вниз, к
дырке в небе.
- Аллергия вылезает отсюда, - говорит Томми Голубь. - Это Пьяный
Можжевельник.
Я чувствую музыку. Она как лиловый туман. Я уже не понимаю, кто я, где я и
зачем, только падаю... все падаю... все падаю... все падаем... все. Но...
Господи! Дыра слишком мала, в нее не протиснуться и червю. Сначала я
подумала, что это фокусы перспектив пока потом не поняла... черт! Я же к ней
вплотную! В Вирте нет перспективы. Голубь!!! Что мы... Не успела закончить вопрос.
Мою голову проталкивали в дыру. Желтые пылинки проплывали через щель.
Разгорелась боль. В мое дымное тело пришли мысли Томми: "Я не говорил тебе, как
путешествовать по теням, Сивилла? Вся боль - иллюзия". Ну ладно, хорошо, что
я это узнала, но переход между мирами все равно напоминал попытку
протолкнуться в щель в горячей плоти. Страшно, как посадка на Луну. Моя голова
выскочила в другой мир.
Я увидела сад. Сад... Я видела его раньше. ..
Темнота рассматривала меня. Шорохи сухих листьев. Пыльца, липнущая к
коже ... Последний мощный толчок вирткопа - и боль стала проходить, оставила
потеки на стенках... и унялась совсем.
Первые чувства Белинды - отвращение и отторжение; это перо проникает
слишком глубоко, чтобы принести удовольствие. По ее Тени шумно проносится Хенд-
рикс. И карта, по которой она идет, совершенно не похожа на то, как она
представляла себе Улей: дороги зеленые и извилистые, как корни дерева. Белинда -
пассажир, а Блаш - Майк Меркурий, и вирткэб по имени Тошка танцует в живой
структуре. Итак, карта сплетена из корней, а город - цветок, сосущий соки из
карты. Вот оно, новое знание. Однако на самом деле икс-кэбом управляет Блаш,
а Белинда - просто пассажир на этой волне. Но, по крайней мере, она вернулась
на карту, даже на вирткарту, чувствует, как кожаный салон Тошки окутывает ее
усыпительным наслаждением. Она чувствует, как кэб вздрагивает от удивления,
когда снова наплывает знание:
ЧТО ПРОИСХОДИТ, ХОЗЯЙКА? - говорит Тошка. - МНЕ КАЗАЛОСЬ, Я ПРЯЧУСЬ В ЛИМ-
БО.
Белинда велит ему перестать разговаривать и ехать дальше.
КОНЕЧНО. КТО ЗА РУЛЕМ? - спрашивает Тошка.
- Ее зовут Блаш. Можешь ей доверять.
ПОНЯЛ, НО КУДА МЫ ЕДЕМ?
- Мы едем по Вирту, Тошка. К центру карты.
Затем на линии появляется голос:
ГОВОРИТ ГАМБО ЙО-ЙО. ВЫЗЫВАЮ БЕЛИНДУ. ГАМБО ЙО-ЙО ВЫЗЫВАЕТ БЕЛИНДУ. МЫ
ВЕДЕМ ТРАНСЛЯЦИЮ НА ВЕСЬ МАНЧЕСТЕР. КАК СЛЫШНО, БЕЛИНДА?
- Слышу тебя нормально, Гамбо.
РАССКАЖИ НАШИМ СЛУШАТЕЛЯМ, КАК ПРОХОДИТ ПУТЕШЕСТВИЕ.
- Уважаемые слушатели, пока все идет хорошо.
ОТЛИЧНЫЕ НОВОСТИ.
КТО ЭТО? - спрашивает Тошка. - ЧТО ЭТОТ ГАМБО ДЕЛАЕТ НА МОЕЙ ВОЛНЕ?
- Тошка, заткнись и езжай.
Я ЕДУ.
Но куда? Крутые дороги ведут в темные джунгли. Солнце исчезло за облаком
грязи. Белинда ничего не может разобрать на карте. Куда ей ехать? Тут корни
мирового древа. Через дыру в карте просачивается пыльца. Жгучая вода. Капает
сок из зеленых луковиц. Вокруг смыкается душный черный воздух. "Господи-
такси, мы под землей", - думает Белинда. Мы под Манчестером. Сидящий сзади
драйвер направляет кэб к отверстию в карте руками Блаш.
Карта из корней раскрывается вокруг центра, у которого нет никакого центра.
Спираль из побегов и перьев. На сиденье водителя смеется Блаш:
- Шиза! В Реале я даже не умею водить. Но Белинда чувствует виртошноту.
Слишком много снов для той, что раньше не видела ни одного.
- Где мы, Тошка? - спрашивает она. ХМ. . . НЕ УВЕРЕН, БЕЛИНДА-ДРАЙВЕР. Я НЕ
ПОНИМАЮ ЭТУ ДОРОГУ. У МЕНЯ ПОКАЗЫВАЕТ БРОД ДЛЯ ПЕРЕГОНА БЫКОВ ЧЕРЕЗ РЕКУ МЕД-
ЛОК2. МЫ В МАНЧЕСТЕРЕ?
- Мы в Виртчестере, Тошка.
ЧЕРТ.
- Кажется, мы на Оксфорд-роуд, Тошка. То есть нет, забей. Кажется, мы под
Оксфорд-роуд.
ПОДОЖДИ, ВВЕДУ ДАННЫЕ. ТАК... МЫ НАПРАВЛЯЕМСЯ К ЦЕНТРУ ГОРОДА. ПЛОЩАДЬ
АЛЬБЕРТА ИЛИ ГДЕ-ТО РЯДОМ. ИНФА НЕУСТОЙЧИВАЯ, ДРАЙВЕР.
- Знаю. Держись курса.
БЕЛИНДА, ГОВОРИТ ГАМБО. НЕ ХОТЕЛОСЬ БЫ ТЕБЯ РАССТРАИВАТЬ, НО, СУДЯ ПО МОЕЙ
КАРТЕ, ТЫ ПРИБЛИЖАЕШЬСЯ К УЧАСТКУ ПОД БУТЛ - СТРИТ. ЗНАЕШЬ, ЧТО ТАМ?
- Конечно. Отделение полиции.
ДАВАЙ Я ТЕБЯ ВЫТАЩУ.
- Спасибо, не нужно. Мы едем до конца.
ЙО-ЙО-МОе!
Кэб вгрызается в землю. Вокруг неприступная темнота, спрессованная и
горькая, и только дыра в земле, из которой вылетают частицы пыльцы. Корявые
корни-дороги. Спереди жестоко чихает Блаш, руль прыгает в ее трясущихся руках.
- Гамбо, я не удержу машину! - кричит она.
УЖЕ СКОРО. СПОКОЙНО, МАЛЫШКА.
По стеблю скорей - в сплетенье корней.
Белинда видит, что все дороги Виртчестера начинаются и заканчиваются у
участка земли впереди. В почве играют черви, превращая изгибы своих тел и слова,
которые можно прочесть Тенью...
НАРУШИТЕЛЬ, НАЗОВИТЕ СЕБЯ. ЭТОТ МИР В ЧАСТНОМ ВЛАДЕНИИ.
Голос Колумба.
Белинда пробирается веточкой дыма в кэб-систему Тошки, поворачивает его
колеса в другую сторону, чтобы он ехал прямо на опасность. К кэбу липнет
пыльца, и скоро он весь оказывается покрыт мелким порошком. Порошок набивается в
воздухозаборники, забивая систему органикой. Тошка чихает...
АААААААПЧХХХХХИИИИИИИИИИИИИИИИ!!!!!!
Белинда первый раз слышит, как чихает кэб.
БЕЛИНДА-ДРАЙВЕР.. . - говорит он. - У МЕНЯ КОНЦЕНТРАЦИЯ ПЫЛЬЦЫ 1764. Я ЕЛЕ
ТЕРПЛЮ.
НА САМОМ ДЕЛЕ 1766, ФАЭТОН-КЭБ, - передает Гамбо Йо-Йо. - БЕЛИНДА, ВЕЛИ ЕМУ
2 То есть Оксфорд.
ЕХАТЬ ДАЛЬШЕ, И ВСЕ.
НЕ СЛУШАЙ, - отвечает Тошка. - ТУТ ХОДА НЕТ.
- Езжай, Тошка. А то я могу и рассердиться.
Кэб на мгновение сбрасывает скорость, переключаясь на сверхпередачу, и
корни с червями в грязи превращаются в размытые пятна.
БЕЛИНДА, Я ТЕБЯ ТЕРЯЮ! - кричит Гамбо.
Молчание.
Белинда под землей, и она одна. Джими Хендрикс отстал. Гамбо, Ванита,
Блаш. .. все остались позади. Только кэб Тошка по-прежнему верен дороге.
Мир вокруг сжатый, темный и сырой. Насекомые копошатся в переплетенной
корнями почве, которая создает для них дороги. Слышится шум растущих цветов. Он
напоминает Белинде треск, который она услышала по телефону, когда позвонила
по номеру, данному Койоту. Кривые корни прорастают к ее такси, разбивают
стекло, хватают ее, и когда она цепляется за отросток, чтобы оттолкнуть его,
в тени мелькает видение. Она видит Манчестер, весь затянутый тумаками и
дождями, и на каждой дороге мерцают линии карты - они становятся толще, как
растущий плющ. Тысячи черно-желтых муравьев снуют по сети корней, как по
дорогам. По ним ездила и сама Белинда, И она вдруг понимает, что муравьи - это
икс-кэбы. И у каждого реального икс-кэба есть двойник здесь, на вирткарте.
Отсутствие Тошки на реальной карте означает, что и из сна выпадет частичка:
вот почему Колумб так отчаянно ищет колесницу Белинды. Зеркалу нечего
отражать . В бытность драйвером Белинда часто размышляла об истинной природе
карты, представляя ее как огромный массив чистой информации. Ни разу ей не
подумалось, что карта может быть органическим виртуальным созданием.
Тенеудар.
Внезапно кэб высвобождается от корней и давления черной земли. Теперь он
едет в сияние и свет нового солнца. Белинда проезжает по солнечной сельской
дороге, где все дышит миром и свободой. Как в раю.
Дождь падает на темный пурпур цветка. Эхо. Отзвуки. Где-то в пространстве -
голос Тома:
- Добро пожаловать в Пьяный Можжевельник, Сивилла. Здесь я слеп. Что ты
видишь?
Я вижу зеленый мир под черным небом. Лес. Цветущие джунгли секса. Цветы
оплетены плющом. Черным, таким черным плющом. Сочащиеся влагой цветы. Облачка
золотой пыльцы вылетают в темноту, и поисках любовников. Множество пылинок
плывет к дыре в настиле леса. Тот же самый мир, что я мельком видела в
последних секундах жизни Койота, зомби, Ди-Фрага, - только он превратился из
изумруда в эбеновое дерево. Демон раскинул руки над раем, накрыв цветы темным
саваном. Попробую описать это, как сумею: я висела вверх ногами в черном
лесу , зацепилась ногой за самую длинную ветку дуба, застряв ногой в развилке.
Надо мной - только грозовое небо, которое обрушивало потоки воды на
поверхность листьев с такой силой, что они прогибались вниз, к земле. Мое тело
окружала плотно сплетенная паутина прутиков и веток, маска листьев и темно-
фиолетовых цветов. К коже прижимаются заостренные шипы. Голова свешивается
между нижними ветками в окружении подгнивших плодов, растущих на плюще. Ниже
- небольшой разрыв в плотном покрове. Прямо под ним - дыра в земле, через
которую уходит пыльца. Из этого прохода льется музыка, нота за нотой, пылинка
за пылинкой - курс обмена. День превратился в ночь. Луна печально светит на
поляну, где под ее взглядом трепещет море цветков щирицы.
Дождь.
Мое имя - Сивилла Джонс. Сивилла Джонс. Снова и снова повторяю про себя,
чтобы не забыть, что я есть. Этот ненадежный мир...
Я всматриваюсь в инвертированный театр внизу, как перевернутая вуайеристка.
Зритель-извращенец. Представление разворачивается по приближающимся друг1 к
другу линиям сюжета. Если бы мне только удалось написать о нем...
В нескольких метрах, на другом дереве - мальчик в такой же ловушке,
запутался в ветвях. Шипы впиваются в его плоть. Искаженное лицо кажется мне
знакомым. Вокруг его тела обвивается змей. Цветки тянут кровь и роняют, капли на
лесную подстилку - красные на зеленом.
- Помогите, - говорит малыш. Его голос глушат листья, залепившие рот, и
сжимающиеся темные объятия змея. Щеки мальчика изъедены личинками. Он плачет.
- Ты кто? - спрашиваю я.
- Брайан Ласточка... Помогите мне, пожалуйста!
Ну конечно. Та фотография, которую мне показывал Зеро.
- Я и пытаюсь. Тебя перенесло сюда?
- Да... Обмен.
- На кого?
- На Персефону... Ее зовут Персефона... Цветочная девочка... Пожалуйста,
леди, помогите мне, Я хочу домой.
- Где сейчас Персефона? Ты знаешь? Толстые кольца змеиного тела слегка
сдвигают вдоль друг друга, и ветки сходятся ближе. Ласточка громко кричит:
- Помогите, пожалуйста. .. Пожалуйста... Я не знаю, что делать. Голос Томми
Голубя пропал, Дырка в небе, через которую я попала сюда, уже затянулась, как
зажившая рана. Я одна в зеленом перьевом мире, о котором ничего не знаю, в
мое тело вонзаются шипы, а мальчика в метре от меня сейчас раздавит насмерть.
Мерзкий змей проползает по лицу мальчика. Крупинки пыльцы лезут в рот, липнут
к ногам, прожигая кожу. Жирный змей разнимает одно кольцо, чтобы посмотреть
на меня...
У гадины - человеческое лицо, лицо молодого человека.
Облако мух жужжит вокруг его извивающегося тела.
Порыв ветра трясет ветки, их хватка ослабевает - и Брайан падает с высоты
трех метров на травяную подстилку, но змей бросается и хватает его за
лодыжки, а потом просто оставляет его болтаться в пяти сантиметрах от земли.
Человеко-змей смеется, раскачивая мальчика в просвете между деревьями, как
часовой маятник. Я тянусь к мальчику изо всех сил. Пытаюсь оторвать змея от его
тела.
"Сивилла!"
Я слышу, как Том кричит мне в Тень, орет, что сон разрастается, окно
закрывается, - но разве можно оставить несчастного малыша одного в дьявольском
саду9
- Я пришла за тобой, Брайан, - прокричала я. - За тобой. Посмотри сюда. Я
коп. . .
Но у меня нет ни пальцев, ни рук, ни языка, ни головы, ни тела, ни сердца,
чтобы схватить его и прижать к себе. Я просто перезревший плод на терзаемом
ливнем дереве.
Черный, как сажа, змей закрепил Ласточку узлом жесткой плоти и потянулся
вверх. Наконец его человеческое лицо оказалось прямо перед моим.
- Могу ли я узнать, что вы тут делаете? - Его голос так же мрачен, как и
лес, из которого он возник.
- Мое имя Сивилла Джонс. Я коп. Вы арестованы. - Естественно, вмешались
полицейские рефлексы, и я сначала произнесла слова, а потом поняла их
абсурдность .
- Правда? Изумительно. - Острые зубы человеко-змея приближались к моему
перевернутому лицу, а раздвоенный язык ласкал мои губы. Я не могла
отодвинуться.
- По подозрению в незаконном обмене человека, - продолжала я (голос ослаб
из-за пыльцы, безуспешно искавшей мои губы), - и в незаконном внесении и ре-
альность запрещенных сущностей. Хотите что-нибудь сказать? Должна
предупредить вас, что все, что вы скажете, может быть использовано против вас при. . .
при... судебном...
Язык змея гулял по моей левой щеке, озабоченное выражение на его лице
сменилось недовольством.
- Полицейссский Джонссс... вы сссама прелессть, - голос издавал сплошные
шипящие. - Вы пытаетессссь арессстовать сссэра Джона Берликорна в его сссоб-
ственных владениях! Великолепно! Вы многого доссстигли, но у вассс всссе еще
нет ответа. О, или безнадежносссть! Как заманчиво ее наблюдать. - С этими
словами он осторожно обернул кольца вокруг моей оголенной шеи и начал
сжимать .
Кровь бросилась мне в голову, свет в лесу померк.
Боль.
Боль и черная сила. Вот что такое смотреть в глаза Джону Берликорну. Вот
чем кончается мир. Жизнь уходила из меня.
И полетел мой одинокий голос... Затерялся. Затерялся среди цветов. Лес
сомкнуло вокруг, лаская, связал ноги плющом, человеко-змей сжал шею в петле
мускулов и связок. Змей откидывает голову назад, на мгновение застывает под
дождем и надвигается, чтобы укусить...
"Пожалуйста... нет..."
Шея зажата в кольце плоти, ноги исколоты шипами. Зубы. Из плода каплет
кровь.
"Сивилла?"
Голос.
"Сивилла, ты там? Я пытаюсь тебя вытащить. Вся боль - иллюзия".
Голос Тома, так далеко, так поздно, ведь челюсти змея уже смыкаются вокруг
шеи.
И отсекают мне голову.
Она падает...
Белинда ведет Тошку по узкой дороге между бесконечно раскинувшимися полями,
где волнами дышит море пшеницы и ячменя. Лепестки и пташки сверкают и поют на
зеленых изгородях и беседках. Каждый листик и цветок отблескивает солнцем,
кажется, весь мир раскрашен яркими красками. Вдалеке вокруг усадеб и
коттеджей играют дети; радостно визжит преследуемая свинья.
Кэб пробирается через зелень и золотой свет, Белинда правит, Тошка радуется
новой, свежайшей дороге. Обоих, драйвера и машину, наполнила безмятежность.
В стране, где плод с древа познания еще не сорван, они освободились от
всего знания.
Впереди на дороге, прислонившись к дереву с густой листвой, стоит юноша
девятнадцати лет с золотыми волосами, подняв над дорогой руку с оттопыренным
большим пальцем.
Стопщик.
Раньше Белинда никогда не подвозила автостопщиков, но сейчас ей кажется,
что остановиться и подобрать его - то, что нужно. Тошка считает так же.
Кэб останавливается, и молодой путешественник забирается на заднее сиденье.
Кэб уезжает по лиственному проходу между тенью и светом. Белинда спрашивает
имя пассажира...
- Драйвер Бода, добро пожаловать в мир Вирта, - отвечает пассажир. - Хотя,
конечно, с некоторого времени ты называешь себя Белиндой.
- Ты - Колумб? - спрашивает Белинда.
- Так приятно, Белинда, - говорит пассажир, встретить тебя во плоти после
стольких лет ласки. Так оно и было, понимаешь? Вызывать твою колесницу - как
делать мягкий массаж, и я очень сочувствую твоему несчастью. Меня расстраива-
ет, что тебе больше не нравится выбранное мной имя. Поэтому я появляюсь перед
тобой в своем единственном человеческом теле.
- Пошел ты, Колумб! - кричит Белинда. - Ты убил Койота.
Кэб въезжает на солнце.
- Мне выходить, драйвер, - говорит Колумб. - Останови здесь.
Белинда останавливает кэб у деревянных ворот, за которыми тянется поле.
Колумб выходит из кэба и спрашивает Белинду, что он ей должен за поездку.
Белинда отвечает: жизнь ее любимого. Тогда Колумб просит драйвера следовать за
ним в поля, где, возможно, ее ожидает более стоящая плата.
Белинда идет.
И среди бескрайнего поля золотых колосьев Колумб рассказывает Белинде, что
этот плодородный мир и есть пример реальности, которой будет править Вирт.
- Неужели ты не захочешь помочь такому превращению? - говорит Колумб
Белинде . - Разве новый мир не прекрасен?
- Это Лимбо? - спрашивает Белинда.
- Вовсе нет, - отвечает Король икс-кэбов. - Это будущее Манчестера. На
такой земле будет стоять Манчестер, когда Вирт придет в город. Разве не
красота? Ни преступлений, ни грязи. Нет нищеты, нет трат на соцобеспечение.
- Да. Красота, - признает Белинда. - Но где люди?
Мириады корней стягиваются к ее ногам.
- Люди слишком заняты развлечениями, чтобы показываться нам.
Колумб срывает цветок. Орхидею. Он разглаживает ее лепестки. Небывало
огромные лепестки, шесть штук, свернутые, как сложенная карта. Мясистые тычинки
созрели для любви. Колумб запускает язык в чашечку цветка. Кажется, орхидея
отзывается на его касания, твердеет и наливается соком. Его язык появляется
обратно, покрытый пыльцой, которая поднимается вверх в солнечном свете и
направляется к маленькому отверстию в крыше неба. Воздух густ и влажен, и на
свету поблескивают шарики пыльцы. Белинде трудно дышать. В горле пересохло.
- Колумб, ты убил Койота! - кричит она. Корни затягиваются туже.
Колумб не обращает на нее внимания.
- Разве он не красив, этот цветок? - говорит он. - Посмотри только, как
разлетается пыльца! Ты же видишь, скоро она покроет весь город золотом.
Посмотри, она покидает цветок!
- Я хочу убить тебя. - Растет новая карта, драйвер. Карта пыльцы. Ты же
видишь , как она сходит шелухой с тычинки. Это член Джона Берликорна. Он был ко
мне очень добр. Уверен, ты даже не слышала о нем, так ведь? Невежественная
дура. Ты недостойна узнать всю историю. Слишком долго карта строилась по
реальности. Теперь реальность будет возникать из карты. Для этого я и создал
"Икс-кэб", с помощью Берликорна. Дорога через Вирт. Теперь она почти
пройдена. Я изменю этот город навсегда, драйвер. Он будет моим.
Чем сильнее Белинда дергается, тем сильнее затягиваются корни вокруг ее
ног.
- Я не твой сучий драйвер, Колумб! - посреди всеобщего цветения кричит она,
вспоминая о своей цели.
Колумб смеется.
- Должен похвалить тебя за то, что сумела забраться так далеко, Белинда. Но
боюсь, я не могу тебе позволить идти дальше. С новой картой люди Вирта найдут
путь в реальность. Истории вернутся домой. И это будет красиво. Все, что
сейчас в голове, скоро окажется снаружи. Грезы... Грезы оживут! Ведь что такое
жизнь человека, его тело? - Всего лиши хранилище снов. Неужели ты не видишь
логики? Если бы не сны, вы, люди, оставались бы приматами. Пожалуйста,
уважайте свои творения. Больше мы ничего не требуем. Неужели это так сложно?
Когда моя новая карта ляжет на ваши унылые улицы, вы все падете ниц и
благословите меня. Я заставляю ваши фантазии цвести, а вы только жалуетесь. Ничтоже-
ства. Меня тянет блевать. Сны, сны имеют смысл!
- Зачем ты убил Койота? - Вот все, что может сказать Белинда.
Глаза Колумба на секунду вспыхивают и снова темнеют.
- Что тут скажешь? Кто-то может пройти по пути, другие нет. Кто-то будет
жить, а кто-то умрет. Разве я ответе за эволюцию? Дорога достается лучшим.
Изо рта Колумба вылетает капелька слюны и приземляется на орхидею.
- Нет, нет... Я был невежлив. Несмотря на все твои проступки, Белинда, я
тебя глубоко уважаю. Ты всегда была одним из моих любимых драйверов. Сам факт
того, что тебе удалось вернуться на карту, не обладая моим знанием...
Превосходная техника. Я должен извиниться за смерть твоего друга. После этого
Пасторального сна Персефона слегка погорячилась.
- Персефона? Пассажир Койота...
- Персефона - жена Берликорна. Она несет городу новую карту. Твоего черного
драйвера можно назвать доставщиком. Он стал кем-то вроде Иоанна Предтечи. Он
войдет в историю. Это была его роль в жизни. У всех нас есть своя задача.
И Колумб показывает Белинде ладони. На каждой ладони - рваная дыра. Из
обеих ран течет кровь.
- Койота убила Персефона? - спрашивает Белинда. - Так?
Корни поднимаются с поля, чтобы привязать ее руки к телу тяжелыми плетьми.
Колумб смотрит в сторону. Снова замечает:
- Кто-то умрет, - и больше он ничего не говорит.
- Где мне найти Персефону? - требовательней спрашивает Белинда.
- Ты сможешь найти зернышко на гектаре поля?
- Ты подстроил смерть Койота, Колумб, а потом пытался повесить вину на
меня.
- Ты должна понять характер ситуации, - оборачивается Колумб к Белинде. -
Ты должна выбрать, Белинда - между старым миром и новым, между унынием и
счастьем. Что ты выбираешь?
- Я любила Койота. - Белинде удается высвободить из хватки корней одну
руку.
- Белинда, я прошу тебя вернуться на карту. Она - твой дом. Вне карты ты
несчастна, ведь так? Ведь реальная жизнь оказалась довольно жестокой?
Свободной рукой Белинда роется в глубине сумки,
- Я отдала пИкс-кэбуп девять лет жизни, Колумб. Ты предал меня.
- Белинда, ты мне нужна.
Белинда вынимает из сумки кольт и стреляет без промедления, еще и еще, пока
барабан не опустошается. Пять блестящих пуль вылетают из ствола и несутся к
Колумбу.
- Белинда...
Моя голова без тела. Летит... Черно-зеленый мир вращается, пока моя голова
кувыркаясь, падает в сад. Дыра в небе затянулась. Томми Голубь исчез
окончательно . Даже во время падения я вижу, как дыра в земле гостеприимно
расширяется , как рана встречает пулю. Еще одна дверь. Моя голова хлопнулась в
окружение цветов. Шипы прокололи кожу.
Моя голова пролетела сквозь стену Вирта в темноту...
Сквозь огромный клубок корней, как сквозь сжатую подземную карту родного
города.
В невыносимо зловонную грязь, и оттуда - на яркий желтый свет. Солнце.
Равнины любви. Запах рая. Я запуталась в цветах и травах, мое тело, казалось,
состояло из чистого воздуха и дыхания Тени. Вдалеке в траве стояли двое. Я
потянулась к ним и обнаружила Короля кэбов Колумба и собственную дочь,
неуправляемую Белинду.
Любовно приблизилась.
Покров корней, облако пыльцы. Мокрый язык орхидеи. Там была моя дочь, вся
опутанная вьюном, который был и дорогами города. Один из стеблей туго обвился
вокруг ее шеи. Пять пуль сонно-медленно летели от нее к юноше с золотыми
волосами, имя его Тени было Колумб. Моя летающая голова двигалась в том же
похоронном темпе.
"Мама..."
Слова, идущие от Тени к Тени.
"Помоги, пожалуйста. Он делает мне больно".
Пять пуль вяло поблескивали в полете. - Кто тут у нас? - спросил Король
кэбов . - Еще один посетитель. Да, Колумб популярен.
Он поймал одну медлительную пулю левой рукой, другую правой и выкинул обе.
Пули ушли в небо этого нового зеленого мира, прокладывая путь в другую
историю. Третья пуля прошла в нескольких сантиметрах от тела правителя кэбов и
точно так же растворилась в воздухе. Четвертая ударила Колумба в незащищенную
зону на груди, оставив в коже небольшое отверстие, из которого выплеснулась
ярко-оранжевая кровь. Он засмеялся и потом слегка поморщился, как от слабого,
но все-таки неприятного ощущения. Парящие пылинки, кажется, чуть-чуть
колыхнулись , когда пуля нашла цель, словно были тесно связаны с ним.
- Ты об этом пожалеешь, Белинда, - медленно сказал он, и в его глазах
отразилось намерение убить мою дочь. Пятая, последняя пуля все еще летела к нему
миллиметр за миллиметром. Он собрал все силы и повернул пулю в призрачном
воздухе, направив ее точно мне в голову. Пуля двигалась, как сонная черепаха.
- Колумб, не трогай ее! - Это крикнула Белинда. Из ниоткуда пробился
дрожащий голос Томми Голубя: "Сивилла, где ты? Мой вирт весь изранен".
"Я с Колумбом, Голубь, - ответила я. - Центр карты. Райский город. Забери
меня".
"Это непросто".
"Ну, попробуй хотя бы".
Пуля была в десяти сантиметрах от моего лица. Белинда умоляла Колумба не
убивать меня.
- Она тут ни при чем, Колумб. Все это только между нами. Одновременно она
послала мне через Тень: "Извини, мама. Прости, что так получается".
Дорогая моя...
Пуля была в пяти сантиметрах от меня, а я не могла пошевелиться. И тогда я
услышала голос Гамбо Йо-Йо, шедший через корни Тени к Белинде.
БЕЛИНДА, НАКОНЕЦ-ТО ТЫ ВЫШЛА НА СВЯЗЬ. СЕЙЧАС Я ВЫТАЩУ ТЕБЯ ОТТУДА.
ГОТОВЬСЯ.
И в ту же секунду Томми Голубь приласкал меня пальцами-крыльями...
(Поцелуй пули на коже.)
...вытаскивая мою голову обратно в реальность.
(Поцелуй продолжается.)
Белинда, ты жестко приземляешься во Дворце Гамбо. Блаш кричит на тебя,
размахивая пером.
- Ты его испортила! - визжит она. - Испортила мой Черный Меркурий!
Посмотри, что ты наделала! Ты его скремила!
Блаш почти плачет от злости. А черное перо теперь совсем кремовое и совсем
мертвое. Кремовый - цвет использованных перьев, которые уже не могут
перенести тебя в сон. Белинда хочет сказать ей, что это Колумб скремил черное перо.
Таким образом он закрыл им дверь. Но как это сказать?
В твоей руке - цветок, Белинда. Смертоносная орхидея. Ты взяла ее с собой
из Черного Меркурия. У нее шесть лепестков. Пять из них серебряные, как пули,
шестой рябит куском карты Манчестера. Ты раздвигаешь лепестки, чтобы открыть
рыльце и тычинку - щелку и член. Тычинки набухли пыльцой. И даже пока ты
смотришь в глубь завитков, они сваливаются с пыльников. Пыльца дрейфует в
воздухе исследует твои ноздри, не находит там для себя места и отправляется
прямо к Блаш. И к Гамбо. И к Ваните-Ваните. Ко всем в комнате. Они устраивают
драку за респираторы с криками и воплями.
Белинда, цветок светится серебром и картой у тебя в руках. Смерть Койота -
впустую. Убийца еще на свободе. И свирепствует аллергия. Новая адская карта.
Тяжелая рука сжимает цветок...
Ты чувствуешь укол понимания, едва Гамбо бросает на тебя взгляд из-под
респиратора .
- Святой Мик, детка! Ты что-то принесла с собой! Ты сорвала цветок в Вирте.
Понимаешь, что это значит?
Понимаешь. Ты даже не помнишь, как принимала перо, но понимаешь, что
произошел обмен. Ты ищешь в сумке атлас, но находишь только пустые пакетики из-
под арахиса и вязаную шапочку.
Ты оставила Вирту пять серебряных пуль и карту Манчестера.
Пузыри. Пузыри пены. Слова. Плеск. Это я? Кто-то другой? Как это я говорю,
у меня же нет головы? И где я вообще? Дома на Виктория-парк? Темнота.
Зеленоватая . Колючки. Пузыри слов. Головы нет. Просто плод. Черный сад. Шипы колют
меня. Моя голова. Головы нет. Я умерла? Мне заглянула в Тени Темнота. Потом
зелень. Летают два светящихся червячка. Мои глаза, вот они. Головы нет, но
глаза тут? Я расту? Расцвела? От поцелуя пули. Эти светящиеся червяки
заполняют все.
"Дайте мне...".
Дайте мне открыть глаза.
Надо мной склонился Зеро и забулькал через респиратор:
- Как ты вообще, Сивилла? Ты вообще тут?
Его тело опухло от аллергии, я не могла вспомнить слов.
- Ты тут, Дымка? - повторил он. - Зря мы все это затеяли?
Я уже вернулась, руки исследовали морщинки на лице, чтобы удостовериться,
что оно есть. Я лежала на своей кровати, меня тряс отходняк.
- Я. . . Я не знаю... - Я отчаянно пыталась заговорить, но голос как будто
остался в Вирте.
- Блядь, Сивилла! Ну, ты узнала хоть что-нибудь? Ну, типа буду я жить вечно
или как?
И это все, что ему было нужно? Вылечиться? Справедливость растворилась в
дурном воздухе, который он втягивал в ноздри.
- Посмотри перьезаписи, - сказала я.
- Когда ты прошла в дыру, запись прекратилась, Джонс. Томми Голубь не смог
туда заглянуть. И молись на его талант, он перепробовал все возможное, чтобы
вытащить тебя. Теперь очередь за тобой, Дымка.
- Там была Белинда. Моя дочь... и Ласточка. Брайан Ласточка, пропавший
мальчик... тоже был там. Ужасно, Зеро... ужасное место. Кэбы тоже там. Там
был Колумб. Там рай, на том месте, где стоял Манчестер.
- Ты о чем вообще? Пес-Христос! А что-нибудь от аллергии? Что-нибудь?
- Девочка... Персефона... это она.
Зеро издал в респиратор могучий чих, на который из спальни отозвался
Сапфир.
- Что за хрень у тебя в той комнате, Сивилла? - спросил Зеро. - Как будто
весь этот ебаный мир чихает.
В тот же день позднее, у меня за столом, Зеро упился дешевым вином, свесил
голову. Томми Голубь возится с едой в своей тарелке. Я снова и снова
обдумываю подробности погружения в Вирт.
- Плохо дело, - сказал Том. - Я тоже испугался. Не думаю, что у нас есть
шанс.
Перед этим я открыла им свой секрет. Показала сына. Моего зомби. Зеро
деланно возмущался, но на самом деле они отнеслись к этому нормально. Все мы
трое уже далеко ушли от правил копов, что тут значит еще один зомби-нелегал?
- Это серьезное вирт-происшествие, Сивилла, - говорил Томми Голубь. Эта
аллергия ... - Он положил кусочек мяса в рот, немного пожевал. - Аллергию послал
Джон Берликорн. Он настоящий дьявол.
- Расскажи мне об этом Джоне Берликорне, - попросила я. Все, что я могла
вспомнить из своего путешествия, я уже рассказала. Зеро замкнулся и ушел в
алкогольный ступор, Голубь погрузился в вязкую депрессию.
- Он - тот змей, что укусил тебя в саду, - ответил Голубь. - Он появляется
во множестве разных форм. Все они ужасны.
- Давай разберемся. Он просто существо из Вирта, так? Персонаж из сказки.
Из мифа, который придумали мы, люди. Как он может причинить нам вред?
- По-моему, ты не понимаешь природу Вирта. Благодаря мисс Хобарт сказки
ожили.
- Благодаря создателю Вирта? - Первооткрывателю Вирта. Пойми. Вирт был
всегда и только ждал, пока мы его обнаружим. Джон Берликорн - одна из наиболее
старых и известных сказок. Одна из лучших. Поэтому у него много имен. Зеленый
человечек. Плодородие. Болотное чудище. Рогатый демон. Его языческий образ
был украден христианами и превращен в рогатого дьявола, Сатану, змея,
Люцифера. В древнегреческих мифах его называли Гадесом. Его изгнали в подземный
мир. Из-за этого Джон Берликорн до сих пор ненавидит нас.
- Но он просто часть Вирта, так? Он нереален. Я не понимаю.
- Вирт хочет стать реальностью. Он - живая система. Он существует даже
тогда, когда мы возвращаемся из снов. Таким его сделала мисс Хобарт. Джон
Берликорн живет внутри пера с названием Пьяный Можжевельник. Это райское перо.
Загробный мир. Место, куда попадают наши воспоминания после смерти. Поэтому
мы можем жить после смерти в Вирте. Туда могут попасть только мертвые.
- Я смогла.
- Да. На несколько секунд. Тень - это след смерти в живых. А еще у тебя
иммунитет к цветам. Они ничего не могут тебе сделать даже там, Сивилла, и я
думаю, теперь это им известно.
- Пыльца - это Персефона? Жена Берликорна? Она вызывает аллергию?
- Верно. Богиня по имени Деметра3 - мать Персефоны. Она - существо
смешанной природы: проводит половину жизни в Реале, половину в Вирте. Мне кажется,
она хочет, чтобы Персефона могла жить в реальном мире, в Манчестере. Она
хочет , чтобы у ее дочери был собственный мир.
- Естественно.
- Деметра хочет создать империю своей дочери, а мир только и ждет, чтобы
его взяли, особенно с тех пор, как стал так изменчив, Я думаю, Джон Берликорн
согласился на обмен и теперь использует свою жену, чтобы пробраться в
реальный мир. Он хочет начать жить за пределами мифа. Новая карта, которую создает
Колумб, может быть для него точкой входа.
- Это же бред.
3 Деметра — в древнегреческой мифологии богиня плодородия и земледелия. Одно из
наиболее почитаемых божеств олимпийского пантеона. Её имя означает «Мать-Земля».
Наиболее известен миф о том, как Аид похитил Персефону, и Деметра блуждала по всей земле
в её поисках. Через девять дней, поняв, что её поиски тщетны, Деметра обратилась за
помощью к Гелиосу. Тот назвал ей имя похитителя, и Деметра поняла, что Зевс сам
уступил брату свою дочь, она бессильна что-либо изменить. Изменив внешность, богиня
отправилась скитаться по свету.
- Конечно. Но так и происходит. Вирт прорывается наружу. Если у них
получится. . .
- То что?
- То сны захватят мир.
- Видение, которое Колумб показал моей дочери?
- Колумб - тоже смешанное существо. Он живет частично в Вирте, частично в
реальном мире. На грани. Он племянник Берликорна. Колумб играет ту же роль,
что Гермес в мифах. Он посланник, бог путешествий. Судя по тому, что ты мне
сказала, он - путь, которым приходит аллергия.
- Аллергия - новая карта?
- Каждая пылинка - новая улица. Если карта будет окончена, город уже не
освободить. Город изменится, чтобы соответствовать карте. Реальность будет
подчинена сну, а не наоборот. Мы перестанем понимать, где мы. Вот дом твоего
друга в двух минутах ходьбы. Миг - и до него десять километров. Хаотическая
карта. По этой новой карте перейдут сны. Сны захватят нас. Мы станем как
заблудившиеся дети.
- Не знаю... новый мир был очень красив.
- Конечно.
- Белинда выстрелила в Колумба. Она ранила его. Пыльца немного рассеялась.
- Если бы не Колумб, пылинки не знали бы, куда им лететь.
- Значит, если мы убьем Колумба...
- Да, возможно. Но теперь он будет защищаться. Использует несколько
доступных ему способов. Он сделает кремовым Черный Меркурий, который твоя дочь
использовала, чтобы найти его, а потом спрячется в самой дальней части карты.
Колумб неуловим: он создает карту, а значит, лучше всех знает, как на ней
можно спрятаться.
- А Крекер?
- Слабое звено. Подозреваю, что он заключил какую-то сделку с Колумбом.
Вспомни, Крекер помешан на власти и на сексе. В нем внутри сидит "Казанова".
Думаю, начальник понимает, что он уже залез слишком далеко. Его работа
заключалась в том, чтобы доставить Персефону в город и охранять ее. И убрать всех
свидетелей. Вот он и хотел убрать вас с Белиндой. Вы слишком много знаете.
Поэтому он отчаянно пытается повесить на вас должностное преступление. Крекер
провалился, и теперь он страшится наказания Персефоны.
- Как ты думаешь, где Персефона?
- Не знаю. В безопасном месте. Уж об этом Крекер позаботился.
- Я ничего не понимаю, Том. Это слишком. Фантазии захватывают реальность?
Какая-то бессмыслица.
- Население Вирта не ищет никакого смысла. Они - существа сна, запомни. Они
ищут действия. Сначала дело, потом слова.
- Они хотят убить мою дочь. Боже!
- Она стала основной угрозой. Особенно после того, как вырвалась с новой
карты.
- Нужно найти ее, Голубь... Клегг... Слышите?! Мы должны найти Белинду
раньше, чем существа из Вирта. Нужно узнать, где ее держит Гамбо Йо-Йо.
Клегг наконец поднял голову и посмотрел на меня мутным взглядом.
- Это, наверное, уже без меня, Дымка. Мне очень хреново.
- Зеро, ты сейчас можешь делать все, что хочешь. Крекер больше не может
приказывать.
После моих слов Клегг умолк и уткнулся глазами в стакан вина.
Тут я увидела, как на него обрушились все беды последних дней. Всю жизнь он
был верен хозяину настолько, что готов был убивать невинных людей. Его
последняя попытка ослушаться Крекера привела к очередной неудаче и окончательно
сломила его. Теперь, оказавшись в одиночестве, Зеро не знал, как поступить.
- Как твои расследования насчет Гамбо? - спросила я. - Узнал что-нибудь?
- Ничего.
- Да ну! Ты что, забыл, как быть копом?
- Когда я им был?
- Зеро!
- Ладно, ладно. Я подал заявку на получение спецразрешения.
- Какого?
- Доступ в Карцер.
- Зачем?
- Помнишь Бенни Маски?
- Напомни.
- Его послали в Карцер два года назад по обвинению в убийстве. Четыре
пожизненных подряд. Мы всегда знали, что Бенни был компаньоном Гамбо Йо-Йо, но
пока шел процесс, он все время скрывал сознание за этой непробиваемой кондом-
маской. Мы пробовали все разрешенные методы получения показаний через перо-
свидетель , но ты же знаешь, как власти относятся к этой пытке?
- Никак?
- Вот именно.
- Но ты все-таки надеешься туда попасть?
- Уже нет. Я говорил с властями.
- И что? Никакого ответа?
- Еще хуже.
К заключенному разуму из Карцерного пера не мог получить доступ никто.
Несколько лет назад были приняты новые законы о личной свободе; поскольку вирт-
тюрьмы создавались исключительно для борьбы с переполненностью мест
заключения и насилием, являвшихся прямым следствием недостаточного финансирования со
стороны правительства, специальным предписанием было установлено, что все
заключенные имеют право на мирный и, более того, приятный сон в Вирте Его
Величества. "Пугающие или необычные видения, - гласил закон, - не должны посещать
разум заключенного, отбывающего наказание сном". Далее было оговорено, что
никто не может получить доступ к сознанию заключенного во время отбывания
срока, "даже с целью предупреждения правонарушений или охраны национальной
безопасности".
- Ничего не получится, - сказал Зеро. - Для этого надо сломать Карцер.
Время шло, все молчали. Зеро оторвался от стакана.
- Какие у нас шансы, Том? - протянул он. - Как избавиться от аллергии? От
этой новой карты?
- Думаю, никак. Для этого нужно добраться до Джона Берликорна.
- И как до него добраться? - спросила я.
- Да никак. Пьяный Можжевельник хорошо защищен. Чтобы попасть в райское
перо , тебе пришлось бы умереть. Такой ритуал, Сивилла; Как со Святым Георгом
английским. Нужно умереть, а потом родиться заново в Вирте.
- Хочешь сказать, у нас уже ничего не получится? - спросил Зеро.
- Не только. Я боюсь за Манчестер, за весь мир. Всю реальность. Боюсь, что
реальный мир обречен.
- Чего?
Это Зеро.
- Я не вижу никакого выхода. Дверь закрыта.
В 16:00 нам позвонил Джей Лигаль из Манчестерского университета. Что-то у
него там такое, на что нам стоит посмотреть. Я решила пойти, Томми тоже.
Зеро, однако, заявил, что у него есть более важные дела.
Итак, Том и я поехали на встречу с Лигалем в университете. Вирт и Тень.
Ехать было просто - после того, как Гамбо и Белинде не удалось уничтожить ис-
точник аллергии, улицы опять обезлюдели. Лигаль взволнованно бегал туда-сюда
по корпусу, ни на секунду не оставляя респиратор. На его пути повсюду
раскрывались странно перекрученные цветы.
- Что случилось? - спросила я.
- Давайте я вам покажу.
Второй полет за этот день - на этот раз в вертолете, принадлежащем
факультету . Кабина была заполнена приборами. Вел Лигаль. Мы с Томом втиснулись на
пассажирское место. Мы поднялись в воздух над городом; присутствие вирта меня
уже не напрягало. Наверное, я уже вылечилась или что-то в этом роде.
- Лучший способ изучения изменений в растительном мире - осмотр территории
с воздуха, - говорил Лигаль. - Эти приборы используются для наблюдения за
распространением видов растений. Посмотрите вниз. Что вы видите?
Я посмотрела в иллюминатор. Подо мной мозаикой раскинулись улицы
Манчестера. Было ясно видно, как носятся, меняя форму, облака пыльцы.
- Похоже, движение беспорядочное, - сказала я.
Лигаль засмеялся.
- Так и должно быть. Пыльца разносится ветром, а ветер, естественно, дует
куда придется. Посмотрите так.
Он передал Тому и мне очки, подключенные к системе анализа информации
вертолета. В них было видно, что распределение пыльцы четко подчиняется
определенной системе.
- Вирт-Христос! - выдохнул Том.
- Вот-вот, - сказал Лигаль. - Эту пыльцу разносит не ветер.
Когда я посмотрела сквозь очки, стало очевидно, что облака пыльцы
растягиваются точно по линиям, каждая из которых соответствует одной из
манчестерских улиц.
Так разворачивалась новая карта.
В 16:37 того же дня Зеро Клегг явился в отделение. Без стука он вошел в
кабинет Крекера и положил на стол заявление об уходе, не сказав бывшему хозяину
ни слова. В 16:40 он уже вышел на улицу и направился через парковку к своей
машине. Позже дежурный припомнит, что движения песокопа были очень медленными
по сравнению с его обычной бодрой походкой. Тогда он посчитал, что так на
него действует аллергия.
Дежурный видел, что перед тем, как сесть в машину, Клегг снял респиратор.
В 17:30 я вернулась домой, одна. Лигаль посадил вертолет, и Том сразу ушел
домой. Нам, в общем-то, не о чем было говорить. Мы совершенно не в силах были
повлиять на события.
За неполные последние сутки линчевали еще десять дронтов.
Я ухаживала за Сапфиром со всей возможной нежностью, выпила еще вина и
повалилась спать на диван. Мне снились сны, наполненные зеленым. Да нет, не
сны, какие у меня могут быть сны? Просто остатки впечатлений от путешествия в
Вирт. Моя Тень никак не могла вернуться из жарких, сырых, темных пространств.
В лесу моя дочь попала в ловушку: вокруг нее толстые змееобразные стебли
оборачивались . Я ничем не могла ей помочь. Сквозь сон плыли узоры из пыльцы -
изображения, которые я видела на образцах Лигаля и когда летала над городом.
Смерть моей дочери отметил похоронный звон. Телефон прервал мои грезы. Глаза
попытались сфокусироваться на часах. Из комнаты звал Сапфир. Часы тоже,
размытые цифры - 7:42. Сейчас еще суббота?
Что еще может произойти за один день? Я взяла трубку. Звонил Голубь...
- Клегг попался псам.
Господи!
В Манчестерскую королевскую больницу. "Пылающая комета" оставляла на дороге
шлейф дыма. Не, хочу ни о чем думать.
Зеро лежал на опрятной койке, лицо его было закрыто кислородной маской. Он
был такой красивый, просто спал и смотрел в какой-то другой мир. Над ним
дежурили врач и ветеринар.
- Вы что-нибудь ему сделали? - требовательно спросила я.
Они смогли только промолчать.
- Сивилла...
Томми пытался заговорить со мной. Выглядел он коп-дерьмово.
- Что произошло? - спросила я.
- Он снял респиратор.
- И. . .
- Его поймали уличные псы.
Дерьмо. Полное дерьмо. Зачем ему это понадобилось? Зеро Клегг. Лучший песо-
коп всех времен. Ладно, пусть уличные псы считали его предателем. Но зачем
доводить до такого?
- Он появлялся в отделении в 16:37, - сказал Голубь.
- И?
- Сказал, что пойдет домой, в свою конуру.
- Клегг не мог назвать свой дом конурой.
- Сивилла, Клегг подал заявление об уходе.
- Что?
- И когда уходил, снял респиратор.
- И его никто не остановил?
- Сивилла... Что они могли сделать? Ходить без респиратора - это не
преступление .
- Вот это зря.
- Мы нашли его в семь. Кто-то позвонил. Неизвестный. Что мы могли сделать,
Сивилла? Он сам так хотел.
- Ну конечно!
- Сивилла!
- Вы допустили, чтобы его поймали.
- Не мы. Это был его выбор. Он отправился прямо в Боттлтаун. Он знал, где
живут уличные псы. Кто знает о них больше Клегга? Никто. Мы думаем, он искал
большую стаю. Ты же знаешь, как они его ненавидят. Они повалили его на землю.
Чихали ему в лицо. Мы думаем, он хотел умереть:
- Но он еще жив, - ответила я, посмотрев на койку Зеро.
Он лежал, дышал очищенным воздухом.
- Шкурник делал продувание легких, Сивилла, - сказал Голубь. - Пробовали
все.
Я посмотрела туда, где стояли врач с ветеринаром. И Шкурник тоже, со своей
роботизированной мимикой.
- Ты это сотворил, Голубь, - сказала я. - Мог бы этого не допустить.
- Сивилла Джонс...
Я уже собралась наговорить Томми всякого, но какой-то звук со стороны койки
заставил меня наклониться над Зеро.
- Дымка... - послышалось низкое рычание.
- Я тут, - сказала я. - Я Дымка.
Но его шерсть, и голос, и лай, и глаза ушли в ничто.
"Нет! Пожалуйста, нет..."
Он потерял сознание у меня на руках.
И я отправилась в глубокий тенепоиск. Отчаянно погружаясь в последние мысли
Зеро, через шерсть и кости, молекулы, гены, надеясь найти утешение.
Поиск...
Падает Тень.
. . .Я парю внутри его тела. . . здесь. . . глубоко. . . Зеро весь пес. . . совсем
пес. . . рычание и шерсть. .. шерстяной луг... я шагаю по лугу.. . там, впереди,
пес роет яму в земле... передние лапы работают с бешеной скоростью... я
подхожу к нему, зову по имени... Зеро смотрит на меня...
"Дымка? Что ты тут делаешь?"
"Я думала, ты захочешь поговорить, Зеро".
Зеро снова начинает копать, не обращает на меня внимания... в нем не
осталось ни следа человека... только древний голос внутри песьего тела ...
"Где же она? Где-то я ее зарыл..."
Он перестает копать... двигается вбок... начинает снова...
"Что ты мне хотел сказать, Зеро?"
"Где она? Где?"
"Что ты ищешь, Зеро?"
"Кость. Я зарыл ее тут... много лет назад... Где она? Ничего не могу
найти" ,
"Зеро?"
"Оставь меня в покое. Дай мне найти ее".
"Ты умираешь, Зеро".
Он отходит от последней ямы... перешагивает... копает... снова... потом
останавливается ... он смотрит на меня...
"Как это, Дымка?"
Ну что же я с ним делаю? Глаза мне застилают слезы.
"Ты умираешь, Зеро. Я провожу тенепоиск. Тебе осталось жить несколько
секунд ..."
"Мне... осталось... несколько секунд?"
Его глаза пробегают от меня по шерсти на лугу, вырытым ямам, местам, где
будут новые, и снова ко мне.
"Неправда это. Я ищу кость, которую зарыл. Где она? - Он снова начинает
копать. - Мне нужно найти ее".
"Кто это сделал?"
Он смотрит на меня.
"У нас мало времени, Зеро".
"Меня не так зовут", - отвечает он.
"Хорошо. Зулу".
Он гавкает на меня смехом, а потом его голос уходит в пустоту. Его глаза
уставились в мои. Я вижу очарование того старого Зеро, спрятанное глубоко под
шкурой пса.
"В самом деле конец, Дымка?"
"Очень скоро".
"Грустно, наверное".
"Ты мне не скажешь, кто напал на тебя?"
"Стая, полная ненависти к копам. Но они не виноваты".
"Продолжай".
"Я сам виноват. Я хотел, чтобы это случилось. Ну ладно, где же эта кость,
которую я зарыл? Должна быть где-то тут, - его глаза сужаются, осматривая
шерстяной луг. - Ну вот, теперь я ее никогда не найду".
"Значит, не найдешь, 3. Клегг. Зачем ты это сделал? Не скажешь мне?"
"Ради тебя, Джонс. И Голубя, и Белинды, и всех чертовых людей в Манчестере.
Я думал, что выбрал правильный маршрут. Думал, что нашел ответ..."
"Что случилось ?"
"Как тогда Голубь говорил, что нужно умереть, чтобы попасть в райское перо.
Ну, я просто снял респиратор, поехал в Боттлтаун, я там знаю хорошего дилера.
Имен не называю, ладно? Он был моим осведомителем. Я купил у него копию Пья-
ного Можжевельника. Отдал целое состояние. Я вышел из дома, сжевал это перо,
как пес. А рядом стая песопареньков громила мою машину. Я подошел к ним,
изобразил арест, применил силу. Ты же меня знаешь, Джонс, я не хотел умирать
спокойно".
"Не сработало?"
"Сработало ровно настолько, чтобы я понял, что Пьяный Можжевельник меня не
примет. Я даже убить себя не сумел. Черт, прости меня, Си. Прости..."
"Ничего, Зулу. Правда. Я тебя верну, обещаю..."
"Я как-то вдруг устал. Хочется немножко полежать на лугу. Ладно, Дымка?"
"Нет, не ладно".
Я заглянула глубоко в его душу, нашла там, в глубоких слоях, кость и точное
место, где он ее закопал.
"Кость вон там, Клегг", - показала я. Клегг стал рыть в том месте и вскоре
поднялся с большой сочной костью в лапах; он снова улыбался.
"Я нашел, Дымка! Нашел кость!"
"Отлично, Клегг. Хочешь ее съесть?"
Он сжимает челюсти, дробя кость острыми зубами. Высасывает костный мозг,
размазывает его по губам. Я говорю, что должна вернуться на поверхность, но
буду ждать его там.
"Дымка, я тебя люблю", - говорит он.
И он целует меня, измазав мне губы жиром, и от этого у меня бегут мурашки
по коже.
"Если я вообще отсюда выберусь, Дымка, то, наверное, захочу на тебе
жениться" .
Конечно, я убежала от этого чувства.
Теневзлет...
Оставляю человекопса скитаться.
Но даже покинув поле зарытых костей и снова придя в себя в больничной
палате, я не смогла не унести услышанное с собой. Зеро признался мне в любви?
Куда катится этот мир?
Я велела врачам не снимать с Клегга маску и хорошенько за ним
присматривать . Он лежал в коме. Голубь хотел узнать, что с ним делается. Я сказала,
что песокоп Зулу Клегг борется за жизнь.
Потом я вышла из палаты вон, пошла по коридорам, под хмурое небо, молясь за
то, чтоб Зеро достались вкусные кости, молясь за всех, кто отдал жизнь за
мечту. За чужую мечту. Или, может быть, за мечту отдать все, что у тебя есть,
ради друзей и других.
Вот черт. По-моему, в Тени Клегг попросил меня выйти за него замуж.
Пылинки прочерчивали ночной воздух, каждая частичка летела по одной ей
известной дороге через город. Линии, которые они рисовали, расплывались в моих
глазах. Зеро Клегг, глупый ты пес! Почему ты сказал об этом так поздно?
Отделение. Суббота. Полночь. Одинокий коп вбивает код на двери в морг. Как
всегда, когда до него доходят мощные эманации от хранящихся внутри тел, он
чувствует новый прилив крови к пенису. Изо всех сил, он старается побороть
желание. Прошлой ночью он уединился здесь и получил незабываемые ощущения,
после которых тело скрутил жестокий приступ вины. И теперь еще кэбнутая те-
неблядь, которая называет себя Белиндой, пробралась на новую карту. Она
узнала о Колумбе. Она рассказала секрет Гамбо Йо-Йо, и он передал его всему
городу. А ведь этот коп был так осторожен. Заметал следы. О черт, что же ему
делать? Особенно после того, как все узнает его новая хозяйка. От цветочной
девочки ничего не утаить. Если бы он только, не заключил этот договор. И все же
нужда вела его, и кровь уже устремилась к пенису.
Дверь морга отодвигается, веет прохладой.
Коп шагает в комнату.
Робо-Шкурник трудится над телом новой жертвы аллергии. Его глаза-камеры
поворачиваются на звук открывающейся двери.
- Крекер, что вы тут делаете?
- Я. . . Я просто... - Крекер не знает, что придумать. Присутствие Шкурника
раздражает его ведомую похотью систему.
- Да? - спрашивает Шкурник.
- Я хотел проверить некоторые предположения насчет аллергии.
- Я тоже. Этот мальчик - последний пострадавший, - Шкурник нажимает
скальпелем на твердую плоть. - Тут несколько примечательных аномалий.
- В самом деле?
- Смотрите, Крекер. Пыльца прорастает в его яички. Подойдите, посмотрите
поближе.
Крекер подходит к столу. Берет из стального лотка скальпель.
- Пыльца сливается с его спермой. Какое-то новое...
Крекер втыкает скальпель в пластиковый живот Шкурника. Линзы вращаются как
бешеные, как камера, издыхающая от недостатка света.
- Крекер? Что вы... - Голое Шкурника растягивается до металлического гула.
Крекер крутит лезвием, пока провода, измазанные роболимфой, не вываливаются
наружу. Он разрезает проволочки и забирается достаточно глубоко, чтобы
достать до нервного центра.
- Никогда ты мне не нравился, Шкурник, - говорит Крекер. - Куча говенного
Пластика.
Шкурник падает под стол горой мяса и электроники.
Крекер начисто вытирает скальпель об штаны и переводит глаза на закрытый
шкаф с номером 257, где лежит его хозяйка. Он чувствует непреодолимое желание
соединить свою похоть с ней, чтобы получить такое же удовольствие, как
прошлой ночью. Каждую ночь одно и то же: чувство вины, боль и вновь
удовлетворение извращенных желаний.
Шкурник уже забыт.
В нечистом воздухе морга плавает пыльца.
Коп чихает и проклинает бога, с которым заключил сделку. Колумб обещал ему
невосприимчивость к пыльце. Все время влажные глаза Крекера пристально
смотрят на шкаф. Он чувствует тепло, идущее от земли внутри. Последняя жалкая
попытка не подчиниться зову - и вот он кладет руки на замок шкафа, набирая
одному ему известный код. Мохнатые пчелы жужжат в морге в напряженном ожидании.
Я тут ни при чем, убеждает он себя, глядя, как шкаф выезжает из стены. Он
чихает еще раз. Меня зовет сама природа. Как я могу отказаться от ее
благословения?
Лепестки раскрываются.
Крекер смотрит на девочку, спящую на земляной постели...
Лепестки раскрываются. Ее имя - Персефона. Ее тело скрыто пластами черной
земли. Видно только ее лицо, выглядывающее из почвы наружу. Цветы растут у
нее изо рта, из ноздрей; каждая плавная линия ее обнаженного тела - цветущий
сад. Она покоится в жирной земле, но на самом деле ее тело везде, где что-
либо растет. Она - изысканный розовый куст в саду Виктория-парк рядом с
Сивиллой Джонс. Она сочный мясистый цветок орхидеи, который Белинда принесла из
ее родного мира. Она в лишайнике, который прилепился к стенам тайного Дворца
Гамбо Йо-Йо. Как дома она чувствует себя в цепляющихся за памятник на могиле
Койота цветах, которые питает смерть, пока они, дрожа, пытаются выжить. Ее
сознание едино со всеми растениями города; она создала для себя карту из
цветов, и она - каждая улица, каждый корешок, каждая дорога и каждая ветка на
этой плетеной карте. Воистину, сейчас она на вершине счастья. Она свободна от
матери и мужа. Наконец, ее не заботят смены перьевых сезонов. Она так далеко
ушла из родного мира - в Манчестер, потом в Александра-парк и, в конце
концов, к этому мокрому темному убежищу. И в этой питательной темноте она
разрослась и расцвела, как цветочный пожар всех оттенков зеленого. Но только
этот новый мир наполняет ее цветочной грустью. Она чувствует, как по краям
листа карты появляются следы болезни. На окраине города возникает гниение,
распространяется плесень. Мир восстает против нее. Нет, не мир, его природа.
Обыкновенная природа наносит ответный удар. Реальность. Она умирает здесь,
медленно и постепенно. Вот ее темный мир открывается. Она чувствует взгляд
любовника на своем теле. Персефона раскрывает лепестки ему навстречу.
Показывает ему самые сокровенные бутоны.
Как жар забирается в ее тело, как она ласкает свои лепестки пальцами,
липкими от сока! Как они, ярко-красные, искрятся росой! Как они накрывают друг
друга, все шесть! Дитя Персефона позволяет одному из них упасть с головки
цветка. Она посылает его по воздуху себе в рот. Секунду лепесток лежит на ее
длинном фиолетовом языке. Потом влажный нежный рот закрывается. Она
чувствует , как любовник смотрит на нее.
Девочка, поедающая лепестки сияющего цветка.
Она чувствует, как солнце спускается по ее горлу. Ее пальцы ложатся между
ног, там, где губы раскрываются внизу шелковистого живота; как цветок, и на
них выступает роса. Как семя увлажняет ее губы и как пристально ее любовник
наблюдает за этой влагой.
Лепестки раскрываются и закрываются...
Теперь скользкий язык Персефоны облизывает толстую сочную ножку тычинки.
Золотые крапинки поднимаются в воздух морга. Ее вытягивает длинный язык,
кончиком , покрытым пыльцой, касается переносицы и убирает язык обратно.
Зеленые цветы-глаза.
Язык оставляет на лбу желтое пятнышко - такой же знак замужества, как
проглоченные зернышки граната. Ее муж, Джон Берликорн, дал ей проглотить девять
гранатовых зернышек. "Эти зерна свяжут нас с тобой, - сказал он, - навсегда".
Он говорил с ней на темном языке и иногда сильно гневался на нее, если она
следовала правилам недостаточно строго. Но все же, несмотря на гнев и страх,
она ощущала, что любит мужа больше, чем мать, как и должно быть.
Она лежит в земляной постели Крекера, ей всего одиннадцать, но иногда она
чувствует себя древней старухой, которая продолжает стареть, охотно участвуя
во многих-многих жизнях в разных эпохах. Оставаясь в собранной в Манчестере
земле, она настраивается на все цветы, собирает признания в любви со всех
лепестков и изо всех бутонов, ее ноги, раздвигаясь, поднимаются из земли. Ее
губы опять готовы принять насекомых. Обе, нижняя и верхняя, измазаны
нектаром. Пчелы ползают по всему ее телу, медлительные и одурманенные запахом. Они
трут язычками все ее складочки и собирают на себя пыльцу из ее цветочной
вульвы. Щекочут. Щекочут и сосут. Питаются. Ее лихорадит от их движений по
коже, таких возбуждающих. Персефона отдается ощущениям, встречая их пищей -
нектар за пыльцу, пыльца за нектар. Маленькие сделки, скрепленные соком
девочки .
Пусть они, жужжа, летят на карту цветов.
Откусив от корня, попробовав ягод, облизав стебель... теперь она готова.
Чувствуя сок, стекающий по губам, и росу на лепестках. . . теперь она готова.
Раскрывшись, как цветок, истекши нектаром из матки и напитав им пчел; покрыв
язык пыльцой, рожденной в саду ее тела... девочка теперь готова. Так считали
ее мать и муж.
И теперь Крекер, любовник, смотрел на нее мокрую. Она так соблазнительно
колышет лепестками, и мужчина опускается на нее, жужжа пчелой. Коп потеет и
чихает. Капельки влаги падают на открытое лицо Персефоны. Она с
благодарностью принимает их, пробуя лепестками потный дождь. Она питается, мужчина - ее
пища. Его мокрое грустное человеческое лицо кажется озабоченным, но она
ощущает, как нарастает его возбуждение; Персефона наслаждается его
напряженностью. Она складывает лепестки в слова, понятные его мелкому уму.
- Что тебя тревожит, дорогой? - спрашивает Персефона. Тонкое худое лицо
копа в сомнении морщится, но ему остается только качать головой вперед-назад,
вперед-назад, словно показывая, что сам он ничего не стоит. "Как жалки эти
создания из плоти", - думает Персефона, Печально, что одному из них она
вынуждена дарить счастье. Ей нужны некоторые его способности.
- Можешь мне рассказать. Я твоя удача, - выстраивает Персефона свои
лепестки . - Тут ведь знаешь, что не сможешь сопротивляться мне. Расскажи обо всем
своей возлюбленной. Может быть, тогда я поступлю с тобой по-доброму.
Она ненавидит говорить таким образом. Это ее унижает.
- К нам идут, моя драгоценная, - отвечает Крекер.
- Это я уже знаю. Скажи мне что-нибудь новое.
- Ее зовут Белинда, - продолжает Крекер. - Она спрашивала о Койоте,
драйвере черного кэба. Колумб сказал ей, что ты убила его.
- Ты не можешь с ней справиться?
- Я пытаюсь, Персефона, - коп чихает. - Ты обещала мне, что я не буду
чихать .
- Ты не должен себя ослаблять. Случайно не собираешься сбежать от меня?
- Нет. Конечно, нет.
- Помни о своем соглашении с Колумбом. Тебе ведь не захочется сердить его?
Вопрос простой, и она четко складывает его лепестками. Нужно остановить их
дрожание. Она не хочет, чтобы коп знал о ее страхах. Потому что впервые за
все время пребывания в этом мире Персефона обеспокоена. Она почувствовала
девушку по имени Белинда на карте. Попыталась запустить свое зеленое щупальце
ей внутрь, чтобы понять, кто она. И обнаружила какую-то помеху. Персефона не
могла прорасти в нее. Девушка - темный нарост на цветочной карте, плотно
сжатый бутон, который никогда не откроется. У нее иммунитет.
- Я не хочу его сердить, - говорит Крекер. - Просто я говорю тебе, что
боюсь. Кто-то нас обнаружил. Персефона, мне страшно. Я боюсь, что Белинда знает
о нас... о нашем...
- Я хочу, чтобы ты позаботился о ней, дорогой.
- Я? Как позаботиться? Я... Что ты имеешь в виду?
- Искорени ее.
- Только не надо снова, пожалуйста. Я уже пробовал один раз. Не получилось.
Тогда я отправил за ней хорошего полицейского. Но даже этот преданный пес
провалил дело.
- Иди ко мне, дорогой. Дай мне обнять тебя. Скоро я покажу этому
несчастному городу свою силу.
- Что это значит?
- Продолжай наблюдать, мой садовник. Я накачаю людей наслаждением. Завтра я
создам себе новый дом. Мелочная жизнь людей этого города переменится. Их
захватит сон. Эта Белинда скоро исчезнет с лица земли, поверь мне. Мои цветы
найдут ее. А потом ты сделаешь свое дело, потому что я не могу ее тронуть. И
ее мать, Сивилла Джонс. Ты должен убить их обеих. И я не прощу еще одной
ошибки, слышишь ?
- Понял.
- Что ты понял, сладость моя?
- Что ты не простишь мне ошибки.
- Что ты должен сделать?
- Убить Сивиллу и Белинду,
- Ты должен закончить их историю.
- Закончить их историю.
- А потом мы будем в безопасности... и станем наслаждаться друг другом. Иди
ко мне, почувствуй, как ты мне нужен.
Лепестки раскрываются и закрываются...
Крекер забирается в шкаф. Он не может остановиться. Благоухающая любовница
раскрывается перед ним. Ее живот показывается из земли. В вагине растет
цветок. Его лепестки, розовые, влажные, раскрываются и закрываются. Рыльце
разделяется на две половинки. Крекер опускается на нее, погружая пенис в тугое
отверстие. Лепестки Персефоны сжимают его член, открываясь, закрываясь,
открываясь, закрываясь... Естественный ритм, происходящий из самой земли,
выжимает сок из ствола. Крекер в раю.
Рай цветет и пахнет потом.
Южное кладбище. Суббота. Полночь. Могила Койота. За деревьями дышит
темнота. Каменный памятник псу-драйверу совершенно покрылся цветами. Они прячут
изображение, лепят из своих лепестков другое. В могильной почве много
питательных веществ, отданных разлагающимся телом.
Подарок Белинды, орхидея.
Из могильного холмика пробивается новый росток. На нем мгновенно
распускается искрящийся цветок. Лепестки сливочно-белые с темно-темно-коричневыми
пятнами.
Назовем его цветик-далмацветик. Да пребудет с тобой дорога.
Воскресенье 7 мая
Тусклый свет, падающий из оконца под потолком, трепещет на поверхности воды
и отражается от мраморных колонн, уходящих в тусклую воду. Дрожащие тени
мерцают вокруг юной девушки, чье обнаженное, расчерченное улицами тело принимает
отблески света и превращает их в движение сияющих перьев. Перьев, опадающих с
подземных крыльев.
Подземный бассейн в Ботодоме, Дворце Гамбо, вычищенный и отремонтированный
нелегальными жильцами. Раннее-раннее утро, воскресенье, все спят, кроме
одинокого пловца.
Дрожат тени, и плавает Бода.
Отмечает свой день рождения.
3:50 утра, воскресенье. Телефон вырвал меня из нервного сна. На другом
конце линии - голос Голубя...
- Приезжай в отделение, Сивилла.
- Ты же знаешь, мне туда нельзя. Что случилось?
- Крекер исчез. Давай сюда.
Я проверила, как дела у Сапфира, а потом спустилась к "Комете".
Крекер сидит в машине напротив дома Сивиллы Джонс, пьет маленькими порциями
бумер, просто чтобы держать себя на грани. Ничем нельзя пренебрегать после
двух проваленных попыток порадовать Персефону.
"Как далеко смогу я зайти?" - спрашивает он себя. "До конца, Вафля", -
отвечает он. Высвобождает пистолет из кобуры.
Пыльца плывет во тьме, золотая и вездесущая.
В доме Сивиллы включается свет.
- Вот оно как!
Парадная дверь открывается, и Сивилла Джонс идет по аллее к своей машине.
Крекер смотрит на нее с другой стороны улицы.
- Блядь. Куда она собралась? - бормочет он. - В такую рань?
Он поднимает пистолет и прислушивается к нежному жужжанию - это, автоприцел
ловит идущую женщину, хорошего копа. Палец Крекера пытается нажать на спуск,
но соскальзывает.
- Бля!
У него не получается. В любом случае, не сейчас. Он не может перестать
видеть в ней копа и женщину, которую знал много лет.
Незнакомцев убивать проще.
Крекер решает сначала дойти до конца другой дороги, той, которая ведет к
Белинде.
Томми впустил меня в полицейский морг, туда, где на полу грудой мертвого
мусора лежал робо-Шкурник;
- Что с ним случилось?
- Кто-то воткнул нож в его схемы, - сказал мне Голубь.
- Вполне возможно.
- Зачем?
- Может, он увидел что-нибудь лишнее. Следишь за мыслью?
- Пытаюсь.
- Голова Шкурника была включена далеко за полночь. Он был хорошим робоко-
пом.
- Она еще там?
- Давай посмотрим.
Мы открыли голову Шкурника и нашли там записи. Видео оказалась
неразборчивым, но саундтрек рассказал нам все, что надо. Качество было паршивым, через
статику умирающего мозга Шкурника прорывались лишь отдельные глухие звуки.
Звучит голос Крекера, но так, словно он говорил сам с собой. В одном месте
Крекер назвал собеседника Персефоной.
- Он встречался здесь с цветочной девочкой?
- Может, она зашла в гости, - предположил Голубь. - Давай слушать дальше.
Стало очевидно, что записывающие центры Шкурника работают на пределе. Ро-
босхемы брызнули последними искрами, и голос Крекера оплыл мутным крещендо.
Последние слова, которые мы разобрали: "Мне надо убить Сивиллу и Белинду".
Крекер произнес их, как автомат, повторяющий приказ.
Я не знала, что сказать.
- Думаю, девочка сообщила ему, где живет Гамбо.
- Откуда она-то знает?
- Думаю, она движется сквозь цветы Манчестера. Последняя информация
Шкурника умерла в треске проводов.
- Что теперь делать, Том?
- Надо найти Белинду раньше Крекера.
Мы отправились в тюрьму Карцерного пера. У поворота на кладбище стоял
одинокий тюремный смотритель, опустившийся донельзя робопенсионер по имени Боб
Клатч.
- Что такое? - прошамкал он с набитым ртом (он ел яичницу с беконом).
Я назвала ему сегодняшний коп-код и представила Томми Голубя как Томми
Маски, давно потерянного брата Бенни Маски, получившего на полную подушку.
Полной подушкой на жаргоне называют прижизненное заключение в виртовой тюрьме.
- У нас нет приема посетителей, - прочавкал Клатч сквозь полупережеванные
куски мяса.
Тогда я объяснила, что это запрос мэрии, которая в связи с крайней
необходимостью в деле Маски готова пойти на нарушение принятого порядка. Свиные
глазки забегали от меня к Томми Голубю и обратно, Клатч даже прекратил
жевать .
- Мне надо проверить, - сказал он потянувшись к копоперу.
Тогда я совершила то, чего не, делала с детства, - я послала свою Тень к
смотрителю и заставила его мне поверить. Я заставила его поверить: вогнала в
него новое осознание. Это было откровенным нарушением теневых законов, но
даже хороший коп должен иногда преступить черту. Лицо Клатча на секунду
смялось .
- Да, конечно, - пролепетал он. - Разрешите вас проводить.
Мы (я, Том и Клатч) шли вниз сквозь соты опечатанных ящиков, прокладывали
путь сквозь холодный воздух, восстающий против внешней жары. В каждом ящике
лежало по спящему заключенному. Подушечные дела хранились в самых нижних
ярусах тюрьмы, и Боб Клатч вел нас туда вдоль стены контроллеров, которые
управляли системами жизнеобеспечения. Это были механизмы, сохранявшие жизнь
заключенных, пока те смотрели перьевые сны. Наконец Клатч нашел ящик, помеченный
"Бенджамин Маски", вытащил его и открыл. Мы увидели спящий полутруп, на лице
которого застыла мучительная гримаса. Из его рта торчало черное перо. Я
вытащила перо из губ заключенного и повернулась к смотрителю.
- Что вы тут себе позволяете?
Лицо Клатча пошло волнами мяса, но смотритель быстро взял себя в руки.
- Ничего не знаю, - пробурчал он.
- Это черное перо.
- Никогда его раньше не видел. Не знаю, кто его туда сунул.
Общеизвестно, что смотрители иногда заменяют перья во рту заключенных с
разрешенных синих и спокойных на смертельные черные. Так поступают с
растлителями малолетних, убийцами копов, анархистами и прочими гадами и подлецами.
Смотрители меняют голубое перо на черное, и это значит, что жертва в своем
тюремном сне будет жить внутри вечного кошмара. Томми Голубь принял вид
оскорбленного родственника, а я добавила к этому впечатление о себе, как о
важном копе.
Клатч смылся от нас искать хорошее голубое перо, чтобы заменить черное, и
пока он ходил, я спросила Томми Голубя, что у нас с перьевым поиском. Но у
него уже характерно остекленел взгляд, как будто он погрузился в вирт-
путешествие.
- Держись, Том, - сказала я. - Давай соблюдать закон, насколько это
возможно.
Томми вернулся и стал ждать, пока притрюхает Клатч с голубым пером и кучей
извинений за свою ошибку. Клатч передал перо "Томми Маски", который сунул его
в рот, вынул, и смотритель наконец-то мог втиснуть синее перо в рот
заключенного . От нового пера лицо Бенни Маски расплылось в улыбке, и в этот момент
Томми Голубь прыгнул в поток и погрузился в сон заключенного. Я уже была
матерым экспертом в посылании своей Тени в сон, так что мы опустились в эту
ячейку вдвоем с Томом, тень и вирт, в поиске улик...
... погружаясь в блаженство и цифры... цифры и блаженство... цифры
захватывают блаженство, Так что весь мир становится похож на математическую
формулу. . . блаженство от свежесунутого пера. .. он был полон экстаза, этот долгий
парад чувственности. . . цифры были масками на разных частях территории сна. ..
замки на перьевых дверях... Том влечет меня вниз, в хоровод цифр, пытаясь
прорваться... цифры сжимают кольцо вокруг нас, как уличная бригада, блокируют
наш полет... пелена цифр, сквозь которую мы не можем пройти... Томми Голубь
не может сдвинуться с места, но я толкаю Тень в формулу, вбиваю дым между
символов... я использовала все, что могла. . . все свои ресурсы. . .
почувствовала себя слабой и униженной, но вот появился разрыв между номером один и
номером семь, и сквозь этот разрыв я послала свои пальцы из дыма. . . лицо Бенни
Маски всплыло, извиваясь и матерясь...
- Какие мудаки приперлись?
- Это копы...
- Блядь, это противозаконно...
- Убийство тоже, Бенни...
- Уебывайте из моего сна...
- Наслаждаешься новым сном, Бенни?
- Нельзя не признать, он гораздо лучше, чем последнее существование. То
было черным депрессантом. Господи! Чувство, как будто меня режут на части, а
потом сшивают обратно. И такая хуйня - целую вечность. Мило с вашей стороны,
копы, что вы разобрались с этим смотрителем. Н-да, голубое перо отличное...
- Дурной сон может вернуться, Бенни... в любой момент...
- Леди коп, пожалуйста...
- Слушай сюда, мы ищем адрес Гамбо Йо-Йо...
- Он убьет меня, если я его выдам...
- Что он может теперь тебе сделать?
- Это по его просьбе я убил, знаете ли, и это он поставил вокруг меня этот
кондом из цифр, так что я не могу назвать его...
- Что он может тебе здесь сделать? Ты в полной безопасности. Подумай над
этим...
Молчание Бенни Маски, пока он взвешивает варианты...
- Хорошо, я готов, только если вы гарантируете мне свободу от черного пера.
Я хочу спать в мире...
- Мир твой...
- Хорошо, получайте. Ботодом, Земляничные поляны.
- И все?
- Все, что я знаю.
Я чувствую, как Томми Голубь приготовился к выходу.
- Подожди минутку, Том. Я чувствую еще кое-что.
- Сивилла, мы получили то, за чем пришли.
- Еще не все. У него остались кое-какие секреты. Вновь погружаюсь в цифры
Бенни Маски, следуя их изгибам до самого корня. Там, среди этой алгебры, вижу
имя Крекера. Список преступлений, которые Бенни совершил для шефа полиции, а
потом накрыл темными сетями.
Жалкий пиздюк.
Мы с Томом вышли обратно в Карцер, имея на руках местонахождение Гамбо и
доказательства вины Крекера. Сказали Бобу Клатчу: или он навсегда оставит во
рту Бенни официальное голубое перо, или мы сообщим властям; Клатч перебрал в
уме все варианты, осознал и взорвался дождем аллергических слез и соплей.
Мы вернулись в "Комету"; Томми подключился к иксерской карте и получил
отказ на запрос о Земляничных полянах. Мол, нет такой улицы.
- Что теперь? - спросила я.
Перед нами ехала полицейская машина. Том попросил меня включить сирену, и
копмашина прижалась к обочине. Том вышел из "Кометы" и пошел к копам.
Предъявил свой коп-код.
- Как вас зовут, констебль?
- ПиСи Бретингтон, - ответил водитель.
- Одолжите мне на минутку ваше перо.
- Нет проблем, инспектор Голубь, - ответил дорожный коп. - А что вы делаете
на улице? Достал Вирт?
Констебль засмеялся.
Но Томми не обращал на него внимания. Он засунул перо себе в глотку и
вызвал Колумба по волне карты,
КАКОГО ХУЯ НАДО?
В голосе Колумба явственно слышалась ярость, и Том не удержался от улыбки.
- О. . . прошу прощения, Колумб, что помешал вам, - сказал он, глубоко коди-
руя свой голос.
КАКИЕ ВОПРОСЫ, ПИСИ... ПИСИ БРЕТИНГТОН, ТАК?
- Точно, Колумб. Я хотел попросить определить, одно место.
ТЫ ВСЕ ЕЩЕ РАЗГОВАРИВАЕШЬ СО МНОЙ?
- Естественно. Вы же - Король кэбов.
ТЫ НЕ СЛУШАЕШЬ ГАМБО ЙО-ЙО?
- Сроду не настраивался на эту пиратскую дрянь.
ОН РАСПРОСТРАНЯЕТ ОБО МНЕ УЖАСНЫЕ СЛУХИ.
- Он просто врун. Колумб, детка, ты найдешь мне место? Земляничные поляны?
Там творится какая-то фигня, а я не могу вспомнить, куда поворачивать -
налево или направо.
НЕТ ТАКОЙ ДОРОГИ - ЗЕМЛЯНИЧНЫЕ ПОЛЯНЫ.
- Пса в душу, опять ложный вызов.
НЕ ОТРУБАЙСЯ, ПИСИ БРЕТИНГТОН. ЕСТЬ КОЕ-ЧТО. СЕЙЧАС, ПОДКЛЮЧУСЬ К КАРТЕ...
НАШЕЛ. ЗЕМЛЯНИЧНЫЕ ПОЛЯНЫ - НОВАЯ ДОРОГА.
- Насколько новая?
ЕЙ ДЕВЯТЬ ЛЕТ.
- Девять лет. Не сказать, что совсем новая.
НЕ НОВАЯ? СТРАННО.
В голосе Колумба слышна еще уловимая дрожь сомнения.
- Там есть Ботодом, на Земляничных полянах?
СЕЙЧАС ПОДКЛЮЧУСЬ... НЕТ, НЕТУ. НЕТ ТАКОГО ДОМА.
- А что вообще там есть?
СЕЙЧАС ПОДКЛЮЧУСЬ... НА ЗЕМЛЯНИЧНЫХ ПОЛЯНАХ НЕТ ПОСТРОЕК.
- Есть что-нибудь по Ботодому?
СЕЙЧАС... ДА, НАШЕЛ БОТОДОМ, ЗАРЕГИСТРИРОВАН В АРДВИКСКОЙ ИНДУСТРИАЛЬНОЙ
ЗОНЕ... НИЧЕГО ОБЩЕГО С ЗЕМЛЯНИЧНЫМИ ПОЛЯНАМИ, ЖИТЕЛЕЙ НЕТ. В ЧЕМ ПРИКОЛ,
ПИСИ БРЕНИНГТОН?
- Похоже, у меня тухлый след, Колумб. Небось, какой-нибудь виртер.
Томми закончил сеанс связи и пошел обратно к моей машине.
- Поехали, Джонс. Ардвикская зона.
- Думаешь, это было умно, Том?
- Думаю, у нас фора в несколько минут.
Я бросила "Пылающую комету" вперед.
Белинда плавает в подземной воде; ее обнаженная плоть полностью покрыта
вытатуированными улицами. Только на лице у нее нет карты. Она только что
закончила обривать налысо голову и лобок, на бортике бассейна лежат тюбик
бритвенного ваза и "жиллетт" для женщин. Рядом с ними стоит стакан, который Белинда
взяла на кухне Гамбо, еще недавно наполненный "апельсиновым елеем", а теперь
пустой. И ее рюкзак, внутри которого отдыхает бутылка "бумера",
позаимствованная у Кантри Джо. Белинда - словно плавучая карта на волнах отчаяния. Этой
ночью Ванита-Ванита отвезла ее в Волшебном Автобусе на Элдерли-эдж. Там
Белинда подобрала Тошку, слегка помятого и поцарапанного после приключений в
Черном Меркурии. После того как они пересекли границу, Белинда напряглась и
застыла за рулем, но загруженная Гамбо Кривая дорожка сработала отлично: Бе-
линду в упор не замечали сотни икс-кэбов, мимо которых она проезжала. Они
вообще не регистрировали ее присутствие. Она стала тайным драйвером. Гамбо
злился на нее за то, что она стреляла в Колумба, он сказал, что эти пули им
еще дорого обойдутся. Но в то же время его немало впечатлил рассказ Белинды
про рай в Вирте.
- Наука открыла Эдем! - вопил он.
Белинде надо было вести передачу в 7:00. Она не могла сопротивляться. Не
Гамбо загнал ее в угол, она сама себя загнала. Она устала. Устала удивляться
и путешествовать, устала от дорог, уходящих в никуда. Она нашла убийцу
Койота , но ничего не смогла сделать. Гамбо облазил все возможные волны в городе,
пытаясь найти след девочки по имени Персефона, и не нашел ничего. Перед Вир-
том оказались бессильны даже пули. Каким образом молодая никудышная дронт
может бороться со снами? Ей пришла в голову мысль, что она плывет по краю.
Прочь от края, низвергнуться в сон, от которого нет пробуждения!
Крекер едет к тайному дому хиппи Гамбо. Персефона нашла этот дом на
цветочной карте, показала на зеленых улицах. Теперь он обрел цель, Персефона
назвала жертву - Белинда Джонс. Девушку необходимо искоренить. Он провалил первую
попытку, но теперь ему дан приказ яркими цветами. Девушка, которую он должен
убить.
Пальцы его правой руки конвульсивно играют с застежкой кобуры в кармане,
левая рука лежит на руле.
5:30 утра. Где-то на Гайд-роуд.
Крекер поворачивает направо - на грязную, заросшую дорогу к ардвикской про-
мзоне. Он паркуется в месте под названием Уигли-стрит. Перед ним под красным
утренним солнцем раскинулась заброшенная ржавая паутина железнодорожных
веток. За рельсами сгрудились дома ардвикской зоны. Воздух одиночества овевает
разрушенные заводы и призрачные склады. Ботинки Крекера стучат по тротуару.
Один цветок из его награды приколот к лацкану. Он сорвал этот цветок с кожи
Персефоны и теперь воображает, что это ее запах ведет его вперед - Персефона
в цветке; она подсказывает, куда идти. В кармане - пистолет, разум Крекера
разрывается на куски от воображаемых пуль. На пути встает громада Ботодома:
все двери и окна покрыты цветами невероятной красоты. Внутрь здания нет
прохода, каждая дверь намертво запечатана. Крекер слышит какой-то шум за углом
переулка. Идет вдоль здания к внутреннему двору. Здесь на открытом
пространстве собралась стая псов-бродяг хищного вида. У Крекера появляется отчетливое
ощущение, что копам тут не рады. Работа превращается в кошмар. Потом он
чувствует, как Персефона в глубине его души куда-то его тянет - часть шефа
полиции всегда открыта для ласк лепестковой девочки. Цветок на его лацкане
истекает влагой, увлекая его вперед. Этим способом Персефона приводит его к
наглухо закрытой двери в переулке.
Здесь Крекер ждет.
Вокруг Колумба разворачивается город, расходится лучами из центра его
сознания. Это Улей Манчестера. Последние несколько часов у Колумба были
проблемы. Во-первых, в его сердце застряла пуля из Реала, выпущенная Белиндой. Это
неприятно, не больше, но сейчас ему совсем ни к чему отвлекаться. Все, что
ослабляет его, - ослабляет карту. К тому же из-за этого ублюдка Гамбо против
него, похоже, ополчился весь город. Естественно, иксеры остались верны до
последнего , просто люди больше не хотят на них ездить. Ну, это изменится, когда
новая карта будет готова; никуда не денутся, придется ездить, и Колумб
получит немало денег. Сканируя карту, он видит шефа полиции Крекера, как тот едет
по Ардвику; коп-волна Крекера переведена в стелс-режим. Что там задумал этот
дурачок? По идее, он должен обеспечивать безопасность Персефоны. Должен
вернуть назад такси-беглянку. Колумб не может действовать, пока этой машины нет.
Еще он видит вирткопа по имени Томми Голубь. С ним теневой коп Джонс,
женщина, которая вчера влезла в его дела. Что там с этим Крекером, он что, не
может держать игроков под контролем? Ему отказала его природная дальновидность?
Джонс и Голубь едут в одной машине, и тоже в Ардвик. Что там такое? Колумб
рассчитывает совместные траектории Крекера и Голубя и получает точку их
пересечения: Ботодом. Этот коп, как там его звали, ПиСи Бретингтон, несколько
минут назад тоже спрашивал про Ботодом. И еще эта новая дорога, Земляничные по-
ляны. Зачем Совет ввел в систему новую дорогу девять лет назад, а потом так
ее и оставил? Ни домов, ни построек, вообще ничего. Из-за этих раздумий
Колумб просматривает Земляничные поляны в увеличении. Нет ничего: улица
пустынна. Колумб вызывает власти, соединяется с неким Дэвидом Гледдерсом из Отдела
градостроительства. Гледдерс не сразу признает Колумба, жалуется, что слышал
о нем кучу гадостей. Колумб посылает по перу в ратушу выжигающую волну.
- Черт! Ты что творишь? - кричит Гледдерс. - Больно же.
ДАЛЬШЕ БУДЕТ ТОЛЬКО ХУЖЕ, ДОРОГУША.
- Что тебе надо?
Колумб просит Дэвида проверить новую улицу под названием Земляничные
поляны , заложенную девять лет назад.
- В смысле, как в "Битлз4"? Уважаю "Битлов" !
КОНЧАЙ ПИЗДЕТЬ НЕ ПО ТЕМЕ, ВОЛОСАТИК!
Дэвид возвращается с отрицательным ответом: такой улицы в списках нет.
Колумб благодарит его и снова увеличивает Земляничные поляны. На краях карты
что-то зудит, Колумб никак не может разобрать, вызывает все улицы,
построенные после Полян, обнаруживает, что все они уже забиты жильем и бизнесом.
Единственная пустая - Кривая дорожка, заявленная только вчера. Он снова
переходит на Поляны и делает суперувеличение; это съедает память у системы икс-
кэбов, но драйверам придется смириться. Земляничные поляны еще больше
приближаются к Улье-разуму. Колумб сейчас живет внутри всех чисел, составляющих
улицу. На него падает холодная тень, рожденная на гранях формулы. В сознании
он может пройти по всей пустынной улице, но на некоторых числах чувствуется
легкий шум. Колумб делает еще одно увеличение, вытягивая больше ресурсов икс-
кэбберской системы, и находит на карте крошечную зону тьмы. Еще увеличение -
но узелок никак не сдается; похоже, вокруг этой темноты стоит кондомный
барьер. Колумб не может прорваться к знанию. Это огромный удар по его самолюбию -
до этого момента он думал, что владеет всей картой. Снова пытается прорвать
барьер. Ничего. Пустота. Тьма. И тут иксеры начинают требовать больше
ресурсов . Свич велит им спокойно подождать, пока он решит проблему. Снова
увеличивает Поляны. Выбирает ближайшую свободную машину, записанную как "Золотая
лань", и посылает ее за мнимым пассажиром на Земляничные поляны. За
пятнадцать секунд такси добирается туда и сообщает:
- Тут никого нет, Свич. Вокруг одни поля. Нет никакой дороги. Куда ты меня
послал?
Колумб просит драйвера постоять на месте, пока он снова увеличит карту.
Земляничные поляны зарегистрированы на карте как ответвление Вересковой
дороги в Рамсботтоме, в забытой богом деревушке на северной границе. Колумб дает
драйверу точные координаты Земляничных полян и просит проехаться по всей
улице.
- Здесь только трава, говорю тебе, - отвечает драйвер. - Ты хочешь, чтобы я
ехал по траве?
ДАВАЙ, БЕЗ РАЗГОВОРОВ, - отвечает Колумб и потом наблюдает на карте, как
икс-кэб медленно прокладывает путь по несуществующей улице Земляничные
поляны. Машина доезжает до того места, где числа начинают шуметь, и исчезает.
Колумб паникует, вызывает драйвера на волне, в ответ - тишина. Колумб еще не
решил, что делать, и тут машина появляется снова, на другой стороне шума. В
системе звенит голос драйвера:
- Господи, Свич! Что это было? Все отказало! Я вызывал тебя, а ты не отве-
4 Strawberry Fields Forever (англ. "Земляничные поляны навсегда")- критиками песня
была признана одной из лучших записей группы. Это одна из самых характерных в жанре
психоделического рока работ, на неё было сделано несколько кавер-версий. Strawberry
Fields - сиротский приют, неподалеку от которого в детстве жил Джон Леннон.
чал. Вся блядская карта не отвечала!
Колумб приказывает драйверу успокоиться и снова вернуться в эту темноту.
Драйвер начинает возмущаться, но Свич напоминает ему иксерский кодекс
верности : отправляться в путь, куда бы ни вела карта.
И В ЭТОТ РАЗ, - говорит Колумб, - СТРЕЛЯЙ ИЗ ВСЕХ ПУШЕК.
- Что?
ДАВАЙ, БЕЗ РАЗГОВОРОВ.
Такси возвращается в темную область карты, и Колумбу приходится подождать
несколько нервных секунд: наконец, из темного узелка начинает вырываться
пламя . Свич рассчитывает траекторию всех зарядов: каждый из них слегка
отклоняется от расчетного пути. Колумб движется сквозь формулу, возвращая расчетную
траекторию к фактической. Числа начинают крошиться. ЕСТЬ! Колумб запрашивает
имя икс-кэба в этой зоне, получая в ответ "В030Л0ЛТАШЕЯБНЫЙ АВТОЛБУСАНЬ".
Накладывает фильтр, вычитает слова "Золотая лань", в остатке - Волшебный
Автобус. КЭБ-БОЖЕ! Это имя машины Гамбо Йо-Йо, которая, как считается, летает по
воздуху. И Волшебный Автобус питается знанием Свича, теперь он это чувствует.
Волны системы-Улья просачиваются в форму нарушителя. Колумб выделяет пустую
улицу и нажимает кнопку "удалить" в своей голове. К его восхищению, улица не
исчезает, а съезжает по карте к ардвикскои промзоне. Там улица оседает около
весьма популярного в последнее время Ботодома, а потом пропадает. Волшебный
Автобус стоит около Ботодома, того самого, о котором недавно спрашивали копы.
ЗДЕСЬ-ТО И ЖИВЕТ ГАМБО ЙО-ЙО.
Потом Свич движется по карте, пока не находит Кривую дорожку, последнее
добавление к сети. Находит там еще один темный узелок. Вызывает Дэвида из
ратуши, получает "не было такой загрузки" и начинает искать пути внутрь этого
незаконного кондома. На этот раз ему хватает пяти секунд, чтобы получить имя
"Фаэтон". Он проделывает то же самое "выделить - удалить", как и с Полянами,
и смотрит, как Кривая дорожка движется через карту и оседает позади Ботодома.
Фаэтон припаркован около Волшебного Автобуса.
ПОПАЛАСЬ, МАШИНА-БЕГЛЯНКА!
Схема завершена.
6:19 утра.
Содержание пыльцы достигает 2000.
Колумб вызывает кнопку с надписью "ЦВЕТОЧНАЯ КАРТА БЕРЛИКОРНА" в своем
Улье-разуме, и нажимает ее.
Активация...
По всей улице, где мы ехали, люди наполняли носы пыльцой и разбрызгивали
вокруг послания наслаждения. Я видела целующихся любовников. Последнее время
люди не целовались, боялись худшего; нежно потереться друг о друга
респираторами - на большее мало кто отваживался. Теперь молодежь снова делила дыхание,
вопреки всему отпустив на волю страсть. Я повернула на Эштон Олд-роуд, справа
от нас, проплыли омерзительные дворцы гибнущей промышленности. Люди танцевали
на крышах заброшенных домов, посреди растущих там цветов. Ликующее чихание.
Лучи раннего утреннего солнца прочертили радугу в облаке приветственных
соплей. . .
Ааааааа...
Аааааааааааааааа...
Ааааааааааааааааааааааааааа...
Воздух сжался в тугое мгновение ожидания. Влажное и скользкое было оно, это
мгновение, и солнце, казалось, по краям поросло шерстью, слипшейся в иглы.
Словно огромный шар золотой пыльцы, висело оно там, над горизонтом.
Затишье перед...
И когда мы с Томми Голубем ехали по Олд-роуд в Ардвик, на тайную квартиру к
Гамбо, я услышала звук миллионов вздохов. И взрыв. Взрыв слизи.
Шторм...
На часах в машине было 6:19 утра. Содержание пыльцы - 1999. Щелчок, цифры
меняются - и неожиданный, жестокий взрыв. Солнце содрогнулось; "Комета"
накренилась .
- Ничего себе... - послышался голос Тома.
Чихобомба.
Аааааааааааааааааааааапппппччччччччххххххххххиииииииииииииии!!!!!!
Пять, и десять, и пятьдесят раз.
Койот слышит мощное чихание. Он лежит в двух метрах под землей, но звук
долетает даже туда, пробуждая Койота от черно-зеленого покоя. Слизь тяжелым
дождем обрушивается на его могилу и памятник. Приглушенный взрыв заставляет
дрожать корни и червей вокруг него. Койот - сам корень. Похоже, снова пришло
нужное время года, сезон плодов. Он начинает расти. Чих пробуждает его
потоки. Он собирает свой мозг из ганглиев твердых корней, переплетенных в тугой
комок: корни связаны в единую систему и передают информацию через сок.
Но его заставляет расти не только чихание. Кто-то еще побуждает его
проснуться. Чье-то скрытое присутствие.
Он не знает, кто он, что он, где он и даже зачем он. Только то, что он
хочет выбраться из этой деревянной коробки.
Это несложно.
Он соединяет свои клетки с клетками гроба, принуждая доски раскрыться,
подобно цветку. Он и есть цветок. Он должен вырваться на воздух, к солнечному
свету. Ему необходим рост.
Стебель Койота проталкивается через почву и вырывается на поверхность. Его
встречают только пробивающееся сквозь туман солнце и брызги соплей из города.
Сойдет. Койот глубоко впивается в землю, ощущая, как его пятнистые лепестки
разворачиваются на свету. Койот испытывает самое странное желание в своей
жизни: он хочет пчелу. Кого-нибудь, кто соберет пыльцу с его шерсти, с его
лепестков. Лепестки? Шерсть? Он сам не знает, что он такое. Лепестки и
шерсть. Сойдет.
Все больше и больше его стеблей выбирается из грунта. Они объединяются в
зеленые ноги. От стеблей ветвятся цветы, черные и белые лепестки, сцепившиеся
в форме прежнего тела Койота. Где-то в дебрях его растительного сознания
сохранилась модель; из лепестков собирается идеальная копия того, чем Койот был
раньше. Его тело - комбинация флоры и фауны, цветы и плоть пса. И человек.
Глубоко в этом букете спрятан тонкий след человеческой сущности. Он
концентрирует все внимание на этой частичке. Это то, чем он должен стать.
Цветы волочатся за ним. Танцуют... танцуют. Он смутно вспоминает язык
пассажирки, свою последнюю поездку. Как она забрала его вниз, в мир зелени.
Теперь он снова свободен, но все еще чувствует в своем сознании ее пальцы. Он
слеплен из того же теста, что и она. Она хочет его себе.
Нет, не себе. Кому-то, очень похожему на нее.
Койот борется против цветка. Понимает, что не может одержать победу.
Он даже не знает, что делает и почему он это делает. И даже как он это
делает . Только то, что он должен это сделать. Он - пес, растение, человек. Он
все, что когда-либо знал, и он - карта того, чем должен стать.
Сила корня берет над ним верх. Койот погружается глубоко в себя и
возвращается со словами "Малыш сэр Джон".
"Кто это, бля?"
"Спаси мою жену".
Эти слова приходят из самого глубинного корня.
"Пошел на хуй".
Койот срывает сам себя; черно-белый пятнистый растительный пес шагает по
кривым кладбищенским дорожкам. Теперь он видит, где он: начинает
функционировать его карта. Южное кладбище. Он растет, и карта меняется. Это нормально,
он может меняться вместе с ней. Он поворачивает цветущую голову налево,
выискивая на новой карте место, куда надо ехать. Центр Манчестера. Почему так?
"Вода".
Ветер приносит лепестки с этим именем. Вода? Кто это был? Его последняя...
последняя что? Последняя пчела? Последняя пушистая сука? Последняя
пассажирка? Последняя девушка? Он выйдет на меченую мочой тропу. Ему нужен солнечный
свет - это его мясо и его заказ. В нем есть знание того, что он страшен,
первый из нового рода. Новый способ существования. Пока сойдет и просто дорога.
Форма роста.
Далматинские лепестки.
Заказ Воды - его солнечный свет.
БЕЛИНДА, МЕНЯ ЗАСАСЫВАЕТ НАЗАД.
Эти слова по Тени доходят до Белинды, когда она плавает в мраморном
бассейне.
Слова Тошки.
БЕЛИНДА, МЕНЯ ЗАСАСЫВАЕТ НАЗАД. КОЛУМБ ДОБРАЛСЯ ДО МЕНЯ. БЕЛИНДА, Я ТЕБЯ
ЛЮБЛЮ.
Это последние слова Тошки.
Как раз в это время взрывается Чихобомба. 6:19. Цветок, который она
притащила из Вирта, качается на воде между ее ног1. Вдруг на воде появляются волны,
накатывают и отражаются от ее бедер и откатываются назад, смешиваясь с теми,
что идут следом. Белинда с интересом смотрит на образовавшийся хаотичный
узор, думает, что это совсем как запись землетрясения, которую она видела по
телевизору. Но это Манчестер, не ТокиоКо и не ФранцисКо. Она нервно
оглядывается , но в остальном подземный дворец мертвенно спокоен. Тут она слышит звук
взрыва, отдаленный залп мягких ядер. Сопли попадают в подвальное окно.
Тыц! Тыц! Тыц!
Удары...
Шлеп... шлеп... шлеп...
Заряды смачно бьют в стекло, и Белинда от страха запускает собственные
волны по воде, дернувшись от шума. Она смотрит на окно, пытается понять, отчего
шум, но тут прилетает очередная порция соплей, и ей становится страшно. С
потолка сыплется штукатурка. Надо срочно выбираться из бассейна. Окно
покрывается слизью; бассейн погружается в пушистую тьму. С улицы раздаются
приглушенные крики. В темноте Белинда ужасно одиноко. Что пошло не так?
Белинда с головой уходит в воду. Закрывает глаза, медленно плывет, пока ее
разум не начинает тонуть. Так здорово погружаться в водянистый сон. Краденая
орхидея тычется ей в бедра, и это словно нежный лепестковый поцелуй.
Цветок следит за тобой, Белинда.
Текущие мысли...
Надломленное сердце...
"И слезу задушив, завтра утром, Джо, я продолжу жить..."
Эхо ее милого голоса заполняет мраморное пространство. Это песня животных,
и травы, и цветов, и воздуха. Утро разорвано воем сирен. Аварийные действия.
Город умирает. Стоит ли что-нибудь спасать? Она все равно не может вернуть
Койота. Не может даже отомстить за его смерть.
Еще одна капля в чаше...
Что хорошего может быть в ее жизни без него?
Белинда, ты даже толком не узнала его...
Она не слушает.
Капает яд. Она вспоминает; похоже, думает Белинда, что когда она прошла
сквозь Волшебную Стену, этот шах1 был признанием ее мертвой части...
Вспоминает...
Сцена на кухне. Дотаксишная. Белинда слушает с верха лестницы...
Отец и мать сидят за столом и спорят. Отец называет мать плохим словом -
зомби, сукой из ада. Проклинает за то, что та приносит в мир только трупы.
Мать называет его мясом, простым мясом, чистым мясом.
"Все, чего вам, чистым мальчикам, надо - еще больше чистоты. Терпеть не
можете бардака". Слова ее матери.
"Эта девка - смерть". Слова отца. Эта девка, в смысле она... Белинда. Это
Белинда - смерть. Для нее это слишком. Она спускается по лестнице. Бьет отца
прямо в лицо. Как в замедленной съемке отец падает без сознания на кафельный
пол.
Вспышка гнева. День, когда она начала уходить. Уходить от семьи. Время
исчезать, бежать, пройти все грани жизни. На девять лет "Икс-кэб" стал ее
семьей . Теперь и это ушло. Больше для нее нигде нет места.
Капает яд...
Может быть, пора. Пропасть зовет. Потому что, в конце концов, разве Тень -
это не след смерти на жизни? Может, пришло время завершить эту схему.
Белинда смотрит на рюкзак, лежащий на бортике бассейна, и отводит глаза.
Снова смотрит. Наконец, тянется, расстегивает застежку. Открывает рюкзак.
Распутывает тьму. Достает бутылку, подарок, украденный у Кантри Джо.
"Бумер".
Белинда, дочь моя...
Ты открываешь бутылку. Наливаешь немножко в грязный стакан и снова
закрываешь бутылку пробкой, кладешь ее обратно в рюкзак. Одна доза - для оттяга, две
дозы - для сорванной крыши. Три - для чистой и сексуальной смерти. Открываешь
рюкзак, отвинчиваешь пробку, наливаешь третью дозу. А потом держишь бутылку
над стаканом, пока та не опустела. Должно хватить.
Еще одна капля в чаше, наполнявшейся всю жизнь.
Чистая и сексуальная смерть.
Это твое желание?
Как же прекрасно твое тело, дочь моя! Бледная белая кожа, покрытая
путаницей карты Манчестера. Все улицы и все названия вписаны в изгибы твоего тела.
Ты соскальзываешь в воду еще глубже. Несколько минут нежишься в теплом
бассейне , а потом берешь стакан.
- Похоже, я иду к тебе, Койот.
Ты говоришь это вслух теням и клочкам тумана, встающим над водой.
А потом ты подносишь стакан к губам, Белинда. Пьешь...
Время на панели было 6:19 утра. Содержание пыльцы - 1999. Щелчок, цифры
меняются - и неожиданный, жестокий взрыв. Солнце содрогнулось. "Комета"
накренилась .
- Что за черт... - Голос Тома.
Чихобомба.
Аааааааааааааааааааааапппппччччччччххххххххххиииииииииииииии!!!!!!
Пять, и десять, и пятьдесят раз.
Царство соплей взрывается и обретает собственную жизнь. Носовая Хиросима.
Каждый житель города дает залп из ноздрей. Без респиратора и без жалости.
Сопли падают дождем на стекла. Эштон Олд-роуд. Взрыв толкает машину вперед,
добавляя километры на спидометре, и вот я уже превышаю скорость.
Тыц! Тыц! Тыц!
"Пылающая комета" покрыта зеленой дрянью. Я не вижу ничего впереди.
- Где мы, бля? - кричу я.
- Приплыли, - говорит Томми Голубь.
- Что это?
- Новая карта.
- Но мы уже почти на месте. Мы почти добрались до Ардвика.
- Не думаю, что мы сможем...
Я резко бросила машину вправо. И остановилась в Намчестере, у Первой
крепости.
- Чего?
- Бля.
- Что мы тут делаем?
- Приплыли, Сивилла. Прорывается новая карта.
Перед нами две машины смешались в кучу металла и мяса. Люди кричали и
вываливались из дверей.
- Я слышу, как смеется Колумб, - говорит Томми, и я поворачиваю "Комету" от
свалки.
Прошла секунда.
И мы вернулись к моему дому на Виктория-парк.
Я изумленно кручу руль, отчаявшись найти дорогу в Ардвик.
Секунда...
И мы на Уоллей-рендж, около дома моей дочери. Там еще груда машин,
влетевших друг в друга. Дорожные копы бегут помогать пассажирам.
- Плохо дело, Том, - сказала я. - Мы никуда не доедем.
- Нет. Дорога есть, - ответил он. - Должна быть дорога. Мы сейчас в вирто-
вой карте. Вот и все. Езжай дальше.
- Мне это не нравится.
- Просто поезжай.
И вот мы уже в Боттлтауне - и стекло трещит под колесами, пуская радугу
осколков. Я остановила машину. Я слышала, как во весь голос кричат люди из
блестящих домов.
- Так мы никуда не приедем, Том.
- Мы во сне, вот и все. Мы в мифе.
- Что это за миф?
- Забудь про расстояния и направления. Мы должны найти нить повествования.
- Эта дело не по мне.
- По тебе. Просто используй свою Тень.
- Моя Тень чувствует себя крысой в лабиринте.
- Это миф про Джона Берликорна, Сивилла. Разве ты не видишь? Чего Берликорн
хочет меньше всего?
- Том, ты несешь какую-то чушь.
- Чего он боится больше всего на свете? Подумай. Он человек, который живет
только в мифе.
- Иммунных...
- Дронтов. Они - единственные, кого он не может заразить. Единственные, кто
не может вжиться. Дронты - его самый большой страх. Вот почему он встроил в
аллергические реакции желание убивать дронтов. В этом мифе, написанном под
нас, он меньше всего хочет, чтобы дронты объединились. Он действительно
пытается не дать тебе встретиться с твоей дочерью.
- Что значит...
- Есть что-то такое в вашей встрече... Ты и твоя дочь... не знаю...
Берликорн увидел в вас потенциальную угрозу. Сивилла, думаю, мы его раскусили.
- Но что мы можем, Томми? Он контролирует миф. Мы сквозь него не проедем.
Сквозь заляпанное соплями лобовое стекло я вижу одинокую машину, влетевшую
в стену. Водитель бредет прочь, держась за голову.
- Вирт-Христос! - Том шлепнул рукой по панели.
- Что там? - спросила я.
- Боже, ну я и дурак! Берликорн не может дотянуться до тебя, Сивилла. Он
действует через меня.
И с этими словами Томми Голубь открывает дверь "Кометы" и вылезает.
- Том? Ты куда пошел?
- Дальше ты одна, Сивилла.
- Том?
- Просто езжай.
Я посмотрела, как он пошел помогать раненой женщине, а потом выключила
разум, отпустив на волю Тень. В моей дымке тут же протянулся мерцающий лучик
света. Словно дымка была вечнотекучей картой, а свет был моей любовью. Надо
всегда идти за огнем. И я увидела, увидела всех дронтов Манчестера,
включающихся в какой-то тайный план. Время принимать бой. Даже моя дочь... наконец
пора играть роль...
Я бросила "Комету" вперед и повернула на третьем повороте направо.
Прошла секунда...
И я приехала в ардвикскую промзону.
Крекер воспринимает носовой взрыв как приветствие. Демон соплей заполняет
переулок, и здания трясутся от вибрации. Он слышит крики и снаружи, и
изнутри. Персефона показала ему настоящую, верную дорогу. Она предупреждала его о
взрыве. 6:19 утра. Новая карта. Содержание пыльцы - 2000. Цветочный маршрут
был жарким и мучительным, но ему вновь придется пройти по этому пути,
припадая к лепесткам девочки всякий раз, когда она позволит. Персефона была так
ласкова с ним, так соблазнительна для мужчины, в чьих жилах течет больше
Плодородия 10, чем крови, разве он может противостоять ее наслаждениям?
Лепестки к лепесткам, открываются и закрываются - его долгая дорога к
успеху.
Он выходит посмотреть на неразбериху перед домом Гамбо. Лагерь в руинах:
псомужики и сукобабы разных пород носятся, как угорелые, некоторые пытаются
помогать раненым на земле, другие просто ищут укрытие. По удушающей жаре
летают крики и мат. Черная женщина с прической афро нагнулась над одной из
жертв. Мужчина с длинными всклокоченными волосами и в блестящих штанах идет
сквозь хаос, размахивая руками и изрыгая безумные взрывы смеха. Крекеру
кажется, что это должен быть сам старый добрый хиппи Гамбо, мозги у которого
прочистились из-за провала.
Крекер отступает назад, слушаясь цветка Персефоны.
Боковая дверь разорвана на части взрывом соплей. Крекер раздвигает остатки
и, легко ступая, входит в огромную подземную комнату, наполненную тенями и
водным пространством, ограниченным мраморными стенами.
Молодая девушка плавает в воде, сорванный цветок прелестной окраски
колышется между ее ног. Сама Персефона плавает между ног Белинды, вот как она
привела его так далеко, так близко.
Белинда...
Цель дня. Хорошая цель. На этот раз он сделает все правильно.
Крекер ступает в тени...
Белинда, у губ твоих - стакан яда. Половину ты уже проглотила. Крыша едет,
мощно и красиво. Приход зовет тебя завершить начатое, испить трип до конца.
Смерть терпелива. Что ей несколько лишних секунд твоих размышлений? Стакан
вновь возле рта. На язык падают первые капли. Очень возбуждающе.
Огонь возбуждения.
Шум из дальнего конца бассейна...
Бля!
Белинда прислушивается, мечтает, чтобы посетители убрались, кто бы они ни
были. Это Гамбо или Ванита? Они что, не видят, что девушка пытается покончить
с собой? Думают, это так просто?
- Кто там? - кричит Белинда.
- Полиция, - отвечает голос. - Без глупостей.
Белинда ждет пять секунд. А потом...
- Что вам нужно? - вглядывается она в тени, среди которых дрожит тонкая,
высохшая фигура ...
- Не волнуйся, Белинда. Мы знаем, кто убил твоего дружка-пса. Мы знаем, что
это не ты. Семь секунд. Голос кажется знакомым.
- Я тоже выяснила, кто убил его, - говорит Белинда. - Персефона, при помощи
Колумба.
- Ты очень умная девочка, - отвечает голос. - Хорошо, что мне придется
убить тебя.
Наши разные жизни сближаются. Моя дочь плавает в бассейне, обнаженная и
отрешенная от карты. Крекер, шеф полиции, идет на свет, потея, как мокрая рана.
Он садится на край бассейна, опускает ботинки в воду. Цветок Персефоны бьется
лепестками о бедра Белинды. Полупустой стакан пбумерап снова стоит на бортике
бассейна. В кармане Крекера затаился пистолет. Все части на своих местах. На
сцене появляюсь я. И Колумб - он раскрывает свою новую карту. Этот подземный
плавательный зал, этот мерцающий зал, моя дочь в центре, такая притягательная
в тенях и мраморе. Кольцо странных желаний вокруг нее стягивается, как
отдаленные улицы, которые сходятся друг с другом, стоит сложить карту.
Над миром все еще висит зеленая грозовая туча слизи. Внутри - только
заикание призраков из заляпанного соплями окна, единственного источника света.
- Снова ты, - говорит моя дочь. - Тебя зовут пассажир Девиль.
- Уже нет, уже нет, - улыбается Крекер. - Просто маскировка. Меня зовут
Крекер, шеф полиции.
Его цель кажется такой нежной - мерцающая под водой карта; от ее вида
"Казакова" тяжестью обрушивается в чресла. Крекер не может отвести взгляд от
цветка, плавающего между бедер девушки, того, что привел его сюда. Он ревнует
цветок, ищущий наслаждения на стороне, и чувствует, как взгляд Персефоны с
узоров лишайника на древних мраморных стенах царапает его кожу. Все, что надо
сделать, чтобы удовлетворить любовницу, - вогнать пулю в цель. Но он боится
смерти - и собственной, и чужой. Естественно, он убивал преступников, ничтоже
сумняшеся забирал их жизни, но вот так, невинного, такого же страдальца? Он -
и сотворить такое?
- Зачем ты пришел? - спрашивает Белинда.
- Мне надо убить тебя. Белинда смотрит на него в упор.
- Я тоже этого хочу, - говорит она.
- Что?
- Все просто. Я хочу, чтобы ты убил меня.
- Но почему?
С него градом льет пот.
- Потому что это правильно.
Разум Белинды сейчас чист и холоден.
Крекер ошарашено делает шаг назад. Его здорово проняло. Простой человек,
простые мысли. Он тащит из кармана пистолет, запутывается в ткани, и ему
приходится тянуться второй рукой, чтобы освободить его. Потом никак не может
высвободить курок.
- Извини. . . прости меня. . . - бубнит он. - Извини. . . Никак не могу. . . Вот!
Пошло!
Наконец пистолет поднят. Из-за собственной неуклюжести Крекер чувствует
себя почти нормально. Эта нормальность придает ему смелости. Он больше не пыта-
ется самоутвердиться. Может, в этот раз он сумеет удовлетворить Персефону. Он
вытягивает руку с пистолетом вперед, так далеко, как только может. Барабан
дрожит, ловит крохотные вспышки света из залепленного окна.
Белинда улыбается.
- Ну что, ты готов? - спрашивает она.
- Я... я попытаюсь.
- Тогда вперед. Сделай все как следует.
"Будь мужчиной. Будь же, наконец, мужчиной", - вот что говорит ему девушка.
Несмотря на Плодородие, пульсирующее в его крови, будь же, наконец, мужчиной!
Пистолет пляшет в руке. Левой рукой он берется за правую, чтобы успокоить
дрожание и прицелиться. Все равно дрожит.
- Ты смеешься надо мной, - говорит Крекер.
- Нет. Я пытаюсь тебе помочь. Мы ведь хотим одного и того же?
Белинда берет с края бассейна стакан с "бумером". Держит его перед лицом.
- Это "бумер". Знаешь, что это? Крекер кивает.
- Ты его пробовал?
Крекер пробовал, но она все равно говорит ему:
- Одна - для оттяга, две - сносят крышу, третья - жди чистой, сексуальной
смерти.
- Ты хочешь убить себя?
- Если ты мне не поможешь.
- Прошу...
- В этом стакане больше пяти доз, и две я уже выпила. И чувствую себя
сейчас очень хорошо, очень сексуально. Ты меня не хочешь?
Пистолет движется сквозь тьму, пытаясь нацелиться на нее. Крекер не может
поймать цель. Он боится девушку.
- Прошу... Я... - говорит он. Трясет пистолетом. - Думаю, тебе не стоит...
Белинда опускает язык в стакан. На крошечную долю секунды позволяет "буме-
ру" обжечь свои нервные окончания.
- Не. . .
Белинда наклоняет стакан, пока край пленки "бумера" не доходит до губ.
- Этого ты хочешь?
- Нет! - рвется голос копа. Он встает у бортика бассейна. - Нет. . . да. . .
я... бля! Прошу... все не так! Я просто хотел... не надо никому умирать.
Никому ... - Крекер слышит, как Персефона кричит у него в голове. - Пожалуйста,
- говорит он. - Не делай этого.
- Мы оба этого хотим.
Тень Белинды никогда не была такой текучей.
Крекер потеет. Чихает. Но цель укоренилась, у него появился мотив. Пистолет
лежит в его пальцах ровно и точно. Если бы он мог разорвать эту схему -
пальцы, рукоятка, курок, свежая кожа молодой девушки! Может, тогда он стал бы
свободен от всех проблем. Запах Персефоны кричит на него. Ее вонь заполняет
подвал. Все, что ему надо сделать, - нажать на спуск, завершить эту историю.
Белинда наклоняет край стакана. Крекер прыгает в воду, как небольшая бомба, и
прорывается сквозь тяжесть воды к Белинде.
- Прошу, Белинда... не убивай себя!
Я еду на своей "Комете" в эту запутанную историю. 6:22 утра. В новой карте
даже время стало текучим. Старые правила отменены. Карта забита нарушенными
дорогами. В тот день случилось двадцать пять аварий, порожденных новыми
переплетениями корней города. Но я освободилась от этой структуры: я вела по
Тени.
Между заводами бежит грязная дорога. По краям все спокойно и тихо,
Заброшено и отдано призракам, но чем ближе я к центру затерянного промышленного го-
рода, тем больше этот город похож на Вавилон. К "Комете" бежит кричащая
женщина: ее одежда разорвана, а лицо покрыто слизью. Я вывернула руль, чтобы
избежать столкновения, и женщина отскочила от левой стороны капота. На
несколько секунд упала на дорогу, но я не затормозила. Надо думать о дочери, теперь
она - моя единственная цель. Бедная женщина, пошатываясь, встает. Я продолжаю
свой путь, пока не въезжаю на открытое место между складами и хранилищами.
Здесь разбит лагерь бродячих псов: хаос из куч костей, железных скульптур и
вигвамоконур. Все вокруг покрыто блестящей глазурью носовых выделений, земля
покрыта телами, женщина, обладательница титанической афро, помогает жертвам
землетрясения. Должно быть, это Ванита-Ванита. Я остановила "Форд комету" и
подошла к Ваните, которая пыталась дать стакан с чем-то одному из раненых.
Собакомужик отказался, и тогда Ванита выпила сама и, нагнувшись, поцеловала
пса, передав лечебную микстуру изо рта в рот. Я вынула пистолет из кобуры, но
при виде этого акта милосердия он показался ненужной тяжестью в руке.
- Ванита-Ванита? - спросила я.
Она бросила на меня взгляд, полный покорности. Увидела пистолет и приняла
меня за ту, кем я и была: за ублюдочного копа, за то, против чего она
восставала всю жизнь. Я видела, как в ее глазах гаснет огонь бунта. Она посмотрела
на склад, около которого стояли икс-кэб и раскрашенный фургон под названием
Волшебный Автобус. Слово "Ботодом" над дверью частично затянули цветы, и
казалось, что там написано Бо д. . . Все здание было покрыто зеленой сетью
цветов . Эфирное перо взлетело с крыши, и я почувствовала Тень Белинды, борющейся
с соблазном.
Время стремилось к законченной системе, и утренний воздух был наполнен
желтой жарой, пыльцой и соплями.
Я вжала палец в интерком на двери. Металлический собачий голос ответил:
- Кто здесь?
- Полиция, - сказала я. - Открывай давай.
Главный вход раскрыл обе двери, как неторопливый любовник. Невольный вдох -
и я иду сквозь зону гостиной Ботодома. Меня тащит вперед злость, чувствующая
Тень Белинды внизу, под полом. Там не все в порядке. Портье оказался лысеющим
робопсом, затянутым в респиратор; он съежился за стойкой, вцепившись в копию
"Дайджеста обнаженных сук".
- Чего надо? - прорычал пес.
- Ключ от подвала, пожалуйста, - ответила я, сверкнув значком.
- Подвала нет.
Я ткнула пистолет в рожу пса:
- Может, тогда выроем его вместе, сявка?
Пес-портье высунул длинный розовый язык из пасти, пытаясь глотнуть свежего
воздуха. Оглянулся на дверь за лестницей. Левой лапой снял ключ со щитка за
его спиной.
- То, что просила, - прорычал он.
Стоило отвести пистолет, как он выбежал за дверь на всех четырех. Когда я
вставляла ключ в дверь под лестницей, я все еще чувствовала его зловонное
дыхание, принесенное пушистым ветром. Я шла на запах Белинды.
Снизу послышался голос, мягкий и потный:
- Кто там в дверях?
- Никого, - крикнула я. - Просто твой оживший кошмар.
- Да ну! А конкретнее?
- Теневой коп Сивилла Джонс.
- Черт!
- Ну что, ништяк?
- Бля!
Внизу возникла паника.
Я иду по темным ступеням, две за раз, три за раз.
Радиоволны...
Цвета в черном воздухе, как отправленные сообщения. Лихорадочные запахи
бьют в нос. Царапанье и дыхание. Отблески голубых огней передатчиков.
Радужные красные перья летят по волнам паники. Темные ароматы. Сладость. Сладость
и страх. Я растворялась в этих цветах. Провода и искры. Ритмы шестидесятых из
радио. Мой взгляд проникает во тьму - и хиппи Гамбо собственной персоной
встает с перьев.
- Ты арестован, Гамбо, - говорю я.
- Ну, надо же! - отвечает он. - Ты в одиночестве, коп-леди.
- Где Белинда?
- Бог ее знает.
Он шагает ко мне, и его длинные, грязные волосы мотаются со стороны на
сторону.
- Какая теперь разница? Ты что, не понимаешь, этот ебнутый мир уже
разрушен. Что вы, копы, теперь будете делать? Арестовывать сны? - Гамбо засмеялся.
- Реальности - пиздец.
- Сейчас мне плевать на мир. Мне нужна моя дочь.
- Я ее тебе не отдам.
- В чем дело, Гамбо? Если действительно все кончено, против чего ты сейчас
борешься?
- Я любовник, а не борец, а новому миру все равно понадобится говноиска-
тель.
- Я все еще коп, а ты все еще нарушаешь законы радиовещания.
- Я заберу тебя в статику.
У него в руках - электронный нож, подключенный к оборудованию. На лезвии
дрожит огонь. Я приставила пистолет к его голове, но пират даже не
шелохнулся . Через Тень меня звала Белинда, и я попыталась послать ответный сигнал.
Гамбо выбросил вперед руку.
Живот обожгло болью.
Я махнула пистолетом, мелькнув им мимо головы хиппи. В результате в ране
слегка повернулось лезвие; я чувствовала перьевые волны, вторгавшиеся в меня
из него. Ощущение, словно с тобой кто-то говорит, глубоко внутри. Как будто
меня наполняют перьевые голоса. Лезвие хаоса. Я выстрелила в сердце
оборудования Гамбо, и тогда боль уменьшилась. Гамбо побежал к своим схемам, вопя на
гаснущие лампы. Он начал щелкать переключателями, как безумный, а перья под
его прикосновениями становились кремовыми. Гамбо кричал на умирающих волнах,
рассказывая миру, что он еще борется, еще хочет рассказать все людям снов.
- Гамбо вызывает мир! У меня на хвосте копы! Не верьте их лжи. Мы еще можем
найти друг друга на карте. Старый добрый хиппи будет верить в вас...
Я защелкнула на Гамбо наручники и приковала его к стальной скобе в полу.
Потом я шла по подземным коридорам и зажимала рану в животе, преследуя Тень
моей дочери, а сияние воды отражалось от мраморных стен.
Я шла по лабиринту из камня, пока передо мной не появилась запертая дверь.
Почувствовала за ней Тень Белинды, пульсирующую болью, а потом Тень чужака -
блестяще-красную, расцвеченную злостью и страхом. Мужская дымка. И намерение:
грозная потребность убить. А потом имя этой Тени: Крекер. Я вытащила тюбик
дверного ваза, выдавила немного в замок, а потом сунула туда коп-ключ. Замок
чуть-чуть скользнул, механизм недовольно скрипнул. Еще немного ваза, этого
скользкого освободителя - и один точный удар. Дверь с треском открылась.
Ступени вниз. Кричу:
- Полиция! Без глупостей!
Тени любовной схватки. Мех. Крики. Прошу. . . Мат. Боже! Неожиданный укол в
Тени Крекера, когда он достиг кульминации. Мои ноги сами нашли дорогу.
Картина, в которую я спустилась: моя дочь делает хороший глоток вина, ее
обнаженное тело плавает в толще мерцающей воды, шеф полиции тюленем идет к
ней, держа пистолет в вытянутой руке. Тени танцуют от страха и наслаждения.
На секунду я погружаюсь в кайф моей дочери, и тут меня накрывает боль. Не
представляю, что делать, кроме как кричать: "Стоять!" Больше всего я похожа
на копов из мыльных опер. Очень действенно. Крекер медленно пробирается по
воде к Белинде. С его тощего тела льются тени. Пистолет собирается проделать
огромную дыру...
Я это сделала. Справилась с работой. Моей единственной коповской работой.
Выстрелила в шефа.
В последний момент, сбивая прицел, вмешались правила. Рука Крекера с
пистолетом на мгновение стала крылом, а потом, когда он погрузился в воду,
распалась , разбрызгивая кровь. Голова моей дочери исчезла под водой. Стакан
покачался на поверхности, черпнул воды и медленно отправился за ней. Я прыгнула в
бассейн, чтобы прижать тело Белинды к себе, вытащить наверх, ее тело,
покрытое картой...
- Белинда...
В ответ - тишина. Ее глаза светятся наслаждением, она сейчас далеко отсюда.
Крекер у бортика жалко повизгивает, гонит ногами волну, а рука окрашивает
воду красным.
Я резко поворачиваюсь к нему.
- Заткнись на хуй! - кричу я. - Ты арестован, Крекер!
Крекер панически закатывает глаза, его Тень скачет от огня. Он не может
прекратить дергаться, пускать по воде красные волны. Он еле двигает обмякшими
губами...
- Это был "бумер", - выдыхает он. - "Бумер" . Она приняла "бумер" . Слишком
много "бумера". Я пытался...
- Это правда?
Я повернулась к Белинде, протянула руку к тонущему стакану.
- Я пытался остановить ее, - сказал Крекер, - Вот и все. Извини, Джонс. Мне
очень жаль. Меня заставил Колумб. Он шантажировал меня... мои преступления...
куча преступлений... что мне было делать?
Все течет спокойно и медленно, как плохие воспоминания о только что
случившемся . Борьба за жизнь. Поражение.
Поражение...
Я держу в руках дочь, прижимаю ее к себе, хочу вдохнуть жизнь в ее
спокойную плоть. Ее глаза на секунду вспыхивают, а потом закрываются. И ее Тень
уплывает прочь, в окрашенную кровью воду. Я легко подняла ее, совсем как в
детстве, когда она падала в садике около дома. Крекер вырывается на поверхность,
баюкает разбитую руку здоровой, кричит мне:
- А как же я?! Как же я?!
Я вынесла Белинду из подвала, прочь от грустного шума, прочь со склада. Ее
тело... дыхание призрака. Жизнь моей дочери вытекает медленными волнами.
Длинные ноги Койота несут его вприпрыжку по Принцесс-роуд к центру
Манчестера. Он больше не страдает от аллергии. Пока он бежит, карта постоянно
меняется, но это не пугает его цветочную душу. Он сам чувствует себя дорогой,
частью этого нового мира. Койот стал цветком; дорога раскрывается перед ним
распустившимся бутоном. Это путешествие, о котором он всегда мечтал. Но для
полного счастья не хватает еще чего-то - машины. Запах цветения из Плат
Филдз-парка заставляет задние стебли Койота вцепиться в тротуар. Перед ним
прорастают цветы. Койот идет сквозь их ароматы, добавляя их ртам собственное
сладкое послание. Только тогда он осознает. "Можно совсем по-другому: я могу
свободно перемещаться. Цветок во мне еще растет, еще учится. Это несложно.
Никто не должен меня видеть. Я могу просто... знать... просто расти..."
И тогда Койот просто разворачивает себя в новую цветочную карту Манчестера,
перемещая свои узоры от стебля к стеблю. Он погружается в растительную жизнь,
снова и снова наблюдая, как сменяются сезоны в растениях, встреченных на
пути. Это крутейший маршрут в его жизни. Койот - Цветочный пес вызывает себя из
лепестков, и листьев, и шипов, изменяя всякую зелень в черно-белое растение.
Зерно сэра Малыша Джона все еще растет в недрах его тела, купается в соке; он
чувствует его там. И весь длинный и растущий путь человек, спрятанный в
корнях, пытается направить Койота в другую сторону. Койот не обращает на него
внимания, по крайней мере, пытается: на самом деле все, что он может сделать,
- загнать человека в самый дальний стебель.
Город открывается узорам Койота.
Как же он изменился! Койот помнит город как темное место влажных желаний -
теперь мир стал растительным и тугим. По зеленым венам Манчестера Койот может
путешествовать куда угодно. Цветы волнами ниспадают с каждого здания, побеги
увивают фонарные столбы. Розовый дождь цветов падает на площадь Альберта,
ярко подсвеченный лазерами с крыши ратуши. Город опустел, как в карантине. На
улицах остались полицейские машины, но они двигаются, как заблудшие души,
прорывают утро воплями, вышивают шумовой узор своими сиренами. Видит он и
несколько икс-кэбов: только эти машины делают какие-то успехи. Койот выцветает
свою форму из кустика, растущего на краю сквера. Затем он проталкивает себя
по лишайнику, захватившему тротуар, по мху, поросшему на стенах, через
пыльцу, несомую ветром по воздуху Манчестера. Всеми этими путями он движется во
двор отделения полиции на Боттл-стрит, где, как древние чудовища, за
проволочной решеткой стоят конфискованные машины.
Здесь Койот находит свою первую любовь. Свой Ян.
Черное такси.
Возвращается все: и откуда он появился, и куда ему двигаться дальше.
В окне отделения Койот видит свет, за столом сидит одинокий коп. Он
протягивает свою сущность через соки ивы, которая нависает над закрытыми воротами,
в загон для машин, капает на бетон, превращает стебли в сильные, быстрые
ноги, которые несут его к отделению. Теперь он знает, что усилием воли может
менять свою внешность, может лепить маску из цветов. Он знает, что должен
выглядеть , как коп. Койот выдвигает глаз на зеленом стебле, чтобы заглянуть в
окно. С этой позиции он несколько секунд наблюдает за копом и осознает, кем
ему надо стать. Он стучит в стекло побегом своего тела. Коп поднимает глаза
от книги. В ноздрях у него затычки, рядом на столе респиратор. За две секунды
лицо Койота перерастает в новую форму. Потом он пускает одну из ветвей, чтобы
постучать ею в дверь отделения, имитируя звук неотложного вызова. Коп со
вздохом откладывает книгу, встает из-за стола, идет к двери, открывает.
- Тебе чего? - спрашивает он копа, стоящего в тени дверного проема. - Нужна
машина? На фига? Кто-то выплатил штраф?
Коп в дверях не отвечает. Его лицо в тени.
- Забей, приятель. Тут по всему городу проблемы, а я в середине любовной
сцены.
Фигура в дверях выходит к свету, открывает свое лицо.
- Боже всемогущий! - восклицает коп. - Нет, нет! Боже, нет!
Потом он падает и, не сумев перевести дыхание, замолкает. Он дотягивается
до пистолета в кобуре...
Койот входит внутрь отделения.
Копу кажется, что он проваливается в дурное зеркало. Он кричит, пистолет
выпадает из пальцев, скользкий от внезапно выступившего пота.
- Кто ты? - умудряется он спросить. Койот отвечает:
- Я - это ты, конечно.
Койот превратил лепестки в идеальную копию лица копа.
Коп не может поднять взгляд.
- Блядь! - Вот его единственный ответ. - Сгинь, уйди отсюда!
Падает назад...
Койот выстреливает ветвеобразную руку, несколько раз бьет копа в лицо, пока
тот не падает на пол без сознания. Таксоцветочный пес сбрасывает форму копа.
Теперь он просто перетекает, растет. Веточки его лап дотягиваются туда, где
на гвозде висит связка ключей. Они-то ему и нужны. Он бодро выходит из ворот,
пробует все ключи, пока не находит нужный. Вырывает проволочные ворота из
тугих объятий замка. Потом движется туда, где его ждет черное такси.
Черное такси!
Он метет своими листьями по виниловому рисунку, создавая касаниями мягкую
музыку. Это кажется прелюдией. А потом Койот преобразует веточку во
впечатанную в память форму ключа, поворачивает замок, открывает дверь, проскальзывает
внутрь.
Он дома.
Формирует веточку в точную копию ключа зажигания, выжимает сцепление,
включает двигатель. Он полон сока. Бензина. Машина пенится жизнью. Он
выстреливает ею - и город взвивается водоворотом цветов. Койот воет, превращает дорогу
в жидкость, так, чтобы он мог проскользнуть по ее горлу. К Боде, где бы она
ни была. Его последний известный шанс на любовь. Его Инь. Он найдет ее, даже
если это займет остаток его жизни, его второй жизни.
Сделай все как следует, такси-цветок.
Я прижимала к себе Белинду так крепко, как будто могла втиснуть ее в новую
жизнь. Я несла ее из темноты на свет, а жидкий дым капал вниз, утекал сквозь
пальцы. Больничная пустота. Манчестерская королевская больница. Добраться
туда сквозь разбитые машины и перекрученные улицы было кошмаром. Только то, что
моя Тень вцепилась в эту историю, позволило мне добраться так далеко. Кто-то
в белом забрал у меня мою дочь. Моего второго ребенка... может, мое проклятие
висит и над моей блудной дочерью? Может, я обречена быть матерью смерти?
Снова потерять дочь - я пыталась не допускать этой мысли. В животе пульсирует
боль. Я смотрела на Белинду, пока та не исчезла в белом коридоре, потом упала
на больничный пол. Лентами дыма накатила тьма...
Проснулась. Другая комната, другой мир...
Белинда. Кровать. Приборы. Но от нее осталось так мало. Так мало...
Доктор искал глубоко внутри ее плоти сигналы - какой-нибудь маленький
спрятавшийся кусочек жизни. Он уже зашил рану в моем желудке, сделанную Гамбо Йо-
Йо. В любом случае, это была поверхностная рана. В том смысле, что сейчас все
было не важно, кроме жизни моей дочери.
Нечего ни сказать, ни сделать - только обнять раскрытое тело дочери так
крепко, чтобы выдавить из плоти подобие дыхания. Только видимость. Белинда
умирала: я перестала чувствовать ее Тень. Все пошло прахом: я, мир, мое дело.
Приборы излучали грустную медленную волну.
Мой ребенок...
Стягиваю простыни с ее комы...
- Помогите ей! Помогите ей, доктор!
- Делаем, что можем, констебль Джонс, - слышится спокойный голос врача.
Я сорвала простыни с постели моей дочери... Обняла ее.
Обняла ее до смерти.
Дочь... дочь...
- Спасите ее. - Я повернула лицо к доктору, который углубился в возню с
приборами. - Спасите ее, пожалуйста!
- Констебль Джонс... Трясу ее. Трясу Белинду.
- Я убила ее. Это я виновата. Я неверно прочла Тень! Это... Боже... Никогда
так не бывало... Прошу! Спасите ее, пожалуйста!
Доктор казался бесстрастным.
Трясу и проклинаю.
Ответа нет. Держусь за Белинду. Держусь за воздух. Приборы стучат в тишине.
Моя дочь умирает...
- Ее больше нет с нами, - говорит доктор.
"Прошу, нет ..."
Я ушла глубоко. Глубже не бывает.
Плыву...
"Белинда... Белинда... Белинда...п
Моя Тень ворвалась в тело Белинды в поисках корня. Я шла по мертвым районам
города. Ее лишенное карты тело. Покинутое Тенью. Я увидела клубок "бумер"-
змей, свернувшихся вокруг ее сердца.
"Белинда... Белинда..."
Этот момент... самый плохой во всей истории...
"Не отдам!"
Я послала в нее собственную Тень - загоняя ту глубоко в вены, в сердце, в
мозг, в кожу. Во всю Белинду.
"Ну же! Давай! Хоть раз выдави из себя каплю любви..."
Крошечное движение... ее шея...
"Прошу..."
Я текла сквозь слои мускулов, надеясь найти последний сохранившийся след
дыма. Но встречала только мертвую плоть, остановившееся сердце, сжавшийся
мозг. Сознание Белинды уступило место призраку. Никакой надежды. Никакой
надежды. . .
Я вогнала себя еще глубже в нее, отдала ей свою Тень, разрубив последний
узел своей любовью. Моя Тень покинула меня, оставив лишь дыру внутри.
"Это тебе, неблагодарная девчонка! Охуительного тебе дня рождения!"
Белинда вдохнула...
Тенепад.
В тот день моя девочка умерла на моих руках.
А потом снова начала дышать. Это было тихое дыхание, но самое лучшее, какое
я слышала. Она снова начала дышать.
"Белинда, прими этот дар твоей душе. Прошу, живи! Пожалуйста, живи, мой
тупой замученный воин!"
Ее глаза открылись. Я чувствовала, как их открывают изнутри. Во мне больше
ничего не дымилось, я отдала все - но Белинда открыла глаза. Оно того стоило.
Я знала, что оно того стоило.
Мое тело иссыхало, лишившись Тени; я чувствовала себя, как опустевшее мясо.
Новорожденная Белинда оттолкнулась от меня.
- Мама! - закричала она.
Это было мое имя. Ее имя.
Моя Тень ушла в ее тело взамен той, что она потеряла. Я стала собственной
дочерью, призраком поселившись в ее коже. Белинда не знала, с кем говорить с
собой или с матерью. Мы стали единым целым, слова были излишни.
В реальном мире Белинда вышла из комы, вскрикнула один раз, назвала мое
имя, а потом вновь с глухим стуком упала на кровать.
Реальный мир? Что это теперь? Мое холодное тело, сидящее в твердом
пластиковом кресле? Какая-то манчестерская больница? Моя дочь, борющаяся за вторую
жизнь? Это - Реал? Я слишком далеко зашла, чтобы обращать на него внимание. Я
смотрю вокруг опаленными глазами, болит живот, мозг регистрирует реакцию
пациента на последствия того, что телесную систему заставили ожить. Мое
собственное тело стало бесчувственным и ритуализированным, испытывало острую не-
хватку эмоциональных реакций на внешние ощущения. Доктор ушел из палаты,
уверенный , что дело безнадежно. Может, так оно и а было. Я действительно текла
тонкой дымкой сквозь согретые внутренности моей дочери.
- Во бля, - сказала Белинда, прямо сквозь плоть. - Ты внутри меня.
"Я в тебе, дочь".
Ее воспоминания заполняют мою Тень; я принимаю их как свои собственные. Ее
самоубийство... Боже, мне стало дурно. Как ей вообще могло прийти в голову
забрать собственную жизнь? Мои гены ее настолько не устраивали? Я была такой
плохой матерью?
- Что ты делаешь? - закричала Белинда, пытаясь вытолкнуть меня прочь из
своего тела.
"Спасаю тебе жизнь, тупая сука. Что за дела с передозом "бумера"? Ты что,
хочешь на тот свет?"
- Оьебни из моего тела.
"Мы теперь навсегда вместе. Больше никаких секретов..."
- Зачем ты это сделала?
Я чувствовала, как тело дочери пытается отторгнуть меня спазмами мускулов.
Но я крепко вцепилась. Вцепилась в...
"Любовь? Может, любовь. Не знаю. Пойдет такой ответ?"
Тело Белинды вокруг моей Тени словно покрылось инеем.
- Не хочу, - сказала она. - Не нужна мне любовь.
"Думаешь, есть выбор?"
Я смотрела на мир глазами моей дочери. Видела маленькую больничную палату.
Одинокая женщина сидит за кроватью собственной дочери, и взгляд ее исполнен
ужасной пустоты. Белинда через Тень рассказала мне все - о своей потерянной
любви к таксопсу и обо всех своих обреченных попытках, о том, как она
потеряла свой икс-кэб Фаэтон. И что на нее свалилось слишком много, жизнь стала
слишком горька. В ответ я отдала ей все свои секреты, как я делала все, что
могла, чтобы вернуть ее. Между нами больше нет секретов. Ну, остался один.
"Я совсем не рада тому, что потеряла тебя, знаешь?" - говорю я ей.
- Надо думать. Зато я рада, что потеряла тебя.
"Почему ты так со мной поступаешь?"
- А почему бы и нет?
Она пожала плечами. Я почувствовала изнутри, как она пожимает плечами.
"Ты была бы мертва, если бы меня тут не было".
- Я и хотела умереть, - ответила Белинда, спокойная, как смерть. - Я и так
мертва. Думаешь, это - жизнь?
"Господи!"
- Что ты будешь теперь делать, Сивилла? Теневой коп без Тени совершенно
бесполезен. Похоже, тебе хана.
"Я спасла тебе жизнь..."
- Спасибо, блядь, большое, паразит.
"Может, назовем это симбиозом?"
- Иди на хуй.
- "Может, хватит материться?"
- Ох, Сивилла, мамочка ты моя. Уверена, ты можешь остановить меня. Ты же
теперь - моя душа? Думаешь, я хочу жить с чужой душой? Даже с душой
собственной матери?
"Я отдала тебе все".
- У тебя остался один секрет.
"Мне кажется, не стоит."
- Ты что-то от меня еще скрываешь.
"Не хочу делать тебе больно".
- Хуже, чем есть, все равно не будет. Давай, рассказывай.
"Сейчас не время".
- Помоги мне, пожалуйста, мама.
Я не могла противиться такой просьбе. Черный занавес задрожал.
Если до сих пор я скрывала от Белинды Сапфира и его историю, так зачем же
было отдавать ее во власть этой боли сейчас? Она ничего не знала о старшем
брате. И это открытие несло ей только боль. Может, моя дочь хотела боли? Она
отдала моей Тени свои чувства: там был намек на любовь, как будто мы стали
единым целым, и Белинда была готова принять все. Белинда была как такси,
которое умерло бы без последнего пассажира.
И я рассеяла щит. Секунду мысли вяло текли, а потом вспыхнули знанием.
Наши чувства слились.
Сапфир в футляре, Белинда.
Мозг Белинды ухватился за историю.
- Расскажи мне о Сапфире.
"Сапфир - так зовут моего сына. Это самое светлое имя, какое я смогла для
него найти".
- Я - твой единственный ребенок.
"Не совсем. Есть еще один".
- Что?
"Его зовут Сапфир. Он на год старше тебя. Он от случайного любовника".
- Почему ты скрывала это от меня?
"Мне было стыдно. Отец Сапфира был матросом на Нью-Манчестерском судоходном
канале. Ему достались не те волны реки, и не те волны меня. Моего тела. Я
была для него портом. Моряк был моим первым любовником. Я не знала, как
реагировать, кроме как забеременеть. Мой живот обманул мою Тень".
- На что ребенок!.. На что он был похож?
"Отвратительный. Монстр, полумертвая тварь".
- Зомби?
"Да. Назовем это так. Но он мог видеть сны! Как я могла отказаться от
такого ребенка? Я поселила его в твоей старой спальне".
- А власти разве его не выгнали?
"Было дело. Но он вернулся ко мне. Он прелестный, очень нежный. Он поймал
попутку. Снова нашел меня".
- Ненавижу тебя.
"Сапфир - красавец, по крайней мере, в моих глазах, и я его очень люблю. Он
чуть меньше метра ростом".
- Боже! Противно.
"Полметра в ширину. Взрослый".
- Пиздец.
"Он плоть от плоти моей, Белинда. Он мой. Никто не заберет его у меня.
Сейчас он умирает... от аллергии. Если со мной что-нибудь случится... присмотри
за Сапфиром. Он твой брат. Ты это понимаешь?"
- Что будешь делать, Сивилла? Теперь, когда ты осталась без Тени?
"Моя Тень стала твоей, любимая".
- Бля!
"Белинда! Прекрати материться! Прошу... извини, Просто..."
- Ладно. Ты все-таки моя мать.
"Да. Господи, как же давно это было..."
- Оставь меня одну.
"Не в этой жизни, дитя мое".
Множество дорог, которыми мы прошли, чтобы попасть в этот миг: я,
разделенная надвое, одна часть - в Белинде, в ее мертвом теле, оживленном моей Тенью,
другая - в опустошенном мешке мяса. И, как на аукционе, тело уходит за высшую
ставку. Поэтому я знаю всю историю моего ребенка - я захватила ее воспомина-
ния. Присвоила их.
И так я покинула тело моей дочери, оставив ей свой шепот, источник ее
жизни. Это была не жизнь после смерти - это была просто смерть, уцепившаяся за
жизнь. Разве это преступление? Мое другое "я", мое подсознание, склонилось
над телом Белинды, наблюдая, как к ней возвращается дыхание. Я позвала
доктора. Он смотрел так, словно увидел на своих приборах бога - с экранов текли
волны света. Прямо за ним стоял Томми.
- Сивилла, ты в порядке? - спросил он.
- Томми, ты добрался через карту!
Я была рада его видеть, но меня угнетали более важные заботы.
- Я взял такси. Они еще ездят по городу. Но драйверы сильно злятся,
Сивилла . Меня привез сюда Роберман. Он хотел...
- Томми, я занята.
Я протолкнулась мимо него к двери.
- Сивилла, я волновался. Они сказали, что Белинда умерла.
Пусть поудивляются.
Я не гордилась тем, что сделала. Не была счастлива, ничего такого. Я
умерла . Сделала то, что хотела сделать Белинда. Убила себя. Более или менее.
Какая разница? Промежуток между секундами? Моя Тень ушла от меня. Чем я стала?
Вакуум внутри мешка сухой кожи. Я не чувствовала ничего хорошего, только
нежную ласку моей Тени, хранящей жизнь Белинды.
Я двигалась, как холодная робоженщина. Мое тело плыло по коридорам
больницы : пассажир любого сна, который меня захватит. Томми Голубь пошел за мной в
палату Зеро. Его спящее тело было закрыто в аппарате, машина поддерживала в
нем жизнь. Я уже знала это чувство. Коснулась его лба призрачной рукой,
шепнула , что буду любить его вечно.
- Роберман отвез меня во Дворец Гамбо, - сказал Томми. - Мы нашли его и
Крекера. Они оба арестованы. Хочешь повидаться с боссом?
Спокойное путешествие в палату Крекера. Шеф лежал, перевязанный и
накачанный транками. Я приветственно плюнула в его мучнисто-белое лицо.
- Крекер выдал все, - продолжил Том. - Он заключил неудачную сделку с
Джоном Берликорном через Колумба. У босса была тайна - история преступления.
Колумб знал об этом. В обмен на молчание Крекер согласился приютить жену Берли-
корна. Ее зовут Персефона, так? Она - причина аллергии. Крекер посадил ее в
коп-фургон в Александра-парк после того, как она убила Койота. Угадай, где
поселил ее Крекер? Очуметь, в отделении полиции! Цветочная девочка живет в
морге, шкафчик 257. Очевидно, она привезла с собой чемодан земли из райского
пера. Крекер считает, что она не может без жить без этой земли, по крайней
мере долго, так что в их плане есть слабое место.
Мне нужно было на воздух. Пока я плелась наружу, Томми Голубь шел сзади
меня и спрашивал, все ли со мной в порядке. Я не отвечала. Села в "Комету".
- Я уже сообщил в отделение, Сивилла, - сказал Том, опускаясь на
пассажирское сиденье. - Может, уже поздно.
Боже, всегда уже поздно! Но когда мы ехали по Оксфорд-роуд, нас обогнало
черное такси. За рулем я заметила черно-белого пятнистого пса-драйвера. Я
увидела призрака. Том возился со своим пистолетом, так что он упустил это
видение . Я ничего ему не сказала, но внутри начала отслеживать отсветы плана. Я
ехала на автопилоте, руки лежали на руле, как перчатки, пока моя настоящая
сущность, моя Тень, отдыхала в Белинде, совсем как та отдыхала в постели. Но
с появлением Койота у меня появились цели и желания. Если я смогу поместить
все детали головоломки в нужные места, то, возможно, у нас есть реальный шанс
нанести ответный удар Вирту. Я смогу сохранить жизнь Сапфиру.
Снаряженные по уши копы сбились в кучу около двери морга и отчаянно прини-
мали мужественные позы, но я видела над противогазами нахмуренные брови и
нервный пот. Коридор ощетинился страхом. Новая карта довела их всех до ручки.
Все время поступали донесения об автокатастрофах. Десятки людей, по нашей
информации, жертвы аварий, уже погибли. Икс-кэбы еще ездили, но путешествовать
никто больше не хотел. Колумб на кэб-волне не отвечал. Копы не знали, что им
делать, кое-кто уже снял значок. Томми Голубь взял на себя руководство, и я
была этому рада: мое тело было слишком пустым для физической драки. Томми
отрегулировал ремни респиратора, а потом выбил кодовый замок на двери морга.
Голубь зашел в комнату, затем я, а следом - и остальные копы. Комната была
наполнена пыльцой, шарообразными организмами, которые плавали везде, как
будто захватили воздух. По стенам ползли влажные побеги. С потолка капала вода.
Голубь подошел к шкафу 257. Около его дверцы витал запах плодородия.
- Это замок Крекера, Томми, - сказала я. - Нам нужен код.
- Расслабься, Джонс. Сейчас все будет.
- Какая-то виртовая фишка?
- Еще проще. Я выпытал его у Крекера. Томми Голубь улыбнулся мне, а потом
набрал код.
Отступил назад.
Две секунды...
Ящик с нежным вздохом выскользнул наружу, и из его утробы полилось зловоние
Эдема, мертвого и разложившегося. Плотские копы отскочили от этого смрада.
Том снял пистолет с предохранителя и двинулся к ящику.
- Осторожно, Том, - сказала я.
- Да ладно тебе, Си, - ответил он. - Я же Томми Голубь. Лучший вирткоп в
городе. Ребята, прикроете?
Ряд респираторов согласно кивнул. Зажав пистолет в обеих руках, Томми
Голубь вглядывается в крышку ящика.
Потом раздается крик.
"Том! Назад!"
Раздался крик, словно один за другим обрывают все цветы мира, - и длинный,
толстый растительный побег поднялся из ящика, на мгновение переплелся в
пространстве, а потом воткнул заостренный шип в левый глаз Томми.
Я выпустила в толстый стебель шесть пуль, другие копы тоже стреляли.
Комната наполнилась дымом и вонью пороха. Стебель разлетелся в щепки, и, когда
замолчали пистолеты, сквозь тугую тишину поплыли тысячи черных лепестков.
Конфетти на похоронах. Томми Голубь лежал на полу с окровавленным лицом. Сзади
закричал коп. Другой уже звонил доктору. Я опустилась на колени рядом с Томми
и осторожно взяла его голову в руки.
- Томми... я здесь... скажи что-нибудь...
Он пробормотал что-то в ответ.
- Что? Том? Что ты сказал?
- Роберман...
- Что?
- Роберман... иксер... хочет помочь нам найти Колумба... карта...
- Томми, доктор уже едет.
- Найди Колумба... убей его... сверни карту...
- Я пойду дальше, Томми. До самых истоков.
- Твоя дочь...
- С Белиндой все нормально, Томми. Все нормально. Мы теперь вместе. Мы -
именно то, чего боится Берликорн. Помнишь?
- Ради меня... постарайся...
С этими словами он закрыл глаза. Его тело в моих руках внезапно потяжелело.
- С тобой было хорошо работать, Томми Голубь. Я встала. Появился доктор,
опоздавший на две секунды. Я подошла к ящику. В земле виднелась вмятина в
форме девочки. Плотские копы бессмысленно бродили вокруг, потрясенные и
испуганные . Один из них сблевал. Другой спросил, мертва ли цветочная девочка. Я
чуть ли не ткнула его носом в ящик.
- Я хочу, чтобы эту землю залили охуительно мощной химией. Ебаным
гербицидом! - Он взвизгнул. - Ты все понял? - Он повизжал еще.
Наружу.
Старый верный "Форд комета" ждал моей ласки. Начался дождь, на окна машины
падали мягкие капли воды. Я запустила двигатель. Наверное, Персефона смотрела
и смеялась с высоты цветочных лоз, когда ее семя рассыпалось по дорогам. А я
положила этому смеху конец. Пока моя Тень вела меня через карту, передо мной
умирал долгий поток светлых красок. Прошла секунда - и я остановилась около
отеля под названием "Олимпия" в центре Манчестера. Отель был двадцать семь
этажей в высоту. Я въехала в комнату двадцать один, зарегистрировалась как
Джейн Смит. Заказала бутылку джина "Бомбейский рубин". И пятидозовую бутылку
легального "бумера". Сказала клерку, что это не все мне, не беспокойся, я жду
гостей. Угрюмая робосука принесла мне заказ. Вместо чаевых я отдала ей
пистолет . Его сила и его присутствие меня тяготили. Стрелять из него мне уже не
светило.
- Иди убей кого-нибудь плохого, - сказала я горничной.
Она вышла со злой улыбкой. Оставшись одна, я выпила три дозы чистого
"Бомбея" из отельного бокала. Потом открыла окно, чтобы посмотреть на город. На
мой умирающий город. Манчестер. Миллионы цветов, сад на небесах. Жирный
желтый туман тек по воздуху.
Я легла на грязную постель и провалилась в глубокий сон. Для битвы мне
понадобятся все силы.
Сон без снов.
Когда я проснулась, на отельных часах голубело 11:09 вечера. Я закончила
все, что могла закончить на земле. Моя жизнь теперь принадлежала Белинде. Она
присмотрит за Сапфиром. Я плеснула в стакан джина, а потом добавила туда пять
доз "бумера", нащупав в отдаленном сознании Белинды ее поэму: "Одна доза -
для оттяга, две дозы - для сорванной крыши. Три - для чистой и сексуальной
смерти". Пять - полный пиздец.
Я выпила "бомбей-бумерный" коктейль одним махом.
Неожиданный удар в голову - и чувства уступают место прикосновениям
блаженства . Меня мощно вставило. Влагалище потекло. Вот это точно было бог знает
когда. "Во что ты играешь, милашка, зачем повторяешь свою дочь? У тебя нет
собственного выхода? Тебе не стыдно?"
"Бумер" ласково тянул меня вниз.
"Наверное, ты права".
Вышагиваю, как танцор, через открытое окно на край сна. Но стоило мне
заглянуть в бездну, как проснулось странное, дурное чувство, едва преодолимое -
желание прыгнуть. Манчестер возбуждал мою душу. Я оттолкнулась.
На стенах, мимо которых я летела сквозь ночной воздух, распустились цветы.
Пятна красок. Путешествие было наполнено пыльцой, я ощущала, как пыльца
борется с гравитацией. Это было длинное и медленное падение в золотистость.
Тротуар приближался, чтобы поздороваться со мной, печальным и сладким
отельным бокалом.
Падаю дальше и дальше, как гнилой плод с ветки. Тротуар выстлан мягкими
цветами. Слава богу, он недостаточно мягкий.
Смерть приветствует меня.
Это история, рассказанная мертвой женщиной. Не жизнь после смерти - просто
смерть, уцепившаяся за жизнь. Так я пробудилась от физической смерти, в теле
Белинды. Белинда проснулась вместе со мной. Я чувствовала ее пальцы, вцепив-
шиеся в жаркие влажные простыни. Ее голос кричал в мою Тень:
- Что ты делаешь?
Седьмое мая плавно переползало в восьмое.
"Тсс. Тсс. Тише, дитя мое..."
- Куда ты дела свое тело?
"Его забрал "бумер"".
- Бля! Зачем?
"Для тебя это годилось..."
- То было сто лет назад. Тогда я была слабая. "Теперь ты сильная. Я внутри
тебя".
- Я тебе не рада. Говорила же...
"Твое право выбора умерло. Теперь я твоя мать".
- Иди на хуй.
"У нас еще есть дело, Белинда. Нам придется драться с Джоном Берликорном.
Только мы можем это сделать. Не спрашивай как, я сама не знаю пока. Я только
знаю, что нам надо быть вместе. Что скажешь?"
- Я не хочу быть с тобой вместе! - кричит Белинда. Ночная сестра заходит в
комнату, думаю, она хочет спросить, что случилось. Вместо этого она говорит,
что за Белиндой Джонс приехало такси и ждет внизу на стоянке. Белинда
посмотрела на меня, я на нее. Словно зеркало смотрится в зеркало - озадаченный
взгляд бесконечности.
- Может, это Роберман? - спросила меня Белинда.
"Может, он".
Но я знала, что это не он.
Естественно, сестра не слышала наших дымных разговоров. Она не могла
увидеть мою жизнь внутри пациента.
- Он не представился? - спросила Белинда сестру. Та ответила, что нет, не
представился, только заявил, что Белинда должна тащить свою задницу в такси
или ее отшлепает толстая пушистая лапа.
- Точно Роберман, - сказала Белинда.
- Естественно, вы можете уйти, - добавила сестра. - Только подпишите
бумаги . Приборы говорят, с вами все отлично.
Моя работа, есть чем гордиться.
- Пошли! - заявила Белинда сестре. Мы отправились на первый этаж, где дочь
подписала все, что надо, и мы вышли в насыщенный пыльцой воздух. Было видно,
как летают гранулы, ищут в наших ноздрях удовольствия, но находят только
холодную могилу.
- Нет здесь никакого икс-кэба, - сказала дочь мне, но я просто позволила ее
глазам сместиться чуть влево, туда, где в тени вяза ждал темный силуэт.
Сквозь нашу общую Тень потекли волны недоверия. Под деревом стояло
старомодное черное такси. Из окна махала черно-белая лапа. Я почувствовала, как
Белинда глубоко вздохнула.
- Мама, это Койот! Как это? Он же мертв!
"Вообще-то я тоже".
- Ты знала? Знала, что он вернется за мной?
"Я на это надеялась".
Койот уже выбрался из черного такси. Он улыбался. Светло и лучезарно.
"Ты как, собираешься его поцеловать, Белинда? Он ждет".
Белинда подбежала к черному такси, и Койот закружил ее в танце радости.
Белинда назвала его сукиным сыном. Койот назвал ее плохим игроком на сердцах
собакомужчин, и оба они засмеялись. У меня не было выбора, кроме как
присоединить свою Тень к их судорогам. Они поцеловались. Я чувствовала поцелуй
изнутри. Он длился полторы минуты.
- Койот! Черт! - закричала Белинда. - Как ты умудрился вернуться?
- Как Лесси, Бода, знаешь такую? - сказал таксопес.
- Меня теперь зовут Белинда. Кто эта Лесси?
- Ты не была в Вирте Лесси? Ну конечно. Лесси - милая виртопесья героиня,
собака, раскрывающая преступления. Время шло. Настоящая звезда умерла. И ее
заменили. Без проблем. Они сделали виртоклона. Волшебного. Я такой же. То,
что ты видишь, Белинда... Койот Два. Сиквел. Я правильно назвал имя? Белинда?
Похоже, ты изменилась. Койот остался прежним. Теперь он растительный пес.
Прикинь, я могу расти, во как!
- Ты стал отлично говорить, Кой.
- Надо думать. Я красноречивое растение. Хочешь куда-нибудь поехать?
- Да, пожалуйста, - ответила Белинда.
- В Боттлтаун, навестить мое семя.
- Карлетту? Легко, но потом я хочу, чтобы ты отвез меня на пустоши Лимбо.
Э... на Блэкстоун-эдж. - Я чувствовала, что Белинда не рада произносить эти
слова, потому что это я, ее мать, говорила через ее тело. - Туда, где ты
подобрал Персефону, Кой. Э... ты можешь?
- Койот теперь может доехать куда угодно, но в чем высший смысл?
- Я хочу при лунном свете, Койот. Я хочу, чтобы ты занимался со мной
любовью на вересковой пустоши.
Вот теперь я окончательно шокировала Белинду, и даже Койота захватила
врасплох такая прямота.
- О да! - провыл он. - Хочу туда ехать. Мне нравится твоя идея.
У меня появилось чувство, что моя история наконец-то приходит в порядок.
Если Койот теперь действительно был частью растительного мира, у меня было
предчувствие, что он в своем новом состоянии сможет доставить нас к Джону
Берликорну. Но пока мне надо играть спокойно, поддерживать диалог в случае,
если Белинда начнет сомневаться.
"Давай это сделаем, Белинда". Убеждаю.
- Идет. Э... Койот, у меня есть кое-какой багаж. - Снова мои слова, не ее,
она их просто произнесла.
- Грузи багаж на борт, Белинда. Никаких проблем.
- Э... Багаж не здесь. Пока нет. Надо заехать, его забрать. - Голос Белинды
дрожит.
- Ясное дело. Откуда?
- Виктория-парк. - Мой голос в устах дочери.
- Без проблем. Один собачий вдох отсюда по новой карте.
Белинда забирается на заднее сиденье койотового черного такси, волоча за
собой мою Тень. Устраивается на кожаном сиденье и командует Койоту давить сок
педалью.
Полночь.
- Ну что, куколка, поехали! - воет Койот перед тем, как вогнать свою машину
в смачный исход по Оксфорд-роуд. - Ууууу! Как Лесси, детка! Догоняешь?
Мы догоняли.
Понедельник 8 мая
Первая поездка - на Виктория-парк. Койот ехал по новой карте как по родной,
моя помощь не потребовалось - словно у Койота появилась собственная история,
в которой, к счастью, был эпизод с возвращением Белинды домой. Я повела
Белинду вверх по лестнице в ее бывшую спальню. Старая детская кроватка стояла в
центре комнаты. "Тут живет Сапфир. Твой брат. Давай. Открывай". Белинде
хотелось оказаться за миллион километров отсюда, но я заставила ее глаза смотреть
внимательно. "Посмотри на своего сводного брата". Белинда резко вдохнула и,
посмотрев, отступила на шаг. Я шагнула назад вместе с ней, но затем заставила
ее посмотреть еще раз, уже внимательней. Я увидела Сапфира, который вяло
ворочался на простыне и просил его покормить. У Белинды перехватило дыхание.
На один глаз Сапфира наползала толстая складка кожи. Нос кривился влево.
Рот был маленькой дырой на корявом лице. Язык распух. Руки оканчивались
чрезмерно длинными пальцами, похожими на когти. Ноги - два обрубка. Горбатая
спина, живот мешком, грудная клетка с переломанными ребрами. На голове
пробивались два-три седых волоска, а на шее образовался валик жира.
"Бывает и хуже. Привыкнешь".
- Знаю, что привыкну. Я общалась с зомби. Не такие уж и...
"Знаю. Это твой брат. Сапфир... познакомься с сестрой".
- Зачем нам брать его с собой? - спросила меня Белинда.
Потому что он один из нас. Полумертвый. Объясню, когда будем на пустошах.
Отправляемся...
Вторая поездка - в Боттлтаун. Время общего сбора. Койот остановился на
россыпи битого стекла, велел нам сидеть тихо и направился к деревьям.
"Куда он?"
- Увидеться с дочерью, бестолковая.
"А-а" .
Я устроилась внутри Белинды, и мы стали ждать в тишине, пока Койот не
просочился обратно в кэб.
- Как прошло, кроха? - спросила Белинда.
- Нормально. Я постучал в окно веткой. Она вышла меня встретить.
- Карлетта?
- Кто же еще. Милый ребенок. Мои лепестки улыбнулись ей самой красивой
улыбкой. Ее внутри мучает чих.
- Мне так ее жалко.
- Мы едем любить, крошка.
- Надеюсь.
Кэб радостно мерцал. Мы ровно ехали до самого утра, догоняя солнце, которое
поднималось над деревьями. Ехалось как с хорошим попутчиком: бодрый водитель,
отличная машина, общая цель. Таможенный пункт у северных ворот обезлюдел: все
стражи давно исчезли, сразу после того, как новая карта заняла свое место.
Третья поездка.
В Лимбозону. Блэкстоун-эдж. Я - Тенью в Белинде. Белинда - в черном кэбе
пса Койота. Сапфир на сиденье за нами - в своем футляре. Дополнительный
багаж. Пассажир внутри пассажира. Жизнь заодно со смертью. Расцветал день,
краски восхода подавали нам знак ехать к свету. Пустоши задыхались в
призрачном дыхании тумана.
- Койот, как ты узнал, где мы были? - Мне понравилось это "мы".
- Я поехал на стоянку икс-кэбов. Там был один такой, пластиковый, с
шерстью . Из тех, кто до сих пор работает на дороге. Он передавал твой заказ.
- Ага. Его зовут Роберман.
- Хороший пес этот драйвер.
Койот перевел черный кэб в гиперрежим, превратив проносящиеся мимо деревья
в сплошную стену. Мы набирали скорость, нарушая правила, и мне это нравилось.
Казалось, что жить в теле своей дочери так естественно. Как будто надо было
это сделать еще сколько лет назад. И пес-любовник с гладкой шерстью на
переднем сиденье, который везет нас к счастью, и Сапфир тоже с нами. С такой
командой - как я могу проиграть? Джон Берликорн пожалеет, что напал на мою
семью и мой город. Я крепко держалась изнутри за тело Белинды, благодаря Койота
за то, что он дал ей надежду. И за то, что заставил ее принять меня. Я
чувствовала , как светится ее сознание. Счастье их любви следует охранять, и я буду
механизмом, который приведет Белинду к Койоту. Да, слушай, я не прочь быть
таким механизмом. Я вписывала в нее сны. Но нужна была осторожность: я не хо-
тела, чтобы они испугались того, о чем я хочу попросить.
Койот рассказывал:
- Койот и цветочный мир. Теперь мы не отличаемся друг от друга. Я пес. Я
растение. Я человек. Не слишком пес. Не слишком человек. Но растительного
сколько угодно. Чувствуешь, как я расту?
- Чувствую, - ответила Белинда.
- Въезжаешь, крошка.
Койот подъехал к продуваемому ветрами обрыву за пабом и фермой, где в землю
впивался телефонный провод. Скрипящий труп засохшего дуба. Можно было
услышать зомби, бродящих поутру среди трав. Мы слышали их шипение и кваканье. Над
краем леса еще висел край зари. Койот вышел из кэба, открыл нам дверь.
Выпустил нас. Лоснящийся полуживой плелся к нам по мертвой земле, блестел когтями.
Койот сунул лапу в его чуждую клешню и крепко пожал ее. Зомби улыбнулся и
упал на землю, как парализованный. И вокруг нас на земле появились в
беспорядке еще двадцать или даже больше этих слабых, с разбухшими телами созданий.
Они двигались и дышали очень медленно, их пальцы складывались в сложные
фигуры , как будто они говорили языком жестов.
Койот подошел вплотную и глянул прямо нам в глаза.
- Я привез тебя сюда не просто так, Белинда, - шепнул он. - Любовь,
конечно, и все такое. Но еще что-то... еще кто-то заставил меня выбрать это место.
Его пятнистая шкура - непрерывно меняющаяся оболочка из цветов и листьев. В
эту минуту он действительно был красив.
- Здесь я пустил в кэб Персефону.
Койот вытянул руку к лицу Белинды. Я неотрывно смотрела глазами своей
дочери, как Койот превращал свои пальцы в побеги, в стебли. На кончике каждого
пальца раскрылась желтая роза. Второй рукой он сорвал цветы и отдал букет Бе-
линде. Потом он пустил корни в глубь иссушенной земли - и место, где мы
стояли, покрылось мягкой травой и распустившимися цветами. Персональный садик в
Лимбо. Койот улыбнулся и спросил:
- Ты хочешь любви, девочка?
Я надавила на Тень Белинды так, что она быстро согласилась на предложение.
Особенно стараться не пришлось.
На постели из листьев и лепестков, среди цветов и трав мы отдались ему.
Койот увел нас по кривой дорожке в ночь и омыл волной стеблей и лепестков. Он
был больше, чем просто пес-любовник, наш Койот, его ствол принимал ту форму,
которая приносила нам наибольшее удовольствие. Мне понравилось, как он
проникал на нужную глубину. И Белинде тоже. Мы обе застонали. Атлас обнаженного
тела моей дочери. Манчестер дрожал от наслаждения. Может быть, только эта
карта и осталась от той, что была раньше. Койот провел своими ветвями по
нашим улицам. Мягкий свет раннего утра играл на нашей коже. Зомби шлепали
ногами потраве, мягко потирая наши нагие тела. Мы не сказали Койоту, что я была в
теле Белинды, но он, скорее всего, догадывался. Может быть, по глазам
Белинды, когда она кончила. Я сама на миг почувствовала себя травинкой, когда
Койот осторожно вложил одну из своих желтых роз Белинде в рот. Шип впился ей в
губу; по щеке скатилась капелька крови. Койот убрал цветок, слизнул кровь и
заплакал. Я хотела спросить его, к чему эти слезы, но он уже кончал, наш
любимый , выбрасывая пыльцу и сперму внутрь нас.
Опыление.
Благодарно принимаем его. Впитываем все. Вспотев на солнце. Цветы на нашей
коже, у нас в мозгу. Мы прижали пса к своей мокрой груди. Текло время, мы
пили его маленькими глотками. Койот сорвал плод со своего тела, положил кусочек
Белинде в рот. Райский вкус, спелый, сочный, темно-зеленый всплеск. На языке
Белинды остался вкус, в ее сознании - образ. Тот же мир, в который я
заглянула, исследуя жертвы, куда меня привел Томми Голубь своей оперенной рукой. То-
гда я и поняла, что Койот будет нашим проводником в мир снов.
"Давайте пойдем".
Мы лежали нагие, обессиленные, в саду, покрытом росой. Ниже, далеко к югу,
изнемогал в тумане света Манчестер.
- Нашему городу конец, - сказала Белинда.
- Он изменился, - ответил Койот. - А нам повезло.
- Повезло, что мы нашли любовь?
- Повезло, что нас не нашла смерть. Новые улицы примут немногих.
- Мне их жаль.
- Ты права.
Время пришло. Голосом Белинды я объяснила план. Она дала мне свободный
доступ к ее телу.
- Койот, с тобой говорит Сивилла Джонс, - начала я. -Я мать Белинды. Я
живу в теле своей дочери. Не буду всего объяснять, просто скажу, что я умерла и
родилась заново, примерно как ты. Наш враг - Джон Берликорн. Он живет в
виртуальном мире, который называется Пьяный Можжевельник. Из его царства
приходит аллергия. Пьяный Можжевельник - райское перо. Чтобы попасть в райское
перо, нужно умереть и заново родиться. Как ты, как я. И как Белинда. В нашем
багаже - Сапфир. Он мой первый ребенок, зомби. Сила смерти в нем очень
велика . Я хочу сказать вот что: смерть коснулась нас всех, и мы продолжаем жить.
Я думаю, что теперь мы можем добраться до Джона Берликорна в его Пьяном
Можжевельнике. Ты, Койот, доставишь нас туда на своем черном кэбе, потому что
теперь ты часть мира Берликорна, растительного мира. Сделаешь это для меня?
Койот кивнул.
- Думаю, да.
- Не обязательно все получится, - продолжила я. - Берликорн в снах -
могущественное создание, он поймет, что мы пытаемся напасть на него. Но Белинда и
я - дронты. Берликорн боится дронтов, потому что не может управлять их
историей . И теперь мы в два раза сильнее. Тем не менее, он опасный противник. Я
могу на тебя положиться?
Я думала, что из них двоих больше сомневаться будет Белинда, но, хотя я
чувствовала Тенью ее страх, она согласилась, и я благословляла ее за это. А
Койота что-то беспокоило.
- Сивилла Джонс, - прошептал он, - Джон Берликорн. . . Это он поднял меня из
могилы.
- Что?
- Я приехал сюда не только из-за вас, но и из-за Джона Берликорна. У него
есть для меня задание.
- Какое?
- Не знаю. Я просто должен был приехать сюда. Может быть, что-нибудь по
поводу его...
Койот резко замолчал. Что-то его испугало. Трава и цветы на нашей постели
задрожали под внезапными ми порывами ветра.
- Что такое, Койот? - спросила я.
- Его жена... - начал Койот. Трава и цветы вокруг поднялись волной знания и
плотно сплелись вокруг, полностью нас обездвижив.
Белинда закричала.
Персефона умирает. Она цепляется всеми побегами, плющом, но в ее зеленом
сердце проросли вредоносные семена реальности. Ей больше не нравится здесь,
не нравится этот мир. До этого она едва спаслась от шума и огня копов,
вломившихся в убежище ее коп-садовника. Она склеила свое тело с лишайниками,
покрывавшими сырые стены дома смерти, где мирно лежала в постели. И лишь таким
отчаянным способом ей удалось вырваться на свободу. Потом люди уничтожили
землю, в которой она спала. Куда ей теперь идти?
В сеть цветов.
Она стала тысячей, миллионом искорок в цветущей сети. Лепестки приносили ей
сообщения, на листьях появилась гниль. Каждый листок трепетно умолял: "Спаси
меня, спаси меня". Реальность нанесла удар. Персефона обратилась ко всем
своим цветам, ко всем одновременно, приказав им хранить надежду, потому что
когда-нибудь этот мир будет принадлежать нам. Продолжайте расти.
Но девочка-семянка беспокоится. Количество пыльцы остается на отметке 2010.
Может быть, мир достиг насыщения? Может быть, они пришли к ничьей, и
соперничающим видам придется добровольно прекратить борьбу? Персефона злится, а
семена липнут к ее коже. Она чувствует задержку роста. Грубые руки не отпускают
ее корни. Руки тех, кто обладает иммунитетом. Дронтов. Может быть, этот мир,
победил ее? Земля омертвела...
Она обнаруживает сорные семена, проводящие время в утехах на полях любви.
Таксишный цветок занимается этой животной грубостью, этим проникновением.
Иммунная девушка, ее зовут Белинда, о да, ей нравится, как он ее обслуживает. И
Сивилла, муникоп, она тоже где-то там рядом. Незримо присутствует. Персефона
вобрала себя в травы, которые они оскверняют плотью своих тел. Она закрывает
их травой, душит их, но тут еще одно семя прилепляется к ней. "Отпусти их,
Персефона! - звучит голос ее мужа. - Я хочу, чтобы они пришли ко мне.
Пропусти их. Я встречу их в пределах своей силы". "Возвращаться ли и мне с ними,
сэр Джон?" - осведомляются корни Персефоны. "Да. Уже пора. Возвращайся..."
Все равно ей уже хочется вернуться домой, правда? Разве она виновата в том,
что этот, мир такой увядший и бесплодный? И еще иммунный? Она и не подумает
мешать путешественникам в поиске черного сада матери и мужа. Она даже
проведет их туда по легкой дороге. Для того она и выпускает создания из своей
хватки, и ее переменчивый образ сливается со мхом под стоящей поблизости
машиной. Она приехала в этот мир на черном кэбе, на нем же его и покинет.
Вьюны опали с наших тел так же быстро, как до того взметнулись из-под
земли.
- Что это было? - спросил Койот.
- Может, что-то вроде предупреждения. Ладно, давай.
Белинда отказалась одеваться, заявив, что хочет отправиться в погоню голой,
так что, когда Койот посадил нас обратно в черный кэб, я почувствовала, как
мокрое тело дочери скользит по горячей коже сиденья. Койот приказал нам
держаться крепче, потому что поедем как получится.
Начался дождь.
Черный дождь.
Земля превратилась в грязь, и черный кэб стал тонуть в ней.
Глаза Белинде Джонс застлали слезы - она не выдержит этого грязевого
путешествия. Зрачки расширяются. Черная грязь залепила стекла, мы скользим в
глубь земли. Койот правил к черному саду. Я, Сивилла Джонс, держалась в теле
Белинды. Маленькая, слабая Тень Сапфира плакала в футляре.
"Я спасу тебя, сынок. Не надо бояться".
Мир растворялся, новый день превратился в линялые цвета.
Койот зарывался глубже - прочь от чужих рук, от времени и одиночества, от
бед и тревог, безопасности, правил, картографии, указаний, мерзких клиентов и
метакопов; все плохое отделялось и оставалось позади. Черный кэб опускался к
слабому зеленому мерцанию в непроглядно черной земле.
- Прямо как побег из изолятора, - сказал нам Койот.
И тут мы...
Тут мы...
Мы скэбировали вниз.
Тут мы...
А потом мы...
Мы спускались... наш путь зарастал корнями.
Мы. . .
Мы прорывались в другой мир. Нижний мир. Сны. Наконец-то - сны. Проснулись
в другом времени, в чужом саду. В подземном саду. Я в Белинде.
Мы. . .
Сад был черен, как ночь. Цветы - как смоль, лепестки - как ленивое пламя.
Мерцание темного семени. Мы зарывались в землю.
Спим... спим... падаем и летим...
Туда, в картину. Раскидываются лиловые тени. Кэб рычит, как пес, раздвигает
мокрую массу корней, прорывается, наконец, встает. Толстые корни дуба.
Скрученные и сплюснутые. Парализованные кляксы семян.
Черный сад.
Точно в то же время, 4:16 утра восьмого мая, мальчик по имени Брайан
Ласточка понимает, что змеи-констрикторы и стебли отпустили его. Он
обнаруживает , что его перенесло обратно домой, в кровать.
Его родителей, Джона и Мэвис, будят крики сына.
Все - и растения, и земля, и пес, и время - все сливается в движении и
рывком останавливается. Я чувствую, как угольно-черные корни сверлят мягкую
почву. Я смотрю глазами Белинды в окно кэба на объятый тьмой лес. Время снова
ночь. Время ускоряется, движется, размываясь. Куда пропал прошлый день? Луна
гнетуще проглядывала сквозь ветви. Кое-где кружили светлячки, тонкими линиями
света рисуя карту вокруг фиолетовых цветов. Койот вышел из кэба, смяв
открытой дверью упершиеся в нее ветки. Чтобы пробраться к пассажирской двери, он
пригнул куст диких гиацинтов. Мы вывалились наружу, как из такси после долгой
ночи в компании с ячменным вином. Вдвоем, одна внутри другой, шатаемся, как
пьяные. Я пыталась овладеть телом. Белинды, но она была слишком возбуждена,
слишком слаба после поездки. Она вдыхала аромат черных лепестков, ломала их,
заталкивала в рот сгустки черноты, пробуя на вкус живительную сладость.
Обнаженное тело-карта каталось по земле, сминая клумбы фиалок. Белинда испытывала
виртуальный кэб-лаг - шок от перехода в другой мир. Понадобилась вся моя
Тень, чтобы отвоевать хоть маленький кусочек ее плоти. Когда я заставляла ее
подняться, то я словно поднимала тяжелый, тяжелый груз. Койот помог мне,
обняв нашу талию крепкой веткой. Мы вытащили футляр с Сапфиром. Я позволила
Белинде привалиться к боку такси, повернув ее голову так, чтобы видеть, где мы
находимся.
Мы были не в той части сада, которую я увидела, когда меня вел Томми
Голубь , но и здесь, во всем господствовало то же гнетущее чувство. Воздух очень
густой и зернистый, я чувствовала, как он бьется о кожу Белинды. Тяжелые шары
черной пыльцы медленно двигались, поймав слабый ветерок. Ночной сад был так
темен, а пыльцы так много, что я с трудом различала что-то даже вблизи. Кэб
приткнулся у ствола большого величественного дуба. Под ним землю покрывал
плотный ковер фиалок, который кончался возле густой вязовой рощи. В сумраке
что-то слабо мерцало, и когда глаза Белинды приспособились к темноте, я
смогла различить среди деревьев две декоративные колонны.
Колонны обвивал плющ, и каждую венчала статуя ангела: фигура мальчика - на
левой и собаки - на правой. Бледные духи тишины. В промежутке между их
спящими крыльями листва была чуть менее густой, небольшой просвет в безрадостном
окружении, за которым, казалось, был какой-то путь. Или, если точнее, остатки
давно заросшей садовой дорожки.
- Я достал багаж, - сказал нам Койот. Он держал в руках футляр с Сапфиром.
Мы велели поставить футляр на землю и открыть. Койот так и сделал, отщелкнув
замки лиственными когтями.
- Каб-бля! - гавкнул он. - Первый раз провез зомби в собственном черном
кэбе.
Белинда посмотрела на него.
- Это мой брат, - сказала она. Сказала сама, и я была так рада это
услышать , что мне захотелось обнять ее. Что весьма затруднительно сделать
изнутри, но я попыталась. И поняла, что она почувствовала, как я засветилась
внутри.
Сапфир выполз из футляра, залез Белинде на руки и прижался к груди. Может
быть, увидел в ней меня. Не знаю. Белинда подвинула его поудобнее и
обернулась к Койоту.
- Пойдем посмотрим? - сказала она.
И я тоже сказала, одновременно с ней. Посмотрим вместе.
Мы прошли между окаменевшими ангелами по тонкой дорожке среди качающихся
деревьев. Койот шел первым, его черно-белые песоцветия мелькали перед нами. Я
следовала за ним внутри Белинды.
Черно-белая карта старого Манчестера на Белинде цеплялась за жесткие
колючки. Колючки царапали ей кожу, прокладывая новые дороги. Сапфир прижимался к
груди Белинды. Она крепко обнимала его. Казалось, в этом мире, в этом лесу
мой сын чувствует себя как дома, даже его аллергия немного унялась.
Сначала было трудно. Деревья сплетали пальцы над нашими головами, подавляли
нас, заводили в чернильно-темный туннель. Ветви хлестали нас, шипы кололи,
корни хватали за ноги. Но понемногу лес стал расступаться - деревья росли
реже , дорожка стала шире и виднее. Как будто она вела нас, хотела, чтобы мы шли
дальше. Теперь между ветвями время от времени появлялась желтая луна и
проливала на листья бледный свет. На луну выла стая собак: за деревьями мы слышали
ужасный лай. Белинда хотела повернуть назад из-за Сапфира, но Койот уже
раздвинул слипшиеся темные папоротники и вышел на освещенную поляну. Нам
оставалось только пойти следом.
Здесь нас ждала стая. На наших глазах они кинулись друг к другу, собирая
разномастные тела в один ужасный образ, огласивший воздух ревом. Из каждой
его пасти капал черный яд. В его стальной шерсти извивались змеи. Дерьмо
дымящимся ковром покрыло землю. А за этой тварью стояли узорные ворота из
кованого железа, врезанные в стволы сросшихся сосен. Пятидесятиглавый пес зарычал
на нас и прыгнул вперед, роняя с зубов хлопья пены.
- Боже! - Белинда бросилась назад вместе с Сапфиром.
- Чего надо, долбопес? - спросил Койот.
- Я - Цербер. Я страж леса. - Одна из голов приблизилась к лицу Койота,
капнула на него слюной и затем сказала:
- Тесто. Тесто и мед. Мед и тесто. Медовые булочки. Есть у вас такие?
Койот повернулся к нам:
- Есть у нас медовые булочки? Мы покачали головой.
- Есть хоть что-нибудь? - прорычал зверь.
- Полный голяк, псятина, - ответил Койот.
Псина злобно заворчала, головы заболтались, как на карусели.
Койот зарычал на Цербера:
- У меня есть полный набор зубов, выделанных из карты Манчестера. Хочешь
попробовать ?
- Попробовать - хочу.
Койот рванулся вперед и впился зубами в шею главной собаки.
Цербер адски взвыл. Потом изобразил щенячье-умилительное спокойствие.
- Ну ладно, - захныкал он. - Пройдите к воротам.
И устрашающее создание распалось на составные части: униженная стая краду-
чись растворилась во тьме, оставив поляну луне и путешественникам.
Койот открыл железные ворота на дальнем конце прогалины, и мы вошли в лес
мертвых сосен. В воздухе резко запахло смолой, под ногами захрустели жесткие
иголки. Мы шли по широкой тропинке между стволами. Тропинка извивалась, как
змея, так что мы окончательно потеряли чувство направления. Осталось чувство,
что нас ведут.
Впереди слышался звук лениво плещущей воды; наконец, линии стволов
разошлись , открыв необъятную лиловую водную гладь. Лепестки фиолетовой дымки,
смутно похожие на людей, играли над поверхностью. Мы стояли на темном берегу,
наблюдая за золотой лунной дорожкой. В центре озера на маленьком острове
стояла сцена кремового цвета. Посреди ее цветочных колонн оркестр исполнял
сильно измененную загробную версию национального гимна, "Парома через Мерси.
Эту страну я люблю и останусь здесь навсегда". Металлическое сияние
охватывало трубы и тромбоны, когда те издавали звук. За островом, на другом берегу
озера, в небе виднелись отблески света, будто чьи-то глаза вдалеке. Перед
нами легко билась о крепкие доски причала весельная лодка. На носу высилась
фигура в черной сутане, длинная и узкая, как сама ладья.
- Добрый вечер, дорогие мертвые, - приветствовала нас фигура надтреснутым
голосом. - Добро пожаловать в Пьяный Можжевельник. Заблудились в темноте, да?
Ну-ну, ничего. Не редкость в наших местах.
Койот спросил, как его зовут.
- Мое имя Харон, - ответил он. - Я перевозчик озера Ахеронт. По-видимому,
вы ищете переправу?
Койот сказал, что так и есть.
- Великолепно, нас ждет отличное плавание. У каждого ли из вас есть по
оболу?
Койот посмотрел на нас, мы на него. Койот спросил, что такое обол.
- Что такое обол?!
Речь перевозчика стала бессвязной.
- Обол! Только не говорите, что... хотите сказать... вам не положили монету
в рот... когда вы умерли? Ваши родственники? О боги, вот это прискорбно.
Прискорбно . Во имя смерти, как вы сумели пройти мимо Цербера?
Койот сказал ему, что многоголовый Цербер почти ничего не потребовал за
проход.
- Не потребовал! Возмутительно. Я непременно доложу. Ну, в самом деле, это
же против всяких правил!
Койот спросил Харона, может, обол - это вроде кэб-тарифа за проезд? Харон
озадаченно замолчал, и Койот объяснил ему, что такое кэб и тариф.
- Да! Вот-вот! Точно. Тариф. Тариф - один обол. Наконец-то мы до чего-то
договорились. Так вы готовы оплатить тариф? Ну, в самом деле, они обязаны
были положить вам обол в рот. Серебряную монету, равную одной шестой драхмы.
Есть такое?
Койот покачал головой.
- А еще что-нибудь? Что-нибудь, чтобы... заплатить за проезд? Ну, хоть что-
нибудь?
Сапфир соскользнул с Белинды и забрался внутрь лодки, устроившись у ног
Харона.
- Постойте-ка, - взвизгнул Харон, - что эта туша делает в моей ладье?
- Ловит попутку, - ответил Койот.
- Ну-ка уберите его!
- Сам попробуй.
Харон наклонился к Сапфиру, но мой зомби-сын растекся телом по корпусу
лодки . Его нельзя было убрать. Лодка угрожающе закачалась. Харон едва не
свалился в воду.
- Все это действует мне на нервы, - заныл он.
- Ссаживай его, - сказал Койот, - или бери нас всех.
Харон с раздражением оглядел берег и сказал:
- Ну ладно тогда. Запрыгивайте! Быстро, быстро! Пока никто не видит. В
самом деле, перевозить пассажиров за просто так - уже слишком. Никакой вам
платы! И как прикажете поддерживать свой бизнес? Как, а?
И вот мы вчетвером поплыли - пассажиры в лодке, тонким лезвием рассекающей
густую застоявшуюся воду. Только лунный свет, круглое облако пыльцы,
растворенное в тумане, танцующем вокруг. Только скрип весел Харона да приглушенная
мелодия пробирается к нам с центрального острова. Оркестр играл одно и то же
снова и снова, замедляя темп до похоронного марша, словно игра была неким
жестоким наказанием. Харон сидел на корме, его костлявые руки выглядывали из
рукавов, сжимая рукоятки весел. Несмотря на очевидную слабость, он греб без
всякого напряжения. Койот устроился на носу, Белинда - посередине, я - внутри
Белинды, а Сапфир свешивался через борт, вглядываясь в глубину. Он чихнул, но
почти неслышно. Ему определенно стало лучше, это было видно. Но что случится
с ним, когда мы возвратимся в реальный мир? Ведь тогда аллергия вернется? А
если после этой поездки ему станет еще хуже? И вообще, где он, реальный мир?
Я лишь смутно припоминала, кем я была раньше. Вирт изменил мою Тень, стерев
чувства. Все стало очень спокойным, тихим и застыло во времени. Луна, озеро,
темнота, скрип весел, печальная мелодия оркестра. Духи тумана. Белинда
опустила руку в воду...
- Не надо! - вскрикнул Харон. - Не касайтесь воды озера. Пожалуйста.
- Почему? - спросила Белинда.
- Потому что она может поглотить вас.
Белинда убрала руку; только когда мы проплыли больше половины озера и от
мелодии остались лишь неясные отзвуки позади, она заговорила снова.
- Койот? - сказала она. - Ты хоть представляешь, что сейчас происходит?
- Мы попадаем в разные истории, - ответил Койот. - Историю про пса с кучей
голов. Историю про драйвера водяного кэба. Сад, черный и с глубокими реками.
Сэр Джон ждет. Я чувствую, что он ждет нас.
Перевозчик подвел лодку к берегу.
- Высадка здесь, Белинда, - сказал Койот. - Ты не боишься?
Я заставила Белинду подтвердить, что она спокойна, и мы выбрались из лодки.
Сапфир снова забрался на руки Белинде. Койот повернулся к Харону:
- Оставишь счетчик включенным? - спросил он. Перевозчик сплюнул в озеро и
ответил, как будто точно знал, о чем спрашивает Койот:
- Никто не возвращается, дружище. Билет в одну сторону.
Лодочник засмеялся и оттолкнулся от причала.
Нас окружила тишина.
Только тихие вздохи весел, когда они опускаются и поднимаются из воды,
опускаются и поднимаются, - и вот уже волны успокоились и исчезли. Медь труб
холодно блеснула в воздухе, и звук умер. Луна скользнула за облако.
Тьма. Тьма была живым цветком.
Перед нами встала высокая стена растений. Стена была в два раза выше, чем
мы все вместе взятые, и над вершинами ее башен-стволов различался бледный
свет. Белинда велела Койоту вырасти выше самых высоких стеблей, пробиться
наверх и взглянуть, что с другой стороны этой цветочной стены. Он поворчал
немного и попробовал сделать, как она сказала. Но не успел он дорасти до
середины, как стебли сплелись над ним, пригибая его к земле. После пятой попытки
Койот сдался и сказал Белинде, что эта история не хочет, чтобы они глядели
выше верхушек деревьев.
- Ты меня раздражаешь, Койот, - сказала Белинда. - Я думала, ты сможешь
быть проводником.
Койот помолчал мгновение, пока лепестки его ноздрей изучали пахучие следы.
Потом двинулся с места и зашагал вдоль стены налево. Мы втроем пошли за ним,
совсем запутавшись. Мы шли, наверное, несколько лет, а может быть, это только
нам показалось. Податливое, изменчивое время. Могло пройти всего несколько
секунд. Наконец мы нашли в стене отверстие. Или стена открылась для нас. Или
мы открылись ей.
Не имеет значения. Что-то случилось. Что-то медленно происходило, слишком
медленно, чтобы его осмыслить. Темное пространство между двумя мирами. Черный
путь между живыми стенами. Мы смотрели в черные зеркала - пути ветвились
дорожками, своенравными, как линии извилистого сюжета. Светлячки мигали в
пробелах между словами, между листьями.
- Надо бы нам атлас лабиринтов, Белинда, - сказал Койот.
Белинда ответила, что надо не думать, а идти:
- Да что за дела? Попробуем, как повезет.
Бродим, заплутав в саду тысяч цветов, тысяч углов и проходов. Каждая
тупиковая аллейка обрывается в темноту, усеянную неяркими кляксами светлячков.
Снова появилась луна, выглянула из-за рваного облака, показала нам, как же
безнадежно мы потерялись.
- Ты что, ничего не знаешь о лабиринтах? - спросила Белинда. Койот покачал
лепестками. - Ну, знаешь, я думала, ты разбираешься. Господи, ты же вроде как
лучший драйвер всех времен и народов! Что такое, в конце концов?
- Белинда, ты начинаешь действовать мне на нервы, - прорычал Койот сквозь
лепестки.
- В смысле, нам надо просто все время поворачивать налево? Или держаться за
золотую нитку? Или идти по оставленным на земле кусочкам хлеба или чего-то
там? Короче, или что? Мы так и будем ходить тут кругами? Это - наш метод? Ну?
Койот не смог1 ответить. Дважды мы возвращались к входу. Каждый раз снова
уходили от него, надеясь найти другой маршрут. Представь только: голая
девушка с вытатуированной картой, растительный пес, сам - дорога до кончиков
веток, пассажир - теневой коп, которому известно бесконечное множество неверных
путей, и дитя Лимбо, нашедшее запретную дорогу к жизни. И все мы не можем
пройти обыкновенный сад-лабиринт. И когда луна снова заползла за облако, сад
затянуло мглой, а стены растений сомкнулись вокруг - как нам было не
отчаяться? Белинда стала роптать, заявив, что ей трудно нести Сапфира. И как раз
тогда мы сделали еще один поворот налево - а за ним появился свет. В нескольких
метрах впереди была дырка в ограде, и из щели проглядывал бледный
колеблющийся свет. Мы кинулись туда, надеясь...
Перед нами раскинулось озеро. В третий раз. Луна, та же луна. То же озеро.
Тот же оркестр на сцене. Его не слышно и не видно, но он чувствовался, как
пыль в воздухе. Мы пошли обратно в лабиринт. Черная пасть все так же ждала
нас.
- Каб-бля! - крикнул Койот.
- А мне казалось, мы участвуем в этой истории, - сказала Белинда.
- Я хотел сказать, что дорожки все время меняются, - глаза Койота
прикрылись листьями. - Карта непостоянна, она изменяется с каждым нашим шагом.
Лабиринт нельзя пройти...
Светлячок, носившийся от лепестка к лепестку, засиял и внезапно полетел в
глубь проходов, освещая сад.
- Поймай его, Койот, - сказала я через Белинду. Койот выкинул ловкую
суставчатую ветку и задержал светлячка мягкими лепестками. Далматинский цветок
на ветке засветился.
- Может быть, мы ищем не тот цветок, - сказала я голосом своей дочери. Я
подумала о связи между полетом светлячка и тем, как моя Тень работала на
новой карте Манчестера. Следуй за огнем. Койот выпустил светящегося жучка. Тот
замелькал среди растений. Мы с довольно хорошей скоростью погнались за
стремительными вспышками. От угла к углу, из прохода в проход. За ним. Горячий
след маленьких крыльев, пылающая карта. Сапфир изо всех сил цеплялся за Бе-
линду, так быстро мы теперь двигались. Налево, снова налево. Снова налево. И
потом налево. Опять налево, следуя за огоньком в темноте. Опять налево. Еще
раз налево. И там налево. На следующем повороте налево. Опять налево. Налево.
И налево. Налево, налево, налево. Крутимся и вертимся. Налево и теперь
направо , один раз. И потом еще один поворот налево, последний поворот и...
Писающий Купидон.
Каменный младенец, водруженный в центре декоративного фонтана, пускает
струю в озерцо застоявшейся зеленой воды. Младенческая пиписка в крохотных
пальчиках. Тонкая струйка воды из скульптурного пениса. Мясистые крылышки
торчат из бледных лопаток.
Центр лабиринта. Банальный садовый фонтанчик в кольце цветов. Никаких
дворцов . Никакого Джона Берликорна. Никакого выхода. Кроме нашего учащенного
дыхания слышно только слабое журчание воды по камню, по лунным теням. Ветер
слегка волнует поверхность пруда.
Светлячок направился прямо к струе, влетел в нее и упал со слипшимися
крыльями на водоросли.
- И что теперь, мистер Пес? - осведомилась Белинда.
- За ним.
Очень просто. За ним. Попьем из этого фонтана. Мы подошли за Койотом,
который уже успел подставить лицо под струю мочи. И пил. Сапфир прыгнул с плеч
Белинды прямо в фонтан и открыл рану в мягкой плоти, чтобы моча затекла
внутрь.
- Ну да, я вижу, вы уже там, - сказала Белинда.
- Может, надо подождать, - ответил Койот, луна ярко освещала его лепестки.
- Может, Берликорн ждет. Пока мы все не попьем.
Пришлось постараться, Белинда сопротивлялась, но я через Тень все-таки
заставила ее ступить в воду. Нашим босым ногам стало холодно. Я пригнула ее
голову к струе. Пить, глотать. И крохотный пенис вырос до чудовищных размеров.
Каменные руки. Крепкие руки на плечах Белинды заставили ее взять в рот
головку толстого члена, которая превратилась в пурпурную мякоть желания...
Белинда упала вниз головой в озеро темноты. На ее губах остывала моча.
Золотой дождь...
Вторник 9 мая
Золотой дождь... дождь капает на тарелку мяса. Белинда сидела за большим
квадратным столом, уставленным фруктами и мясом. Она вжимала вилку в толстый,
почти сырой бифштекс. Мясо оживляли розовые черви. В другой руке Белинда
держала нож, которым она отрезала кусок. И лишь только мясо коснулось языка, я
внутри нее пришла в себя после фонтанопада, почувствовала течение соков и
движение червей у нее на губах. Мне потребовались все силы моей Тени, чтобы
заставить дочь отвести руки ото рта.
"Не трогай мясо, солнышко. Не ешь".
Внутри шел дождь.
Я смотрела сквозь глаза моей дочери.
Где мы оказались? Эта комната...
Ее стены растворялись вдали, разукрашенные туманом. С потолка падала легкая
морось. Желтые капли. Сквозь облака мутно светили канделябры. Свет гудел,
статикой, электрическим синим. Жужжание мух, жадных до мяса. Влажная
поверхность стола увита стеблями. Личинки, ползающие в голубом сыре, и черви в
мясе . Оловянные кружки с тяжелым вином стояли за каждой тарелкой. Моя Тень за-
стыла в Белинде, сидевшей за столом. На ней сейчас было бархатное платье.
Койот сидел слева от нас, зарывшись вялой мордой в тарелку сырой свинины.
Сапфир залез прямо на стол и жирным языком лакал из горшка рис со сметаной.
Как грустно было мне видеть, как они едят, и как больно! Есть в Преисподней -
значит остаться там навсегда. Так говорят? Цветочная девочка Персефона сидела
на столе, скрестив ноги, и листала краденый атлас Манчестера. Страницы атласа
были мокры, покрыты сыпью дождя. Справа от меня стояло пустое кресло.
Напротив нас с Белиндой, за огромным полем стола, сидел молодой мужчина с яркими
иссиня-черными волосами и кожей цвета сажи.
- Доброго вам дня, мадам Джонс, - произнес он бархатным голосом. - Добро
пожаловать на праздник.
- Я не могу пошевелиться. Почему я не могу пошевелиться?
- Надеюсь, путешествие сюда было приятным? Я взял на себя смелость прикрыть
наготу твоей дочери. В конце концов, теперь это и твоя нагота.
Я попыталась поднять Белинду на ноги. Ее тело было как свинец.
- Вы в моих владениях, и вы уйдете, когда я довершу дело с вами. И не могу
гарантировать, что вы будете в добром здравии. Добро пожаловать в Пьяный
Можжевельник , дорогие путешественники.
Ни Койот, ни Белинда не ответили на его рулады, и я поняла, что он говорит
прямо со мной: его голос цвета сажи тек через Тень.
- В точку, мадам Джонс, - ответил он. - Какая проницательность! Остальные
сейчас безнадежно под моим контролем. Осталась только ты. Но я вижу, твое имя
- Сивилла. Да. Восхитительно! Мне нравится.
Милый штрих.
- Ты - Джон Берликорн? - спросила я. - Я видела твое лицо у змея в лесу.
- Хочу выразить тебе благодарность за то, что вы вернули мою жену.
Он улыбнулся девочке на столе.
- Ее с нами не было.
- Моя милая Персефона бывает очень изобретательной. Но как это грубо с моей
стороны! Ты же спрашивала о моем имени. Думаю, в твоей стране меня зовут
Джек-Гнилушка? Правильно? Или Джек с Фонарем. Или собственно дьявол, Сатана,
Змей. Гадес. Ах, бесконечная щедрость человеческого воображения! Оно уходит
на отдых, оставив после себя несколько избранных слов. - Он смаковал каждый
звук, словно кусок мяса, - Джон Берликорн. Да, это мое любимое имя. Я - сам
ваш бог брожения, дух смерти и возрождения в почве. Я - ваше вино. Ну да,
миф, с которым вы, люди, так носитесь. Но разве это важно? Имена для людишек.
Разве цветок знает свое имя?
Я снова попыталась поднять Белинду из-за стола, но меня держала темная
могучая сила.
- Черт, куда это ты собралась? - Взгляд Берликорна прожигал плоть моей
дочери.
- Ты не имеешь права удерживать меня...
- Прошу. Не. . . пытайся.. . что-нибудь. .. сделать. Ты только заставишь ме-
Его взгляд причинял мне боль.
- Должен извиниться, мадам... - Лучик света вернулся в его глаза. - ... за
мое предыдущее замечание. Очень неблагородно - браниться за обеденным столом.
- У вас могучая Тень, мистер Берликорн... - Я пыталась угодить ему,
выиграть время.
- Благодарю за комплимент. К сожалению, ты мне не угодишь и не выиграешь
время. Да, я знаю каждую мысль, каждую жалкую человеческую эмоцию, которая
пролетает через твой череп. Но на самом деле... Я - то, чем ты хочешь меня
видеть. Для Койота я - пес-цветок. Для Сапфира я - любящий отец. Для Белинды
- лучший любовник. Несмотря на все свои помыслы, они стали легкими жертвами.
Посмотри на них. Видишь, как легко оказалось их контролировать? В моих руках
они беспомощны. Наконец, после долгих лет борьбы, я заполучил живых, дышащих
людей, чтобы пообщаться, а они оказались больше похожи на игрушки. Возможно,
ты оказалась самым ценным гостем. Дорогая Сивилла, чем я должен стать для
тебя? Я был восхищен твоим появлением в лесу пару дней назад, знаешь ли. Всегда
хотел поговорить с... н-да... с дронтом. Надеюсь, это корректное выражение?
Или ты предпочитаешь "Неведающий"?
- Я сюда пришла не разговоры разговаривать.
- Ты сюда вообще ни за чем не пришла. Ты здесь, потому что я так решил. А
теперь, пожалуйста, перестань сопротивляться, прояви уважение. В конце
концов, я - одно из ваших величайших творений.
- Останови аллергию, Берликорн. Люди умирают.
- Сивилла, мне кажется, ты мне врешь. Тебя совершенно не волнует внешний
мир, реальность. Люди! - Он выдохнул это слово, как ругательство. - Твой сын
- этот уродливый поросенок, который обедает за мой счет, - это его ты хочешь
спасти?
- Да...
- Громче, пожалуйста, и четче.
- Да. Прошу, не дай умереть Сапфиру! Берликорн улыбнулся.
- Ты совершила выдающееся путешествие. Нет, правда. Так спасти свою дочь.
Отдать ей себя. Наверное, это было длинное падение. Белинда уже почти
встретила свою смерть.
- Кто дал тебе право вмешиваться в человеческую жизнь?
- Тебе не понравились аттракционы, Сивилла? Пятидесятиглавый пес? Лодочник?
Духовой оркестр? Сад-лабиринт? Конечно, понравились. Тебя все время
развлекали загадки. Это для меня нежданное удовольствие, ты должна понять. Я приказал
Койоту привезти назад мою жену, а он заодно привез... "дополнительный багаж",
кажется, он так это называет? Что ж, я рад. Иногда становится весьма одиноко.
Я просто хочу развлечь тебя, Сивилла, так, как умею, в традиции, к которой ты
приучена. В конце концов, разве не для этого вы меня придумали? Теперь ешь.
Наслаждайся трапезой.
Он зачерпнул руками мясо и поднес его к своему рту. Я чувствовала, что
Белинда хочет есть, но она была сейчас под моим контролем; ничего, походит
голодной . Она поймана здесь, как, впрочем, и Сапфир, и Койот. Я единственная
сопротивлялась обаянию Берликорна. Я даже не могла больше поговорить с
дочерью. И потому я воспользовалась возможностью изучить Джона Берликорна
получше . Он и вправду был очень красив...
Натянутая смуглая кожа обрисовывает великолепные кости. Глаза ночи,
наполненные нежной скукой. Тонкое лезвие носа. Сжатые ноздри. Густые блестящие
волосы, в которые он как раз запустил измазанную жиром руку. Тщательно
подстриженная козлиная бородка. Строгий пиджак цвета чернил. Хрустящая белая
рубашка. Галстук-шнурок, заколотый амулетом с черепом и скрещенными костями.
Поздние двадцатые, ранние тридцатые. Он выглядел, как хищник, но я знала, что это
только представление Белинды. Полные, мрачные губы, идеальные для любви,
одуряющей любви.
- Давайте восхвалим мистический процесс, - объявил Берликорн, - в котором
плод лозы превращается в вино, которое, в свою очередь, переносит
человеческое сознание в захватывающее царство. Выпьем же!
Он поднял стакан, и мы все, присоединились к нему, даже маленький Сапфир и
Персефона; я чувствовала кроваво-красное вино, текшее по горлу дочери.
Слишком поздно, слишком поздно... Слишком поздно, она уже сделала глоток. Какая
крепость у этого вина? Как мне не утонуть в его реке тепла и уюта?
Койот, чавкая, зарылся в тарелку. Сапфир чихнул в горшок, а потом залился
счастливым смехом. Белинда глушила вино.
Мы были во власти Джона Берликорна. Заклинание завершилось.
- Да, заклинание завершилось, - сказал он, забравшись в глубины моей Тени
за знанием. - Как я рад, что ты добралась сюда, моя дорогая Сивилла! Ты не
поверишь, как одиноко тут бывает, в этих перьях. Эти мифы... они как темницы.
А побыть в человеческой компании, хотя и не самой теплой. . . На самом деле. . .
это лучше всего.
Койот и Сапфир дрались за кусок бифштекса, а Белинде просто нравилась
компания. Я чувствовала, что осталась последним отголоском разума. На
расчерченный череп Белинды лил дождь.
- Мне бы хотелось быть свободным, - продолжал Берликорн. - Свободным от
мифа. Вот почему я послал вам Персефону и аллергию. Думаете, мне все это
нравится? Думаете, я получаю удовольствие от жизни взаперти? Вы и вправду
думаете, что мне нравится быть просто частью одной из ваших историй?
- Персефона - убийца.
- Думаешь, это подходящее слово? Убийца? Вы, смертные, придаете ей такую
важность. В смысле, жизни. И так цепляетесь за нее. О боже, как же вы любите
цепляться! Честное слово, это даже утомляет. Ты когда-нибудь слышала, чтобы
растение жаловалось на смерть?
Персефона скользнула по столу на колени Берликорна. Угнездившись там,
запустила пальцы ему в волосы. Сияющие синим, как черные светила, казалось, они
шевелятся. Длинная, искрящаяся прядь их поднялась в воздух, а потом упала на
розовый бифштекс. Они ели, его волосы ели! Руки Берликорна блуждали по телу
Персефоны, левая лежала на бутоне груди, правая залезла между ее ног.
Персефона хихикала.
Я оттолкнула тарелку Белинды:
- Не знаю, как ты можешь это есть. Гнилое же. В глазах мужчины появился
черный огонь:
- О, извините! Я люблю, чтобы мясо было с душком и сырым. Сивилла, дорогая!
Я самонадеянно решил, что у тебя те же вкусы...
Я не отвечала. Ни улыбкой, ни смехом.
- Койот определенно наслаждается трапезой, - продолжал Берликорн, глядя
туда, где пес вгрызался в очередной розовый шмат свинины. - Да, из твоего друга
выйдет отличный охранник. Дело в том, что Цербер, он как бы немного... не
совсем адекватен. Ты заметила? Но я хотел рассказать тебе о моем вторжении. Во
мне проснулась жажда путешествий, знаешь ли, желание заражать. Желание стать
рассказчиком, а не историей. Но была одна маленькая сложность. Если бы я
покинул вирт-историю Пьяного Можжевельника, она бы пришла к печальному концу.
Мисс Хобарт собственной персоной прописала это в перьевые свойства. Она
хотела быть уверенной, что у каждой истории будет свой центр. Мое великое желание
будет вечно неутоленным. В самом деле, кто пригласит дьявола на ужин? И я
подумал, что могу отправить в ваш мир кого-нибудь или что-нибудь, а кто может
путешествовать лучше, чем моя любимая, моя жена Персефона? От ее семени
произрастут тысячи, миллионы историй, и все они будут моими детьми.
- Ты ведь боишься меня, сэр Джон?
На мгновение он задержал дыхание. Похоже, он впервые задумался над моими
словами. Но мне хотелось дожать его.
- Ты боишься меня, потому что я дронт, - сказала я. - И ты не можешь
заразить меня своими историями. Ты ничего не можешь мне сделать.
- История твоей жизни закончится с твоей смертью, - улыбнулся он и
продолжил:
- К тому же чем больше историй вы рассказываете, тем дольше будем жить мы,
сноборигены. И хотя твоя жалкая плоть обветшает и умрет, мы, сноборигены, не
умрем никогда. Всегда найдется рот, чтобы накормить. Истории - как пища, ты
знаешь? Пища для языка, а язык должен быть хорошо подвешен. Что ты собираешь-
ся делать, Сивилла? Зачем ты пришла сюда?
- Я хочу тебя уничтожить.
- И как ты собираешься это сделать?
- Я хочу уничтожить тебя за ту боль, что ты принес в мой мир, моим
друзьям. . .
- Как же ты убьешь сон? Это все равно, что отрубить себе голову. Дороги
отсюда нет, Сивилла. Я - изящная история, которую увидели в снах твои предки.
История о мире под миром. О вашем страхе перед смертью. Из этого страха
сделали меня. В первое время это было несложно! Истории рассказывались, а потом
исчезали. Во вздохе. - Он глотнул еще вина, а потом вновь заговорил:
- Я верю, что этот окрашенный кровью эликсир был самым первым образцом Вир-
та. Только через его трансформации ваши предки могли представить другой мир
за гранью повседневности. От глотка вина произошли книги и картины,
кинематограф и телевидение - все способы фиксации. А благодаря мисс Хобарт и перьям,
Вирту и разделенным снам продолжилась наша жизнь. История изменилась. Мифы
растут, даже если вы их не рассказываете. Нам больше не надо быть
рассказанными . И однажды мы расскажем себя. Сон оживет. Вот почему я принес аллергию в
твой мир. Я хочу власти над миром. Я хочу заразить вас своей любовью.
Потом произошло что-то очень странное, если в этом случае я могу употребить
слово "странное". В дальнем конце столовой из ниоткуда появились четыре пули.
Они медленно пролетели вдоль стола, мимо каждого из нас, проползли сквозь
воздух над четвертым, пустым креслом, а потом исчезли в тумане. Джон Берли-
корн с отвращением следил за их полетом.
- Знаешь, меня ужасно бесит, когда люди так делают, - сказал он. - Стрелять
в Вирте. Неужто вы, люди, не понимаете, что эти пули так и будут
путешествовать по историям, пока не найдут достойную цель? В мифах ничего не пропадает,
только меняется. Это место Колумба. Он был приглашен на праздник. Что мне
теперь делать? Какая невоспитанность!
Медленный полет пуль напомнил мне о деле.
- Прошу... ты завоевал моих детей и мой город своей любовью... но можешь ли
ты спасти моего сына?
Берликорн вздохнул.
- Вот мы, в моем золотом дворце, который стоит в центре сада. Который лежит
в сновидении, в мифе. Миф внутри райских перьев. Внутри мира Вирта,
заключенном в реальности. Мы устроились в мифе внутри мифа, но все, о чем ты кричишь,
- это о жизни и смерти своего первенца. Право, Сивилла, я ожидал от тебя
большего!
- Больше нет ничего. Это моя история. Верни мне ребенка.
Берликорн только отмахнулся от моих слов.
- Достигнув успеха в отделении сна от тела, мисс Хобарт осознала, что тело
- всего лишь сосуд. Сны могут продолжать жить в Вирте, тело не нужно. И вуа-
ля! Райские перья. В наши дни для тех, кто в состоянии заплатить. . . можно
сказать, смерть больше не является концом жизни для простых смертных. Ваши
сны могут жить, сами выбрав себе обстановку, мир, религию. Выбрав историю.
Так теперь живет и мисс Хобарт, ведь она умерла много лет назад. Она живет в
райском Вирте. Никто, конечно, не знает, где именно. Она выбрала собственную
безопасную тайную историю.
- Пожалуйста... останови аллергию, - я стала впадать в отчаяние. - Вылечи
моего Сапфира!
Берликорн смахнул в сторону свою кружку с вином и опустил кулак на стол.
- Ты когда-нибудь закончишь ныть?
Его голос ошпаривал отвращением, а глаза прожигали насквозь.
- И это твое единственное желание? Что? Жизнь для твоего пропитанного
смертью сына? Да что с тобой такое? Давай же... покажи, что ты сильная.
- Все люди хотят одного и того же, Берликорн, - холодно сказала я. - Мы
живем ради своих детей. Твои истории тебе как дети. Наши дети - наши истории.
Берликорн резко выдохнул, успокаиваясь. И посмотрел глубоко в глаза Белин-
ды.
- Моего отца звали Хронос, Сивилла, - сказал он. - Он хозяин часов, он
создал Время. Он не хотел, чтобы я родился. Так начинается моя личная история.
Гадатель предсказал Хроносу, что его убьет один из его детей. И надо же, он
попался на эту дешевую уловку. Он убивал моих старших братьев и сестер при
рождении. Глотал их. Он проглотил и меня. Исключительно хитрость помогла мне
выжить внутри желудка моего отца. Среди едва слышного тиканья в его животе,
дней, измеряемых каплями. Сок стекал в темноту, отделяя друг от друга
мгновения . Наверное, я был весьма близок к смерти, но мне удалось убежать от нее. Я
родился вновь. Меня ли нужно обвинять в том, что люди пока не способны
сделать то же самое?
- Некоторые способны, - ответила я.
Берликорн устремил взгляд сквозь дождь куда-то вдаль.
- Эта твоя история, - продолжила я. - Похожа на...
- Эта моя история! Как ты можешь? - внезапно он повернул ко мне искаженное
от боли лицо. - Думаешь, я это выдумал? Вы это выдумали. Это твоя история,
Сивилла, и прочих ничтожеств, таких же, как ты. Какие же примитивные истории
вы рассказываете, да еще требуете, чтобы мы были довольны жизнью в их
пределах!
- Мы создали вас.
- Да! О да! И однажды мы вас покинем. Можно ли нас осуждать, в самом деле,
можно ли нас осуждать за то, что мы хотим продолжаться? Стать лучше, чем вы?
- Все, чего я хочу, - чтобы мой сын был здоров.
Берликорн секунду смотрел на меня, потом отвел глаза. Его взгляд вновь
исполнился грустью.
- Мисс Хобарт так разочарована. По-настоящему. Вот человек, достойный
своего имени. Настоящий творец.
Джон Берликорн умолк. Он вздохнул и снова посмотрел на меня. И вновь
раздался его печальный голос:
- О чем еще, кроме выхода, мог я думать, скитаясь все эти годы в полном
одиночестве в темноте внутренностей моего отца? А что еще я мог сделать,
найдя выход, кроме как погрузиться в темную землю? Я вел жизнь под землей,
питаясь корнями. Один, все время один. И вот я услышал, как по моей травяной
крыше пробежали ноги девочки. Я потянулся к ней, охваченный желанием. Сделал ее
своей. Своей цветущей невестой. Я дал ей гранатовых зерен, чтобы она
оставалась верна мне. Разве не так, моя сладость?
Длинным фиолетовым языком Персефона водила по шее Джона Берликорна. Его
волосы немного отодвинулись, сами по себе отдернулись с шеи. Мужчина улыбнулся,
прикрыл глаза от наслаждения. Время текло медленно, девочка вылизывала
смуглую кожу. На стол капал мелкий дождь, собираясь в лужицы между блюдами с
едой. Черви ползали по сырому мясу, которое Койот, поддавшись чарам, загребал
челюстями. Сапфир хрустел дергающимся жучком, которого нашел в рисе; с жирной
кожи моего сына скатывалась влага. Я чувствовала дождевые потоки, стекавшие
по голове Белинды, прямо по центральным улицам Манчестера, потом по ее шее и
дальше под платье. Я вновь попыталась заставить ее тело встать, но вес был
слишком велик. Белинда задрожала, и вместе с этой дрожью вновь открылись
глаза Джона Берликорна, теперь налитые черной ненавистью.
- Мать Персефоны, конечно, очень рассердилась, - сказал он. - Очень
рассердилась . Как же, ее драгоценная дочь и прочая херня! Прошу меня извинить за
подобные выражения, Сивилла, но Деметра заслуживает и самых грубых слов. Она
хотела забрать свою драгоценность. Деметра так разозлилась, что послала в ваш
мир цветок-убийцу, сделав землю такой же высохшей и холодной, как ее
собственное сердце. Вы, конечно же, встречались с матерью Персефоны, Деметрой?
Я сказала ему, что не встречались.
- Встречались, встречались! Слушай дальше. Тот ядовитый цветок, который она
послала, вы, кажется, назвали Танатосом.
- Танатос появился из Вирта? - спросила я.
- Хорошее название, позволь заметить. Танатос. Бог1 смерти. Конечно, ты со
смертью au fait5, не так ли, Сивилла? О да! В довольно близких отношениях.
Возьмем, к примеру, твою мать. Этот разложившийся труп. Член твоего отца,
воняющий замогильной еблей. Тень внутри тебя, которая есть нежный поцелуй
смерти. Этот твой полумертвый сын. Самоубийство твоей дочери из-за любовного
разочарования. Твой собственный затяжной прыжок из окна отеля. Посмотри же на
себя теперь, ты изображаешь жизнь внутри безжизненной куклы, которую до сих
пор имеешь наглость называть дочерью. Как еще я мох1 дать тебе доступ в
глубины Вирта? Танатос и Сивилла, я объявляю вас мужем и женой...
Он рассмеялся. Это меня рассердило. Так же, как осознание, что долгий путь
был пройден бесцельно; как огорчение, что меня полностью контролирует тот,
кого я глупо надеялась однажды уничтожить.
- Я хочу, чтобы мой сын жил, - закричала я. - Довольно страданий!
- Ах да, конечно. Я как-то забыл - материнская любовь. Страдание. Желание
воскреснуть. Все, все, что угодно...
Персефона перебралась с его колен обратно на стол. Теперь она гладила
облезающую кожу Сапфира, на мокрую шкуру опускались осторожные ростки. Берликорн
нежно смотрел на жену, его голос перекрывал тихий шум комнатного дождя.
- Мать, конечно, хотела ее вернуть, - сказал он. - И чума, которую Деметра
наслала на Англию... сказать честно... довольно-таки порадовала меня. Нельзя
сказать, чтобы я любил жизнь, поскольку как я могу любить тех, кто поклялся
убить меня? Это мисс Хобарт изменила меня. Да, она нанесла мне визит. Тогда я
впервые ее увидел. Конечно, всем известны истории, слухи: она автор-
создатель , разработчик перьев, изобретатель удовольствия. Первый сновидец.
Встретить ее, так сказать, во плоти было весьма впечатляюще. Как я мог не
поддаться? Между прочим, странно: она считала меня сильнее ее. Представь,
если можешь, что бог посчитал Адама сильнее себя, тогда ты поймешь, что я
чувствовал . Я дал мисс Хобарт доступ к лесам Деметры, чтобы выдернуть зеленое
перо из хвоста одной из летающих по нему птиц. Плодородие 10 - так вы назвали
этот продукт. Уродливое имя, простите за дерзость. Но зато чудеса, которые
оно творило. . . Итак, мы согласились, что в соответствии с мифом моя жена
будет две трети года проводить с матерью и только одну треть - со мной. И
появились времена года. Это же более чем справедливо.
Берликорн коротко засмеялся, улыбающейся волной темно-синего дыма поднялись
его волосы. Он поднялся и обошел вокруг стола, став позади меня. Я
чувствовала его руки, лежавшие на плечах Белинды, чувствовала, как его пальцы мягко
массируют мое отчаяние. В тот миг я не могла ни шевельнуться, ни заговорить:
дьявол зажал мою душу в кулак. Я чувствовала жар. Слышала жужжание мух.
Ощущала его голос, пронизывающий мою Тень...
- Просто я устал, - вздохнул он. - Вот почему к вам пришла пыльца. Потому
что я устал, что меня только рассказывают. Я хотел жить, Сивилла. Как ты.
Хотел жизни, во плоти и крови. Жизни, полной неожиданностей и боли. Жизни,
которая кончается смертью. Я завистлив, да, признаю. Смерть так много значит
для вашего вида. Кем бы вы были без нее? Смерть - ваш источник энергии, из-за
нее рождаются ваши желания, ваше искусство. Я хочу почувствовать этот голод,
но мисс Хобарт посчитала нужным, чтобы я всегда оставался внутри сна. Я не
5 Знающая, знакома (нем.)
могу умереть. - Теперь его руки поглаживали карточереп Белинды. - Персефона -
попытка смерти-после-жизни. Будут следующие попытки, и делать их будут более
могущественные демоны. Однажды Вирт придет. Ну же, позволь, я покажу тебе
будущее . . .
Берликорн обвил пальцами шею моей дочери, сжал, сильно и осторожно, а затем
нежно коснулся ее шеи красными, как вино, губами.
И укусил меня.
Укус прошел сквозь плоть Белинды и перехватил дыхание моей Тени. Разум
Берликорна втягивал мой дым с такой силой, что я в самом деле вытекла из плоти
Белинды. Моя аморфная Тень металась по комнате по велению Джона Берликорна. Я
чувствовала себя рассредоточенной и потерянной. Разорванной на части.
Берликорн немного поиграл с моей формой, показывая, что это ничего ему не стоит, и
наконец позволил мне вылиться в воображаемую идеальную скульптуру из дыма - я
стала телом молодой женщины, свежим, возбуждающим, но состоящим лишь из серых
закрученных облачков вырвавшейся на волю Тени. Я посмотрела на опустошенное
тело дочери.
- Не беспокойся за нее, - сказал Берликорн. - За ней присмотрят, пока мы не
вернемся.
И от одного взмаха его рук столовая исчезла в жарком колеблющемся воздухе.
По его желанию я перенеслась на небольшой открытый участок среди
перекрученных внутренностей джунглей.
- Вот как я вижу новый мир, Сивилла, - сказал Джон Берликорн, продвигаясь
сквозь зелень листьев медленно, как хладнокровный воин. - Колумб представил
будущее совершенно превратно. Вот мой Манчестер, тот, каким я его вижу в
будущем . Рассмотри его хорошенько.
Повсюду вокруг1 меня, пытающейся не отстать от создания снов, меж деревьев и
цветов сражались, танцевали и целовались мириады различных персонажей. Тут
был Грендель, тут был Ахиллес, тут был Робин Гуд, тут были Гаргантюа и
Пантагрюэль , тут были Владимир и Эстрагон, тут был Том Джонс, тут был Гумберт
Гумберт, тут был Папай-моряк, тут был Человек-Паук, тут была Джен Эйр, тут
был Дэйв Боумен, тут была Элинор Ригби, тут были Иисус Христос и Стойкий
Оловянный Солдатик, Леопольд Блум и медведь Руперт - все созданные человеческими
усилиями вымышленные персонажи были посажены в этом зеленом мире, и все они
кувыркались, любили, сквернословили в сокровенном хаосе бесконечной истории.
Меня захватили безудержные видения - Шерлок Холмс, и Великолепная Пятерка,
и король Лир, и Микки-Маус, и Йозеф К., и Венера Милосекая, и Дик Дастардли с
Матли, и Холли Голайтли - но я поняла, что Джон Берликорн остается рядом,
чтобы помочь моей тенеплоти высвободиться из когтей этих историй.
- Вот мир, за рождение которого я сражаюсь, - сказал мне Берликорн. -
Клубок мифов заражает реальность. В этих мифах мои дети будут жить вечно и, кто
знает, может, однажды упокоятся с миром... наконец... наконец... как
нормальные.
На мгновение он остановился, когда густая чаща рассказов закрутила вокруг
нас цветочный покров. А потом освобождение шагнул к видневшемуся вдалеке
сиянию света.
- Идем быстрее, Сивилла, дорогая, - поторопил он меня. - Ворота в город -
прямо перед нами. Быстрее, быстрее! Я хочу, чтобы ты там кое-кого встретила.
Можешь поживее, Сивилла?
Он схватил меня за руку.
История схватила реальность за руку, представь!
Я, как могла, боролась с тяжестью всепоглощающих историй - но неожиданно мы
оказались около увитых плющом железных ворот. Только тогда я поняла, где мы:
это были те самые ворота Александра-парка, где я впервые увидела тело Койота.
Вслед за Берликорном я вышла через ворота на Мосс-сайд. Но джунгли захватили
все улицы, накрыв плотным покровом опустевшие магазины и дома. Время от
времени встречались люди, редкие собаки и робо, но по большей части по заросшим
улицам ходили выдуманные персонажи. Манчестер словно превратился в
тропический рай, где экзотических птиц и зверей заменили фрагментами человеческого
разума. Какова природа этого мира? Я двигаюсь сквозь сознание Берликорна,
заглянув через Тень в сновидение сновидения? Может ли сон видеть сны? И пока мы
гуляли по этим снящимся улицам, я воспользовалась возможностью изучить тело
из дыма, в которое поместил меня Берликорн. Я была случайной картой теней,
свившихся в серые формы: бедра и груди, декольте и миры живота. И под
ложечкой сидел блестящий черный жук с аккуратно сложенными крыльями, шевелил
лапками и усиками, скрипел челюстями: дронтосекомое. Сноядец. Присутствие внутри
меня, которое не пускало сны в мою систему. Никогда до этого я не видела
дронта в своей плоти, а теперь почувствовала, что почти могу дотянуться
внутрь себя и вырвать эту мерзкую тварь.
На одном из участков цветочной мостовой Берликорн опустился на колени. Он
выдернул малиновый кирпичик-цветок из разбитого букета покрытия и встал
передо мной, высоко его подняв.
- Конечно, я не задумывался о дронтах, - сказал он. - О неспящих. Посмотри
на этот цветок будущего.
Я увидела цветок, корни которого с чудовищным аппетитом объедал вирусный
червь; имя червю было Черный Дронт. Тогда я поняла, что дронтовый жук у меня
в животе - некогда мое проклятие - теперь может спасти меня.
- Я действительно боюсь тебя, Сивилла, - печально прошептал Берликорн,
будто подтверждая мои выводы, - и других замкнутых из вашего рода. Я никогда не
думал, что такая малая часть может настолько сильно повлиять на сон. Я
ожидал, что реальный мир довольно легко мне отдастся, но потом пришли известия,
что ты борешься против меня, и Белинда тоже. И моя дорогая жена заболела от
вашего мира. Мне пришлось забрать ее домой. Все хорошо, никаких проблем, она
выполнила свою задачу; семя упало в землю, и Колумб все еще держит проход для
пыльцы открытым, но сон пока не может жить в реальности полноценной жизнью.
Не совсем. Однажды, быть может... - Он хрипло вздохнул, еще раз и еще. - Это-
то и расстраивает меня, понимаешь? Неужели ты думаешь, что я хотел причинить
вам вред? Нет, я хотел, чтобы мы объединились. Сон и реальность. Как ты
сейчас видишь, объединение должно было создать новый мир, прекрасный плодородный
мир. Мне представляется такой образ, Сивилла. Что я могу сделать? Вы, дронты,
как осиное жало. Потерянные фрагменты мифов. Мне пришлось бы убить всех вас,
чтобы сделать образ совершенным. Пришлось бы убить всех, не видящих сны.
Пока он рассказывал, я влила маленькую дозу своей Тени в дронтового жука у
меня внутри. Там теперь покоилась частичка моей души, отделенная, надеюсь, от
владений Берликорна. Я снова разделилась - теперь я была и Тенью, и дронтом.
- По-моему, ваша история очень печальна, сэр Джон, - сказала я Тенью, в то
же время своей дронтовской частью сообщив ему, что его дражайшая жена -
мерзкая злобная кровожадная сука.
- Воистину, воистину печальна, - ответил Берликорн моей Тени. - Всего лишь
грустная история, однажды давным-давно рассказанная несчастным человеком
перед лицом смерти. Но все же есть и надежда. Мы еще можем отыскать рай.
Значит, дронтобарьер работает. Я еще раз попробовала оскорбить его жену
изнутри складок тела моего внутреннего жука. Ничего. Никакого ответа на мой
выпад.
- Чем может быть плох рай? - вместо этого спросил он.
- Тем, что для того, чтобы он появился, должны погибнуть люди. - Теперь я
знала, что внутри меня есть темная зона, куда Берликорну никогда не
проникнуть .
- Но ведь люди изобрели подобную концепцию, - проворчал он. - Ваша история,
как могила, полна телами тех, кто отдал жизнь во имя великой цели. Почти все
ваши истории основаны на примерах самопожертвования. . . и, тем не менее, вы
жалуетесь, когда история сама пытается использовать этот ход. В самом деле,
даже ты, Сивилла... Разве ты не построила такую же историю о смерти ради
жизни на основе любви к своим детям? Право, это уже невыносимо. О ваша
несправедливость ! Но идем быстрее, я многое хочу тебе показать...
Берликорн отбросил больной цветок и зашагал по свежевзошедшей Клермонт-
роуд, пока, наконец, мы не оказались на Броудфилд-роуд. Та самая улица, где
Бода задержалась, убегая от меня и Зеро после матча по виртболу. Может быть,
Берликорн запланировал провести меня по случившейся в Реале истории, отразив
ее в сон. Я теперь спрятала большую часть мыслей внутри дронтовохю жука,
моего тайного убежища в этой Стране Чудес. Берликорн уже звонил в дверь одного
из опутанных цветами домов на Броудфилд.
- Надеюсь, он дома, - сказал он. - Здесь живет некий Октавиус Доджсон,
родственник в восьмом колене Чарльза Лютвиджа Доджсона6, одного из ваших лучших
писателей. Я полагаю, тебе известны его творения?
- Известны, - ответила я через Тень.
Дверь открыл белый кролик с меня ростом, который провел нас в гостиную. В
гостиной на куче подушек, скрестив ноги, сидел молодой человек. Я рискнула
предположить, что это и был собственно Октавиус Доджсон, возраста двадцати
семи с тремя четвертями лет. Дымные поцелуи булькающей наркоты, которой он
пропитывал себя, мастерски всасываясь в мундштук заляпанного малиновым
вареньем кальяна, явно доставляли ему глубокое наслаждение. Пока Берликорн вел
меня к подножию лестницы, он не произнес ни слова.
Мы вместе поднялись на площадку, куда выходили три двери. Из-за одной
доносилась грустная песня, "Морж и Плотник". Девочка пела о башмаках, о сургуче,
о королях и капустах, и ее голос был полон такой боли, что ноты, казалось,
ломались в воздухе. Берликорн тихо постучал в дверь спальни и затем, когда
пение прекратилось, широко открыл ее. Он шагнул в комнату, и мое теневое тело
прошло за ним. В спертом воздухе висел гнилостный запах нездорового дыхания.
- Да? В чем дело? - раздался несчастный ломкий голос.
Девочка семи с половиной лет болезненно-бледного вида, с грязными светлыми
волосами, в запачканном рвотой кружевном платье лежала на кровати, из
последних сил играя с заводной черепахой, у которой давно кончился завод.
- Берликорн, что тебе опять нужно? - проговорила она срывающимся шепотом.
- Я привел реального персонажа посмотреть на тебя, - ответил Берликорн. -
Ее зовут Сивилла Джонс, и более всего на свете она желает побеседовать с
тобой.
- Алиса7, это ты? - спросила я.
Алиса только кашляла и плакала. Я уверена, она сказала что-то вроде "До-До-
До джсон", но тут за спиной я услышала шум, обернулась на него - и оказалось,
на пороге стоял белый кролик. Он прошел мимо меня к кровати, встал рядом и,
вынув часы из жилетного кармана, взял Алису за руку и начал громко
отсчитывать пульс.
6 Настоящее имя Льюиса Кэрролла (англ. Lewis Carroll, 1832—1898) — английского
писателя, математика, логика, философа, диакона и фотографа. Наиболее известные
произведения — «Алиса в Стране чудес» и «Алиса в Зазеркалье», а также юмористическая позма
«Охота на Снарка».
7 Алиса Плезенс Лидделл (англ. Alice Pleasance Liddell; 1852—1934) — прототип
персонажа Алисы из книги «Алиса в стране чудес» (а также один из прототипов героини в
книге «Алиса в Зазеркалье»). Алиса Лидделл была четвёртым ребёнком Генри Лидделла
(1811—1898) — филолога-классика, декана одного из колледжей в Оксфорде и соавтора
знаменитого греческого словаря «Лидделл-Скотт».
- Как она? - спросил Берликорн.
- Еле-еле держится, если быть честным, - ответил белый кролик. - Я бы
сказал, ей осталось несколько дней... - Вид у кролика был очень печальный, и
Берликорн казался встревоженным не меньше.
- Что здесь происходит? - спросила я.
- Алиса умирает, - ответил Джон Берликорн.
- Алиса в Стране Чудес? Но ведь...
- Вот что случается, когда забывают сон.
- Ты же говорил, сны не могут умереть.
- Сон, который не снится, - умирающая фантазия. По-видимому, никто уже не
хочет видеть снов о милой, доброй Алисе. Видишь ли, Сивилла Джонс, это
двустороннее зеркало: единственный способ сохранить Алисе жизнь - перенести ее в
реальность через новую карту. Понимаешь теперь? Вы называете аллергию
болезнью, хотя на самом деле она лекарство.
Алиса довольно грубо засмеялась и сказала:
- Хитровыебнутый способ.
- Способ действительно неочевидный, дорогая Алиса, - согласился Берликорн.
- Но разве ты не видишь, - тут он снова повернулся ко мне, - в каком
отчаянном положении я нахожусь, Сивилла?
А я, в своем дымном теле, не могла найти слов для ответа. Передо мной
лежала умирающая от недостатка сновидческого общения подруга ранних лет моего
воображения , и боль утраты заставила меня вспомнить юность, когда я отчаянно
хотела, чтобы в мое тело проник сон.
Берликорн подошел ко мне, положил руки мне на плечи, сказал очень ласково:
- Сивилла, ты показала невероятную для женщины-человека стойкость духа.
Его руки уже ласкали мою призрачную грудь, спускались к животу, и все время
на шее чувствовалось его теплое дыхание.
- Ты развлекла загрустившего старика и развеяла его скуку, но теперь,
боюсь, развлечения подошли к концу. - И баюкают, баюкают тихие слова. - Отдайся
моей ласке...
- Ты не причинишь мне вреда, - сказала я сонно. - Я дронт в Вирте. Вся боль
- иллюзия.
- Твоя дочь тоже... должна, наконец, умереть. - Баю- баю. . . - Все просто.
Дронты должны умереть. Чтобы сны могли жить.
- Не трогай меня, сэр Джон. Я...
Его пальцы нежно играли с дымом моего живота и затем погрузились в мое
солнечное сплетение, где сомкнулись на черном жуке, воплотившем мою дронтовость.
Он вырвал дергающееся насекомое из живота и вытащил его из-под тенекожи на
свет.
- Вот это твоя защита, дорогая? - Он помахал рукой с жуком у меня перед
лицом, смеясь надо мной.
- Теперь, уверяю тебя, Сивилла... ты можешь смотреть сны бесконечно. И твоя
дочь тоже.
- Нет . . .
- И, следовательно, вы готовы удовлетворить мое желание. Которое состоит в
том, чтобы вы обе умерли.
- Оставь ее в покое!
Я стремилась защитить жизнь дочери, но конечно, на Берликорна мои мольбы
никак не подействовали. Он отступил от моего тела, держа черное насекомое за
одну лапку, как будто жук мог попортить его сноплоть. Часть меня все так же
оставалась внутри отделенного жука, что давало мне некоторую надежду до тех
пор, пока не начался дурной сон - Берликорн вторгся в мою раскрытую Тень
своими жестокими видениями.
Сны... я видела сны... реальные сны...
Меня поглотили боль, и кровь, и ножи шипов. Я ехала на окровавленном коне
сквозь зону роста заостренных фортепиано. Я проваливалась в осьминогов,
вторгалась в зонтики, насаживалась на стрелки брюк, растягивала края моих кожных
часов на кусачие велосипеды и погоду рыбы.
Так вот что такое - видеть сны. Берликорн убивал меня нелепыми сказками,
худшим вариантом кошмаров, и вторжение стало иссушать мою Тень. Я ужасно
хотела вырваться - и где-то вдалеке, в дальнем-дальнем далеке, я чувствовала
такой же, протест Белинды.
Я сжималась. Уходила. Гасла. Умирала...
- Ты не сможешь, Берликорн, - звала я через крошечные остатки Тени, над
распадом которой он просто смеялся, и махал дронтовым жуком, чтобы
поиздеваться над моей слабостью. И своей крошечной гаснущей Тени я поклялась тогда
наказать властелина сновидений, если только смогу. И послала прядь тугого
дыма, который еще оставался в жуке; прядь дыма, которая обернулась вокруг руки
Берликорна, а потом сделала стремительное движение, вырывая жука из его
захвата .
Все это время дурные сны собирались в моей душе, стремясь затащить меня в
нафтоцветное море куроидных магнитов и смех лобстеризованных вторников.
Мой черный жук оказался на свободе. Мой локон дыма завивался вокруг тела
Берликорна и, в конце концов, добрался до постели Алисиных страданий. У меня
не было времени на раздумья, и я вогнала мой дым глубоко Алисе в рот, а
вместе с ним - дронтосекомое. Алиса немного поборолась. Совсем немного, как
будто с радостью принимала конец своей истории.
Берликорн задыхался, и мне нравилось это слышать. Как задыхается сон.
Белый кролик проклинал историю, которая завела его в пекло опасности. Он
исчез в дверях, наговаривая свою классическую присказку:
- Ай-ай-ай! Я опаздываю!
Берликорн подошел ко мне.
- Ты что творишь?
В его голосе слышалось сомнение.
- А ты как думаешь? - парировала я. - Убиваю Алису в Стране Чудес, ни
больше , ни меньше. - Я протолкнула жука глубже, невзирая на слабые протесты
Алисы , вниз, сквозь сопротивлявшиеся мышцы горла, пока жук не достиг ее желудка.
- Ты ведь так же убил Койота? А теперь твоя милая, любимая Алиса почувствует
то же сжимающееся дыхание. Теперь в ней Иммунная Тьма, и это сновидение
сейчас умрет. Ты же этого хотел?
- Ты не сможешь, - прошипел Берликорн, пытаясь ухватить мою Тень пальцами.
Теперь, соединившись с дронтовостью, она была сильнее сноплоти, и пальцы
Берликорна сжимались вокруг пустого дрожащего тумана. Все его злые сны порхали у
меня в голове, как потерянные птицы, испуганные нежданной слабостью,
промахнувшиеся мимо гнезда...
- Это все нереально, - сказала я ему. - Это не Страна Чудес, и это не
Алиса. Этот мир - просто остатки твоего жалкого сознания, мятущегося в поисках
пищи.
- Не... Не убивай ее.
- Верни меня назад, Берликорн. Покажи мне, кто она на самом деле.
Берликорн помахал руками в воздухе, и через половину спящей секунды мы были
в столовой. Дождь еще шел. Берликорн вернулся в свое кресло, а я снова
всосалась в тело Белинды. Койот еще балдел от мяса во рту, а Сапфир играл
рыболовными крючками с рисовым червем. На столе в захвате моей дочери дрожала Персе-
фона. Цветочная девочка отыгрывала роль Алисы в воображаемой Стране Чудес.
Белинда держала девочку одной рукой за горло, а из второй руки лился поток
тенедыма, исчезающий во рту Персефоны.
Дронтосекомое, вошедшее глубоко в тело Персефоны.
- Прошу... - Впервые зазвучал умоляющий голос Джона Берликорна.
- Во имя твоей жены, Берликорн,
- Прощу... не обессонивайте мою любовь. Ее убьет эта черная тварь...
- Во имя моего ребенка, - сказала я довольно холодно. - Во имя ребенка
Койота. Во имя моего города и города моих друзей. За Зеро Клегга и за Карлетту,
девочку-щенка, и в память Томми Голубя. Я пришла сюда сражаться с тобой, Джон
Берликорн, но теперь я поняла... Я пришла сюда просить тебя спасти нас.
Прошла целая жизнь. А потом, вдруг...
- Знаешь, что самое грустное, Сивилла? - уныло, почти печально спросил
Берликорн, уступивший неизбежному.
- Расскажи, что самое грустное.
- Я не знаю, живой я или нет.
- Думаю, живой.
- Из всех созданий, собравшихся за этим столом, ты самая живая. Ты доказала
это. Иногда это так сложно...
- Знаю.
- Быть только рассказываемым.
- Знаю.
- Быть только следом дыма в сознании.
- Да...
- И это все, что может предложить человеческая жизнь? Интересно...
Я протолкнула жука еще глубже в желудок Персефоны. Она слабо боролась
против вторжения.
- Я могу убить твою жену этим дронтом, - сказала я Берликорну. - Я права?
Берликорн попытался оттолкнуть тело Белинды, но Койот и Сапфир уже вышли из
транса. Берликорн потерпел поражение в битве: слишком много путаницы и
слишком много историй, которые надо вспомнить, - хозяин, сновидений не мог
удержать своих заключенных. Койот легко схватил тело Берликорна, сжав его в
огромных лапах.
- Прошу... Будьте великодушны, - взмолился Берликорн из захвата. - Что я
могу вам предложить?
Под воздействием дронтового жука Персефона впала в дремоту.
- Вылечить Сапфира, - сказала я.
- И всех остальных страждущих, ясное дело, червяк позорный.
- Это ты можешь?
- Не оскорбляйте меня, - полыхнули его глаза. - Я знаю, когда закончится
история. Прошу... Дайте мне это насекомое. Я устал, очень устал ждать, вокруг
меня равнодушно растут сны. Отпустите мою жену.
- Ты позволишь нам вернуться? Остановишь аллергию?
- Вам придется побороться с Колумбом. Король кэбов вряд ли легко откажется
от новой карты.
- Если надо, поборемся.
- Это значит, что мне придется забрать жену из реального мира.
- Она все равно не сможет там выжить, Берликорн. Теперь ты это знаешь.
- Теперь я это знаю. Дронты слишком сильны. - Он жадно посмотрел на Персе-
фону. - Естественно, ее мать, Деметра, очень разозлится. . . ей не нравится,
что ее дочь пустила корни в обычном сне. Деметра очень могущественна и при
этом ужасно тупа; боюсь, у нее очень ограниченные представления. Ей нравится,
что ее дочь распустила цветы в реальности, невзирая на то, что ее дочери
реальность вредна. Это была последняя заключенная нами сделка. Треть года - в
Вирте, две трети - в Реале. Вам придется сразиться не только с Колумбом, но и
с Деметрой. Вам придется убедить их обоих. Готовьтесь... есть только один
путь через лес, и вы уже встали на него. Я облегчил вам путь сюда, но
обратная дорога... Я не буду участвовать в этой битве. А без моей помощи вы сядете
на мель. Может быть, заключим сделку?
- Где эта Деметра? - спросила я. Персефона тихо лежала под дронтовым жуком.
Вы придумываете мифы. . . А потом сами же их не знаете, - отвечал Берликорн.
- Деметра везде, во всем, что зелено и возделано, она живет во сне и в
сновидце . В Вирте и в Реале - и оба обеспечивают ей пропитание. Она сильнее
меня. Она - богиня плодородия. Даже вы, тупые христиане, готовите ей сено
каждую жатву; делаете маленькие фигурки. Очень, очень трогательно.
- Ты и вправду вылечишь Сапфира?
- Есть только один способ это сделать. В Реале он умрет в течение двух
дней.
- Пожалуйста, только не это!
- Ты все равно его потеряешь. Он ел, Койот тоже. Они теперь мои. Правда,
моя дорогая, я уверен, что ситуация в нашей игре патовая. Сапфиру, чтобы
остаться в живых, надо остаться здесь, со мной. Только во сне я могу вылечить
такой запущенный случай аллергии. А это значит, что в дело вступают нормы
обмена.
- Что угодно.
Я вытащила черного жука моего неведающего мира из тела Персефоны. Она
задрожала , сначала слегка, потом сильно.
- Я всегда буду жить внутри этого насекомого, этого вируса, - сказала я. -
И ты не достанешь меня там. Никогда. И как только я решу снова сразиться с
тобой, этот жук всегда будет готов уничтожить тебя.
Берликорн вздохнул, словно луна закрыла свой глаз.
- Я жаждал реального мира. - Его шепот был тих, как дыхание. - Теперь я,
как обычно, оказался в ловушке. Над моей битвой сгущается реальность. Я
проиграл эту игру. Дронты слишком глубоки для моего поцелуя. Но, возможно, для
меня есть и другой путь туда? Путь проще и надежнее? Во мне вдруг проснулось
одно желание. Можешь в это поверить?
- Давай.
- Можно я выебу твою дочь?
- Что?
- Потом я расчищу вам проход, как только смогу. Прости. Я задел тебя,
Сивилла? Прошу, дай мне этого жука.
Я отдала дронтового жука Берликорну. Берликорн расстегнул штаны и достал
черный хуй. История продолжалась. Джон Берликорн нагнул Белинду над столом.
Его руки протянулись к Сапфиру... Его член глубоко зарылся. Плоть Сапфира
взорвалась длинными завитками темно-красных цветов. Amaranthus Caudatus8.
Тропический цветок. До меня донесся глухой голос Берликорна:
- Если я должен принять Сапфира близко к сердцу, мне нужно отдать что-то
взамен.
- И что ты отдашь?
- Что-нибудь придумаю.
Его член вошел в меня, вошел в Белинду, вошел... Попрощайся с Сапфиром,
Цветок, который никогда не вянет.
Берликорн кончил во мне, в Белинде. Убийственный момент. Нас проталкивает
Амарант, или щирица (лат. Amaranthus) — широко распространённый род
преимущественно однолетних травянистых растений с мелкими цветками, собранными в густые
колосовидно-метельчатые соцветия. Относится к семейству Амарантовые. Известно около 55—65
видов, которые произрастают в тёплых и умеренных областях. Такие виды, как
Amaranthus caudatus и другие, являются древнейшими зерновыми культурами и разводятся
в некоторых странах. Виды с насыщенно окрашенными листьями и свисающими соцветиями
(Amaranthus caudatus и другие) используются в декоративных целях.
сквозь каменный член в бассейн стоячей зелени. Писающий Купидон. Тающий
дворец. Волосы Джона Берликорна растут голубым клубком. Темный проход - вокруг
нас что-то шепчут деревья, а мы бежим по плодовым проходам. Лес живой.
Картины. . .
Потеряны в саду-лабиринте. Луну закрывают облака. Темнота и сладость.
Капающие тени. Вокруг нас растут ограды, смыкающиеся, как отверстие между ног
женщины. Луна спряталась. Тьма ползет. Койот исчезает в листве.
- Койот! - Это мой голос. - Не теряйся, Койот. Стрекозы и светлячки
указывают путь сквозь узел любовника. Злость женщины шепчет на меня изо всех углов
и линий, лабиринт смыкается. Изгибается моя Тень. Карта моей дочери судорожно
деформируется, изменяется с каждой минутой...
Берликорн нам...
...дорога через узел...
Карта Манчестера на голове моей дочери превращается в карту лабиринта.
Берликорн нам помогал. Я читала спутанные проходы по мере того, как они
появлялись на теле Белинды.
- Сюда, Койот! - позвала я. - Держись ближе.
Я повела нас вперед, и стены бежали. Пока... пока...
Щель в стене. Туда...
Черное озеро мерцает у нас перед глазами. Ни следа лодки или лодочника. За
нами - звук ветвей, дрожащих на ветру. Очень далеко начинает играть духовой
оркестр - медленную, неторопливую интерпретацию песни "Михаил, правь лодку к
берегу".
- Что дальше, Белинда? - спросил Койот.
Дочь сделала несколько шагов в холодную, холодную воду.
- Наверное, поплывем.
- Лучше молчи.
- А что, есть выбор, Койот?
В ответ - злобный оскал.
Что это был за день. Что за день! Харон задрожал. Он чувствовал себя
одураченным. Стоять в раскачивающейся лодке так высоко, как только получается, и
ровно, как грабли. Люди что думают, это так просто? Перевозчик на Озере
Смерти ... может, им стоит разок попробовать! В кошеле под сутаной он позвенел
парой монеток, которые заработал за прошедшую неделю. Монетки издали слабый
звон. Убого! На что должен выживать бедный перевозчик на Озере Смерти в наши
дни? Вчера он... Нет, об этом не стоит даже и думать. Странная компания.
Конечно, к нему и раньше приходили странные компании. Если уж они заплатили за
это перо, они заработали право зваться странными. Но у этих не было ни обола
на всех! Ничего. Большой пятнистый пес. Голая девка, вся в карте. Кусок
этого... кусок какого-то дерьма! Сидел у девки на плечах. А потом забрался в
лодку. Ухх! Кошмар. Он сразу предложил им убираться в Ад. Ни обола, вообще!
Даже не слышали такого слова. Позор! А потом... потом... слово Джона
Берликорна. . .
Сзади Харона заиграл оркестр.
"Что?"
Харон неуклюже повернулся, чуть не перевернув лодку.
"Да! Наконец-то. Прибыл кто-то еще. Новые пассажиры".
Потому что оркестр начинал играть только тогда, когда ожидали новых
посетителей. Что там они играют? Что-то новенькое. Кошмарный грохот. В один
прекрасный день он приплывет на этот остров, и. . . и. . . ну, ладно, забудем. Он
повернулся к лесу. Да! Он слышал, как Цербер воем собирает вместе свои
собачьи части. Кого-то ждем. Харон надеется, что переносчиков оболов. Не как
вчера, когда ему достался только приказ Джона Берликорна: эта компания едет бес-
платно. Бесплатно! Бесплатный проезд! Это неслыханно. На этот раз такого не
будет. На этот раз Харону заплатят сполна. Он встал, сверхвысокий,
сверхтонкий . Зловещая гримаса. Сутана висит как надо. Отлично!
Пожалуйста, пожалуйста, пожалуйста... пусть они пройдут через Цербера.
Пусть у них будут булочки, с медом...
Шум сзади. Как будто...
"Нет!"
Он снова обернулся, на этот раз слишком быстро. Лодка зашаталась. Что это?
Там что-то на воде, в тумане, что-то как... звук, как будто... его шея
завертелась туда-сюда, пытаясь найти точку обзора. Похоже на лодку. Эдакое чертово
каноэ.
- Эй! - крикнул он. - Это не ваше Озеро Смерти! Я заработал исключительное
право плавать по этому озеру в честной борьбе. Уебывайте из моего озера!
Лодка продолжает наплывать. Он уже видит, что это таки лодка, чертово
каноэ . Раскрашенное в черный и белый. Черные точки на белом фоне. И кто-то в
нем гребет к его причалу. Его причалу!
- Фиг вы тут высадитесь! - кричит он.
И тогда видит, кто - одинокий гребец. Та девка! Вчерашняя утрешняя. Которая
голая и в карте. Это уже слишком. Точно слишком. Она возвращается из
путешествия? Никто не возвращается...
- А, Харон, привет, - говорит девка, подогнав лодку к другой стороне
причала. - Дай руку.
Что? Ни за что он не протянет ей руку. Пускай падает, ему какое дело. Он
она уже прыгнула на доски, и вот...
"Смерть-бля!"
Лодка выбирается из воды. Весла стучат по причалу. Харон изумленно смотрит
на весла, которые выпускают деревянные пальцы, как веточки, как клешни!
Большие, сильные древесные руки вырастают из палубы, хватаются за доски,
переносят тяжелый ствол тела на сухую землю. Тело утрешней собаки прорывается
сквозь форму лодки. Это уже совершенно точно слишком, и перевозчик отступает
назад, когда на него наплывает Койотова оскаленная пятнистая морда.
- Клевое озеро, Харон, - говорит пес. - Клевая поездка.
А потом хороший толчок пятнистой лапы - и лодочник падает через борт, прямо
в воду.
Накопленные оболы тонут в грязи...
Время бежит по сосновому лесу.
И Цербер прижимается к земле на своей загаженной поляне, воя на хохочущую
луну, и, вытянувшись, облаивает отряд, который стоит как раз на краю
прогалины.
- Моя остановка, Белинда, - говорит Койот.
- Что?
- Путешествие окончилось.
- Койот?
Цербер взбесился и зарычал, мучимый засасывающим безумием, которое
сгустилось в каждой из его голов. Но Койот не обратил внимания на слюну, капавшую с
многочисленных острых зубов.
- Время пришло, дорогая.
- Дыхание Койота обжигало лицо Белинды. - Пятнистого пса больше нет. Я
заменю эту тварь.
- Но...
- Никаких "но". Никаких "если". Только дорога впереди. Поедешь? Примешь
заказ?
- Я поняла, - ответила Белинда. - Приму...
И поцелуй цветочного пса. Жадный и страстный, полный вкуса мяты и пламени.
И Койот вышел на поляну. Цербер несся к нему, оскалив зубы. Койот велел этому
долбопсу пойти поебаться со своим дерьмом. Я не могла смотреть, Белинда тоже.
Слыша звук челюстей, рвущих плоть, мы улизнули в лес.
Прочь. Несемся...
В лесу в промежутках между деревьями ярко блестел черный кэб Койота. Луна
светлой пыльцой показывала карту. Теперь найдем дорогу. Легко идем, Тень в
теле Белинды держится спокойно. Злобный лай за спиной. "Не испорти все, дочь.
Пожалуйста. Иди вперед". Прохладный ветерок шевельнул листья. Хорошо. Его
дыхание было ласковым. Вот черный кэб появился перед нами. Виден был блеск
боковых зеркал, поймавших луну в стеклянные объятия. Отлично. Никаких проблем.
Всего лишь несколько шагов через подлесок, и тогда...
Пыльцевая луна в зеркале потускнела. Внезапная темнота. Слепота.
"Пожалуйста , нет...". Лес закрутил корни и ветви вокруг нас, превратившись в плотную
сеть. Кэб исчез из виду. Над нашими головами сомкнулись деревья. Печально
увядала луна, и весь мир стал полянкой, зажатой посреди нависающего леса.
Листья были мокрыми и распухшими, как будто пропитанные дождем. Но в этом лесу
не идут дожди, значит, то были слезы. Плачущий лес. И я поняла его горе, и
что оно значит. Горе матери. Этот лес - мать Персефоны. Деметра...
Затем она, эта чаща, заговорила со мной, и слова росли прямо из листьев:
- Я не допущу такого. Персефона - мой единственный ребенок. Она моя жизнь.
Ей нужен воздух. Она должна снова вдохнуть, вдохнуть земли. Ты слышишь меня?
Ты слушаешь? Называться матерью и при этом спокойно смотреть, как погибают
твои дети! Разве может так поступить природа?
Мир становился все меньше, потому что деревья пролезали внутрь, и вот уже
острые шипы кололи тело Белинды. Тень прострелило болью.
"Плохо дело. Совсем не так я все представляла".
- Белинда?
Голос. Молодой голос цветов. На одной ветке, как раз с той стороны, где
ждал кэб, выросло несколько маленьких розовых бутонов. Голос Персефоны, это
она.
- Белинда, сюда, пожалуйста, - сказал голос. И потом: - Пожалуйста, мама.
Розовые бутоны раскрывались все быстрее: среди переплетенных ветвей Деметры
вырастали рубиново-красные цветы. Амарант.
- Пожалуйста, мама, ради меня! Я умру, если снова окажусь в реальном мире.
Почему Персефона помогала мне? Зачем? Листья Деметры хрустели на ветру,
становясь золотыми, как луна, как будто осень пришла раньше обещанного, и
опадали на лесную землю, на траву. Печальный голос матери среди листопада.
Мать уступает просьбам своей дочери. Самопожертвование? Вибрирующие алые
цветы раскрывались, пока у Белинды не зарябило в глазах - и она просто процвела
сквозь сияние их лепестков, прямо внутрь черного кэба. Я не спрашивала, зачем
и почему, просто повернула ключ, который Койот оставил в замке зажигания.
Неохотный стук мотора, сходящий на нет. Ключ, снова. Ключ, ключ. Внутренности
кэба холодны, как смерть. В его черном нутре нет искры. Нет дороги домой.
Поворачиваю , поворачиваю ключ...
Холодная дрожь. Убитый двигатель. Через лобовое стекло было видно, что
раскрывшийся капот весь смят стволом дуба. Попались. Черный кэб не поедет,
дороги нет. Я била кулаками по рулю, будто таким способом можно вернуть кэб к
жизни. Господи, я оживила мертвую дочь, так неужели мне не удастся завести
мертвый кэб?
- Ну-ка, дай я.
Голос шел с заднего сиденья. Я обернулась...
На месте пассажира сидел Джон Берликорн, держа в одной руке черного дронто-
вого жука. Испачканными пальцами другой руки он возился с ключом.
- Думаю, у меня получится, - сказал он.
Его волосы извивались, ползали по кэбу, с тихим шуршанием касаясь моего
лица. Теперь я разглядела, что его волосы на самом деле - густой рой мух, но их
прикосновение меня не оттолкнуло: в мягких крылышках я нашла нежность
печальной любви.
- Почему ты мне помогаешь? - спросила я. - Ты заставил Персефону и Койота
показать нам путь. Зачем? Только что ты хотел убить меня.
"Зачем" и "почему" смерти, прошедшей рядом.
- Ты поймешь, - ответил Берликорн. - Курс обмена, Сивилла. Старая дорога
для моего семени закрыта. А это - новый способ попасть в ваш мир.
- Ты забрал Сапфира, - сказала я. - А что ты отдашь взамен?
- Есть такой перьемиф, который рассказывали в древности в Африке, про то,
как молодой воин хотел взять в жены дочь вождя. Вождь сказал воину, что
сначала он должен убить льва голыми руками, только тогда он отдаст ему дочь.
- Зачем ты мне это рассказываешь?
- Аллергия - это лев. Ты поймешь. - Опять этот идиотский ответ. - Ты
доказала, что достойна. Езжай.
- Что?
- Вот...
Мотор черного кэба закашлял, возвращаясь к жизни, и Джон Берликорн
наклонился ко мне, чтобы поцеловать. У поцелуя была тысяча вкусов. Смерть, и
жизнь, и зеленые перья - все вперемешку.
В пассажирском отделении кэба вновь раздался шум.
- Берликорн, что там такое?
Берликорн прервал поцелуй и повернулся так, чтобы видеть нового пассажира.
- Опаздываете, друг мой, - сказал он.
Я тоже обернулась, чтобы посмотреть, кто там.
Колумб...
- Ты обещал мне новую карту, Берликорн, - сказал Колумб. - А теперь хочешь
остановить аллергию.
- Колумб, не сердись, - отозвался Берликорн.
- Не сердиться? Я всю жизнь ждал этой минуты, а ты говоришь мне "не
сердись". Я еще не закончил новую карту. Может, ты забыл о моей силе, Берликорн?
Я контролирую связи между мирами. И никогда не пущу эту девчонку обратно в
реальность.
- Эта женщина нужна мне для того, чтобы возник новый мир.
Колумб рассмеялся.
- Дорога закрыта. А потом спросил:
- Что это за шум?
Я тоже слышала приглушенные скользящие звуки со всех сторон.
- Нет, Берликорн! - закричал Колумб. - Не делай этого.
Четыре быстрые пули одновременно ударили в цель - и все стекла черного кэба
раскололись. Они пробили череп Колумба с севера, юга, востока и запада.
Колумб опять закричал, и его голова лопнула. Терновый венец. Черный кэб
забрызгала картокровь.
- Ну вот, Колумб, - прошептал Джон Берликорн. - Пули успокоились и спят.
Конец твоей истории. Отличный конец!
- Это ты сделал, Берликорн? - спросила я.
- Что ты, только чрезвычайно сильное создание может устроить такое. За
кого, ты меня принимаешь? - Тут он засмеялся и наклонился ближе ко мне.
- Приезжай в гости, Сивилла.
- А Сапфир? Койот? Они будут жить?
- Будут. И ты тоже, когда будешь готова. Для тебя вход свободный. И вино
бесплатно. Слышишь?
- Отдай мне жука.
Джон Берликорн поднес дронтовохю жука к моим губам. Я проглотила его
целиком.
И снова лишилась сновидений. Внутри затрепетали крылья. Спасибо вам.
Бой окончен.
Потом кэб по команде моей Белинды поехал к свободному пространству. Джон
Берликорн исчез с пассажирского сиденья. Осталось только жаркое дыхание его
темных губ. Я бросила последний взгляд на лес. Луна сияла комочком пыльцы, а
на границе сада, отмеченной каменными колоннами с двумя ангелами, мальчиком и
собакой, дрожали черные листья. О Господи! До меня наконец дошло: правила
обмена.
Ну конечно... У Белинды было два любовника.
"Боже! Выдержу ли я? Выдержит ли Белинда?"
На приборной панели я заметила пачку пнапалмовп. Взяла сигарету, прикурила,
прочитала надпись: "КУРЕНИЕ НЕ РЕКОМЕНДУЕТСЯ БЕРЕМЕННЫМ ЖЕНЩИНАМ, ВНИМАНИЕ,
НЕ РЕКОМЕНДУЕТСЯ - ДОЧЬ-МУТАНТ ЕГО ВЕЛИЧЕСТВА" .
Ну ладно, последняя затяжка. Черный кэб плавно поехал домой...
Дом. Манчестер. Пока я ехала обратно, новая карта превращалась в старую.
Аллергия находила успокоение на вершинах любви. Черный кэб ехал к площади
Сент-Энн: там уже танцевали люди, радуясь, что все закончилось. Роберман тоже
стоял тут, как будто ждал нашего возвращения.
Я выбралась из кэба внутри тела Белинды и упала в объятия драйвера-робопса.
- Белинда, у тебя получилось! - пролаял Роберман через Тень.
- Угу, - вздохнула Белинда. - У нас получилось.
Понедельник 2 8 августа
- Приди и воссияй, еб твою мать! Да, вы не ослышались. С вами "Радио-карцер
Йо-Йо". В настоящем мире четыре часа холодного утра, утра августа, и весь
Манчестер еще спит. К несчастью для нас, за решеткой сейчас самое время
вылезать из уютных постелек. Подъем, подъем! Доктор Гамбо собственной персоной у
перьевого руля. Время делать зарядку. Давайте-ка все во двор-перо. И живо.
Ох, как меня прет! Ванита-Ванита, поди сюда. Ну все, неприкасаемые, хватит
нудить. Мы все в Вирте. Все вместе навсегда в пере. Содержание пыльцы
опустилось до жалких 29 и продолжает падать. Первая песня сегодня - для главного
инспектора Крекера, сонкамера номер девять. Песня The Move, и называется она
"Я слышу, как растет трава". Давайте работайте, виртопташки. Пусть цветы
любви придут навестить вас. В день посещений. Хотя хуй когда у нас будет день
посещений! Ха-ха-ха-ха-ха!
Осень в этом году наступила рано. К концу августа почти все деревья
сбросили листья, а земля стала твердой и покрылась хрупкой коркой инея. В 12:30
инспектор Зулу Клегг встал из-за стола в отделении на Боттл-стрит, решив
пораньше отправиться на обед. Он вышел на холодный воздух, купил сэндвич с
ветчиной и газету и пошел посидеть на скамейке на площадь Альберта.
Кроме него, никого больше не было - слишком холодно сегодня для обычной
обеденной толпы.
Добравшись до середины сэндвича и усыпительной статьи про новые сейфкзбы и
их успешную работу, он услышал шаги, хрустящие по инею, все ближе и ближе.
Прохожий сел на скамейку в нескольких метрах от него, Клегг поднял глаза и
увидел молодую женщину.
Она глядела на него и улыбалась.
Клегг решил не обращать на нее внимания и уткнулся в газету.
- Это вы инспектор Клегг? - спрашивает женщина.
Клегг откладывает газету.
- Мы знакомы? - спрашивает он, не поворачивая головы.
- Я бы сказала, что да, - отвечает женщина. - Как-то раз вы пытались меня
убить.
- В самом деле? - Клегг уже столько раз стрелял в людей, трудно запомнить
каждого, особенно после аллергии. - И что случилось? Я промахнулся?
- Нет. Я выстрелила первой.
- А.
- Попала в плечо.
Тут Клегг оборачивается, чтобы лучше рассмотреть ее.
- Сивилла...
- Ее дочь.
- То есть, конечно... э.. .
- Белинда.
- Точно. Белинда. Память уже не та. Прости меня.
- Не стоит. Мы ведь встречались всего один раз. И я к тому же была с бритой
головой.
- Нет, нет. Не за это...
- А, за то, что хотели убить меня? Но это же ваша работа.
- Прости меня за то, что... Сивилла... твоя мама, она...
- Да.
- Хорошая была женщина... то есть хороший она была коп.
- И то, и то.
- Ужасно было узнать о ее...
- Самоубийстве.
- Да. Я болел, у меня была аллергия. Если бы я мог хоть чем-то помочь.
- Моя мама прожила счастливую жизнь. Она закончила все, что могла
закончить . Наверное, она хотела прервать полет в верхней точке.
Клегг отворачивается. Один из новых сейфкэбов медленно едет по дороге, на
его скучно-сером кузове намерз лед. Женщина спрашивает, как дела, и он
отвечает, что дела ничего, нормально, бумажная работа, ну, конечно, скучища,
честно говоря, но в остальном ничего, нормально...
- Я беременна, - говорит женщина. - Двойней. Клегг внезапно стесняется,
хотя сам не понимает почему. Он снова смотрит на женщину. Смотрит на ее лицо,
ищет в нем черты матери. Они почти совсем не похожи, но...
- У тебя глаза матери, - в конце концов говорит он, вызывая у Белинды
улыбку.
- Вы любили ее, да? - спрашивает она. - Любили мою маму.
Проходит вечность.
- Да. Да, очень.
- Спасибо.
- Спасибо за что?
- Ну, не хочу вас задерживать. - Белинда встает.
- Верно, - Клегг тоже встает. - Нужно идти. На пост... за столом.
Он опять стесняется - теперь того, что возвышается над ней, как башня. Он
хочет укрыться от ее глаз, но в то же время его тянет к ней прикоснуться.
Белинда выводит его из затруднения, ласково дотрагиваясь до его плеча.
Правого плеча. В которое тогда, несколько месяцев назад, попала пуля.
Клегг разворачивается и идет обратно в отделение. Доходит до центра
площади , и тут женщина окликает его. По крайней мере, ему кажется, что она звала
его, потому что слово как будто появилось прямо у него в сознании. "Зеро..."
Зеро? Его никто не называл так с тех пор... с тех пор, как Сивилла Джонс...
Он останавливается, оборачивается. Женщина все еще стоит у скамейки,
улыбаясь .
- Береги себя, - говорит она.
Клегг не заметил, чтобы ее губы шевелились, - хотя, может, это все после
аллергии.
Он опять разворачивается и идет к отделению, шаркая ногами по тонкому инею
- в одной руке газета, в другой, недоеденный сэндвич.
Литпортал
БАЦИЛЛУС ТЕРРУС
Б. Зубков, Е. Муслин
Сейчас все, что рядом со мной, чисто и прозрачно - и моя собственная рука,
и шкафчик с термометрами, и стакан с горьковатым лекарством. Вся больница
пронизана чистотой и прозрачностью. Кстати, мои врачи не говорят "больница",
они любят слово "лечебница". Будто бы меня можно лечить и вылечить! Увы, в
свое время я слишком много копался в книгах, посвященных мельчайшим и
бездушным тварям, которые, ничего не зная о существовании человека, так жестоко
заставляют его страдать. Левенгук называл их панималькулямип - маленькими
животными. О доблестные анималькули, вы и сами погибаете мириадами и идете на
дно Мирового океана. Там под тяжестью ваших крошечных трупов прогибается
земная кора, и океан выходит из берегов. Ярость вашего размножения неистощима.
Горе тому, кто становится на пути этой ярости. Вы можете и его пригнуть к
земле, как заставляете прогибаться саму Землю...
До чего додумался - трупы, ярость, пригнуть к земле... Долой такие мысли,
долой! И при чем здесь океан? Я никогда не занимался ни микробиологией, ни
биогеохимией...
Опять эта боль... Она начинается в одной точке тела, расширяется,
захватывает все его уголки... Все темнеет вокруг.
Я мечтал подарить людям бессмертие всех вещей, которые их окружают... С
чего все началось? Забыл. Неужели и память моя заболела? Жаль. Кто-то говорил:
"Наше "я" - это синтез памяти". Если я не помню, значит, я не существую...
Вспомнить бы самое начало. Начало. .. Наверное, там, в холодной мастерской,
во время войны. Я работал слесарем по ремонту оборудования на текстильной
фабрике. А кой тебе годик? Пятнадцатый миновал... Станки - выходцы из
прошлого века, калеки, издыхающие от хронического голода на запчасти. Мы приносили
в мастерскую обглоданные, искромсанные детали и в сотый раз пытались вернуть
обезображенным кускам металла утерянную форму. Мы строгали их, колупали
зубилами и плакали от суровой неподатливости металла, от морозов - в мастерской
минус пять, от скудной военной пищи - столовая кормила овсяным отваром с
пышным названием псуфле" и зелеными котлетами из свекольной ботвы.
Быть может, именно тогда, когда с тупым отчаянием я взирал на изношенные
детали, а цеховой мастер, стоя за моей спиной, ждал чуда обновления, тогда и
зародилась где-то в крошечном уголке мозга Идея. Потом много лет она дремала,
свернувшись тугим пружинистым комочком. Развернулась, когда я уже работал в
проектном институте.
...Проектировщики в белых халатах. Окна в два человечьих роста. Где ты,
полутемная мастерская? Я тоже в белом халате, но мысленно роюсь в земле
городских улиц - проектирую кабельные трассы. Однажды в институт привезли трубу.
Удивительную, ржавую, чудесную, заскорузлую трубу. Она полгода пролежала в
земле, храня внутри себя высоковольтный кабель. А на днях понадобилось
вытащить его из трубы. Не тут-то было! Вытянули одни медные жилы, оболочка кабеля
осталась в трубе. Прилипла! Кусок злополучной трубы привезли в институт.
Собрался консилиум, не хуже, чем сейчас собирается возле моей постели. Подошел
и я. Внутри труба покрыта слизью. Мазнул пальцем. Так просто, для солидности,
будто что-то про себя соображаю. Слизь оказалась вовсе не слизью, а твердым
блестящим налетом. Меня это сразу как-то поразило. Почти дурно сделалось. Как
будто у меня в руках громадная находка, только ускользает она, и чувствую -
сейчас все рассеется, останется лишь грустное ощущение потери. Вот когда
проснулась дремавшая столько лет Идея!
Участники консилиума разошлись, я схватил кусок трубы и утащил его на свой
стол. Вечером я исцарапал, изрезал, исковеркал серебристый налет перочинным
ножом. Нож сломался, но царапины все же получились. Для отвода глаз насыпал в
трубу земли из цветочного горшка, воткнул в землю какой-то цветок. Это была
моя первая лаборатория. Она умещалась на подоконнике рядом с чертежным
столом . Терпение, терпение! Я ждал три месяца. Опять был вечер, когда я
трясущимися руками выколотил землю из трубы в корзину для бумаг.
Блестящий слой залечил раны! Царапины исчезли... Какие-то неизвестные
доселе микробы наращивали тончайший налет металла, в точности повторяющий форму
трубы. Микроорганизмы лечили раны металла. Я нашел их. Случайно или
неслучайно? Сколько таких неслучайных случайностей знает наука. Пенициллин обнаружили
в заплесневевшей лабораторной чашке, содержимое которой лишь по недосмотру не
выбросили в помойное ведро...
Крохотные богатыри окружают нас. Я прочел где-то слова Пастера, обращенные
к пивоварам, виноградарям и кожевникам: "Думаете, вы делаете пиво,
обрабатываете кожу, получаете вино? Вы всего лишь управляете слепо, а потому не
слишком умело, полчищами невидимых глазом существ, которые и работают в ваших
чанах!.." Сколько написал Пастер?.. Два тома, десять, сто? А что застряло в
моей памяти? Пара строк. Люди не помнят все. Счастье, если из твоей книги жизни
они запомнят одну строчку. Может быть, это даже замечательно, что жизнь не
бесконечна? Имея перед собой бесконечную жизнь, многие не торопились бы
увековечить себя, и не создали бы ничего истинно ценного. Странные мысли лезут в
голову, когда болен...
Увы, мое открытие таило в себе злую насмешку. Микромалютки несли вечную
жизнь металлу и одновременно стряпали опасную отраву для человека. Первый
пострадавший - я. Единственный в своем роде больной. Поздравления принимаются в
часы и дни посещения больных родственниками и знакомыми.
Впрочем, на первых порах микробы вели себя вполне мирно. Хоть не прочь были
и побезобразничать. Строптивые малютки, плохо поддающиеся дрессировке. Итак,
я нашел их в ржавой трубе. Именно там, в заурядной, удивительной, дрянной и
драгоценной трубе. Откуда принесли ее к нам в институт? Никто не помнил. Где
откопали? В поселке Строителей или у Новых домов? На Проектируемом проезде?
Весь город взрыхлен строителями. Для этого уникального куска бурого металла я
сделал специальный термостат - теплое, уютное гнездышко. Там, в гараже.
Как раз в это время мой друг продал свой "Москвич". Ему надоело искать
"резину" и гоняться за тормозной жидкостью. Да и днище у машины так проржавело,
что превратилось в настоящее решето. Осталось автомобильное стойло под
названием "кирпичный гараж". Там я оборудовал свою лабораторию. Каждый
первооткрыватель первым делом открывает свою лабораторию. Благодаря щедрости друга я
получил четыре неоштукатуренных стены и пару длинных полок со следами бензина
и машинного масла. Вперед!
Очень скоро я убедился, что в серебристом налете скрывались микроорганизмы
десятков различных пород. Из этой живой смеси необходимо было выделить
малюток лишь одной породы и приручить их. Я чувствовал себя укротителем на манеже
цирка. Алле, гоп! Удар хлыста и. . . ничего за этим ударом не следует. Пустое
сотрясение воздуха. Львы и медведи - нечто весьма осязаемое. Даже слепой смог
бы отличить бурого медведя от белого. Даже микроскоп не подсказывал мне, где
бактерии одного сорта, где другого. Иногда брала верх порода честных
строителей. Тогда опыт удавался. Я ликовал. Крошки-строители восстанавливали металл
из окислов, добывали молекулы металла из пыли, носившейся в воздухе, из
остатков смазки, из ржавчины... Они строили и строили, наращивая из крупинок
тончайшие слои металла, восстанавливая исковерканную деталь, зализывая любые
раны, трещины, каверны. С идеальной точностью они возвращали обезображенному
куску металла потерянную форму. Таинство обновления свершалось непрерывно,
бесшумно и точно. Я уже видел, как миллионы машин, запрятав в свое нутро
колонии бактерий, работают вечно, не боясь износа, царапин, ржавчины. Мир
вещей, не знающих тлена и распада. Всегда юные статуи, вечно живые двигатели,
навеки незыблемые мосты и башни...
Рядом с малютками-строителями приютилась другая порода - безобразников и
хулиганов. Иногда эти маленькие анархисты оттесняли в сторону строителей, и
опыты давали дичайшие результаты. Бактерии наращивали на металле безобразные
наросты, мохнатые иглы, бесформенные нашлепки. Скульптор-абстракционист
сгорел бы от зависти, глядя на их упражнения. Споры бактерий носились в воздухе
гаража и, оседая на чем попало, тут же давали всходы. Как они мне досаждали!
Однажды они проникли в замок гаража и срастили ключ с замком. Пришлось
"разбирать" замок зубилом и кувалдой. В тот же вечер дома я обнаружил, что не
могу вылезти из собственной куртки. Застежка-"молния" превратилась в нечто
похожее на хребет рыбы, все звенья слились друг с другом. Испорченная куртка -
пустяк. Хуже было, когда раздался оглушительный взрыв, зазубренный кусок
металла просвистел над головой и вонзился в деревянную полку. Это бактерии
разорвали огнетушитель - они разрослись внутри его, раздавили стеклянные
баллоны с пенообразующими веществами и одновременно залепили отверстие для выхода
пены.
Взрыв... Вероятно, тогда споры бактерий особенно густо заполнили воздух
лаборатории. Но и до взрыва все кругом пропиталось ими. Бутерброд, который я
ел, воздух, которым я дышал. В человеческом организме найдутся любые металлы.
Даже золота полграмма наберется. Мне кажется, что я чувствую, как бактерии
собирают воедино молекулы железа и никеля, устилают металлом вены и артерии.
Они путают обмен, веществ и, созидая, разрушают. Сколько перед нами незримых
врагов... Когда эпидемия чумы косила жителей Афин, один Сократ остался здо-
ров. Может быть, философ уже тогда знал тайну врачующих прививок? Все ли мы
знаем про мир мельчайших сегодня? Но вдруг рядом со мной живет современный
Сократ? И я надеюсь. Надежды - сны бодрствующих. Утешительно...
Боль... опять все кругом темнеет от боли.
Меня лечит Ростислав Георгиевич. Милый доктор старомодного обличья. Галстук
свалялся трубочкой, очки в "школьной" оправе, то есть в самой уродливой,
какую только можно изобрести. Его авторучка подтекает и обернута тряпочкой. Но
все равно на пальцах синие пятнышки. Каждый день Ростислав Георгиевич
является ко мне с какой-то новой и совершенно оригинальной медицинской идеей.
Ободряет? Вероятно. Я узнаю, что где-то доктор Икс рекомендует при гипертонии...
поменьше дышать, а доктор Игрек вылечил неизлечимых шизофреников, совершив с
ними альпинистское восхождение на Эльбрус, и будто где-то в Австралии некий
профессор по цвету глаз распознает сорок четыре болезни. Таким образом он,
видимо, вселяет в меня надежду, что и мою болезнь поможет раскусить некий
медицинский гений. Надежды - сны бодрствующих...
Несмотря на всяческие странности, Ростислава Георгиевича все уважают, а
больные говорят шепотом: "Он творит чудеса". Хорошее, добротное чудо в моем
положении оказалось бы очень кстати.
Последние пару дней Ростислав Георгиевич напускает на себя вид таинственный
и загадочный. Но маленькие хитрости его наивны и легко узнаются. Весь секрет
заключается в том, что сегодня меня будет смотреть "светило микробиологии".
Светило вынесет приговор. Окончательный, обжалованию не подлежит...
Я уже сталкивался с одним таким "светилом". Он давал отзыв на мое открытие.
Это тоже был приговор. Суровый и несправедливый...
Полгода я возился в гараже-лаборатории, пока решился официально заявить о
своем открытии.
Как я писал тогда в заявке на изобретение? Кажется, так: "Предлагается
способ самообновления или самовосстановления любых металлических частей, деталей
и узлов машин, механизмов, зданий и сооружений. Способ отличается тем, что с
целью постепенного и непрерывного наращивания мономолекулярных слоев металла
применяются бактерии, открытые и выделенные в чистом виде автором заявки и
названные им Бациллус Террус..." Официальное косноязычие. Я вызубрил эту
прекрасную формулировку...
Светило микробиологии написал отзыв на мое предложение. Он увильнул от сути
дела, его не зацепила идея вечности вещей. Он смотрел со своей колокольни. Он
нудно и непререкаемо изложил пункты и подпункты, по которым выходило, что я
чуть ли не злонамеренный отравитель. Он доказывал, что было бы преступной
неосторожностью поселить рядом с людьми неизвестную доселе расу микробов.
Необходимы предварительные массовые эксперименты на животных. Необходимо
проследить , не будут ли Бациллус Террус оказывать вредное влияние на потомство
подопытных обезьян в четвертом поколении! Практическое воплощение в жизнь моей
Идеи откладывалось на пятьдесят, сто, может быть, сто пятьдесят лет. Страх
перед новым, не более того, Но вот ведь я заболел? Глупости. Всякая техника
опасна для неумейки. И швейной машинкой можно отрубить себе палец. Моя
болезнь - глупая случайность. А светило - трус. Трус! Я так и сказал ему.
Пришел уговорить его хотя бы смягчить убийственный отзыв. Но не выдержал,
сорвался, наговорил кучу дерзостей. Губы задрожали, покраснел, даже ногами
топал... "Светило" тоже покраснел и затопал ногами. Разругались насмерть...
Кто из нас прав? Прогресс техники - всегда риск. Автомобиль пытались
запретить, полагая, не без основания, что он распугает лошадей и от этого
восседающим в каретах и на извозчиках последует великое членовредительство. На
паровоз ополчились врачи, суля пассажирам судороги и расстройство всего тела,
как следствие быстрой езды и тряски. Даже невинный телефон - и тот в свое
время считали губительным для здоровья.
Ни автомобили, ни паровозы, ни телефоны запретить не удалось. И никакому
"светилу" не запретить мое открытие. Мы еще поборемся. Если... если я когда-
нибудь еще смогу с кем-то бороться. Бессмертен ли человек? Сколько религий
задавали себе этот вопрос. И всякая религия - это лишь гарантийная расписка
на вечную жизнь, любой бог - лишь поставщик бессмертия. Боги и бессмертие
вместе существуют и вместе гибнут. Они гибнут. Реальность остается. Реальная
материя, из которой я сделан, была частью вселенной миллиарды лет назад, и
будет оставаться ее частью через миллиарды лет. Бесконечное прошлое
сфокусировано в моем теле, бесконечное будущее исходит из него.
Ростислав Георгиевич старается все же лечить мое тело. Добрый доктор
Айболит! Я думаю, не так-то легко было ему добиться визита "светила
микробиологии" . Интересно - кто он? Знаю ли я его фамилию по статьям и книгам?..
...Медсестрички засуетились. На больничном горизонте восходит "светило"...
Вот оно приближается. Боже, это мое "светило"! Тот самый, на которого я топал
ногами и кричал: "Трус! Консерватор!" Благодарю вас, Ростислав Георгиевич, за
приятный сюрприз. Как многое играет в жизни положение человека -
горизонтальное или вертикальное. Обезьяна стала человеком, когда приняла вертикальное
положение. Я в горизонтальном положении - я повержен, я не прав, уличен в
легкомыслии и невежестве. "Светило" возвышается вертикально - он торжествует,
он прав и непогрешим. Что он говорит? Нет, не говорит. Произносит!
- Вы доставили нам массу хлопот. От меня потребовали, чтобы я решил, как
поступить с вашим гаражом, извиняюсь, с вашей лабораторией.
- Как поступить с моей лабораторией? В каком смысле?
- В единственно возможном. В смысле - уничтожить. Но как? Сжечь? Где
гарантия, что бактерии не возродятся из пепла? Продезинфицировать? Но чем? Сулема
для них - это все равно, что глоток нарзана. Интересно, что бы вы
предложили? . .
- Не знаю.
- Обстоятельный ответ. Благодарю вас, коллега.
Сколько яда в слове "коллега"!
- Вы, конечно, все же придумали способ уничтожения лаборатории?
- Не сомневайтесь, придумал. Мы обнесли гараж со всех сторон сплошным
высоким забором и вылили сверху пятнадцать самосвалов бетона. Теперь там огромная
бетонная глыба, из которой вашим Террус не выбраться. А внутрь лаборатории
для страховки брошена ампула с радиоактивным кобальтом. Я предупреждал, что
самодеятельная возня с неизученными микроорганизмами чревата последствиями,
выходящими из-под контроля...
- Я уже не нуждаюсь в лекциях...
- Учиться никогда не поздно.
Как он банален. Скоро он уйдет?..
- Я не буду проверять ваш пульс. Это обязанность Ростислава Георгиевича. Я
займусь этими... Террус. Постараюсь сделать все, что в моих силах. До
свидания.
Он сделает все, что в его силах... Какая великолепная, стандартная,
обнадеживающая и холодная формулировка. Он сделает все, что в его силах. Ради кого?
Ради недоучки, осмелившегося проникнуть в науку, которую он считает своей
личной собственностью? Ради чего? Нет, он, разумеется, добропорядочный
человек. Разве у меня есть повод сомневаться в этом? Он сделает все, что в его
силах. Но с какой душой? Он вызовет к себе свободного лаборанта... А лаборант
бывает свободным, если он плохой лаборант. Он попросит к себе свободного
сотрудника. А свободным научный сотрудник бывает только в том случае, если его
голова свободна от науки. Он поручит им "разобраться" с Бациллус Террус.
Заместителю - у него есть заместитель - скажет: "Проследи". И успокоится - он
сделал все, что в его силах - поручил, обязал, проследил. Я могу ликовать и
лежать спокойно...
Сестричка, сестричка, подойди ко мне! Начинается приступ...
Почему за окнами пламя? Солнце заходит... Отблески желтой звезды светят
сейчас не только Земле. Я уже не лежу, я лечу. Я мох1 бы подлетать сейчас к
другой планете... Багровые языки за стеклами иллюминатора. Огненные вихри
обжигают стекла. Клочья ядовитых туманов ищут людей, укрывшихся за тонкой
металлической обшивкой. Но все спокойны. Нас охраняют полчища Террус. В
молекулах их тел атомы кислорода заменены атомами кремния, и малютки могут
наслаждаться прохладой тысячеградусных температур. Они живут на обшивке нашего
корабля . Сейчас раскаленные вихри слизывают миллиарды огнестойких крошек. И тут
же им на смену рождаются миллиарды миллиардов новых. Они размножаются с
чудовищной поспешностью. Потоки огня не в силах побороть размножение живых
огнеупорных частиц. Впервые испытывается биохимическая защита космических
кораблей. . .
Как далеко ты залетел. Вернись на землю. Туда, где корявая кожа земли
изрезана сухими морщинами. Великая сушь, засуха пыльная, заскорузлая. Плуги
стремительно режут серую земную корку. Нет, не плуги, два стальных крыла
вспарывают землю, режут гигантскую борозду канала. Вглубь - на метры, вширь - на
десятки метров. Управляемый по радио каналопроходец обгоняет птицу. Натиск на
земные пласты так скор, что вылетающие из-под плуга осколки валунов шипят,
падая на влажную землю, - осколки раскалены. А в микронеровностях стальных
ножей - колонии Террус. Они жадно выбирают из земли атомы железа и тут же
прикрепляют их к металлу, непрерывно восполняя потери. Стальным крыльям не
грозит разрушение, это работает вечный плуг...
Мою лабораторию превратили в глыбу бетона. Надгробный камень, воздвигнутый
на обломках мечты.
Сегодня Ростислав Георгиевич печален. Не находит слов ободрения. "Светило"
взошло на нашем больничном небосклоне и скрылось. Не торопится. Десятые сутки
делает все, что в его силах...
Я хотел бы подарить Ростиславу Георгиевичу чугунную собачку. Маленькую,
дешевую фигурку. Но она уникум. Единственная в мире и теперь - увы! -
неповторимая .
Фигура собачки стояла на столе в гараже. Старенькая статуэтка, одна лапка
отломана. И эта лапка выросла за ночь! Я сам видел это! Каким-то неведомым
чутьем Бациллус Террус ощущали направление граней обломанных кристалликов
чугуна и достраивали их. Когда статуэтка рождалась из огненного расплава, ее
пронизывали силовые линии земного магнитного поля, в ней возникали силы
натяжения , давления, сдвига микрочастиц, слипавшихся в одно целое. Металл остыл,
но запечатлел и сохранил следы этих сил. Теперь микробы-строители шли по
незримым следам, двигались вдоль замерзших силовых линий. Они достраивали
скульптуру, создавая исчезнувшее, восстанавливая потерянное...
Все прошлое человечества записано в металле. Коринфская бронза, сиракузские
монеты, медали хорезм-шаха, монисты славян, орудия бронзового века... Картины
писали красками с примесью свинца и железа, надписи на мраморе вырубали
металлическим клином, книги печатали металлическими литерами... Всюду куски
металла, его следы, его оттиски, его пыль и пятна. Все это можно восстановить -
изуродованные фанатиками статуи, стертые надписи, истлевшие рукописи,
помрачневшие картины. Забытые цивилизации восстанут из пепла. Малюткам-строителям
предстоит большая жизнь... Ничего им не предстоит. Они замурованы в глыбе
бетона. . .
"И опять был день. И опять была ночь".
А когда только что кончился очередной приступ, взошло "светило". Он подошел
ко мне. Какие у него странные глаза! Какие у него воспаленные, безумные
глаза. . .
- Мои глаза? Не обращайте внимания. Я не спал одиннадцать суток. Принимал
дианол. Сильное возбуждающее. Потребуется полгода пренеприятных процедур,
чтобы выгнать его из организма. Никогда бы не решился начинять себя такой
дрянью, если бы не спешка. Ростислав Георгиевич сказал, что вы протянете не
больше трех недель. Извините, я присяду к вам на постель. От этого дианола
сердце работает, как бешеное... Помните, с чего у вас все началось? С ржавой
трубы. Я отыскал то место, откуда ее выкопали. Всех поднял на ноги и отыскал.
Меня интересовала земля в том месте. Земля хранит многое! И я нашел кое-
что ... Причина болезни и возможность ее лечения лежали рядом. Почти рядом, не
считая шестидесяти трех опытов. Мы нашли антитела, убивающие ваших бурых
тварей. Опасность заражения для человека вообще оказалась ничтожно малой. Вам
просто не повезло. Во всяком случае, любая домашняя кошка с точки зрения
микробиологии представляет более грозную опасность, чем ваши вечные машины...
Все спасено!
- У вас запущенный случай, но считайте, что все уже позади. Выздоровление
ваше - теперь только вопрос времени. Я не буду извиняться за тот кусок
бетона, в который я превратил вашу лабораторию. Люди важнее лабораторий. А пока
они - увы! - не вечны. Кстати, я хотел поговорить с вами именно об этом. Мне
кажется, что микробы, подобные вашим Террус, могут внести нечто принципиально
новое в медицину. Представьте себе, что мы заставим их как бы самообновлять
некоторые ткани нашего организма. На первых порах это могла быть хотя бы
костная ткань...
Может быть, вечными станут не только машины?
Химичка
НЕКОТОРЫЕ МЕТОДЫ ОРГАНИЧЕСКОЙ ХИМИИ'
Антраниловая к-та
из фталимида
Опыт №1
Процесс проводился при наружной температуре около +6°С. В химический стакан
на 600 мл помещенный в ледяную баню (из льда и соли) помещают 72 мл 50%
раствора едкого натрия (полученного из 36 г гидроокиси и 36 мл воды)и при разме-
Все прописи взяты из интернета. Возможно, не все они работоспособны, они не
проверялись , а только редактировались при помещении в журнал.
шивании добавляют 200 г льда.
Готовили так: налили в на глаз в 250 мл стакан 200 мл воды, потом из него
перелили 30 мл в мензурку и еще в одну мензурку, все это поставили
замораживаться, когда добавляли вода в мензурках полностью замерзла, а в стакане на
20%Л все это выцарапали, залили в щелочной раствор (получилось 2 больших
куска, много мелких и ледяная вода).
Температура смеси на этом этапе в районе -15-20°С (не должна превышать
+10°С) .
Потом за 7 раз добавили 6,9 мл брома (то есть 6 раз по 1 мл и один раз 0,9)
температура все время была не выше -15°С. После растворения брома
(растворяется легко, несмотря на то что в колбе было много льда. После растворения
добавляем 20 г фталимида за 4-6 раз.
Температура смеси была все время в районе -10-15°С (по методике не должна
превышать 0°С) цвет смеси был светло желтый. После добавления фталимида запах
немного изменился.
Фталимид плохо растворялся, и перемешивание не очень хорошо влияло на его
растворимость (мешали стеклянной палочкой).
В полученную смесь, в которой все еще плавал нерастворившийся фталимид было
добавлено примерно за 4 раза 20 г гидроокиси натрия (температура подскочила
до примерно +10-15°С - это была ошибка, смесь самую малость потемнела и слала
оранжевая, нужно добавлять медленно и держать температуру не выше 0°С) . В
дальнейшем это оказалось не критично. После добавления щелочи фталимид еще
оставался нерастворившимся, но после того как смесь поместили в комнатную
температуру и перемешивали полчаса, все растворилось.
Смесь отфильтровали на мелкой бумаге (потребовалось 1 час) . Теперь имеем
прозрачный светло-красно-желтый раствор, который подогрели постепенно до 70°С
и когда температура смеси достигла 70-78°С раствор сняли и он постоял минут
10 просто так, потом его оставили охлаждаться.
После охлаждения добавили ХХ% раствор сернисто-кислого натрия
приготовленного из 1,8 г соли натрия, смесь никак не изменилась. Далее начали добавлять
соляную кислоту 50-80 мл (кислота была старенькая, может, поэтому, ее
потребовалось больше. Кислоту добавляли по 2 мл, потом перемешивали и снова
добавляли кислоту, смесь вспенивается от того, и добавляли помаленьку.
Еще если добавлять сразу много кислоты то она реагирует не сразу, а
накапливается наверху и стоит болтнуть, как она начинает сильно вспениваться (пена
на руки никак не действует при соприкосновении).
Таким образом добавили примерно 30 мл, померили рН, и дальше, пока рН не
достиг чистого рН=7, при высыхании индикаторной бумаги она была рН=8.
Смесь ни в коем разе нельзя перекислить, тогда наша кислота будет
растворяться в кислотном растворе. Раствор должен быть щелочным или лучше
нейтральным. При подкислении смесь не охлаждали.
Теперь добавили 30 мл ледяной уксусной кислоты (99,8%). Смесь очень
интересно стала себя вести. Ледянка осталась наверху и смесь разделилась. С
границы вверх начали идти пузырьки увлекая вверх образовавшиеся по пути
кристаллы и все это накапливается наверху.
Ледяную уксусную кислоту лучше добавлять постепенно, сперва 25 мл, а потом
смотрим и если слой не опустился добавляем еще. Примерно час уходит на
осаждение, в результате, визуально, огромное количество кислоты сверху и она
кишит в смеси. Смесь светлеет и становится желтой. Кристаллы кремового цвета.
Эти игольчатые кристаллы заливаем кипятком (примерно 300 мл) они
растворяются и с легкостью выпадают в виде плоских, блестящих иголок коротких,
сливаем воду, выжимаем кристаллы и сушим на воздухе получая 12 грамм кремовых
кристаллов сладких на вкус.
Опыт №2
Все делалось как в опыте №1, только при добавлении щелочи температуру
держали в районе -5-10°С, это добиться не сложно, просто убираете из бани соль
которая, набрав воды, становится кусками и когда лед свободен от соли он
быстрее тает, но зато сильнее охлаждает. В этот раз сернисто-кислый натрий
добавляли сразу после того как раствор нагревали до 70°С, т.е. нагрели до 70°С
и убрали раствор с бани, температура сохраняется в районе 70°С еще минут 5-
10, потом сразу заливаем сернокислый натрий2 в 30 мл воды, из смеси выпадает
некая пыль, смесь фильтруем еще теплой через белую фильтровальную бумагу и
начинаем подкислять, пена образующаяся во время подкисления, есть ни что
иное, как антраниловая кислота, пена белого цвета, как только образуется
сразу растворяется снова. После подкисления осаждаем ледяной уксусной кислотой,
фильтруем на вакууме, сразу отфильтрованное бросаем в стакан, который
заливаем водой 300 мл, и ставим в печку при 100°С. Как только все растворится
вынимаем и смотрим как в течении часа выпадают кристаллы.
Начинают расти кристаллы с поверхности вниз и со дна вверх, потом конечно
вся красота портится. Как все выпало, воду сливаем и в том же стакане сушим
при 100°С имеем 13-16 г антраниловой кислоты светло-желтого цвета.
Опыт №3
Все делали как раньше, только щелочь добавляли не в кристаллах, а
растворяли предварительно в воде.
Сернокислый натрий не использовали. При подкислении ледянкой прилили ее, и
после добавления ледянки кристаллов не было. Бросили кусочек щелочи и все
мгновенно заполнилось кристаллами - 3 минуты на все, зато в последствии это,
наверно, сказалось на выходе -9г.
Ароматические
сульфонил хлориды
из анилинов
Возможно, вы знаете, что есть такай реактив как метил тозилат3 (метил
толуол сульфонат). Практически идеальный метилирующий агент. Ибо по силе почти не
уступает ДМС'у; кипит при высоких температурах; и кроме того, наименее
токсичный/канцерогенный из всех метилаторов наряду с триметилфосфатом -
поскольку паров не испускает и, если вы не будете пробовать его язык или трогать
руки , ничего Вам не сделает.
Вместо толуол-группы можно подставить любой ароматический радикал - с теми
же результатами. Например, метил бензолсульфонаты также широко используются.
Все они аналогичны метил тозилату. А делаются они из соответствующих арил-
сульфонил хлоридов.
Теперь, эти сульфонил хлориды вообще-то делаются реакцией аренов (типа,
толуола) с хлорсульфоновой кислотой. Она стоит дорого, достать тяжело и,
главное , весьма опасный в обращении реактив.
2 Так в интернете, возможно, как и ранее, имелся в виду сернисто-кислый натрий.
3 Р-толуолсульфокислоты метиловый эфир - Метил-п-тозилат (PTSM). Синонимы: метиловый
эфир пара-толуолсульфонат; 4-толуолсульфокислота метиловый эфир, метил п-тозилат, р-
толуолсульфокислота метиловый эфир, метил п-тозилат 4-Methylbenzenesulfonic кислоты
метиловый эфир, Р-толуолсульфокислоты метиловый эфир; метил-4-метилбензолсульфонат.
Теперь же оказывается, что всё делается проще: диазотируем анилин,
реагируем с сернистым газом и медной солью в соляной кислоте (притом сернистый газ
делаем ин ситу из бисульфита).
В общем, метил бензолсульфонат можно легко получить в два шага4.
100 частей по весу 2-нитро-4-аминобензойной кислоты были диазотированы 97.5
частями по весу 40% раствора азотистокислого натрия и 400 частей по весу
коммерческой соляной кислоты при 0-5°С и после фильтрования (для очистки от
примесей) добавлен по каплям ниже поверхности за 2 часа (достаточно 45 минут) в
смесь, охлажденную до 3-5°С, 1000 частей по весу коммерческой соляной
кислоты, 10 частей по весу прозрачного CuS04 и 175 частей 40% по весу бисульфита
натрия. Одновременно с диазо раствором, добавляют ещё 175 частей 40% по весу
бисульфита натрия. Диазо соединение реагирует с сильным выделением азота.
После короткого перемешивания никакого диазосоединения в смеси не присутствует.
Сульфохлорид был отфильтрован, промыт 2000 частями воды и высушен.
Выход - 83%
Существует способ сделать это с электронасыщенными анилинами5.
1. Получение 2-хлоробензолсульфохлорида
К 100 г охлажденной 36% соляной кислоты (= 1 моль НС1) было добавлено
сначала 32 г (приблизительно 0.25 моля) 2-хлороанилина и затем, в ходе 15 минут
при 0-5 С, 76 г 25% раствора азотистокислого натрия (= 0.28 моля ЫаЫОг) .
После того, полученный раствор соли диазония был перемешан в течение 10 минут
при 0°С., после чего избыток азотистой кислоты был разрушен маленьким
количеством мочевины.
Раствор соли диазония был тогда приведен в контакт с раствором 100 мл
дихлорэтана и 21 г (0.33 моля) S02 при 20 С, используя энергичное
перемешивание. После этого, концентрированный водный раствор 0.625 г (3.7 миллимоль)
меди (II) хлорида дигидрата было добавлено к смеси, и оная была нагрета к 50
С, с перемешиванием, и сохранялся в этой температуре, пока больше азота не
шло; это потребовало 80 мин.
После этого, 2.5 г (35 миллимоля) хлора пропускали в смесь при 50 С. После
5 мин., фазы были отделены, и органическая фаза обработана обычным способом,
чтобы дать требуемый продукт. Выход чистого 2-хлоробензолсульфохлорида (т.
кип. 144 -146 С. /21 mbar) был приблизительно 93 %.
2. Получение 4-метоксибензолсульфохлорида
Раствор соли диазония, приготовленный подобно Примеру 1 из пара-анисидина
(см. выше), был принесен в близкий контакт с раствором 100 мл диэтилкетона и
21 г (0.33 моля) S02, и был затем разложен, используя 0.5 г СиС12*2Н20 и 1 г
хлорида тетрабутиламмония в 40 °С. Дальнейшая обработка 4.5 граммами (63
миллимоль) С12 и последующей обычной обработки реакционной смеси дала 4-
метоксибензолсульфохлорид с выходом 87 %; точка плавления 43 °С.
4 Patent US3947512. В этом патенте заявляют 72% выход из нафтиламина.
5 Patent US4393211.
Биосинтез
фенилпропандиола6
Reductive C3-Homologation of Substituted Benzaldehydes by Fermenting
Bakers1 Yeast.
This reaction is strongly pH dependent and best proceeds at a pH of 8-9.
... A unique reaction catalyzed by Bakersf Yeast is the reductive C-C bond
formation in benzaldehyde that results in the formation of 1-phenylpropane-
1,2-diol [ref 3]. This reaction is supposed to involve the attack of pyruvic
acid, which is formed from sugars through a well known pathway, by benzald-
hyde to give phenyl-1-hydroxy-2-propanone [ref 4] . This ketol is considered
to be reduced by alcohol dehydrogenase of the yeast to give the diol. ...
Reduction of aldehydes by fermenting yeast. General procedure. To 50 mL of
tap water, 12.5 g of dry yeast and 10 g glucose were added, followed by
stirring at room temperature for 10 minutes. Then a solution of aldehyde 1 (about
600 mg) in 1 mL of ethanol was added to the suspension of fermenting yeast
with stirring. After 1 hour yeast (6.2 g) and glucose (5 g) were added to
the reaction mixture, followed by stirring for an additional 3.5 hours. The
reaction mixture was then poured into a beaker containing 35 grams of celite
and extracted with 100 mL of ethyl acetate three times. The combined organic
layer was dried over anhydrous Na2S04. The solvent removed under reduced
pressure to give an oil consisting of benzylic alcohol 3, 1-arylpropane-l,2
diol 3, and in some cases, l-aryl-l-hydroxy-2-propanone 4. ...
Table II. Yields and Steroselectivities of propanediols (a)
Substrate
H
p-Ome
p-Me
p-Cl
p-F
p-N02
о-Me
o-Cl
o-F
m-F
CF3 (b)
Yield %
30
22
28
27
26
14
7
32
30
31
0
Remarks:
(a) Reactions were carried out in tap water at room temperature ...
(b) All of the o-, m-, p-substituted isomers gave no diols."
(c) Полученный фенилпропандиол легко переводится в фенилацетон
стандартными методами.
6 From Agric. Biol. Chem., Volume 50, yr 1986, page 1261
Получение
гидроксибензиловых
спиртов из фенолов
(метилолирование)
С борной кислотой
Суспензия 81.8 г 2-бромо-4-метоксифенола и 24.9 г борной кислоты в 55 мл
толуола нагрета под рефлюксом, используя водоотборник, пока вода не
перестанет отделяеться (приблизительно 12 часов). Мелкая светлокоричневая суспензия
тогда охлаждена к 90 С, и в ходе 40 мин. 13г. параформальдегида добавлены
порциями. Смесь перемешана в течение 1 часа при 90 С и затем охлаждена к 70;
100 мл воды добавлены, и смесь охлаждена к 20 С и отрегулирована к рН 8.5
концентрированным раствором гидроксида натрия. Коричневая суспензия
перемешана 30 мин. и отрегулирована к рН 2.5 концентрированной серной кислотой.
Нерастворимый остаток, полученный после вакуумного фильтрования, промывается
дважды по 50 мл этилацетата. Объединенные фильтраты полностью смешаны, и
органическая фаза отделена и концентрирована упариванием. Масляный остаток,
который остается, хроматографируют на силикагеле с этилацетатом/толуолом (4: 1)
как элюент. 3-бромо-2-гидрокси-5-метокси-бензальдегид получается с выходом
50% от теоретического.
Полученный бензиновый спирт может быть затем (или после метилирования гид-
роксигруппы) переведён в альдегид окислением Fe(N03)3 или в бензил хлорид
соляной кислотой (в этом случае возможно прямое, без очистки хлорида, получение
нитрила с последующим его восстановлением).
С мышьяковистым натрием
Это только для 1,3-диметилового эфира пирогаллола, но наверное сработает и
для по-другому замещённых бензолов.
К суспензии 15.4 г 1,3-диметилового эфира пирогаллола в 1 л воды добавляют
5 г NaOH в 20 мл воды (при этом эфир растворяется) . Затем прибавляют 5 мл
раствора арсенита (2 г As203 растворяют в 100 мл 2% NaOH), 5.25 г 35%
формалина и смесь оставляют в течение недели при комнатной температуре. После
обработки раствора бисульфитом, экстракции этилацетатом и перекристаллизации из
смеси этилацетат-хлороформ, получают 9.6 г (52%) сиреневого спирта.
С окисью кальция
То 138 g. of 2-methyl-4-methoxyphenol in 800 ml. of water 81 g. of 37%
formalin was added. To this suspension with cooling under a blanket of nitrogen,
28 g. of CaO was added gradually. The operation was performed in a jar and
after the lid was closed tightly all the material went into solution upon
shaking. After standing overnight in an ice box, wart-like crystals had
separated on the walls of the reaction vessel. Upon shaking, the whole contents
of the jar became solid due to formation of the calcium salt of the reaction
product. The reaction mixture was diluted with water, acidified with acetic
acid and the precipitated oily phenol extracted with ether. The ether extract
was washed with NaHC03 to remove excess acetic acid, washed with water, and
dried over Na2S04. Evaporation afforded 137.5 g. of crude 2-methyl-4-methoxy-
6-hydroxymethylphenol. Distillation of the crude product under vacuum
resulted in extensive decomposition. The distillate, B.P. 136-140°C. at 1 mm.,
solidified M.P. 56-57°C: on crystallization from isohexanes, it melted at 58-
59°C. and was found to be 2-methyl-4-methoxy-6-hydroxymethylphenol.
Нитрозирование
пропио- и ацетофенонов
Классическая процедура7
Берут 3-х литровую 3-х горлую круглодонную колбу, снабженную обратным
холодильником, механической мешалкой с жидкостным затвором и двумя трубками для
ввода газа, погруженными поглубже в колбу. Метилнитрит синтезируют в 2-х
литровой конической колбе, снабженной пол-литровой капельной воронкой и
соединенной с первой колбой посредством трубки Т1. Сухой хлористый водород
поступает через трубку Т2. Естественно, все операции под тягой.
В первую колбу помещают раствор 469 г (3.5 моля) пропиофенона (прим. 1) в
2.3 л. обыкновенного этилового эфира, а в коническую колбу - смесь из 290 г
(4.0 моля) 95% нитрита натрия и 180 мл метанола (142 г = 4.5 мол) и 170 мл
воды. В капельную воронку наливают 455 мл холодной разбавленной серной
кислоты (1 объем кислоты на 2 объема воды). Пускают в ход мешалку и через трубку
Т2 со скоростью 6-10 пузырьков в сек начинают пропускать хлороводород.
Кислоту из воронки прибавляют по каплям к содержимому конической колбы, и
газообразный метилнитрит поступает в реакционную массу. Раствор окрашивается в
коричнево-красный цвет. Скорость выделения метилнитрита регулируют так, чтобы
эфир непрерывно, но не сильно кипел. Время необходимое для прибавления
метилнитрита - 4 часа. После этого перемешивают и пропускают хлороводород еще
полчаса. К концу реакции раствор перестает кипеть и приобретает светло-желтую
окраску. Реакционную массу оставляют на ночь, после чего многократно
экстрагируют 10% раствором едкого натра, порциями по 500 мл до тех пор пока щелочь
не будет окрашиваться в желтый цвет (около 5 раз) . Объединенные щелочные
вытяжки медленно при перемешивании выливают в смесь, состоящую из 700 мл
концентрированной соляной кислоты и 1 кг льда. Выпадают кристаллы продукта,
фильтруют, сушат на воздухе. Вес - 370-400 гр. (65-70%) т.пл. 111-113°С.
Из эфирного раствора после извлечения щелочью извлекают 80-110 г непрореа-
гировавшего пропиофенона (т.кип. 210-216°С) .
Примечания:
1. Эта процедура является общей для нитрозирования как пропио-, так и ацето
фенонов.
Усовершенствованная процедура
Получение изонитрозопропиофенона8.
В энергично перемешиваемый раствор 0.11 г-мол пропиофенона (подойдут и
замещение пропиофеноны, например, 3,4-диметоксипропиофенон выход для него 90%)
в 100 мл абсолютного эфира в течении 10-15 мин пропускают ток сухого
хлористого водорода и затем медленно добавляют 0.12 г-мол свежеперегнанного изо-
7 Синтезы органических препаратов, т.2 стр. 264.
8 "Журнал общей химии" I960, 30, N9, 3054-3057.
пропилнитрита Смесь нагревают 1 час до кипения , эфир отгоняют и твердый
остаток перекристаллизовывают из толуола , сухого метанола или ИПСа.
Выход 90%.
Хлороалкилирование
бензолов аллилхлоридом
Методика9 1
4 М замещённого бензола (растворитель?) и 32.4 г безводного FeCl3. Охладите
к -21°С в бане с ледяной солью, и добавьте по каплям с перемешиванием за два
часа, 76.5 г аллилхлорида и продолжите перемешивание три часа. Добавьте
приблизительно 2 фунта10 дроблёного льда и 100 мл концентрированной НС1.
Перемешайте и отделите органический слой и промойте разбавленной НС1, потом водой и
отфильтруйте, высушите и выпарьте в вакууме (или дистиллируйте 100-115/10
мм'г колбе Кляйзена, и т.д.) чтобы получить замещённый 1-фенил-2-хлоропропан.
Методика 2
К охлаждаемой смеси 360 мл безводного бензола и около 260 мл нитропропана
(Прим. 1) медленно с перемешиванием добавляют 77 г хлористого алюминия.
Раствор 77 г аллилхлорида в равном объёме бензола добавляют в смесь -
медленно, следя, чтобы температура не превышала -5-0°С. По завершению
прибавления смесь перемешивают ещё полчаса и затем гидролизуют 550 мл холодной 3%
соляной кислотой. Органическую фазу отделяют, и водный ликвор экстрагируют
бензолом . Сушат смесью сульфата и бикарбоната натрия. Растворитель упаривают.
Конечный продукт, 2-хлоро-1-фенилпропан , получают перегонкой при 70-74°С
(3 mm Hg) с хорошим выходом.
Примечания:
1. Авторы говорят, что "реакция протекает в точности так же при
использовании вместо нитропропана нитрометана, нитроэтана и нитробензола" - но по
причине лёгкости рецикленья предпочитают нитропропан.
Получение
коричной
кислоты
В сосуде, закрытом трубкой с натронной известью, выдерживают 3 недели в
темноте при комнатной температуре раствор 304 г ванилина, 460 г малоновой
кислоты и 20 г пиперидина в 1 л безводного пиридина. Реакционную смесь при
перемешивании выливают в смесь 1.2 л концентрированной соляной кислоты и 2 кг
измельченного льда. Осадок фильтруют, моют 5% соляной кмилотой, водой и сушат
на воздухе. Выход 304 г (85%), т. пл. 174°С.
9 JACS 68,1009(1946)
10 1 фунт = 453.59237 г
11 US Patent #US2654791
Для вератрового альдегида эта процедура проходит с выходом 94%.
3,5-диметокси-5-оксикоричная кислота.
Нагревают при 60°С 5 г сиреневого альдегида, 7.5 г малоновой кислоты, 15 мл
пиридина и 0.5 мл анилина до прекращения выделения С02 (2-3 ч) . При выливании
в разбавленную соляную кмслоту, синаповая кислота выпадает в виде жёлтого
осадка. Выход 5-5.5 г (80%) т.пл. 192°С.
Электроника
ВЫПРЯМИТЕЛИ С ТИРИСТОРНЫМ РЕГУЛЯТОРОМ НАПРЯЖЕНИЯ
А. Федюков
Введение
Зимой 2006 года я получил задание на разработку устройства проверки и
тренировки мощных радиоламп для гитарных ламповых усилителей. Поразмыслив над
этой задачей, я пришел к выводу, что устройство для проверки ламп или
усилительных приборов вообще (например, мощных полевых транзисторов) - это, прежде
всего набор источников питания которые подключаются к выводам испытываемого
прибора для обеспечения режима измерения его параметров. Схемы управления и
индикации устройства контроля усилительных приборов, в принципе, могут быть
любыми, от стрелочных приборов до ЭВМ, но источники питания будут всегда.
Итак, мне потребовалось разработать несколько мощных регулируемых
источников питания устойчивых к возможным авариям - перегрузкам и включению без
нагрузки. В литературе имеется множество схем защиты источников питания от
перегрузки, поэтому здесь они не приводятся. Поскольку возможно включение
разрабатываемых источников питания без нагрузки, я решил отказаться от
применения схемы с высокочастотным преобразователем напряжения ("импульсного"
источника питания).
При разработке регулируемого источника питания без высокочастотного
преобразователя разработчик сталкивается с такой проблемой, что при минимальном
выходном напряжении и большом токе нагрузки на регулирующем элементе
стабилизатор рассеивается большая мощность. До настоящего времени в большинстве
случаев эту проблему решали так: делали несколько отводов у вторичной обмотки
силового трансформатора и разбивали весь диапазон регулировки выходного
напряжения на несколько поддиапазонов. Такой принцип использован во многих се-
рийных источниках питания, например, УИП-2 и более современных. Понятно, что
использование источника питания с несколькими поддиапазонами усложняется,
усложняется также дистанционное управление таким источником питания, например,
от ЭВМ.
Выходом мне показалось использование управляемого выпрямителя на тиристоре,
так как появляется возможность создания источника питания, управляемого одной
ручкой установки выходного напряжения или одним управляющим сигналом с
диапазоном регулировки выходного напряжения от нуля (или почти от нуля) до
максимального значения. Такой источник питания можно будет изготовить из готовых
деталей, имеющихся в продаже.
К настоящему моменту управляемые выпрямители с тиристорами описаны и весьма
подробно в книгах по источникам питания, но практически в лабораторных
источниках питания применяются редко. В любительских конструкциях они также редко
встречаются (кроме, конечно, зарядных устройств для автомобильных
аккумуляторов) . Надеюсь, что настоящая работа поможет изменить это положение дел.
В принципе, описанные здесь схемы могут быть применены для стабилизации
входного напряжения высокочастотного преобразователя, например, как это
сделано в телевизорах "Электроника Ц432". Приведенные здесь схемы могут также
быть использованы для изготовления лабораторных источников питания или
зарядных устройств.
Описание своих работ я привожу не в том порядке, как я их проводил, а более
или
менее
упорядочено.
Сначала рассмотрим общие вопросы,
затем
ЛЛ
низковольтные" конструкции типа источников питания для транзисторных схем
или зарядки аккумуляторов и затем
схем на электронных лампах.
хвысоковольтные" выпрямители для питания
Работа тиристорного
выпрямителя на
емкостную нагрузку
В литературе описано большое количество тиристорных регуляторов мощности,
работающих на переменном или пульсирующем токе с активной (например, лампы
накаливания) или индуктивной (например, электродвигатель) нагрузкой.
Нагрузкой же выпрямителя обычно является фильтр, в котором для сглаживания
пульсаций применяются конденсаторы, поэтому нагрузка выпрямителя может иметь
емкостный характер.
Рассмотрим работу выпрямителя с тиристорным регулятором на резистивно-
емкостную нагрузку. Схема подобного регулятора приведена на рис. 1.
Рис. 1.
Здесь для примера показан двухполупериодный выпрямитель со средней точкой,
однако он может быть выполнен и по другой схеме, например, мостовой. Иногда
тиристоры кроме регулирования напряжения на нагрузке Uh выполняют также
функцию выпрямительных элементов (вентилей), однако такой режим допускается не
для всех тиристоров (тиристоры КУ202 с некоторыми литерами допускают работу в
качестве вентилей). Для ясности изложения предположим, что тиристоры
используются только для регулирования напряжения на нагрузке Uh, а выпрямление
производится другими приборами.
Принцип работы тиристорнохю регулятора напряжения поясняет рис. 2. На
выходе выпрямителя (точка соединения катодов диодов на рис. 1) получаются
импульсы напряжения (нижняя полуволна синусоиды "вывернута" вверх), обозначенные
ивыпр. Частота пульсаций fп на выходе двухполупериоднохю выпрямителя равна
удвоенной частоте сети, т.е. 100 Hz при питании от сети 50 Hz. Схема
управления подает на управляющий электрод тиристора импульсы тока (или света если
применен оптотиристор) с определенной задержкой t3 относительно начала
периода пульсаций, то есть того момента, когда напряжение выпрямителя ивыпр
становится равным нулю.
Рис. 2.
Рисунок 2 выполнен для случая, когда задержка t3 превышает половину периода
пульсаций. В этом случае схема работает на падающем участке волны синусоиды.
Чем больше задержка момента включения тиристора, тем меньше получится
выпрямленное напряжение Uh на нагрузке. Пульсации напряжения на нагрузке Uh
сглаживаются конденсатором фильтра Сф. Здесь и далее сделаны некоторые упрощения
при рассмотрении работы схем: выходное сопротивление силового трансформатора
считается равным нулю, падение напряжения на диодах выпрямителя не
учитывается, не учитывается время включения тиристора. При этом получается что подза-
ряд емкости фильтра Сф происходит как бы мгновенно. В реальности после подачи
запускающего импульса на управляющий электрод тиристора заряд конденсатора
фильтра занимает некоторое время, которое, однако, обычно намного меньше
периода пульсаций Тп.
Теперь представим, что задержка момента включения тиристора t3 равна
половине периода пульсаций (см. рис. 3). Тогда тиристор будет включаться, когда
напряжение на выходе выпрямителя проходит через максимум.
В этом случае напряжение на нагрузке Uh также будет наибольшим, примерно
таким же, как если бы тиристорного регулятора в схеме не было (пренебрегаем
падением напряжения на открытом тиристоре).
Рис. 3.
Здесь мы и сталкиваемся с проблемой. Предположим, что мы хотим регулировать
напряжение на нагрузке почти от нуля до наибольшего значения, которое можно
получить от имеющегося силового трансформатора. Для этого с учетом сделанных
ранее допущения потребуется подавать на тиристор запускающие импульсы ТОЧНО в
момент, когда ивыпр проходит через максимум, то есть t3=Tn/2. С учетом того,
что тиристор открывается не моментально, а подзарядка конденсатора фильтра Сф
также требует некоторого времени, запускающий импульс нужно подать несколько
раньше половины периода пульсаций, т.е. t3 < Тп/2. Проблема в том, что, во-
первых, сложно сказать насколько раньше, так как это зависит от таких причин,
которые при расчете точно учесть сложно, например, времени включения данного
экземпляра тиристора или полного (с учетом индуктивностей) выходного
сопротивления силового трансформатора. Во-вторых, даже если произвести расчет и
регулировку схемы абсолютно точно, время задержки включения t3, частота сети,
а значит, частота и период Тп пульсаций, время включения тиристора и другие
параметры со временем могут измениться. Поэтому для того чтобы получить
наибольшее напряжение на нагрузке Uh возникает желание включать тиристор намного
раньше половины периода пульсаций.
Предположим, что так мы и поступили, то есть установили время задержки t3
намного меньшее Тп/2. Графики, характеризующие работу схемы в этом случае
приведены на рис. 4. Заметим, что если тиристор откроется раньше половины
полупериода, он будет оставаться в открытом состоянии пока не закончится
процесс заряда конденсатора фильтра Сф (см. первый импульс на рис. 4).
Оказывается, что при малом времени задержки t3 возможно возникновение
колебаний выходного напряжения регулятора. Они возникают в том случае, если в
момент подачи на тиристор запускающего импульса напряжение на нагрузке Uh
оказывается больше напряжения на выходе выпрямителя ивыпр. В этом случае
тиристор оказывается под обратным напряжением и не может открыться под действием
запускающего импульса. Один или несколько запускающих импульсов могут быть
пропущены (см. второй импульс на рис. 4). Следующее включение тиристора
произойдет когда конденсатор фильтра разрядится и в момент подачи управляющего
импульса тиристор будет находиться под прямым напряжением.
Вероятно, наиболее опасным является случай, когда оказывается пропущен
каждый второй импульс. В этом случае через обмотку силового трансформатора будет
проходить постоянный ток, под действием которого трансформатор может выйти из
строя.
с4
импульс
Пропу ugfeH
V
т
Рис. 4.
Для того чтобы избежать появления колебательного процесса в схеме тиристор-
ного регулятора вероятно можно отказаться от импульсного управления
тиристором, но в этом случае схема управления усложняется или становится
неэкономичной. Поэтому автор разработал схему тиристорного регулятора в которой
тиристор нормально запускается управляющими импульсами и колебательного процесса
не возникает. Такая схема приведена на рис. 5.
<*-*-
п
?
•г
ыарА^мтель
Lb.
Пп*
со npcrr ыВленме
14
□ Rk
VDn
{Ъ/ско&ои
Дчоа
Рис. 5.
Здесь тиристор нагружен на пусковое сопротивление Rn, а конденсатор фильтра
Сф и нагрузка Rh подключены через пусковой диод VDn. В такой схеме запуск
тиристора происходит независимо от напряжения на конденсаторе фильтра Сф.
После подачи запускающего импульса на тиристор его анодный ток сначала начинает
проходить через пусковое сопротивление Rn и, затем, когда напряжение на Rn
превысит напряжение на нагрузке Uh, открывается пусковой диод VDn и анодный
ток тиристора подзаряжает конденсатор фильтра Сф. Сопротивление Rn выбирается
такой величины чтобы обеспечить устойчивый запуск тиристора при минимальном
времени задержки запускающего импульса t3. Понятно, что на пусковом
сопротивлении бесполезно теряется некоторая мощность. Поэтому в приведенной схеме
предпочтительно использовать тиристоры с малым током удержания, тогда можно
будет применить пусковое сопротивление большой величины и уменьшить потери
мощности.
Схема на рис. 5 имеет тот недостаток, что ток нагрузки проходит через
дополнительный диод VDn, на котором бесполезно теряется часть выпрямленного
напряжения. Этот недостаток можно устранить, если подключить пусковое
сопротивление Rn к отдельному выпрямителю. Схема с отдельным выпрямителем управления,
от которого питается схема запуска и пусковое сопротивление Rn, приведена на
рис. 6. В этой схеме диоды выпрямителя управления могут быть маломощными, так
как ток нагрузки протекает только через силовой выпрямитель.
-* »
гхз
ЬиПр*ЯМиг|п*АЬ
CuAoBoM
I '
I I
к
■о
£ог)рртиВ>л«
фф»
[Rh
Низковольтные источники
с тиристорным регулятором
Рис. 6.
Ниже приводится описание нескольких конструкции низковольтных выпрямителей
с тиристорным регулятором. При их изготовлении я взял за основу схему тири-
сторного регулятора, применяемого в устройствах для заряда автомобильных
аккумуляторов конструкции А.Г. Спиридонова (см. рис. 7). Эта схема успешно
применялась ранее.
Элементы, обведенные на схеме (рис. 7), устанавливались на небольшой
печатной плате. В литературе описано несколько подобных схем, отличия между ними
минимальны, в основном, типами и номиналами деталей. В основном отличия
такие:
1. Применяют времязадающие конденсаторы разной емкости, то есть вместо
0.5|LiF ставят l|uF, и, соответственно, переменное сопротивление другой
величины. Для надежности запуска тиристора в своих схемах я применял
конденсатор на l|uF.
2. Параллельно времязадающему конденсатору можно не ставить сопротивление
(3kQ на рис. 7) . Понятно, что при этом может потребоваться переменное
сопротивление не на 15kQ, а другой величины. Влияние сопротивления,
параллельного времязадающему конденсатору на устойчивость работы схемы я
пока не выяснил.
3. В большинстве описанных в литературе схем применяются транзисторы типов
КТ315 и КТ361. Порой они выходят из строя, поэтому в своих схемах я
применял более мощные транзисторы типов КТ816 и КТ817.
4. К точке соединения базы рпр и коллектора прп транзисторов может быть
подключен делитель из сопротивлений другой величины (10kQ и 12kQ на
рис. 7).
5. В цепи управляющего электрода тиристора можно установить диод (см. на
схемах, приведенных ниже). Этот диод устраняет влияние тиристора на
схему управления.
Рис. 7.
Схема (рис. 7) приведена для примера, несколько подобных схем с описаниями
можно найти в книге ЛЛЗарядные и пуско-зарядные устройства1". Книга состоит из
трех частей, в ней собраны чуть ли не все зарядные устройства за историю
человечества .
Простейшая схема выпрямителя с тиристорным регулятором напряжения приведена
на рис. 8.
В этой схеме использован двухполупериодный выпрямитель со средней точкой
так как в ней содержится меньше диодов, поэтому нужно меньше радиаторов и
выше КПД. Силовой трансформатор имеет две вторичные обмотки на переменное
напряжение 15V. Схема управления тиристором здесь состоит из конденсатора С1,
сопротивлений R1-R6, транзисторов VT1 и VT2, диода VD3.
Рассмотрим работу схемы. Конденсатор С1 заряжается через переменное
сопротивление R2 и постоянное R1. Когда напряжение на конденсаторе С1 превысит
напряжение в точке соединения сопротивлений R4 и R5, открывается транзистор
VT1. Коллекторный ток транзистора VT1 открывает VT2. В свою очередь,
коллекторный ток VT2 открывает VT1. Таким образом, транзисторы лавинообразно
открываются и происходит разряд конденсатора С1 в управляющий электрод тиристора
VS1. Так получается запускающий импульс. Изменяя переменным сопротивлением R2
время задержки запускающего импульса, можно регулировать выходное напряжение
схемы. Чем больше это сопротивление, тем медленнее происходит заряд
конденсатора С1, больше время задержки запускающего импульса и ниже выходное
напряжение на нагрузке.
1 Зарядные и пуско-зарядные устройства: Информационный обзор для автолюбителей /
Сост. А. Г. Ходасевич, Т. И. Ходасевич - М.:НТ Пресс, 2005
i
и
3
j
VD1
лгчгв
Л*нп* 4JVS0+40U/
п ос л ejc&c*/* +4* #*>
Mcikern тири^^орй^ло jAnpaLAЛевого Ъыпрлнител^
Рис. 8.
Постоянное сопротивление R1, включенное последовательно с переменным R2
ограничивает минимальное время задержки импульса. Если его сильно уменьшить, то
при минимальном положении переменного сопротивления R2 выходное напряжение
будет скачком исчезать. Поэтому R1 подобрано таким образом, чтобы схема
устойчиво работала при R2 в положении минимального сопротивления (соответствует
наибольшему выходному напряжению).
В схеме использовано сопротивление R5 мощностью 1W только потому, что оно
попалось под руку. Вероятно, вполне достаточно будет установить R5 мощностью
0.5W.
Сопротивление R3 установлено для устранения влияния наводок на работу схемы
управления. Без него схема работает, но чувствительна, например, к
прикосновению к выводам транзисторов.
Диод VD3 устраняет влияние тиристора на схему управления. На опыте я
проверил и убедился, что с диодом схема работает устойчивее. Короче, не нужно
скупиться, проще поставить Д226, коих запасы неисчерпаемы, и сделать надежно
работающее устройство.
Сопротивление R6 в цепи управляющего электрода тиристора VS1 повышает
надежность его работы. Иногда это сопротивление ставят большей величины или не
ставят вовсе. Схема без него обычно работает, но тиристор может
самопроизвольно открываться под действием помех и утечек в цепи управляющего
электрода. Я установил R6 величиной 51Q как рекомендовано в справочных данных
тиристоров КУ202.
Сопротивление R7 и диод VD4 обеспечивают надежный запуск тиристора при
малом времени задержки запускающего импульса (см. рис. 5 и пояснения к нему).
Конденсатор С2 сглаживает пульсации напряжения на выходе схемы.
В качестве нагрузки при опытах регулятором использовалась лампа от
автомобильной фары.
Схема с отдельным выпрямителем для питания цепей управления и запуска
тиристора приведена на рис. 9.
Достоинством данной схемы является меньшее число силовых диодов, требующих
установки на радиаторы. Заметим, что диоды Д242 силового выпрямителя
соединены катодами и могут быть установлены на общий радиатор. Анод тиристора
соединенный с его корпусом подключен к "минусу" нагрузки.
И ос rt его лпч|»и<*торноао
ПГ1
W
«с
щ
а
г—b*v 1—I
|i*v kjM I; , ^^0+ 1
«L«— |\ •'.•' &А1Г»р*имт»АЬ\ «2SV £2 ЛЛ
Нагр^дох -
а Ьлюио£чльня4
АЛКПа
прел 9 3 o$«"ieAU<0
|/>A#*trpoi
Рис. 9.
Монтажная схема этого варианта управляемого выпрямителя приведена на рис.
10.
сеть
Переменное
с о про ги&де и щ?
Моита*на*
плат<*
г<*кЯ
*ра
кугагн
Matfem лпнрисгторного ьрраЬлчве^ого Ьбюр*ямигоел«Я.
Схегио. моиппа^нал^к схеме ot20uk)aa)#
Рис. 10.
Для сглаживания пульсаций выходного напряжения может быть применен LC-
фильтр. Схема управляемого выпрямителя с таким фильтром приведена на рис. 11.
^1
ъ.
*
OJ
7
4
*
41 1
XI
<*-1
1—^3
т Н
1 «d
/ н
1 *з
1 ^4
1 Н
1 «4
F «I
А
0\
\ ■ щ
•с
1
•1
1
1—«г*
С LC- фильтром!
^ыхрЭиое носпрл+ение цЪсАалъсь рсг^лироЬагл^ &. праЗел^л o/n iSoibV; п^^сочач
при наибольшая Ьб^сЭиом напрА^еини
Рис. 11.
Я применил именно LC-фильтр по следующим соображениям:
1. Он более устойчив к перегрузкам. Я разрабатывал схему для лабораторного
источника питания, поэтому перегрузки его вполне возможны. Замечу, что
даже если сделать какую-либо схему защиты, то у нее будет некоторое
время срабатывания. За это время источник питания не должен выходить из
строя.
2. Если сделать транзисторный фильтр, то на транзисторе обязательно будет
падать некоторое напряжение, поэтому КПД будет низкий, а транзистору
может потребоваться радиатор.
В фильтре использован серийный дроссель Д255В.
Рассмотрим возможные модификации схемы управления тиристором. Первая из них
показана на рис. 12.
Обычно времязадающую цепь тиристорного регулятора делают из включенных
последовательно времязадающего конденсатора и переменного сопротивления. Иногда
удобно построить схему так, чтобы один из выводов переменного сопротивления
был подключен к "минусу" выпрямителя. Тогда можно включить переменное
сопротивление параллельно конденсатору, как сделано на рисунке 12. Когда движок
находится в нижнем по схеме положении, основная часть тока, проходящего через
сопротивление 1. lkQ поступает во времязадающий конденсатор l|uF и быстро
заряжает его. При этом тиристор запускается на "макушках" пульсаций
выпрямленного напряжения или немного раньше и выходное напряжение регулятора
получается наибольшим. Если движок находится в верхнем по схеме положении, то время-
задающий конденсатор закорочен и напряжение на нем никогда не откроет
транзисторы. При этом выходное напряжение будет равно нулю. Меняя положение движка
переменного сопротивления, можно изменять силу тока, заряжающего времязадаю-
щий конденсатор и, таким образом, время задержки запускающих импульсов.
ы Ьыпрлмчгоелю
ffli.iten.
\ч
kblXoUHOlO
Напряжения*
С!
с*
а
l
ь?твиь
¥*
2#кЯ
итап»г
■^ тчрасглоорос
К ер» а ней
точ<«. &торччно*£
9и- ^ АатсЛз
тирасТторсх
\Ал*>терно1пг\цЬньи£" Ьарйант
включения pe*j{At-ipoLo4Ho2o
Сопротивления Ь. tfx«i^ ч^прос^леимя
Рис. 12.
Иногда требуется производить управление тиристорным регулятором не при
помощи переменного сопротивления, а от какой-нибудь другой схемы (дистанционное
управление, управление от вычислительной машины). Бывает, что детали тири-
сторного регулятора находятся под большим напряжением и непосредственное
присоединение к ним опасно. В этих случаях вместо переменного сопротивления
можно использовать оптрон.
к Ьыпрзииглелю
к. сгреЗне£
qSmotkk^
*rF
& Данное с*ене
выходное
направим е реъулчрорялось
почти от ндлл Зр
PiatfcwMyMot при
изменении l)ynj>.
om.6Vdo.9V.
Аггад
Оалл Ш51Л
3Aeiempo^<f
ы катеру
rnupudnaopci
(включение оптрона тчпа 4НЪ5 ЬместР
переменного сьлроп*&лениА &> .<?хе*де. ^пр^Ьленчя тчьыСпюром.
Рис. 13.
Примечание к рис. 13: Испытывался также вариант включения оптрона
параллельно конденсатору, но при такой схеме не удалось получить регулирование от
нуля.
Пример включения оптрона в схему тиристорнохю регулятора показан на рис.
13. Здесь используется транзисторный оптрон типа 4N35. База его
фототранзистора (вывод 6) соединена через сопротивление с эмиттером (вывод 4). Это
сопротивление определяет коэффициент передачи оптрона, его быстродействие и
устойчивость к изменениям температуры. Автор испытал регулятор с указанным на
схеме сопротивлением lOOkQ, при этом зависимость выходного напряжения от
температуры оказалась отрицательной, то есть при очень сильном нагреве
оптрона (оплавилась полихлорвиниловая изоляция проводов) выходное напряжение
уменьшалось. Вероятно, это связано с уменьшением отдачи светодиода при
нагреве.
При регулировке схемы управления тиристором иногда бывает полезна
подстройка порога срабатывания транзисторов. Пример такой подстройки показан на рис.
14.
н &ыг>рд|4имел*о
У1Л1*Л
ъо1г&
Т [ tfT&lSfc
i«F
т Ы.
Щ ктаггг
порог*
дггзд
о5моопкц
Н ui>pqJAAK>u&eH«4
гоирасггпоРЧ
^. к катоду
Схен>с| 1£пр<х&ленмЯ г*чр*-4<ггоором
с r\o£cfr*bo&Ko& порогов
Рис. 14
Рассмотрим также пример схемы с тиристорным регулятором на большее
напряжение (см. рис. 15). Схема питается от вторичной обмотки силового
трансформатора ТСА-270-1, дающей переменное напряжение 32V. Номиналы деталей, указанные
на схеме, подобраны под это напряжение.
Схема на рис. 15 позволяет плавно регулировать выходное напряжение от 5V до
40V, что достаточно для большинства устройств на полупроводниковых приборах,
таким образом, эту схему можно взять за основу при изготовлении лабораторного
источника питания.
Недостатком этой схемы является необходимость рассеивать достаточно большую
мощность на пусковом сопротивлении R7. Понятно, что чем меньше ток удержания
тиристора, тем больше может быть величина и меньше мощность пускового
сопротивления R7. Поэтому здесь предпочтительно использовать тиристоры с малым
током удержания.
к* при Ь+деоЗнсч ыс***ь*4«и
2(А4(П.
Нагр^эюя
ПЭБР-100
AS И А, мо е*<?м~ с
Макег^ регулируемого тнристорного Ьъ/ор^мн^ел^
Ъыкс^ыое на л рвение регулируется переменные солрот^&А^ние*л R2L
Сопротивление R& улучшаем c^nx* Зальное? "i* paSomn (аамвшио
прм максимальном ЬмхоДмо^ и<*пр*кенч<$.
Рис. 15.
4uim.
*A2U
rSRf
ил
^iaV (и Ьтормчжх*
о^могте S-ft'трои-к^форглелгооро.
Исхгру^на
ПЭВР-iW 51Л
Опорой
rnupuCmo^HbM
Огра им ч w me ль
ИМП^ЛЬСиыУ ГпоКоЬ
1акегп регулируемого тмрч^люрмо^о Вып/эдмит^л^
>ыхоЭиое. напряжение рег^лиь^е^с^ 0°^ ?4о4ф\/ переменным
ив ЬкАьожжетс»), Есдм ^аллкн^т^ накоротко R6^ <*>о Ь*ко£ное
к<*пр**4<ение регулируется cm З^о 4tfV»
Рис. 16.
Заметим также следующее. Часто в схемах тиристорных регуляторов применяют
пороговые элементы с неизменным порогом срабатывания. При макетировании схемы
автор решил так поступить, чтобы обеспечить подачу в управляющий электрод
тиристора импульсов постоянной амплитуды. Попытка стабилизировать порох1
срабатывания транзисторной схемы управления привела к ухудшению стабильности ее
работы. Поэтому от стабилизации напряжения на конденсаторе С1, при котором
открываются транзисторы было решено отказаться; к точке соединения базы VT1 и
коллектора VT2 подключен делитель R4R5, питающийся пульсирующим напряжением с
выпрямителя на диодах VD1-VD4. В этом случае схема работает устойчиво и в ней
не замечено паразитных колебаний.
Кроме обычных тиристоров в схеме тиристорнохю регулятора может быть
использован оптотиристор. На рис. 16. приведена схема с оптотиристором ТО125-10.
Здесь оптотиристор просто включен вместо обычного, но так как его
фототиристор и светодиод изолированы друг от друга, схемы его применения в
тиристорных регуляторах могут быть и другими. Заметим, что благодаря малому току
удержания тиристоров Т0125 пусковое сопротивление R7 требуется менее мощное,
чем в схеме на рис. 15. Поскольку автор опасался повредить светодиод оптоти-
ристора большими импульсными токами, в схему было включено сопротивление R6.
Как оказалось, схема работает и без этого сопротивления, причем без него
схема лучше работает при низких напряжениях на выходе.
Высоковольтные источники
с тиристорным регулятором
При разработке высоковольтных источников питания с тиристорным регулятором
за основу была взята схема управления оптотиристором, разработанная В. П. Бу-
ренковым (ПРЗ) для сварочных аппаратов. Для этой схемы разработаны и
выпускаются печатные платы. Схема одного из макетов регулируемого выпрямителя с
использованием платы конструкции Буренкова приведена на рис. 17.
Детали, установленные на печатной плате обведены на схеме пунктиром. Как
видно из рис. 16, на плате установлены гасящие сопротивления R1 и R2,
выпрямительный мост VD1 и стабилитроны VD2 и VD3. Эти детали предназначены для
питания от сети 220V. Чтобы испытать схему тиристорного регулятора без
переделок в печатной плате, использован силовой трансформатор ТБСЗ-0,25УЗ,
вторичная обмотка которого подключена таким образом, что с нее снимается переменное
напряжение 200V, то есть близкое к нормальному питающему напряжению платы.
Схема управления работает аналогично описанным выше, то есть конденсатор С1
заряжается через подстроечное сопротивление R5 и переменное сопротивление
(установлено вне платы) до того момента, пока напряжение на нем не превысит
напряжение на базе транзистора VT2, после чего транзисторы VT1 и VT2
открываются и происходит разряд конденсатора С1 через открывшиеся транзисторы и
светодиод оптронного тиристора.
Достоинством данной схемы является возможность подстройки напряжения, при
котором открываются транзисторы (при помощи R4), а также минимального
сопротивления во времяз а дающей цепи (при помощи R5) . Как показывает практика,
иметь возможность такой подстройки весьма полезно, особенно если схема
собирается в любительских условиях из случайных деталей. При помощи подстроечных
сопротивлений R4 и R5 можно добиться регулировки напряжения в широких
пределах и устойчивой работы регулятора.
С этой схемы я начинал свои ОКР по разработке тиристорного регулятора. В
ней же и был обнаружен пропуск запускающих импульсов при работе тиристора на
емкостную нагрузку (см. рис. 4). Желание повысить стабильность работы
регулятора привело к появлению схемы рис. 18. В ней автор опробовал работу
тиристора с пусковым сопротивлением (см. рис. 5).
логг'*.£^
»>*\Rdi»H
9
2
Z
4»
2.
31
z
I
о
t
о
о
z
о
X
ff
о
ОС
5
£
а.
t
л
о
Z
*
о.
2
<?
эи
*•
а>
в.
-—-._u*t#? _Д->
d
3
а.
1ь
4
s \\ ^^
~tt
t
is
** £ 3
2 * *
* 2 л
tin
£ * -
E
1
hi
• x •>
* < *
lb
a;
и X
U
К» л
ft*
i
Si
1° у
1» £ *
Cl.7 J
3 rd
J*
i
Рис. 17.
-^
I 6
3 X
U >
*
x
г.;
Л
лвгг^
Рис. 18.
fo&Cl Л0?? HUWbV >*</ш- ^^C^xJtoH
-® ® 0-
ТЗТТТГП p
!87
-
tmnr
««*v>* ~lbfiV f
3
z
ft
ft
X
a.
Рис. 19.
Модуль управляемого выпрямителя SCR1M0.
Вид со стороны установки радиодеталей.
ХЭ»т
И1-25гпт
131 2Агг*
9
9
I
Ж.-ЧПЬ -СЕЛЬ
fcf.r%..f^ Я3*
I 2
<ЯСЗ
I I
I
pj^^j C^^J °"
Г
i
#
Li
121 ЗЗгигч
0 10 20 50 41 50 SD ?Q 90 9D 1Ш
1 . i . I . I . i . I . i . I . i ■ I ■ I
В схеме рис. 18. использована та же плата, что и в схеме рис. 17, только с
нее удален диодный мост, так как здесь используется один общий для нагрузки и
схемы управления выпрямитель. Заметим, что в схеме на рис. 17 пусковое
сопротивление подобрано из нескольких параллельно включенных, чтобы определить
максимально возможное значение этого сопротивления, при котором схема
начинает устойчиво работать. Между катодом оптотиристора и конденсатором фильтра
включено проволочное сопротивление 10Q. Оно нужно для ограничения бросков
тока через опторитистор. Пока это сопротивление не было установлено, после
поворота ручки переменного сопротивления оптотиристор пропускал в нагрузку
одну или несколько целых полуволн выпрямленного напряжения.
Тра HCcfco p^amoff
икс* данне»*
слосоое сое)мнение
обмоток
Спрямленное иаг>рл#^мме
ре Зл^ли^о Далось Ь
ореЭелощ
ом М*3 Эо 540V
(на нагр^кв иь
<Чр** aqmh
ii<p\/ L99W после ас*.)
Ьарыант Ь*ан?чф»^я мр ансфср мазере* ТСД-г?^-1.
Рис. 21
На основании проведенных опытов была разработана схема выпрямителя с тири-
сторным регулятором, пригодная для практического использования. Она приведена
на рис. 19.
Данная схема (рис. 19) может быть использована как лабораторный источник
питания для конструкций на электронных лампах, для налаживания импульсных
источников питания и пр.
Рассмотрим особенности схемы. Оптотиристор Т0125 кроме того, что имеет
относительно малый ток удержания, позволяет соединить схему управления с общим
проводом, что упрощает ее наладку, дистанционное управление. Поскольку схема
управления и переменное сопротивление находятся под низкими напряжениями,
прикосновение к ним безопасно. Схема управления и нагрузка питаются от одного
выпрямителя на диодах VD1-VD4. Питание подается на схему управления через
гасящие сопротивления R1A-R1E. При налаживании выяснилось, что схема работает
устойчивее, если стабилитроны VD5 и VD6 зашунтировать сопротивлением R9. Без
этого сопротивления при малом выходном напряжении (регулятор в положении
наибольшего сопротивления) в схеме возникали паразитные колебания. При
установленном сопротивлении R9 напряжение на катоде стабилитрона VD5 имеет вид
половин синусоиды, верхушки которой могут быть ограничены стабилитронами VD5 и
VD6. Также оказалось, что точка соединения базы транзистора VT2 и коллектора
VT1 очень чувствительна к действию наводок. Например, работу регулятора
нарушало прикосновение к этой точке пальцем. После установки сопротивления R10
чувствительность схемы управления к действию наводок значительно уменьшилась.
Использован силовой трансформатор ТСА-270-1 от цветных ламповых телевизоров.
Схема рис. 18 была собрана на печатной плате SCR1M0, см. рис. 19.
Печатная плата SCR1M0 (рис. 20) разработана для установки на нее
современных малогабаритных электролитических конденсаторов и проволочных
сопротивлений в керамическом корпусе типа SQP.
Поскольку автор разрабатывал выпрямитель с наибольшим выходным напряжением
500V, потребовалось иметь некоторый запас по выходному напряжению на случай
снижения напряжения сети. Увеличить выходное напряжение оказалось возможным
если пересоединить обмотки силового трансформатора, как показано на рис. 21.
Замечу также, что схема рис. 19 и плата рис. 20 разработаны с учетом
возможности их дальнейшего развития. Для этого на плате SCR1M0 имеются
дополнительные выводы от общего провода GND1 и GND2, от выпрямителя DC1.
Рис. 22. Вид модуля SCR1M0 со стороны деталей
Рис. 23. Вид модуля SCR1M0 со стороны пайки
Рис. 24. Вид модуля SCR1M0 сбоку
По ходу налаживания схемы была выявлена ее склонность к паразитным
колебаниям "выбросам" при малом (менее 100V) выходном напряжении. То есть в течение
некоторого времени регулятор работает нормально и дает, скажем, 30V выходного
напряжения, потом дает выброс вольт в 400, потом снова работает нормально,
потом снова выброс и т. д. Возникло подозрение, что это явление возникает из-
за того, что тиристор не успевает закрыться, если он был открыт в самом конце
полупериода. Тогда он может оставаться некоторое время открытым и пропустить
ВЕСЬ следующий полупериод.
Чтобы избавиться от этого недостатка схема регулятора была изменена (рис.
25). Было установлено два тиристора - каждый на свой полупериод. С этими
изменениями схема испытывалась несколько часов и "выбросов" замечено не было.
>
«
3 £
^
9
?5
э a
S3
■ф-
v*
<3D-4I1—OD-^b-GJ—Ш
3 «S
Of -H
. <
D
<
IS*
г
«*|
Ы
Ш
41-
i3
o5
*2
> oo
> CO
Л трансформатору TCA2V0
(ucr>OAi£<?6<TM6/ oSMomHU Hat J4+V, /4JVu 3&V)
Рис. 25. Схема SCRlMO с доработками
Таблица 1. Осциллограммы при малом напряжении
№
п/п
1
2
3
4
5
Минимальное положение
регулятора напряжения
^^^^^^^^^^Н ^^^Ш (
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ШШ{
По схеме
На катоде
VD5
На
конденсаторе
С1
т.
соединения R2
и R3
На аноде
тиристора
На катоде
тиристора
Примечания
5 В/дел
2 мс/дел
2 В/дел
2 мс/дел
2 В/дел
2 мс/дел
100 В/дел
2 мс/дел
50 В/дел
2 мс/дел
Таблица 2. Осциллограммы при среднем напряжении
№
п/п
1
2
3
4
5
Среднее положение
регулятора напряжения
^^^^^^^В <ук* ^^^^|
^^^Н~- ^в
По схеме
На катоде
VD5
На
конденсаторе
С1
т.соедине
ния R2 и
R3
На аноде
тиристора
На катоде
тиристора
Примечания
5 В/дел
2 мс/дел
2 В/дел
2 мс/дел
2 В/дел
2 мс/дел
100 В/дел
2 мс/дел
100 В/дел
2 мс/дел
Таблица 3. Осциллограммы при максимальном напряжении
№
п/п
1
2
3
4
5
Максимальное положение
регулятора напряжения
| |
Г1
lJ
d
По схеме
На катоде
VD5
На
конденсаторе
С1
т.соедине
ния R2 и
R3
На аноде
тиристора
На катоде
тиристора
Примечания
5 В/дел
2 мс/дел
1 В/дел
2 мс/дел
2 В/дел
2 мс/дел
100 В/дел
2 мс/дел
100 В/дел
2 мс/дел
Матпрактикум
ФОРМИРОВАНИЕ ЭМПИРИЧЕСКИХ ЗНАНИЙ У УЧАЩИХСЯ
(имитационное моделирование на ПЭВМ)
Майер Р.В.
Важной составляющей курса физики являются эмпирические знания, полученные в
результате наблюдений и опытов. Построим компьютерную модель формирования
эмпирических знаний, приведем ее в соответствие с содержанием учебников и
результатами тестирования учащихся, осуществим имитационное моделирование этого
процесса, выявим его закономерности.
Что называют
эмпирическими
знаниями
Задача науки состоит в изучении окружающего мира. Под объектом познания
понимается часть объективной реальности, взаимодействующая с субъектом и
противостоящая ему в его предметно-практической и познавательной деятельности
[8, с. 437-438]. В силу раздвоения мира на внешнюю (открытую) и внутреннюю
(сокрытую) стороны в теории познания выделяют два аспекта объекта: явление,
то есть внешний аспект, и сущность - внутренний аспект.
Под сущностью понимают относительно устойчивую совокупность внутренних
свойств, связей и отношений объекта [7, с. 46], "внутреннее содержание
предмета, выражающееся в единстве всех многообразных и противоречивых форм его
бытия" [8, с. 638], определяющее явление. Явление - "подвижная и легко
изменяющаяся совокупность многообразных внешних, непосредственно отражаемых
чувствами свойств, связей и отношений предмета" [7, с. 49].
Внешняя сторона объекта - явление воспринимается органами чувств человека
либо непосредственно, либо опосредованно через специальные приборы.
Результатом чувственного подхода к исследованию объекта являются эмпирические или
фактуальные знания. Внутренняя сторона - сущность постигается в результате
рационального подхода, что приводит к возникновению теоретических знаний.
Итак, эмпирическими называются знания об объектах и происходящих с ними
явлениях , полученные в результате наблюдений и экспериментов. Элементами
эмпирических знаний являются обобщенные факты и эмпирические законы.
Особенности методики изучения того или иного факта определяются
возможностью его экспериментального установления в повседневной жизни и в условиях
обучения. Очевидно, что почти все факты, устанавливаемые в повседневной
жизни , могут быть экспериментально изучены на уроке. Поэтому нами выделены три
следующие категории фактов, отличающиеся по способу их изучения учащимися [1,
2] :
1. Факты первой категории, которые среднестатистический учащийся после их
изучения в школе может установить в повседневной жизни (существование
силы Архимеда, излучение света нагретым телом, существование
электрического тока) . Разумеется, что эти факты могут быть экспериментально
установлены и в условиях обучения.
2. Факты второй категории, которые учащийся не может установить в
повседневной жизни, однако они могут быть экспериментально обоснованы в
условиях обучения (фотоэффект, поляризация света, преломление
электромагнитных волн).
3. Факты третьей категории, которые не могут быть установлены в условиях
обучения и их изучение осуществляется умозрительно (термоядерная
реакция, релятивистское замедление времени, опыт Штерна-Герлаха).
Очевидно, что качество изучения и скорость забывания фактов 1, 2 и 3
категорий различны. Можно предположить, что факты первой категории легче
усваиваются и медленнее забываются, так как они включены в деятельность учащегося,
который непрерывно сталкивается с ними, "переоткрывая" их заново. Факты
второй категории забываются быстрее, чем первой, но не так быстро, как факты
третьей категории, так как у учащихся средствами учебного эксперимента создан
некоторый чувственно-наглядный образ изучаемого явления или объекта. Скорость
забывания фактов третьей категории, изученных умозрительно, наиболее высока,
особенно если учащиеся редко используют эти знания в своей деятельности.
Математическая модель
формирования
эмпирических знаний
Разобьем учебный процесс на интервалы длительностью т и будем считать, что
внутри каждого такого интервала учебный материал распределен равномерно, то
есть скорость поступления информации к учащемуся остается постоянной:
v = dl/dt = const,
причем вся информация, сообщенная учителем, усваивается:
dZy = dl.
Так как быстрота увеличения знаний учащегося складывается из скорости
обучения dZy/dt = v и скорости забывания dZ3/dt = -yZ, то:
dZ dZ dZ^
— = —— + —- = v-yZ
dt dt dt
Считая, что в момент начала отсчета времени to количество знаний учащегося
Z(to) = Zq, получаем:
{
'О
dZ
Z-ul у
= -у jdt.
t
о
Отсюда следует, что количество знаний учащегося в момент времени t равно:
z(/) =
U
7
_e-r(t-t0)
+ Z0e
-y(t-t0)
Пусть в начальный момент времени количество знаний учащегося равно нулю и т
= 1 год. Количество знаний учащегося в конце (i + 1)-го учебного года:
Z,_u = Zr-e~rT +
'Й-1
Ц-+1
г
\-е^т
где Zi - уровень знаний в конце i-ro года, vi+i - скорость поступления
знаний в (i + 1)-го году. Это уравнение позволяет последовательно вычислить
количество эмпирических знаний учащихся в конце 1, 2, ..., 11 года обучения.
Так как количество знаний фактов j—го учебного года равно сумме знаний,
усвоенных в 1, 2, ... r i, ... , j-м классах и частично забытых в течение (j - 1), (j
- 2) , ..., (j - i) , ... , 1, 0 лет соответственно, то имеем [1, 2]:
г=1 г=\Г
-rr\e-rU-i)T
где AZj = (Vj /у)(1 —в )е - знания, приобретенные в i-м классе, х=1
год - время обучения в одном классе.
Использование данной модели для исследования процесса формирования системы
эмпирических знаний требует учета зависимости времени забывания от категории
фактов. Считая, что коэффициенты забывания фактов первой, второй и третьей
категорий соответственно равны yi, Y2/ Уз г а их скорости поступления vn, ~v±2,
vi3 где 1 = 1, 2, ..., 11- номер класса, после преобразований получаем:
3 3 j и-
Zj = YjZjk =ZZ^^(1"exP("^r))exP("^^"/>) ,
k=l k=li=l Гк
где Zik - количество знаний учащихся, соответствующее фактам k-ой категории
в конце j-ro класса. Введем коэффициент сформированности эмпирических знаний
Kj как отношение знаний фактов Zj в j-ом классе к общему количеству
эмпирической информации: К'D = Zj/lj. При этом количество сообщенной информации равно:
3 j
k=li=l
Согласование модели
с результатами
тестирования
В результате контент-анализа стандартных учебников природоведения, физиче-
ской географии и физики [3 - 6] были определены значения скоростей
поступления эмпирических знаний в разных классах по различным разделам физики для
фактов 1, 2 и 3 категорий в единицах измерения факт/год. Результаты для
школьных учебников физики представлены в табл. 1.
Таблица 1. Количество фактов 1, 2 и 3 категорий
в различных разделах школьного курса физики
Класс
г
7 кл.
8 кл.
9 кл.
10 кл.
11 кл.
Категория
факта
1 1
2
3
1 1
2
3 |
1 1
2
3 |
1 1
2
3 |
1 1
2
3
Механика
1 32
13
1
1 1
0
1 °
1 27
23
| 1
2
2
1 °
1 2
2
1
Молекулярная
физика
13
0
0
13
13
0
0
0
0
9
13
3
0
0
0
родинамика
0
0
0
12
32
3
0
0
0
16
42
8
2
28
8
Оптика
0
0
0
9
4
0
0
0
0
0
0
0
3
13
6
Квантовая
физика
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2
13
37
С целью определения коэффициентов забывания в 1997-1999 гг. было проведено
тестирование 100 студентов 1 курса Глазовского пединститута, заключающееся в
установлении уровня знаний данными студентами 50 учебных фактов (по 10 из
каждого раздела физики). Это позволило оценить коэффициент сформированности
эмпирических знаний по фактам различных категорий как отношение числа заданных
вопросов N к числу правильных ответов п: К = n/N. Полученные результаты
представлены во втором столбце табл. 2.
Задача согласования математической модели с результатами тестирования
сводится к определению таких значений у1г у2г узг ПРИ которых коэффициенты
сформированности эмпирических знаний К'k для фактов различных категорий к = 1, 2,
3, предсказываемые моделью, максимально близки к соответствующим значениям
Кк, полученным при тестировании. Для этого нами использовался метод
наименьших квадратов, заключающийся в минимизации суммы квадратов разностей
(Кк _ К'к)2, где к = 1, 2, 3:
S=Z(Kk-K'k)2=mm.
к = \
Таблица 2. Согласование модели с результатами тестирования.
Уровень Ki
знаний Кч
фактов К$
Коэффи- 71
циенты 72
забывания 73
Критерий S
ТЕСТ
0,72
0,35
0,19
МОДЕЛЬ
1
0,30
0,43
0,60
0,38
0,38
0,38
0,36
2
0,50
0,62
0,19
0,20
0,20
1,48
0,12
3
0,73
0,17
0,32
0,090
0,95
0,95
0,049
4
0,73
0,35
0,19
0,090
0,49
1,5
0,00016
Для оптимизации параметров yiл Y2 г Уз и моделирования формирования
эмпирических знаний создан пакет программ, который включает в себя:
1. Массив данных о распределении фактов в школьном курсе физики, а также
данные, полученные в результате тестирования выпускников школы через
полгода после ее окончания (t = 11,5 лет). Из них следует, что
коэффициенты сформированности у учащихся знаний фактов первой, второй и
третьей категорий соответственно равны Ki = 0,72, К2 = 0,35, К3 = 0,19.
2. Подпрограмма, позволяющая, исходя из данных о распределении фактов в
курсе физики и значений у1г у2, узг вычислить теоретические значения
уровней сформированности фактуальных знаний, касающиеся фактов
различных категорий К'к (к = 1, 2, 3) для момента времени t = 11,5 лет.
3. Подпрограмма, определяющая значение суммы S квадратов разностей между Кк
и К'к.
4. Программа, минимизирующая сумму S, то есть определяющая значения у^ (к =
1, 2, 3), при которых величина S минимальна. Она осуществляет подгонку
модели к результатам тестирования.
5. Программа, осуществляющая имитационное моделирование процесса
формирования у учащихся знаний фактов, относящихся к первой, второй и третьей
категориям или различным разделам физики.
Определение
коэффициентов
забывания
Чтобы убедиться в необходимости деления фактов на три категории, нами
проведены расчеты для трех случаев:
1) факты всех трех категорий имеют одинаковые коэффициенты забывания:
Yi=Y2=Y3;
2) факты первой и второй категорий имеют одинаковые коэффициенты забывания
Yi=Y2a отличные от коэффициента забывания фактов третьей категории уз/
3) факты второй и третьей категорий имеют одинаковые коэффициенты
забывания Y2=Y3a отличные от коэффициента забывания фактов первой категории Yi
4) коэффициенты забывания фактов у±, у2, Y3 первой, второй и третьей
категорий различны.
Критерием близости результатов, даваемых моделью, результатам тестирования
является сумма S, которая при их совпадении обращается в нуль. Результаты
согласования имитационной модели с данными, полученными в ходе тестирования,
представлены в третьем, четвертом, пятом и шестом столбцах табл. 2
соответственно .
Видно, что четвертая модель, учитывающая различие коэффициентов забывания
фактов первой, второй и третьей категорий, наиболее точно соответствует
результатам тестирования. Итак, искомые коэффициенты забывания равны yi = 0,090
лет-1, Y2 = 0,49 лет-1, у3 = 1,5 лет-1. Интересно, что небольшие вариации
момента времени t проведения контрольного тестирования приводят к тому, что
программа выдает практически те же значения у±, у2, изменяя у3 • Так, если задать
t = 11,75 лет, то yi = 0,085 лет-1, у2 = 0,43 лет-1, у3 = 1,2 лет-1. Это связано
с тем, что факты третьей категории изучаются в основном в 10-11 классах, и им
соответствует небольшое время забывания, которое при изменениях t меняется в
большее число раз, чем время забывания фактов первой и второй категорий.
Получению описанных выше результатов предшествовали попытки решения данной
задачи другими способами [1, 2]. Например, количество эмпирической информации
в учебнике оценивалось не по числу упомянутых фактов, а по числу рисунков, на
которых изображены схемы экспериментов или их результаты. Кроме того,
согласование модели с результатами тестирования осуществлялось путем сравнения
уровня сформированности эмпирических знаний по механике, молекулярной физике
и термодинамике, электродинамике, оптике и квантовой физике с
соответствующими значениями, предсказываемыми моделью. Полученные при этом результаты
таковы: Yi * 0,06 лет-1, Y2 * 0,3 лет-1, у3 * 2 лет-1.
Границы применимости предложенной модели определяются погрешностью
введенных в модель данных, а также влиянием целого ряда неучтенных и
неконтролируемых факторов. Например, при моделировании предполагалось, что изучение физики
осуществляется без перерывов, скорость поступления учебной информации в
течение года постоянна, не учитывалась подготовка учащихся к выпускным и
вступительным экзаменам и т.д. Учет этих факторов требует существенного усложнения
модели, введения новых переменных, для оценки которых потребовалось бы более
обширное тестирование. В настоящей работе сделано первое приближение,
позволившее оценить параметры у±, у2, Y3 и установить основные закономерности
процесса формирования эмпирических знаний.
Закономерности
формирования
эмпирических
знаний
Согласно результатам моделирования наиболее быстро забываются факты третьей
категории, изучаемые на чисто умозрительном уровне. Их коэффициент забывания
Y3 * 1^5 лет-1, период забывания половины информации Т3 = In 2/уз = 0,46 лет.
Факты, изучаемые с опорой на систему учебного эксперимента, забываются
несколько медленнее: Y2 * 0,49 лет-1, Т2 = In 2/y2 = 1,4 года. Факты первой
категории, которые учащийся может экспериментально установить в повседневной
жизни, забываются еще медленнее или практически не забываются: Yi * 0,090 лет-1,
Ti = In 2/yi =7,7 лет.
Полученные значения ylr y2, Y3 позволяют рассчитать и построить графики
зависимостей количества эмпирических знаний от времени. В табл. 3 представлены
результаты вычислений, а на рис. 1 и 2 изображены соответствующие им кривые
для фактов различных категорий, всего курса физики целом и для его различных
разделов. Графики на рис. 1 получены в результате определения количества
эмпирических знаний, исходя из подсчета числа рисунков, несущих эмпирическую
информацию, в учебниках физики, природоведения и физической географии.
Таблица 3. Количество эмпирических знаний
учащихся, предсказываемое имитационной моделью
Гея
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
По категориям фактов
1
43
73
92
110
109
100
92
84
77
69
2
10
45
46
73
89
55
34
21
13
7,8
3
2,1
2,0
0,98
6,0
28
6,5
1,5
0,33
0,08
0,02
| По разделам физики
1
42
36
75
65
59
50
44
39
35
31
2
13
34
28
44
35
29
25
22
19
17
3
0,0
38
26
72
78
53
39
30
24
20
4
0,0
12
9,8
8,4
24
16
12
10
8,2
7,0
5
0,0
0,0
0,0
0,0
31
12
6,5
4,1
2,9
2,1 |
Общее число
| фактов
55
120
139
190
227
161
127
105
89
78
12 14 16 I год
Рис. 1. Зависимость знаний фактов различных категорий от времени.
Графики на рис. 2 и 3 получены на основе данных, взятых из табл. 1. На рис.
2 показаны изменения эмпирических знаний учащихся в целом, а также знаний
фактов первой, второй и третьей категорий с течением времени. На рис. 3.1 и
3.2 показано, как изменяется количество эмпирических знаний по разделам
физики: механике (кривая 1) , молекулярной физике и термодинамике (кривая 2) ,
электродинамике (кривая 3) , оптике (кривая 4) , квантовой физике (кривая 5) .
Провалы в графиках связаны с забыванием в промежутках между первым и вторым
изучением данного раздела физики, происходящими на первой и второй ступени
обучения. Видно, что эмпирические знания по различным разделам физики
забываются с разной скоростью. Например, уровень сформированности эмпирических
знаний по механике, состоящих преимущественно из фактов первой категории,
уменьшается медленно (рис. 3.1, кривая 1), в то время как факты квантовой
физики, в основном относящиеся к третьей категории, забываются быстрее (рис.
3.2, кривая 5).
JT
200
160
120
80
40
О
'.^WAV/J,1,
12 13 14 15
Рис. 2. Результаты имитационного моделирования (факты 1, 2, 3 категории)
Т 1— *
I год
Рис. 3. Изменение знаний фактов со временем (по разделам физики).
Из рис. 1 и 2 следует, что уровень знаний фактов первой категории плавно
возрастает до некоторого значения, а затем остается практически неизменным.
Уровни знаний фактов второй и третьей категорий плавно возрастают, в конце
обучения достигают максимума, а затем экспоненциально уменьшаются.
Соответствие результатов моделирования педагогическому опыту подтверждает истинность
исходных положений модели. Это, прежде всего, относится к гипотезе о
целесообразности деления фактов на три категории, что позволяет учесть их
неодинаковость с дидактической точки зрения, обусловленную встречаемостью некоторых
фактов в повседневной жизни и возможностью их экспериментального установления
на уроке.
Анализ полученных кривых, а также результатов тестирования учащихся
позволяет сформулировать следующие закономерности формирования у учащихся системы
эмпирических знаний [1, 2]:
1. Уровень знаний фактов первой категории, входящих в повседневный опыт
учащихся, по мере их изучения возрастает, а после окончания обучения
остается практически неизменным.
2. Уровни знаний фактов второй и третьей категорий, не входящих в
повседневную деятельность учащихся, после изучения уменьшаются вследствие
забывания.
3. Скорость забывания фактов второй и третьей категории тем больше, чем в
меньшей степени их изучение опирается на деятельность учащихся,
связанную с наблюдением и выполнением учебных опытов, их умозрительным
изучением.
Литература
1. Майер Р. В. Исследование процесса формирования эмпирических знаний по
физике. - Глазов: ГГПИ, 1998. - 132 с. (http://rmajer.narod.ru).
2. Майер Р.В. Проблема формирования системы эмпирических знаний по физике:
Дисс. ... докт. пед. наук. - С. Петербург., 1999. - 350 с.
3 . Мякишев Г . Я. , Буховцев Б . Б . Физика: Учеб . для 10 кл . сред . шк . - М. :
Просвещение, 1990. - 223 с.
4 . Мякишев Г . Я. , Буховцев Б . Б . Физика: Учеб . для 11 кл . сред . шк . - М. :
Просвещение, 1991. - 254 с.
5. Перышкин А. В. , Родина Н.А. Физика: Учеб. для 7 кл. сред. шк. - М. :
Просвещение, 1989. - 175 с.
6. Перышкин А.В., Родина Н.А. Физика: Учеб. для 8 кл. сред. шк. - М. :
Просвещение, 1993. - 191 с.
7 . Сущность и явление / В . В . Кизима, И . В . Огородник, В . А. Рыжко . - Киев :
Наукова думка, 1987. - 294 с.
8. Философский энциклопедический словарь / Редкол. : С. С. Аверинцев,
Э.А.Араб-Оглы, Л.Ф.Ильичев и др. - М. : Советская энциклопедия, 1989. -
815 с.
Лаборатория
РАЗВЕДЕНИЕ ДРОЖЖЕЙ
Alexandre Brew
Часть 1.
Введение
Дрожжи — живые существа, что подразумевает совершенно особое отношение при
транспортировке, хранении, и подготовке к использованию этого весьма
специфического компонента пивоварения. Редко кому приходит в голову отправлять,
например, кошку по почте в фанерном ящике или хранить попугая в чемодане на
полке. По отношению к одноклеточным существам, подчас, встречаются примеры
еще менее церемонного отношения. Вероятно, не имеет смысла тратить время на
описание случаев подобного «вандализма». Существует бесчисленное число
способов испортить хорошие пивные дрожжи. Гораздо меньше надежных технологий
позволяющих их сохранить в добром здравии.
Как только вы сами, либо специализированная лаборатория, слили дрожжи из
своего ферментера — время пошло. Чем короче будет промежуток между этим
событием и засевом дрожжей в свежее сусло, тем меньше потребуется специальных
ухищрений для того чтобы сохранить здоровье и полезные для пивоварения
качества того или иного штамма.
Есть и другая сторона — непрерывная и длительная чреда брожений также может
нанести вред колонии одноклеточных пивоваров. В популяции дрожжей появятся
старые и больные клетки, мутанты и даже непрошеные гости, которые могут
испортить безукоризненный вкус пива. Гости - это микроорганизмы-контаминанты,
которые так или иначе попадают в ваше пиво и размножаются вместе с культурой
дрожжей.
Рассмотрим проблему хранения культуры. В статьях для домашних пивоваров
часто можно встретить самую противоречивую информацию о сроках хранения
дрожжей в тех или иных конкретных условиях. Это, по всей видимости, имеет
непосредственное отношение к другой проблеме. Очень часто домашние пивовары (и,
вероятно, те из них, которые пишут статьи для своих коллег), относятся к
жизненным процессам в дрожжевой клетке с обескураживающей простотой. Так, в
частности, распространено мнение, что дрожжи, могут пребывать лишь в двух
состояниях — либо они живы, либо нет. Если брожение пошло — значит все
нормально. (А что такого может произойти с этими одноклеточными?!) Вероятно, не
стоит так легкомысленно относиться к здоровью своих родственников, может быть не
очень близких, но все же. (И дрожжи, и люди относятся к одному домену — над-
царству живых организмов, — эукариотам).
Method
Harvested slurry (38° F /3° С)
Agar plate (38° F/3° С)
Agar slant (38° F /3° C)
Agar stab (38° F /3° C)
Water immersion (38° F /3° C)
Oil immersion (38° F /3° Q
Desiccation (38° F /3° C)
Home freezer (-2° F /-19° Q
Professional frozen (-112° F /-80° C)
Shelf Life
2 weeks
1 month
3 months
4 months
6 months
4-6 months
—
0-2 years
Indefinite
Maximum
Shelf Uf*
6 months
1 year if sealed
1 -2 years
2-3 years
3-5 years
10-14 years
3-6 years
5+years
Indefinite
Рис. 1. Способы хранения дрожжей (из книги Yeast. The Practical Guide
to Beer Fermentation. Cris White with Jamil Zainasheff).
Обратимся к надежному источнику информации: Yeast. The Practical Guide to
Beer Fermentation. На странице 192 этой книги имеется таблица способов
хранения дрожжей. В отличии от многих других источников, авторы (Cris White with
Jamil Zainasheff) представляют читателям понятие «Shelf Life» (срок годности)
очень взвешенно. В таблице имеется две графы: «reliable» (надежный) «shelf
life» и «maximum» (максимальный) «shelf life». Такое положение дел имеет
строгое научное обоснование — проблема в мутациях. Как только срок хранения
превысит «надежный» вероятность мутаций возрастает, и дрожжи становятся все
менее пригодными к созданию приличного пива.
Рассмотрим, кратко, указанные в таблице технологии. Подробное изучение
представленных способов не является целью настоящего раздела, задача
«введения» — обоснование выбора верного пути. С этой точки зрения особого внимания
заслуживает строка desiccation (высушивание), как можно заметить вторая графа
здесь содержит прочерк. Это оттого, что дрожжи начинают мутировать уже в
процессе сушки на заводе.
Первая строка — harvested slurry, — это про густую суспензию дрожжей,
оставшуюся после брожения в вашем ферментере. Скромные масштабы домашнего
производства и микроскопические размеры емкостей для брожения не оказывают
чрезмерно пагубного влияния на здоровье пивных дрожжей. Собранный со дна
ферментера урожай может оставаться в холодильнике до 2-х недель, сохраняя при этом
все свои полезные свойства. Если промежуток времен у вас получился длиннее,
например, 21 день, вы, может быть, получите, пиво ожидаемого качества, но
брожение будет протекать дольше, садиться дрожжи будут хуже и т.д., и т.п.
Следующие три строчки начинаются со слова agar. Агар-агар это продукт
изготовляемый из одноименных водорослей, который широко используется в кулинарии
и микробиологии. Если смешать это с пивным суслом в определенной пропорции,
нагреть, а затем остудить — получится желеобразная субстанция на поверхности
которой могут жить и расти как дрожжи, так и другие микроорганизмы. Вот так
выглядят agar plate и agar slant.
Рис. 2. Agar plate представляет собой неглубокую чашку (чашку Петри) в
которую залита смесь сусла и агар-агара (чашка имеет крышку немного большего
диаметра). На поверхности питательной среды выросли колонии дрожжей WLP036.
Обычно, дрожжи на чашки высевают не для целей хранения, а для селекции —
выбора наиболее подходящих колоний. Однако дрожжи будут сохранять свои
кондиции (при хранении в холодильнике) в течение месяца.
Рис. 3. Agar slant — содержит аналогичную смесь агара и сусла, среда
застывает в пробирке в наклонном положении, отчего поверхность образует уклон
(по-русски такую штуку часто так и называют — «уклоном1») . Так выглядят
дрожжи WLP833. Метод гарантирует сохранность полезных свойств культуры в
течение трех месяцев. После этого колонии нужно пересеивать.
Рис. 4. Посев культуры дрожжей на agar plate (и agar slant)осуществляется
специальным инструментом — петлей прививания. На рисунке показана открытая
чашка Петри (крышка лежит на столе) и петля. Справа, в непосредственной
близости от чашки, работающая горелка (не показана).
Agar stab — это тоже пробирка со смесью сусла и агар-агара, но без уклона.
Перед заливкой смесь охлаждают до минимально возможной температуры и
добавляют в нее разбавленную суспензию дрожжей. Дрожжи сохраняются 4 месяца в
холодильнике . Это метод требует безукоризненного владения техникой работы с
агаром: если среду охладить не достаточно — погибнут дрожжи, если случиться
переохлаждение — раньше времени застынет агар.
Water immersion — своеобразный метод хранения дрожжей в дистиллированной
воде. При этом очень малое количество культуры (буквально, одна колония с
чашки Петри) помещается в несколько миллилитров стерильной воды и тщательно
перемешивается.
Oil immersion - вариант метода agar slant. Суть технологии в использовании
минерального масла для защиты колонии от кислорода. Разница в сроках сохране-
1 На русском их обычно называют «косяки», реже «срезы» или «скосы».
ния дрожжей на чашках Петри и уклонах объясняется очень просто. Среда в
первом случае быстро теряет влагу (толщина слоя очень маленькая, а площадь
поверхности очень большая) и колонии начинают испытывать проблемы. Другая беда
— кислород. Слой масла (естественно, стерильного) поверх культуры на уклоне
предохраняет клетки от чрезмерного влияния атмосферного кислорода.
Последние два метода (home freezer и professional frozen) основаны на
замораживании клеток: до «—20» градусов Цельсия в домашних условиях и до «—80» в
лаборатории. Перед тем как подвергнуть живые дрожжи столь сильному охлаждению
необходимо устранить воду. В противном случае образование кристаллов льда
разрушит организм клетки. Для вытеснения лишней влаги используется глицерин.
В первой графе напротив home freezer находим: 0-2 года. Это наводит на
некоторые нехорошие мысли, которые нашли свое подтверждение на практике —
надежно сохранить дрожжи таким способом автору не удалось. Культура WLP002
после замораживания, вроде бы, сделала неплохое пиво, но садиться после
брожения дрожжи категорически не желали, что весьма странно для данного штамма.
Professional frozen — метод совершенно не реализуем в обычных домашних
условиях. Требуется специальное оборудование, в частности, холодильник
способный поддерживать температуру «—80» градусов Цельсия. Но результат —
превосходен . Дрожжи можно хранить таким способом очень долго. Это метод лабораторий и
крупных пивоваренных предприятий, для которых затраты на профессиональное
оборудование для хранения дрожжей — не существенная часть капитальных
вложений.
Предпринятый беглый анализ методов работы с живыми культурами позволяет
сделать пару очевидных выводов. Вывод первый - для домашнего использования
могут оказаться полезными лишь два метода: agar plate и agar slant.
Безусловно, дрожжевая суспензия слитая из ферментера не требует никаких ухищрений,
кроме одного — охлаждения до +3 градусов Цельсия (или ниже, но это уже опасно
— можно заморозить). Однако такой подход позволяет сохранять спокойствие лишь
две недели между варками, что, кроме всего прочего, подразумевает довольно
интенсивный график производства, не всегда достижимый в домашнем пивоварении.
Кроме того, таким образом можно поддерживать жизнеспособность лишь одной
культуры (если у вас один ферментер) и помогает это не очень продолжительное
время - через некоторое число брожений (как еще говорят, генераций) культура
неизбежно придет в негодность.
Вероятно, метод water immersion также не сложен для реализации в домашних
условиях. Однако он не дает большого выигрыша в продолжительности хранения по
сравнению с agar slant, а также имеет один изъян, имеющий принципиальное
значение - отсутствует возможность для контролирования успешности посева. Это
очень важный момент. Часто, особенно у малоопытных «микробиологов», случаются
самые разнообразные ошибки, в результате которых на уклоне ничего не
вырастает . Это становиться заметно довольно быстро и всегда можно сделать повторный
посев. Возможно, что какая-либо оплошность приведет к тому, что в пробирке с
водой также не окажется живых клеток, однако вы об этом узнаете слишком
поздно - когда предпримете безуспешную попытку возродить к жизни ваши дрожжи.
Вывод второй - если ваше местоположение не позволяет получать жидкие
культуры от производителя в течение пары тройки дней, вы с неизбежностью должны
освоить и методику селекции и методику хранения — то есть те же самые: agar
plate и agar slant. В чем здесь проблема? Очень просто. Сухие культуры
мутировали уже у производителя — их использование не желательно. Жидкие — это,
примерно, та же суспензия дрожжей, которую вы сливаете из своего ферментера.
Срок хранения при температуре не выше +3 градусов не более 2-х недель.
Пару дней дрожжи в посылке будет охлаждать гель-аккумулятор холода, который
производитель (за отдельную плату) положит в пакет с пробиркой. Что
произойдет, когда суспензия с неизбежностью начнет нагреваться где-нибудь на тамож-
не? Хорошего — ничего. В некоторых случаях дрожжи просто не обнаружат
признаков жизни, и останется лишь одно - вылить их в канализацию. В других —
селекция на чашках Петри может пригодиться для того чтобы вырастить культуру с
приемлемыми для пивоварения свойствами. (Я несколько раз менял определение
перед словом «свойствами», вероятно, первоначальные свойства, все в полном
объеме, восстановить будет сложно, если вообще возможно).
Таким образом — добро пожаловать в удивительный мир agar plate и agar
slant. Эта техника была придумана давно, метод прост и легко может быть
освоен любым не ленивым человеком. Вероятно, за пределами приведенной в начале
статьи таблицы остались какие-либо иные методы хранения (я знаю один), но
преимущество, все же, стоит отдать парочке agar plate и agar slant, хотя бы
потому, что эта техника очень подробно и очень доступно описана в книге для
домашних пивоваров First Steps in Yeast Culture, volume 1, by P. Rajott.
Английский язык этого руководства прост до того предела доступности, где уже
обнаруживается некоторое понимание русскоязычным читателем, который всю
сознательную жизнь пытался учить иностранные языки.
Часть 2. Процедура
или что вам предстоит
В этом разделе, в очень краткой форме, описана процедура хранения и
разведения дрожжей с помощью пробирок (agar slant) и чашек Петри (agar plate),
представлен небольшой обзор необходимого инвентаря и даны кое-какие
объяснения относительно методики селекции дрожжей. Здесь вдумчивый читатель в
состоянии получить представление о том, чего можно добиться и что для этого
потребуется .
В конечном итоге, все ваши усилия будут начинаться и заканчиваться вот в
таком контейнере.
Рис. 5. Гастроемкость.
Посудина может быть иной, (или ее может не быть вовсе), но эта мне
показалась наиболее удобной по нескольким причинам. Во-первых, изготовлена из
нержавеющей стали — материала внушающего доверие. Во-вторых, форма и размер
контейнера удобны для хранения в бытовом холодильнике. Называется это
«гастроемкость», размер — 1/2 х 6" (6" — это глубина, примерно 150 мм) . Плоская
крышка позволяет ставить сверху различные предметы, обычно хранящиеся в
кухонном холодильнике. Таким образом, контейнер с культурами, как бы не
занимает места вовсе. Можно, конечно, обойтись стандартным оснащением бытового
холодильника. Первоначально я использовал один из нижних контейнеров для ово-
щей, но мне это не понравилось из-за высокой температуры внутри (эти ящики,
обычно, отделены от объема плюсовой камеры стеклом и доступ холодного воздуха
туда ограничен) . По этой же причине (недостатка холода) я бы не советовал
хранить культуры на полках и в ящичках дверки холодильника. Однако, пора
снять крышку и увидеть, наконец, плоды наших усилий.
Рис. 6. Культуры на хранении.
Внутри можно обнаружить фирменные пробирки от White Labs. (Это постепенно
выбрасывается, когда не хватает места). Содержимое пробирок используется
крайне нерационально — все кроме одной капли направляется в канализацию. С
этой, остающейся, каплей и начинается вся работа по разведению. Вначале
следует тест на предмет живы дрожжи или нет (канализация, обычно, появляется на
сцене чуть позже) . Однако это все будет описано в соответствующем разделе с
надлежащей степенью тщательности. Самое главное в контейнере это белые (в
честь WL) штативы с пробирками (одна из них показана на рис. 3 крупным
планом) . В пробирках - уклоны с культурами.
Спрячем пока контейнер в холодильник и обратимся к упомянутой уже книге
First Steps in Yeast Culture. Это руководство содержит массу полезной
информации о том, как делать и то, и это, но лишь в самом конце книги читатель
находит главу 15, (chapter XV: putting it all together), где от начала до
конца, без отступлений, полностью описана процедура разведения дрожжей.
Представляется полезным с этого начать, чтобы сразу стало понятно о чем пойдет
речь, и что предстоит пивовару ступившему на этот путь. Объяснить тонкости
можно позже. Кроме того, всегда полезно иметь перед глазами краткое
руководство . Ведь не каждый же день вы будете сеять дрожжи и отбирать колонии.
День первый
Вы достаете из холодильника уклон с культурой (рис. 3) и согреваете его при
комнатной температуре. На это может потребоваться час или два. Затем вам
понадобятся, как минимум, три предмета: горелка, петля прививания и пробирка с
жидким суслом — чистым, стерильным. Схематично все вместе изображено на
следующем рисунке.
Рис. 7. Манипуляции с уклоном. Уклон в левой руке, петля прививания в
правой, горелка посередине, пробирка с чистым стерильным суслом — справа в
сторонке (больше, чем показано, сусла в пробирку наливать не следует). У
этой картинки есть небольшая загадка — мизинец правой руки сжимает крышку
пробирки с уклоном. Все манипуляции необходимо производить в так называемой
безопасной зоне около пламени горелки (это всего несколько сантиметров
вокруг огонька).
На рисунке показан момент прокаливания петли (постепенно, участок за
участком, от ручки до кончика и докрасна). Перечислим здесь все действия для
знакомства с процедурой:
Прокалить петлю.
Охладить инструмент (в безопасной зоне пламени).
Сохраняя положение петли, открутить крышку с пробирки левой рукой
(пробка зажата мизинцем правой).
Обжечь горло пробирки в пламени горелки.
Извлечь кончиком остывшей петли часть колонии дрожжей на уклоне.
Сохраняя положение петли в безопасной зоне, еще раз обжечь горло
пробирки.
Закрыть пробирку и убрать ее в сторону.
Взять в левую руку пробирку с суслом (по этой причине пробирку также
необходимо разместить слева, а не справа, как на рисунке).
Открутить пробку левой рукой: мизинец правой удерживает пробку, левая
— вращает пробирку. (Я уже не представляю, как можно открывать
пробирки по другому).
Обжечь горло пробирки.
Поместить пробу культуры с кончика петли в жидкое сусло.
Еще раз обжечь горло пробирки.
(13) Закрыть пробирку и тщательно перемешать содержимое круговыми
движениями.
(14) Затянуть пробки на обеих пробирках.
Сейчас важно понять лишь пару вещей:
(а) с уклона культура переноситься в жидкое сусло с помощью петли
прививания,
(б) при этом должна быть обеспечена максимальная стерильность, для этой
цели применяется горелка и другие устройства, не показанные на картинке.
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(Ю)
(11)
(12)
День второй
(или третий)
Если ваша пробирка с жидким суслом была после посева закрыта плотно, то на
следующий день в процессе откупоривания вы можете услышать характерный
«пшик».
Рис. 8. Характерный «пшик», который вы можете услышать на следующий день
после посева, но можете и не услышать. Другие признаки брожения также могут
не наблюдаться. Это означает, что нужно затянуть крышку пробирки и
подождать еще один день. Если вы ничего не уведите и не услышите на третий день,
это означает одно из двух: либо дрожжи погибли на уклоне, либо вы не
правильно использовали горелку для стерилизации петли, которая оказалась
слишком горячая и убила дрожжи в процессе посева.
Вместо «пшика» лучше ориентироваться на видимые глазом признаки.
Рис. 9. Две пробирки: с чистым суслом и с признаками брожения.
Попытайтесь определить самостоятельно, что есть что2.
Предположим, что все получилось — признаки брожения хорошо заметны. Для
элевых штаммов это обычно случается на следующий день после посева. Для
лагерных, особенно после длительного хранения на уклоне, на второй день все
становиться абсолютно понятно. Теперь нужно перелить бродящее в пробирке пиво
в больший объем свежего сусла. Это первый перелив (рис. 10).
Предварительно содержимое пробирки с культурой нужно тщательно перемешать
(круговыми движениями), чтобы дрожжи не остались на дне (крышку лучше
приоткрыть , чтобы при этом выходил углекислый газ, иначе после длительного
перемешивания и откупоривания пробирки для перелива, пена выйдет наружу). Для сте-
2 Правильно: с признаками — правая.
рильности снова потребуется горелка. Горла открытых пробирок нужно обжечь в
пламени и производить манипуляцию перелива в безопасной зоне возле горелки. И
пробирки и крышки придется держать в руках.
1
с
г
czi
ч_^
1 Ш
•■
1
/
' 1
I
[■ 1 >1
к'
W
Рис. 10. Первый перелив. П. Райот в своей книге рекомендует перелить
10 мл пива из первой пробирки (левая) в 30 мл чистого стерильного
сусла в другой (правая).
Рекомендации связанные с объемом сусла (10 и 30 мл) носят условный
характер. В большой степени все определяется доступной посудой. Так предлагаемые
на МогеВеег культуральные пробирки имеют объем 25 мл. Если в них налить 10 мл
сусла, то после начала брожения тщательно перемешать содержимое невозможно —
пена всякий раз будет покидать пределы посуды и вся стерильность пойдет
насмарку. В качестве приемной склянки с суслом целесообразно применять
небольшую коническую колбу (100 мл) с широким горлом. Такая посудина удобна во-
первых, потому, что может стоять рядом с горелкой и ее не нужно держать в
руках, во-вторых, в широкое горло удобно лить, в-третьих, коническая колба
такого объема (100 мл) позволяет без проблем перемешать 40 мл бродящего пива.
До перелива необходимо сделать еще одну важнейшую операцию — посеять новый
уклон. Дело в том, что с одного уклона дрожжи можно взять лишь два-три раза.
После (или во время) чего культура может прийти в негодность, вероятно, из-за
череды последовательных резких изменений температуры - уклон нагревается
перед операцией разведения и затем снова охлаждается для хранения до следующего
раза. Таким образом, вы рискуете потерять культуру. После перемешивания (в
пробирке) пива с дрожжевым осадком делается ряд операций с целью засева
нового чистого уклона. Это очень напоминает посев культуры с уклона в пробирку с
суслом. Только в качестве источника теперь служит пиво из засеянной накануне
пробирки. Здесь, вероятно, не имеет смысла повторять последовательность
операций уже перечисленных выше.
День третий
(или четвертый)
Если вы разводите элевые дрожжи, то уже утром третьего дня можно сделать
следующий (2-ой) стерильный перелив (рис. 11).
Если вы имеете дело с лагерными дрожжами, то эту операцию вы обязательно
сделаете к вечеру четвертого дня. Процедура аналогична первому переливу: пиво
с дрожжами тщательно перемешивается, горло обоих склянок обжигаются, перелив
делается в стерильной (безопасной) зоне пламени горелки.
w
Рис. 11. Перелив 40 мл бродящего пива в 100 мл свежего сусла.
В качестве посуды для 100 мл сусла я использую коническую колбу объемом 250
мл. На следующем рисунке показаны обе колбы: 100 мл и 250 мл перед
стерилизацией в скороварке.
-f ;г? л■ -. - ^ * ч^7
Рис. 12. Две колбы 100 мл и 250 мл. Одна используется для первого перелива,
другая — для второго. Колбы извлекаются из скороварки-автоклава
непосредственно перед началом работы и загружают в стерильный шкаф (если таковой
имеется, в любом случае операции производятся вблизи пламени горелки).
Собственно, этим исчерпываются рутинные процедуры, связанные с хранением
дрожжей и начальной стадией разведения, то есть то, что относиться к термину
agar slant. Здесь и сейчас целесообразно так же кратко рассмотреть процедуры
имеющие отношение к agar plate.
Методика agar slant работает безукоризненно, но после длительного хранения
дрожжей (особенно в дороге из лаборатории в Соединенных штатах к домашнему
пивовару в России) очень полезно посеять дрожжи на чашки Петри. Цель посева
селекция колоний. Сейчас мы не будем рассматривать процедуры заливки чашек
Петри смесью сусла и агара, ухищрения по борьбе с конденсатом на крышках,
способы хранения готовых к употреблению чашек и многое другое. Отмечу лишь
главное - эта процедура является основой при разведении культур. Agar slant
позволяет лишь сохранить жизнь любым представителям популяции культурных
дрожжей. Agar plate - выбрать из всего многообразия особей лишь те, которые
полезны для пивоварения.
Опыт разведения пивных дрожжей показывает, что после нескольких циклов
«agar slant - жидкое сусло - стартер» культура деградирует. Вероятно, в
популяции начинают преобладать особи отягощенные дефектами метаболизма разного
рода. Крайний случай - петит мутанты, - клетки, по какой-то причине
утратившие свои митохондрии и, вместе с ними, способность усваивать кислород. Эти
особи имеют свои характерные особенности метаболизма и способны нанести вред
вкусу и аромату будущего пива. Скорее всего, причины подобной трансформации
находятся где-то глубоко в природе пивных дрожжей. При этом исследования
механизма экспрессии тех или иных генов в процессе жизнедеятельности клетки
находятся лишь в начальной фазе и очень многое окутано непроницаемой завесой
неизвестности.
Таким образом, техника agar plate, разработанная более ста лет назад,
является на сегодня единственной доступной для домашних пивоваров возможностью
поддерживать здоровье пивных дрожжей в нормальных кондициях. После нескольких
лет упражнений в этой области (первый посев я произвел в 2007 году)
постепенно приходишь к осознанию простой мысли, между прочим, ясно прописанной в
книге Криса Байта - agar plate это рабочий инструмент пивовара, источник
здоровья популяций ваших пивных дрожжей на долгие времена. Этим категорически не
рекомендуется пренебрегать.
На рис. 2 показана чашка на которой выросли колонии дрожжей WLP036. Такой
посев делается следующим образом. Стерильная петля прививания (после
прокаливания) опускается в пробирку с бродящим пивом. (Как перемешивать содержимое,
открывать пробирку, обжигать горло и прочее - описано выше). Чашка при этом
лежит на рабочей поверхности кверху дном (чтобы конденсат с крышки не капал
на поверхность агара3) . Затем половина чашки с питательной средой берется в
левую руку, правой, которая держит петлю прививания как карандаш, на
поверхности среды изображается некий узор. Придуманы различные комбинации линий4.
(Имеются также варианты техники пригодные для посева на чашку непосредственно
с уклона).
На рис. 13 представлены колонии дрожжей WLP833. Здесь очень хорошо видно
след от петли оставленный на поверхности среды. Это вероятно, самый простой
вариант узора. Движение началось в крайней левой точке (здесь колонии выросли
сплошной широкой полосой) и осуществлялось зигзагообразно сверху вниз и снизу
вверх без отрыва петли от поверхности (чашка, для удобства, была
ориентирована иначе, чем показано на фото — левая половина круга была верхней) . Таким
образом оказалась заполнена зигзагами половина чашки, которая на фото
находиться слева. Затем чашка поворачивалась на 90 градусов и зигзагами
заполнялась четверть чашки (на фото, правая верхняя). При этом пересекался лишь
последний штрих из нарисованных в левой части круга. Далее чашка поворачивалась
еще раз и зигзагами заполнялась последняя четверть (нижняя справа). Теперь
касаться линий в первой половине круга категорически запрещено. Рисование на-
3 Чашки обычно подсушивают при комнатной температуре, чтобы не было конденсата.
Тогда можно работать с нормальным положением чашки. Для лучшей стерильности чашку на
подставке держите возле пламени. Слегка приоткрыв ее с одного конца, просуньте туда
петлю и делайте посев.
4 Это так называемый «посев штрихом». Цель - достичь того чтобы в конце движения
клетки находилась на приличном расстоянии друг от друга. В этом случае колонии будут
происходить из одной клетки - что нам и нужно.
чиналось с последнего штриха в четверти заполненной на предыдущем этапе.
Как можно заметить, в нижнем правом секторе чашки выросло всего навсего
семь колоний. Задача селекции очень проста — нужно выбрать большие колонии
правильной круглой формы, которые расположены достаточно далеко (по масштабам
чашки) от других похожих или непохожих скоплений клеток. Затем пару тройку
избранниц надлежит посеять в пробирку с жидким стерильным суслом. Эти дрожжи
дадут начало всей гигантской популяции, которая будет потом работать в вашем
ферментере.
Рис. 13. Узор на поверхности чашки.
Рис. 14. Выбор колоний дрожжей WLP036.
Клеток в каждой выбранной колонии порядка миллиона штук. Считается, что все
они выросли из одной материнской клетки. Об этом свидетельствует как круглая
форма скопления, так и удаленность от других колоний. На самом деле
родоначальником является точечное сообщество клеток, но это не меняет дела —
сообщество еще в жидком сусле выросло из одной материнской клетки. Выбор крупных
колоний эквивалентен выбору самых быстрорастущих (ведь все колонии начали
рост в один момент времени), а значит и самых здоровых клеток. Некоторые
авторы не рекомендуют выбирать крупнейшее скопление потому, что жизненные силы
клеток могут быть подорваны истощением питательных веществ среды вследствие
интенсивного роста. Не следует также ограничиваться одной колонией - это
может привести к утрате части генофонда популяции.
На фотографиях чашки показаны в вертикальном положении, это сделано не
только для того, чтобы было лучше видно - это нормальное рабочее положение.
Такая предосторожность снижает вероятность попадания на поверхность среды
посторонних микроорганизмов. При работе в стерильном шкафу такие меры,
вероятно, излишни, но все же случайности не исключаются полностью.
Процедура селекции на чашках может занять четыре - пять дней. Один - два
дня в пробирке с жидким суслом до появления явных признаков брожения. Три дня
- рост колоний на чашках до приемлемых для селекции размеров. Следующим шагом
является посев выбранных колоний в пробирку со свежим суслом для последующего
размножения или сохранения культуры на уклоне. Таким образом, полный цикл
подготовки дрожжей может занять до 7 дней без учета времени размножения на
магнитной мешалке (еще один или два дня).
Необходимо сказать еще несколько слов о том, какой инвентарь вам
потребуется для работы по разведению и где это взять. Самое главное — рабочее место.
Без сквозняков! Рабочую поверхность и стены в непосредственной близости
необходимо обработать 70% раствором спирта, Не помешает также дезинфекция
помещения бактерицидной ультрафиолетовой лампой. Для целей разведения я использую
специально оборудованный шкаф.
Рис. 15. Петля прививания. Это самоделка. В магазине для юных техников
куплена проволока-нихром толщиной 0,5 мм и медная трубка — 3 мм. На одном
конце проволоки сделана петля диаметром примерно 1 мм, другой — зажат в
трубку. Лучше использовать алюминий, чем медь — у алюминия меньше теплоемкость,
но я использую то, что показано и ничего.
Следующий важнейший предмет — горелка. Удобно использовать что-нибудь с
пьезоэлектрическим зажиганием и достаточным запасом газа (минут на 30
работы) . Если вы планируете построить что-то типа домашнего ламинарного шкафа,
органы управления горелкой целесообразно разместить внутри, это позволит не
вынимать рук из чистой зоны для того чтобы включать, выключать или
регулировать пламя. Этому требованию удовлетворяют устройства, которые предлагаются
для зубных техников или пайки. Например, вот это:
Подобную горелку вы легко сможете включить на время проведения стерильной
операции и выключить сразу же по окончании, при этом все можно сделать одной
рукой. Достаточно положит ладонь на кнопку, и пламя загорается, уберете руку
- и пламя погаснет.
Такие мелкие удобства особенно ценны в летнюю жару, когда температура
окружающего воздуха достигает опасных для лагерных дрожжей значений, а работающая
горелка способна за несколько минут поднять температуру в замкнутом
пространстве на 2-3 градуса. Это происходит несмотря ни на постоянную вентиляцию
объема шкафа воздухом с температурой около 24 градусов, ни на охлаждение нижней
стенки (в моем шкафу под чистой зоной расположено холодильное отделение
имеющее температуру 1-2 градуса).
Можно использовать спиртовку. Однако появляются некоторые неудобства —
поджигать нужно вручную, например, зажигалкой, а тушить с помощью колпачка. Это
занимает время и отвлекает внимание от важных манипуляций с культурами. Во
всем остальном предмет хорош — дешево и сердито.
Часть 3. Что такое
«стерильность»?
Стерильность в процессе разведения пивных дрожжей очень важна, потому что
контаминация культуры, которую вы храните на уклоне, чревата потерей этой
культуры для пивоварения. Вам вряд ли удастся отделить пивные дрожжи от диких
штаммов, как бы хорошо вы не владели техникой селекции на чашках Петри.
Колонии могут оказаться настолько похожими, что отличить их друг от друга
окажется невозможно без дорого оборудования или специальных методик требующих
гигантских затрат сил и времени. Гораздо проще не допустить контаминации.
При этом, важно не только сохранить дрожжи, но также вырастить достаточное
количество чистой культуры для брожения партии пива. В реальности угрозы
контаминации убеждает простой расчет. При обычном пивном брожении количество
дрожжей увеличивается всего в несколько раз (3-6). При разведении культуры
одна маленькая колония (едва насчитывающая миллион одноклеточных особей)
вырастает до популяции гигантских размеров в 300 миллиардов клеток! Рост в 300
000 раз! Не трудно представить себе сколько бактерий или диких дрожжей может
вырасти, если даже их начальная концентрация будет составлять всего несколько
штук на миллион экземпляров культурных клеток. При этом необходимо учитывать,
что скорость размножения контаминантов обычно выше, чем пивных штаммов.
Как уже неоднократно указывалось, стерилизация не требуется для
пивоварения. Пиво само по себе способно подавить развитие многих микроорганизмов, в
том числе теплоустойчивых спор бактерий и плесени. Реальную опасность
представляют лишь дикие дрожжи и небольшой набор бактерий, которые легко
уничтожаются стандартными методами дезинфекции (споры диких дрожжей гибнут уже при
температуре 80°С) .
Однако разведение дрожжей процесс особой природы и растущая колония
уязвима, особенно, на первых этапах. Если в бочке с пивом кислород отсутствует, но
присутствуют другие факторы способные подавить развитие посторонней микробио-
ты, (в том числе спирт и низкий рН), то для роста здоровых дрожжей кислород
крайне необходим, поэтому либо используются специальные методы его доставки —
различные приемы аэрации, либо твердая среда непосредственно контактирующая с
воздухом. Такое положение существенно меняет ситуацию, и на чашках Петри
очень легко может вырасти плесень. Наряду с явлениями контаминации явно
различимыми на поверхности агара, возможны иные - скрытые. Таким образом, даже
беглый анализ процесса разведения дрожжей приводит к осознанию необходимости
высокой степени стерильности. (Необходимые оговорки будут сделаны ниже).
Дальнейшее изложение в этом разделе будет посвящено исключительно приемам и
способам стерилизации, во-первых, питательного сусла, во-вторых, посуды и
другого оборудования контактирующего с культурой, и в третьих, окружающего
пространства, и воздуха, который обычно содержит пыль усеянную контаминанта-
ми.
В книгах по пивоварению часто можно прочитать фразу типа: «стерилизация при
температуре 100 градусов Цельсия (100 °С)>>. К подобным утверждениям можно
относиться по-разному, но существует общепринятая терминология. Необходимо
четко различать такие понятия как «мойка», «санитарная обработка», «дезинфекция»
и «стерилизация».
Мойка — удаление загрязнений, но не микроорганизмов. Даже после тщательной
мойки стандартными моющими средствами бактерии грибы или их споры способны
остаться на помытых поверхностях. Однако мойка это крайне важный этап для
последующих шагов: дезинфекции или стерилизации. Мойка устраняет потенциальные
укрытия, где микроорганизмы могут оказаться недоступными для бактерицидных
веществ или иных воздействий. Это разнообразные потеки сусла, прилипшие к
поверхностям скопления белка и т.п. Подобные следы прошлых варок могут кишеть
микробами потому, что наполнены пищей для одноклеточных созданий.
Санитарная обработка — производится с помощью специальных химических или
иных средств, которые убивают 99,9% микроорганизмов. Подобного эффекта можно
достичь кратковременным воздействием дезинфицирующего средства, например,
протереть поверхность салфеткой смоченной в растворе. Санобработка служит для
того, чтобы обезопасить здоровый человеческий организм. Однако, этого
совершенно недостаточно для обработки поверхностей контактирующих с пивом.
Дезинфекция — должна уничтожить по крайней мере 99,999% микроорганизмов.
Химические препараты в этом случае имеют либо более высокую концентрацию, чем
при санитарной обработке, либо применяются более эффективные соединения, либо
увеличивается время воздействия препаратов. Упомянутый выше нагрев (например,
сусла) до 100 градусов Цельсия и последующее кипячение - это типичный пример
дезинфекции потому, что при этом могут выжить термоустойчивые споры бактерий
и плесени.
Стерилизация — это полная инактивация всех типов микробов: грибов,
бактерий, вирусов, спор. Существующие методы различаются механизмом воздействия на
микроорганизмы. Это могут быть и химические соединения, и радиация, и высокая
температура, и разнообразные комбинации веществ и условий, например, плазма
перекиси водорода. В домашних условиях можно себе позволить далеко не все из
богатого современного арсенала. Чаще всего это пара доступных веществ-
стерилизаторов и три вида термической стерилизации: влажный и сухой жар и
тиндализация.
Необходимо дать некоторые пояснения относительно представленных выше
процентов уничтожения микроорганизмов. Вопрос о том, сколько экземпляров той или
иной бактерии останется в живых после определенного вида обработки достаточно
сложен. Чаще всего, меры обычной дезинфекции (например, кипячение) убивает
любые вегетативные формы микроорганизмов. Проблемой являются споры. Именно
споры отдельных бактерий и плесени отличаются поразительной устойчивостью не
только к средствам дезинфекции, но (в некоторых случаях) и стерилизации.
По этой причине и были придуманы технологии с использованием плазмы
перекиси водорода или жесткого радиоактивного излучения. Однако подобные приемы
чаще всего трудноосуществимы в обычной городской квартире или даже в загородном
коттедже. Может возникнуть резонный вопрос - зачем вообще это нужно для
пивоварения? Чем плохи относительно простые методы, которые известны уже более
ста лет? Вопрос правильный. Действительно, в природе существуют споры,
которые способны перенести воздействие влажного жара при 121 градусах Цельсия.
Новые тщательные исследования показали, что незначительная часть (число едва
различимое статистически) некоторых устойчивых видов спор может сохранить
жизнеспособность. Однако эти микроорганизмы, при соблюдении определенных
условий, не представляет угрозы для пивоварения.
Как уже отмечалось неоднократно, растущая колония пивных дрожжей способна
подавить развитие огромного множества микробов. Только некоторые виды
бактерий и дикие дрожжи (эти формы именуются микроорганизмами-контаминантами)
представляют непосредственную опасность. Однако и эти бактерии, и эти дрожжи,
(а также их споры) не отличаются термоустойчивостью. Об этом уже шла речь
выше. Таким образом для растущей чистой культуры пивных дрожжей, при
определенных пропорциях разбавления, вполне подойдет кипяченное сусло - необходимый
уровень стерильности обеспечат дрожжи. Понятно, что такое сусло должно быть
подготовлено и сохранено с учетом определенных предосторожностей.
Однако без стерилизации, все же, не обойтись. Когда вы делаете посев на
чашку Петри или уклон, и петля, и среда, и чашка, и пробирка, и окружающий
воздух должны быть стерильны. Когда вы делаете посев одной маленькой колонии
в 5-10 мл сусла, начальная концентрация дрожжей чрезвычайно мала и колония
беззащитна против посторонних микроорганизмов. Когда вы засеваете 10 мл куль-
туры в 1000 мл сусла для разведения на магнитной мешалке - имеет место угроза
вырастить неизвестно что живущее в этом литре сусла. Наконец, некоторая
помощь природе с вашей стороны не будет лишней - чем тщательнее вы позаботитесь
о микробиологической чистоте, тем надежнее будет результат. При этом с
фактом, что незначительное число спор, возможно, уцелели при стерилизации в
автоклаве придется смириться и надеяться, что это ни как не повлияет на
качество культуры пивных дрожжей.
Влажный жар - это самый удобный способ стерилизации питательной среды для
разведения дрожжей. Причина проста - пивное сусло состоит преимущественно из
воды. На рис. 16 показана скороварка-автоклав во время работы.
Итак, влажный жар — водяной пар без примеси воздуха, при температуре 121
градус Цельсия, — убивает все живое (или почти все) за 15 минут. При
температуре 134 градуса — за 3 минуты. Для достижения 121 градуса необходимо создать
давление (например, в скороварке) около 2 баров, 135 градусов — чуть больше 3
баров. В противном случае пар невозможно нагреть пар должным образом - при
нормальном атмосферном давлении его температура не может превышать 100
градусов Цельсия.
Небольшая примесь воздуха также резко снижает максимально возможную
температуру. Так смесь 66% водяного пара с воздухом при давлении 2,05 бара может
быть разогрета лишь до 115 градусов. (По этой причине не следует спешить с
установкой клапана-грузика на штуцер скороварки — внутренность необходимо
«продуть» паром в течении, как минимум, 10 минут, давая воздуху возможность
выйти наружу).
Рис. 16. Скороварка-автоклав на кухонной плите. Показана стадия
продувки паром и удаления воздуха. Это можно заметить по отсутствию на
штуцере шарового крана (с синей ручкой) клапана-грузика, создающего
избыточное давление.
Сухой жар — это стерилизация при более высоких температурах. Почему-то,
горячий сухой воздух оказывает на микроорганизмы менее губительное воздействие,
чем водяной пар. Так для достижения стерильности требуется более двух часов
воздействия при температуре 160°С (Yeast. The Practical Guide to Beer
Fermentation, Cris White with Jamil Zainasheff). В книге First Steps in Yeast
Culture volume 1 приведена таблица, где собраны рекомендации различных
исследователей .
Источник
1
2
3
4
5
6
Температура, °С
160-180
170-180
160
170
180
160
160
170
180
190
170
Время воздействия, мин
90
30
180
120
30
45
45
18
7,5
1,5
30
Графа (5) — это требования Британского департамента здравоохранения. Автор
книги считает, что стекло и нержавеющую сталь нужно стерилизовать при
температуре 170°С как минимум 45 мин. (Я придерживаюсь более "жесткого" правила -
180 градусов и 60 минут) . Температуры до 250°С легко достижимы в домашних
условиях — для стерилизации сухим жаром достаточно воспользоваться
электрической духовкой. (Как это надлежит делать, описано ниже). На рис. 17 реторта
объемом 2 литра помещена в духовку для стерилизации сухим жаром.
Рис. 17. Стерилизация посуды сухим жаром.
Метод сухого жара хорош для посуды и другого оборудования, при этом нужно
иметь в виду, что не всякий материал может выдержать высокие температуры (160
- 180 градусов Цельсия). Хороший пример — шланги. Нормальные изделия из
силикона выдерживают перепады температур от -100°F до +500°F (-73°C — 260°С) .
Однако на практике автор этих строк сталкивался с разными вариантами - от
изменения цвета шланга, до пронзительного запаха химии и потери прочности.
Необходимо отметить, что внутренность посуды необходимо защитить от доступа
внешнего воздуха специальными мерами. Чаще всего это обычная вата, которой
затыкается горло колбы и слой пищевой фольги (как это можно видеть на
рисунке) . Вата, кроме всего прочего, служит своеобразным индикатором - если она
изменила цвет с белого на светло коричневый, то нагрев прошел нормально.
Также отмечу, что не следует ставить в духовку колбу с суслом — ни к чему
хорошему это не приведет. Стерилизации не случиться. Сусло при нормальном
атмосферном давлении не может нагреться выше 100°С. Что же делать, если такая
потребность оказалась насущной необходимостью?
Тиндализация как нельзя лучше подходит для этого случая. Метод назван по
имени его изобретателя Джона Тиндаля (John Tyndall). Суть его заключается в
том, что питательную среду, например сусло, доводят до кипения (100 градусов)
несколько раз. Можно нагревать на водяной бане - поставить колбу с суслом в
кастрюлю с водой. После каждого нагрева следуют охлаждение и выдержка в
течение суток. При этом необходимо соблюдать условия стерильности внутри колбы,
чтобы туда не попадал окружающий воздух. Для этого можно использовать
санирующие фильтры. Когда сусло остынет, споры, которые могут в нем развиваться,
прорастут. Второе кипячение их убьет. Для верности кипятят еще и в третий
раз.
Жидкие стерилянты могут полезны когда не подходит ни стерилизация влажным
или сухим жаром, ни тиндализация, ни горелка. Например, вы получили пробирку
с культурой из лаборатории, а пробирка пластмассовая (обжечь горло
невозможно) и дрожжи в ней живые (мы на это всегда надеемся). Или это может быть
пакет, но как ни крути, а нагревать это нельзя, но уничтожить микробов на
поверхности упаковки нужно.
Вопреки расхожему мнению 70% этанол не является стерилянтом в строгом
смысле этого термина, то есть веществом способным убить все живое, (96%-й спирт
вообще не рассматривается как дезинфектант). Однако в медицине (согласно
официальным документам) 70%-й раствор спирта используется для обеззараживания
медицинского инструмента методом погружения на 30 минут. Необходимо понимать
разницу между весовой и объемной концентрацией. Указанная выше величина (70%)
- весовая доля, объемная будет составлять 77% (First Steps in Yeast Culture
volume 1). Это важно, так как спиртометры обычно показывают объемную долю.
Для полной стерилизации, например, шовного материала в хирургии
используется другое вещество — первомур, — раствор надмуравьиной кислоты, время
воздействия при концентрации 4,8% — 15 минут. Аналогичными свойствами обладают и
другие надкислоты, например, надуксусная, в столь же высоких концентрациях,
(для дезинфекции используются растворы с содержанием действующего вещества на
порядок ниже - 0,2%).
Несмотря на то обстоятельство, что 70%-й этанол не стерилен, это вещество
активно используется как очень хорошее дезинфицирующее средство. Раствором
спирта полезно протирать и рабочую поверхность, и руки, и посуду, и другие
предметы в рабочей зоне, например, пакет с дрожжами, которые вы собираетесь
использовать, а также ножницы, которыми вы планируете вскрыть этот пакет.
Конечно, надежнее для этой цели применять 4%-ю надуксусную кислоту, но вряд ли
это необходимо. Спирт действует достаточно быстро, а ножницы можно
дополнительно обжечь в пламени горелки.
Кроме того, концентрированный раствор надкислоты, обычно содержит очень
много перекиси водорода (в концентрации существенно превышающей аптечные 3%),
которая может привести к сильным ожогам кожных покровов или нанести
непоправимый ущерб органам зрения. Кроме того, в растворе присутствует достаточно
много уксусной кислоты, интенсивный запах которой не позволяет нормально
работать без эффективной вытяжки5.
Однако ни спиртом, ни другими жидкими химическими средствами не следует
стерилизовать ни пробирки (или другую посуду), ни петлю прививания, ни, тем
более, среды. Внутренность посуды (как и поверхность петли) будет контактиро-
5 Можно также эффективно использовать 10% раствор отбеливателя для стирки тканей, но
он оставляет запах хлора.
вать с культурой и после обработки жидкими стерилянтами требуется тщательное
ополаскивание для очистки от следов сильнодействующей химии. Для этого
необходима стерильная вода, дополнительная стерильная посуда, и время. По этой
причине в реальной жизни проще использовать или сухой, или влажный жар, или
горелку. Кроме того, петлю прививания нужно стерилизовать быстро. Для этого
подходит только огонь, который является самым быстродействующим средством.
Очевидно, что питательные среды не должны содержать даже следов стерилянтов -
в противном случае дрожжи могут просто погибнуть.
Роль горелки была уже отмечена в части 2 . Одно из важнейших предназначений
устройства - обеспечение чистой рабочей зоны. Если вы не имеете ллламинарного
шкафа" или "чистой комнаты", которыми оснащены все современные
микробиологические лаборатории, то единственное место, где вы можете орудовать петлей
прививания или переливать чистую культуру из пробирки в колбу, это несколько
сантиметров пространства вблизи пламени горелки (рис. 18).
Рис. 18. Clean Work Area - это чистая рабочая зона. В книге First Steps in
Yeast Culture volume 1 указан ее приблизительный размер - 5-6 см.
(Иллюстрация из книги - Yeast. The Practical Guide to Beer Fermentation).
Другое назначение горелки - прокаливание петли прививания. Рабочий орган
петли изготавливается из тугоплавкого материала (например, нихрома) для того,
чтобы выдерживать многократную обработку огнем. Перед каждым касанием чистой
культуры петля нагревается в пламени горелки докрасна, участок за участком,
от ручки до самого кончика. Затем инструмент нужно остудить в чистой рабочей
зоне. Определение времени необходимого для остывания вашей петли до 30
градусов Цельсия и положения петли в рабочей зоне при котором она остынет
требуется производить экспериментально, без дрожжей, касаясь кончиком петли кожи
руки, (моя петля толщиной 0.5 мм остывает примерно 30 секунд). Если вы возьмете
дрожжи слишком горячей петлей, культура на разогретой проволоке погибнет и
посев не даст восходов. Если вы будете держать петлю слишком далеко от
пламени горелки, то на проволоку могут попасть пылинки с посторонними микробами,
которые обязательно вырастут вместе с дрожжами.
Третье назначение горелки - обжиг горлышек пробирок и прочей посуды. При
переливании чистой культуры из одной склянки в другую, струйка жидкости
касается горла и с внешней стороны тоже (за счет силы поверхностного натяжения).
Поэтому открытые пробирки перед переливом обжигают, чтобы сжечь пылинки
случайно оказавшиеся на горлышке.
Чистая рабочая зона вокруг пламени горелки слишком мала и всегда высок риск
оказаться за ее пределами. Поэтому целесообразно расширить рабочее
пространство6 . Как уже упоминалось, современные микробиологические лаборатории для
этих целей имеют самое разнообразное оборудование - от "чистых комнат" до
"компактных перчаточных боксов" и переносных "ламинарных шкафов". Принцип
построения подобных чистых рабочих зон достаточно прост - некоторый объем
изолируется от окружающего пространства с той или иной степенью надежности.
Обязательным элементом оснащения ламинарного шкафа, перчаточного бокса,
чистой комнаты является система вентиляции стерильным воздухом. Для этой цели
применяются нагнетающие вентиляторы и системы фильтров различной степени
очистки от НЕРА до ULPA (соответственно различается уровень чистоты внутри
зоны) .
Основным отличием ламинарного шкафа от перчаточного бокса является степень
изолированности от внешней среды и обусловленный этим класс биологической
защиты . В первом случае объем шкафа не герметичен. Изоляция от внешних
воздействий осуществляется с помощью создания внутри постоянного ламинарного потока
воздуха сверху вниз и, и соответственно, небольшого избыточного давления.
Устройства этого типа оснащены подъемными прозрачными передними панелями
(иногда наклонными для удобства работы). Такую панель можно приподнять, что
откроет доступ внутрь шкафа для рук лаборанта и опустить по окончании
операций.
Перчаточные боксы - это устройства более высокого класса биологической
защиты (3-го) и полностью изолированы от внешней среды (герметичны на 100%).
Для работы внутри используются специальные перчатки, надежно закрепленные на
рабочей панели бокса. Устройства этого типа чаще всего используются для
манипуляций с опасными для здоровья и жизни людей веществами и микроорганизмами.
(Для целей безопасности боксы оснащены специальными шлюзовыми камерами для
извлечения и загрузки препаратов и образцов).
Способов обеспечения стерильности пространства рабочей зоны несколько. Во-
первых, это предварительная обработка внутренностей шкафа и оборудования
очень хорошим дезинфицирующим средством, например, 70%-м этанолом. Во-вторых,
стерилизация воздуха и поверхностей с помощь бактерицидного ультрафиолетового
излучения (УФ). В третьих, создание внутри рабочей зоны избыточного давление
стерильного воздуха и/или надежная изоляция от внешнего воздействия.
Бактерицидное ультрафиолетовое излучение - вид воздействия подходящий для
обработки больших объемов воздуха и поверхностей, например, комнаты, но
только в относительно ограниченных пространствах можно добиться высокой степени
стерильности. Бактерицидным действием обладает не всякий источник УФ. Так, в
частности, лампы для загара к таковым не относятся (они оказывают слабое
влияние на микроорганизмы) — необходимо приобретать специальные (с максимумом
излучения на длине волны 254 нм). Удобны лампы с фильтром (специальный состав
стекла колбы), которые не испускают лучи (длина волны 185 нм) способствующие
образованию озона7. Эффект воздействия ультрафиолета определяется энергией
излучения на единицу объема. Так для уничтожения 99,9% спор В. subtilis (сен-
6 Лучше использовать факел - горящий спирт налитый на какую-нибудь плоскую посудину,
например, на крышку закрытой металлической банки из-под растворимого кофе.
7 Озон также является хорошим стерилизующим средством, но он токсичен для человека,
поэтому после УФ обработки бокса приходится ждать, пока не исчезнет его запах.
ная палочка) требуется 3380 Дж/м3. Если мощность вашей УФ лампы составляет 15
Вт, то для шкафа объемом 0,44 м3 потребуется около 100 секунд воздействия для
достижения уровня санитарной обработки (для данного вида устойчивых спор).
Как не трудно понять, это еще не стерильность. Однако споры - это очень
устойчивые к внешним воздействиям формы жизни. Для уничтожения 99,9%
одноклеточных грибов Candida albicans требуется 717 Дж/м3 и, всего, 21 секунда
облучения. Понятно, что для более тщательной очистки с помощью УФ необходимо
увеличить время воздействия. Я делаю обработку не менее 1 часа, то есть ровно
столько, сколько продолжается стерилизация сухим жаром разного рода
оборудования, (эти процессы идут одновременно).
В работе "Sterilization effect of UV light on Bacillus spores using ТЮ2
films depends on wavelength" показано, что воздействие УФ лампы излучающей на
длине волны 254 нм мощностью 8 Вт расположенной на расстоянии 46,5 см от
препарата в течение 5 минут убивает более 99,99% спор, в течение 10 минут -
более 99,9999%, в течение 20 минут - более 99,999999%. Это уже похоже на
стерилизацию .
Необходимо постоянно помнить об опасности бактерицидного ультрафиолета для
глаз. Эффективной защитой от излучения с длиной волны до 280 нм может быть
обычное оконное стекло, которое непрозрачно в этом диапазоне. Однако
бактерицидные УФ источники излучают не только на частоте 254 нм. Даже хорошие
лампы немного светят в интервале 280-380 нм, где стекло и роговица глаза
становятся прозрачными. Для полной задержки УФ лучей могут быть полезны
специальные пластиковые очки. Ультрафиолет также может оказать пагубное воздействие
на различные предметы. Так, например, возможны изменения цвета пластиков,
ускоренное выцветание тканей и т.п. Это необходимо иметь в виду при
использовании УФ лампы в домашних условиях.
Поток стерильного воздуха необходим для того, чтобы сохранить в рабочей
зоне домашнего ламинарного шкафа микробиологическую чистоту.
Принцип работы санирующего фильтра (например, Мидисарт 2000, производства
ЛЛСарториус", Германия) заключается в том, что он задерживает любые частицы
размером более 0,2 мкм - этим достигается стерилизующий эффект. Подобные
устройства нашли широкое применение для очистки от микробов различных газов.
Изоляция внутреннего объема рабочей зоны шкафа лежала в основе конструкции
первой версии моего домашнего чистого бокса. Для этой цели, наряду с прочими
мерами, были использованы перчатки закрепленные изнутри, как показано на
рисунках 19 и 20. Однако создать по настоящему герметичное устройство из
оконных профилей оказалось невозможно. По этой причине не удалось уйти от
необходимости нагнетания в рабочую зону стерильного воздуха - этого обязательного
атрибута любого устройства подобного назначения. Правда, в случае с
перчатками можно ограничиться компрессором небольшой производительности.
У замкнутого объема вскоре обнаружились некоторые недостатки. Один из них -
горелка внутри шкафа могла работать лишь непродолжительное время. Через 15-20
минут, сказывался недостаток кислорода и огонь угасал. Необходимо отметить,
что слишком продолжительное горение также нежелательно, при этом заметно
увеличивается температура в шкафу, что не безопасно для культур пивных дрожжей.
Поэтому, в любом случае, надлежит делать перерывы при работе с горелкой.
Особенно если объем надежно термоизолирован, например, шкаф по
совместительству является холодильной камерой.
Для того чтобы уйти от необходимости крепления рабочих перчаток к дверке
шкафа и создать возможность для более продолжительной и комфортной работы
были использованы компрессор и санирующий фильтр более высокой
производительности по объему воздуха. Теперь руки в перчатках перед каждым доступом в шкаф
нужно тщательно протирать дезинфицирующим средством и аккуратнее работать
внутри - не трясти перчатками над открытыми чашками, колбами и пробирками.
Рис. 19. Чистый шкаф. Идет обработка ультрафиолетовым излучением. Справа
компрессор, санирующие фильтры (2 штуки Мидисарт 2000) установлены внутри.
Перчатки под стеклом дверки прикреплены изнутри шкафа (на фотографии видна
их внутренняя сторона).
Рис. 20. Показана правая перчатка и способ ее крепления к дверке шкафа.
Хорошо видно как установлены фильтры Мидисарт 2000 - с помощью 2-х трубочек
вмонтированных в панель. На выходе фильтров имеются воронки, чтобы сделать
поток воздуха более ламинарным. Хранятся фильтры и воронки вместе, раструбы
закрыты фольгой, чтобы предотвратить доступ пыли. После предварительной
обработки внутренностей шкафа спиртом, фильтры устанавливаются, дверка
закрывается, включается подача воздуха, фольга снимается, включается УФ лампа.
Описанная, вкратце, конструкция8 домашнего ЛЛламинарного шкафа" (и
ллперчаточного бокса") хотя и обеспечивает высокую защиту от микробов, совсем
отказываться от горелки и связанной с ней чистой рабочей зоной, я бы не
рекомендовал . Все меры направленные на повышение стерильности хороши, но вместе
они становятся еще лучше. Ведь вам нужна уверенность, что ваша коллекция
пивных культур будет оставаться такой же чистой, какой ее прислали вам из лабо-
Встречаются конструкции с самодельным фильтром который заряжается высоким
напряжением для притягивания пыли.
ратории. Перечисленный набор средств достижения стерильности вполне доступен
в домашних условиях и применяется автором этих строк на протяжении
продолжительного периода времени.
Если вы не соберетесь построить "чистый шкаф", то вам предстоят различного
рода ухищрения. Процесс контаминации носит вероятностный характер поэтому,
чем меньше пыли будет в воздухе помещения, где ведется микробиологическая
работа, тем ниже вероятность попадания микробов в пробирки и чашки. Наличие
купола над рабочим местом, также препятствует падению частичек пыли с микробами
на инструменты, посуду и среды. Горелка - обязательный атрибут. Только 5-6 см
вокруг пламени свободны от микробов. Только в этом пространстве можно
совершать различные манипуляции по стерильному переносу культур.
Очень опасны сквозняки — потоки воздуха несущего пыль и контаминантов.
Таким образом, для работы лучше всего подходит укромный угол, где нет
сквозняка, нет вентилятора или кондиционера, помещение обработано бактерицидным УФ
излучением, а рабочая поверхность и руки, спиртом (70%-ый этанол). Но
начинать нужно со стерилизации сусла. Мы это рассмотрим подробнее в следующем
разделе.
В любом случае (при наличии чистого шкафа, или без) вам необходимо
проверить условия стерильности при осуществлении стандартных операций. Для этой
цели вполне пригодны те же средства с помощью которых вы буде разводить и
хранить дрожжи: петля прививания, пробирка со стерильным жидким суслом и
уклон. После тренировок с водой (которую рекомендуют все авторы начинающим
микробиологам) вы достаточно уверенно сможете выполнять стандартные операции по
стерильному переносу: как с помощью петли, так и методом перелива.
Как только вы приготовите ваши первые стерильные пробирки с питательной
средой, вам следует провести тест на стерильность. Подготовьте рабочую зону,
зажгите горелку, протрите руки (или перчатки) спиртом, прокалите петлю
прививания и сделайте все так, как будто вы переносите каплю жидкой культуры на
уклон, только воспользуйтесь пробиркой с чистым суслом. Сделайте посев.
Если через несколько дней (3-4 при комнатной температуре) на уклоне ничего не
вырастет - все хорошо. Вы правильно подготовили среды и организовали рабочее
место. Этот незамысловатый тест полезно повторять время от времени для
уверенности .
Часть 4.
Подготовка
сред
Эта часть является посвященной разнообразным деталям и мелочам. Здесь
рассмотрены вопросы приготовления стерильной питательной среды для нужд
разведения-селекции культур.
Ранее, в предыдущих частях, были приведены и фотографии, и названия
разнообразных сосудов - вмещающих питательную среду необходимую для роста и
хранения пивных дрожжей. Однако, не лишним будет привести еще несколько фото.
Пробирки
Ниже описаны конкретные пробирки одной конструкции, по этой причине все
цифры, которые будут указаны относятся к этому случаю. Если вы используете
пробирки большего (или меньшего) размера, то я рекомендую вам подобрать
самостоятельно соответствующие объемы сусла наиболее удобные для работы с вашей
посудой.
Основным средством сохранения культуры в добром здравии является культу-
ральная пробирка.
Рис. 21. Показаны два штатива, каждый имеет по 40 ячеек для культуральных
пробирок. Ячейки широкие, что очень удобно при работе со средами.
Заполненные пробирки можно наклонять в одну сторону, пустые в другую. На левом
штативе - уклоны (agar slant), на правом - жидкое сусло. Каждая пробирка
содержит 5 мл питательной среды.
Штативы на рис. 21 полупусты - часть пробирок была использована для
регулярной процедуры, которую необходимо проделывать не реже одного раза в три
месяца. Эта процедура кратко описана в части 2 и называется стерильный
перенос - небольшая проба культуры со старого уклона переноситься в свежее жидкое
сусло. Затем, (примерно через сутки) после появления признаков брожения в
пробирке, совершается обратное действие - стерильный перенос капли свежего
пива на свежий уклон. Как следует из названия действия, и то и другое нужно
проделывать с соблюдением условий стерильности, описанных в части 3. Примерно
на третьи сутки уклон покроется свежими колониями. Культуру можно прятать в
холодильник - в специальный контейнер.
Таким образом, если ваша коллекция состоит из десяти штаммов на каждый
пересев вам понадобиться 10 пробирок с жидким суслом и 10 свежих уклонов. В год
вы должны сделать четыре пересева, так что две подставки и 80 пробирок -
вполне достаточно, и вы не будете обременены постоянной заботой о заполнении
и стерилизации культуральных пробирок. Вам также (ежегодно) понадобиться 300
мл сусла плотностью (100 мл вы разведете водой и получите 200 мл для 40
пробирок по 5 мл, 200 мл смешаете с 2,4 г порошка агара и зальете 40 уклонов).
Чашки
Стеклянные чашки Петри можно купить в специализированных магазинах
химических реактивов, или заказать по интернету. Насколько я знаю, чашки могут
отличаться диаметром, по-моему мнению, - подойдут любые. Вам лишь потребуется
установить экспериментальным путем, сколько сусло-агара вы будет заливать в
каждую.
Уклоны позволяют лишь сохранить культуры, чтобы вырастить культуру клеток
пригодную для брожения одной или нескольких партий пива вам понадобятся чашки
Петри. Это ваш основной рабочий инструмент.
В части 2 была, вкратце, описана и процедура посева на поверхность
питательной среды, и процедура выбора колоний. Целесообразно готовить смесь сусла
и агара впрок. Стерилизовать и, соответственно, хранить смесь можно в разной
посуде, однако необходимо помнить одно - емкость должна быть надежно закупо-
рена во избежание попадания наружного воздуха с разнообразной живностью. Ниже
я опишу различные способы. (Перед заливкой смесь можно нагреть и растопить).
Рис. 22. Одна чашка Петри состоит из двух стеклянных
чашек (половинок): большая половинка - это крышка, в
маленькую - заливается смесь питательного сусла и агара. На
рисунке чашки Петри перевернуты. Дело в том, что смесь
сусла и агара заливают при температуре 50-60 градусов
Цельсия (смесь остается жидкой до 45 градусов, примерно).
Когда горячая чашка закрывается крышкой на внутренней
поверхности стекла образуется конденсат. Чтобы капли не
падали с крышки вниз и не нарушали структуру колоний на
твердой поверхности агара, после отвердевания смеси чашка
переворачивается.
Рассчитать объем смеси и, соответственно, размер емкости для одной порции
достаточно легко. Для заливки одной чашки требуется около 15-20 мл сусло-
агара . Необходимо понимать, что вся смесь из одной емкости должна
использоваться полностью. Повторная стерилизация при высокой температуре (121 градус)
невозможна - смесь не застынет снова должным образом, и не будет обладать
достаточной прочностью для манипуляций.
Таким образом, если у вас 5-6 чашек Петри, то колбы объемом 100 мл (на
самом деле туда войдет немного больше смеси) вполне достаточно. В домашних
условиях вам вряд ли понадобиться большее количество готовых чашек, так как
дрожжи могут храниться в этой посуде не более месяца даже при температуре 1-3
градуса. Хранить не засеянные чашки занятие тоже хлопотное - для этого нужно
использовать герметичный контейнер и холодильник. В противном случае смесь
может потерять влагу или, что еще хуже, получить порцию микробов.
Колбочки
и баночки
После того, как вы отберете колонии на чашках Петри и сделаете стерильный
перенос каждой в пробирку с жидким суслом, вам потребуется двигаться дальше -
в сторону увеличения объема культуры. Пяти миллилитров, которые появятся у
вас в культуральной пробирке через сутки будет недостаточно, чтобы засеять
20-30 литровый ферментер.
На рис. 12 части 2 были показаны две посудины - колбы, содержащие
соответственно 40 и 100 мл жидкого сусла закупоренные кусочками фольги. Этого
количества достаточно для первого и второго шага в направлении увеличения объема
жидкой культуры дрожжей. Там же, в части 2, была кратко описана процедура
называемая стерильный перелив.
Закупоривать посудину со стерильным суслом фольгой удобно, когда вы
планируете использовать эти порции вскоре после стерилизации (я прямо из автоклава
загружаю такие колбы в стерильный шкаф). Однако сохранить среду
продолжительное время под столь ненадежной защитой, как кусок фольги, не удастся.
Результат всегда один - колба зарастает плесенью.
По этой причине удобно подготовить несколько порций жидкого сусла по 40 и
100 мл в баночках с винтовыми крышками (крышки, а главное место их соединения
с банкой можно дополнительно защитить от пыли фольгой). Для этой цели
подойдет самая разнообразная посуда. Это могут быть и специальные лабораторные
баночки и обычные - из-под повидла (показаны на фото). Не забывайте, что нужно
использовать с винтовыми крышками.
Рис. 23. Таких комплектов вам потребуется столько же,
сколько у вас чашек Петри - все зависит от количества
варок, которые вы собираетесь сделать в обозримом будущем.
Можно сделать больше - это определяется объемом вашего
автоклава, наличием тары и места для хранения в шкафу
(холодильник для хранения стерильного сусла не
требуется) . Объем показанных на фото банок - 250 мл.
Мойка
Только один раз вы будете иметь дело с относительно чистыми пробирками -
когда получите их на почте или в магазине. В дальнейшем вам придется очищать
пробирки от следов прошлых разведений.
Для очистки пробирок потребуются специальная щеточка9.
После ручной мойки и пробирки, и винтовые крышки можно подержать в горячем
растворе моющего средства для посудомоечных машин из расчета, примерно, 5
грамм средства на литр воды. Для этого в небольшую кастрюлю нужно положить
пробирки, залить водой, (позаботьтесь, чтобы в пробирках не осталось пузырей
воздуха), довести воду до кипения, засыпать средство и включить горелку на
минимальный нагрев. Полчаса вполне достаточно. Надписи сделанные на этикетках
красным восковым карандашом отмываются, таким образом, очень хорошо.
Специальные щетки вам также понадобятся для мойки шлангов и сифонных трубок
из нержавеющей стали, которыми, возможно, оснащены ваши реторты для
приготовления стартера на магнитной мешалке.
Реторты полезно залить кислотным моющим средством, а затем помыть большой
щеткой.
9 На русском его еще называют «ершик».
!«&-.
I
<*ь
Рис. 24. Этот уклон отслужил свое.
Рис. 25. Использование щетки для мойки пробирки.
Рис. 26. Мойка шланга.
Рис. 27. Реторты 2 и 4 л залиты раствором кислотного моющего средства.
Осветление сусла
Сусло для разведения можно получать разными способами. Можно использовать
сухой солодовый экстракт (DME), можно пополнять запас после каждой варки. В
последнее время я запасаю сусло в одну из варок какого-нибудь светлого пива и
храню запас в десяти литровом корнелиусе.
Если возникает необходимость воспользоваться вариантом с DME, целесообразно
использовать следующий совет. Как показывает практика, для разведение дрожжей
следует использовать охмеленное сусло. Чтобы не кипятить сироп с хмелем
(всегда есть риск, что это дело убежит на кухонную плиту и гарантировано
потемнеет) можно сделать следующее. Положить требуемую порцию хмеля в требуемое
количество воды и кипятить один час. Затем воду профильтровать и после этого
растворить DME. Довести до кипения и прокипятить минут десять-пятнадцать.
Следующие фотографии иллюстрируют процесс осветления сусла с помощью
яичного белка. Вам потребуется отделить белок одного яйца (этого будет достаточно
для 2-3-х литров сусла) и растворить его в остывшем сусле (последнее очень
важно, температура сусла не должна быть выше 50 градусов). Белок, конечно, не
раствориться полностью, но вы будете еще какое-то время нагревать и тщательно
перемешивать смесь, так что не отчаивайтесь. Вначале порция сусла будет
выглядеть , примерно, как на рис. 29.
Рис. 28. Кег объемом 10 литров. Подобные устройства часто называю корнелиусами
- по названию (Cornelius) популярного производителя бочек такого типа. Сусло
(внутри) нагревается до нужной температуры после хранения в холодильнике.
Рис. 29. Смесь сусла и яичного белка в начале процедуры осветления.
Когда вы заметите, что сусло стало ужасно мутным, процесс нагрева можно
завершать .
Рис. 30. Взвеси сусла соединились с яичным белком и образовали хлопья.
Рис. 31. Сусло после осветления.
Теперь вы можете охладить сусло, например, с помощью холодной воды в
кухонной мойке, чтобы все, что хорошо заметно на рис. 31, осело на дно посуды.
Теперь можно фильтровать.
Рис. 32. Вискозная салфетка после фильтрации сусла.
Если не дать возможность взвесям осесть, то процесс фильтрации может
затянуться и придется сменить салфетку, возможно, не один раз.
Заполнение пробирок
На следующем рисунке показаны предметы, которые понадобятся для заполнения
культуральных пробирок, как жидким суслом, так и смесью с агаром.
Рис. 33. Инвентарь. Сейчас я использую
две подставки на 40 штук пробирок каждая
- одну для пробирок с суслом, другую для
уклонов. Как уже отмечалось работать с
новыми штативами удобнее. Мерный цилиндр
(стоит между штативами с пробирками)
используется для разбавления сусла.
Посередине (не вошла полностью в кадр) -
пипетка 10 мл с резиновой грушей (груша
соединяется с пипеткой с помощь кусочка
шланга, для удобства в шланг вставлен
ватный тампон).
Процесс наполнения иллюстрируют следующие рисунки.
*ч>*^| Рис. 34. Пипетка заполняется до отметки 5 мл.
Рис. 35. Затем сусло переливается в пробирку.
Совет: пока кончик пипетки совершает
путешествие от мерного стакана до горла пробирки
целесообразно слегка ослабить давление на грушу,
чтобы пипетка потихоньку засасывала воздух,
тогда капли сусла не будут заливать окружающее
пространство - стол, штативы, пробирки.
с
Г и'
•0
\ >
\*ъ*~ - Л'ч\> Т'\
.''-/-*
Работа с агаром
Речь идет о смеси сусла и агара. Для этих целей вам лучше обзавестись
лабораторным сухим агаром - его моно купить в специализированных магазинах или
заказать по интернету. Требуется 12 грамм порошка на литр сусла.
В ковшик или кастрюльку залейте требуемое количество сусла комнатной
температуры и равномерно рассыпьте порошок по поверхности. Пусть агар пропитается
холодным суслом и набухнет. Можете понаблюдать - вы заметите, когда процесс
завершится. Можете не наблюдать - оставить на 15 минут и посмотреть
телевизор.
Рис. 36. Порошок агара впитал достаточно
жидкости.
Рис. 37. Интенсивно помешивая, доведите
жидкость до кипения. Будьте готовы, что
смесь попытается выпрыгнуть за пределы
кастрюли. В первый раз не включайте плиту на
большую мощность. Когда содержимое начнет
интенсивно вспениваться просто поднимете
ковшик. Сделайте так два-три раза. Смесь
готова. Не используйте водяную баню! Смесь
при этом не будет вспениваться, но и не
приобретет необходимой прочности после
затвердевания .
Процедура заполнения пробирок аналогична описанной выше, за одним
исключением - смесь может загустеть. Поэтом не рекомендуется снимать кастрюлю с
плиты (только убедитесь, что процесс интенсивного кипения завершился). Совет:
протирайте конец пипетки бумажной салфеткой после заполнения очередной
пробирки.
Рис. 38. Заполнение пипетки горячей смесью суело-агара.
Рис. 39. Заполнение пробирки.
После процедуры, пипетку необходимо тщательно промыть очень горячей водой,
чтобы растворить остатки смеси внутри инструмента.
Рис. 40. Можно ополоснуть ковшик от остатков смеси и вскипятить в нем
немного воды. Затем несколько раз наполнить и опорожнить пипетку.
Загрузка скороварки
Все приведенные ниже конкретные рекомендации (объем заливаемой воды, время
охлаждения и т.п.), а также фотографии вариантов загрузки и др. относятся к
конкретному устройству - скороварке объемом 4 литра. Если вы переоборудовали
в домашний автоклав посудину другого размера, я рекомендую подобрать
соответствующие параметры самостоятельно.
Первым делом нужно установить фильтр в скороварку-автоклав (рис. 41).
Далее необходимо защитить фильтр от паров сахарных сиропов ватным тампоном
(рис. 42).
На следующих фотографиях показаны примеры загрузки автоклава. Помните одно
важное обстоятельство: нельзя затягивать крышки - ни пробирок, ни баночек, ни
чего иного помещенного внутрь для стерилизации. Необходимо, чтобы воздух мог
свободно выйти отовсюду, и его место занял водяной пар. Это непременное
условие . В противном случае стерилизация не состоится. Только одна крышка должна
быть хорошо и туго затянута - крышка скороварки.
Важно не спешить открывать скороварку после стерилизации. В первые 5 мин
после отключения нагрева происходит охлаждение, а затем интенсивная
конденсация пара под крышкой скороварки и внутри загруженной посуды. Внешний воздух в
это время устремляется внутрь сквозь санирующий фильтр и заполняет все
закоулки - скороварка и посуда в это время работают как пылесос. Если бы не
фильтр, стерильные среды вошли бы в соприкосновение с наружным воздухом, его
пылью и микробами - эффект стерилизации был бы сведен к минимуму.
Рис. 41. Фильтр устанавливается на
внутренний штуцер крана расположенного
на рисунках 48-49 справа. На корпусе
фильтра красным восковым карандашом
отмечается число стерилизаций (фильтр
рассчитан на 20).
Рис. 42. Защита фильтра.
Рис. 43. На дно скороварки необходимо
положить какую-нибудь сеточку, чтобы
пар во время кипения мог свободно
выходить из-под донышек загруженной посуды,
и ваши банки не прыгали внутри.
Рис. 44. Пробирки с жидким суслом. Таким же образом можно установить
пробирки с будущими уклонами, но ниже описан другой способ.
Рис. 45. Баночки с жидким суслом для первого и второго перелива. Нельзя
затягивать винтовые крышки - помните об этом!
После окончания конденсации пара воздух внутри остывает. Как известно, газы
при охлаждении сжимаются, и пока температура внутри пробирок не снизиться
остается риск подсоса наружного воздуха. Поэтому не стоит открывать крышку как
минимум час-два. Если вы спешите, то можно ускорить охлаждение и поставить
скороварку в мойку с холодной водой. Только сделайте это минут через
пятнадцать после завершения процесса стерилизации и не забывайте, что посуда
внутри имеет большую температуру, чем стенка скороварки.
За пару часов смесь агара и сусла в пробирках застынет. Поэтому необходимо
позаботиться о том, чтобы уклоны в скороварке приняли требуемое наклонное
положение . Можно просто поставить скороварку почти на бок. Только потренируй-
тесь вначале с открытой крышкой и пустыми (или наполненными водой)
пробирками. Примите меры к тому, чтобы пробирки были зафиксированы строго параллельно
друг другу. Только при таком условии при наклоне скороварки все пробирки
получат один угол наклона. Это важно для правильного формирования уклона. Его
площадь должна быть достаточно велика и верхний край среды отстоять от
горлышка пробирки на пару сантиметров. Подумайте об уровне воды после
стерилизации - остаток воды при наклоне скороварки не должен залить пробирки (ведь
крышки не затянуты).
Можно использовать несложное устройство показанное на следующих
фотографиях.
Рис. 46. Сетка устанавливается над уровнем воды с помощью импровизированных
ножек. Из трубочки нержавеющей стали изготовлено приспособление для
придания пробиркам нужного наклона.
Рис. 47. Пробирки укладываются внутрь и получают требуемый угол наклона. В
таком положении они стерилизуются. Смесь при этом нагревается и принимает
требуемое положение - образуется уклон (на фото уклона еще нет).
Наконец, можно воспользоваться третьим методом. Загрузите уклоны, как
показано на рисунке 44. Проведите процедуру стерилизации. Остудите скороварку до
50 градусов. Откройте крышку и быстро затяните винтовые крышки пробирок.
Предварительно необходимо подготовить место на столе, куда будут выложены
пробирки (обработайте это место спиртом). В качестве подпорки обеспечивающей
требуемый угол наклона можно использовать 10 мл пипетку, которой вы наполняли
пробирки. Протрите руки спиртом перед процедурой. Я пользовался этим методом,
но время от времени находил плесень под крышками пробирок.
Стерилизация
Аккуратно залейте в скороварку 750 мл воды. Закройте и затяните крышку.
Поставьте на плиту и доведите воду внутри до кипения. При этом краны на крышке
должны быть открыты (оба). Из левого штуцера пар должен выходить мощной
струей. Немного убавьте мощность нагрева (например, с 9 до 6,5-7) и десять-
пятнадцать минут выпускайте пар. Вместе с паром выйдет воздух - враг
стерилизации влажным жаром.
Рис. 48. Продувка скороварки паром.
Рис. 49. Стерилизация влажным жаром происходит 15-20 минут.
Затем плотно закройте правый кран (на штуцере этого крана внутри установлен
санирующий фильтр) и поставьте грузик на левый штуцер (рис. 49). Левый кран
должен быть открыт!
По истечении 15-20 минут, левый кран нужно закрыть и немедленно убрать
скороварку с горячей плиты. Еще через 5-6 минут - откройте правый кран - это
обеспечит приток в скороварку стерильного воздуха во время конденсации пара.
После тщательного охлаждения, снимите крышку скороварки и проворно чистыми
обработанными спиртом руками затяните винтовые крышки пробирок и банок. Среды
готовы.
Рис. 50. Уклоны после стерилизации.
Рис. 51. Так можно защитить пробирки от пыли.
Сухой жар
Теперь самое время описать процесс стерилизации посуды. Для этого подойдет
техника сухого жара - 1 час в духовке при 180 градусах. Для того, чтобы при
охлаждении духовки и посуды наружный воздух с пылью и микробами не попал
внутрь стерильных предметов требуются меры предосторожности.
Еще одной предосторожностью может быть обработка помещения, где происходит
стерилизация в духовке бактерицидной УФ лампой.
Рис. 52. Горла колб перед загрузкой в
духовку необходимо заткнуть обычной
хлопковой ватой и прикрыть сверху
кусочком фольги. Вата также служит
своеобразным индикатором стерилизации -
если она стала кремового цвета,
стерилизация прошла успешно.
d
Рис. 53. Кусочки шлангов из силикона,
могут пригодиться в качестве стерильных
муфт для соединения обожженных
металлических наконечников шлангов. Перед
стерилизацией их необходимо завернуть в
фольгу как заворачивают конфеты.
Рис. 54. Все что вы хотите
стерилизовать , можно уложить на один поддон.
Как стерилизовать колбу
с силиконовой пробкой?
Для хранения стерильного сусла или готовой к употреблению (заливки чашек
Петри) смеси сусла с агаром можно использовать колбы и силиконовые
(резиновые) пробки. Как в этом случае провести стерилизацию влажным жаром. Есть один
очень полезный прием, позволяющий это сделать.
Рис. 55. Кусочек пищевого шпагата
вставляется в горло колбы вместе с пробкой, затем
обрезается снаружи. Требуется оставить
достаточно длинный кончик, чтобы он
высовывался из-под фольги, которой необходимо
закрыть горло и пробку сверху. Шпагат
позволит воздуху свободно выйти из
внутренности колбы и тем самым пар сможет
заполнить все пространство во время
стерилизации. При охлаждении произойдет обратный
процесс. Когда автоклав остынет и вы
извлечете колбу, необходимо вытащить шпагат
(не снимая защитную фольгу) и
зафиксировать пробку в горле.
Думаю, что полезно будет показать банку с винтовой крышкой без покрова
фольги. Эта посудина как будто специально создана для стерилизации.
Рис. 56. Банка из-под джема с хорошей
высокой крышкой и качественным уплотнением
(кольцо эластичного покрытия изнутри).
Такая крышка (в сочетании с фольгой) хорошо
защищает горло банки от пыли и микробов.
Сусло после стерилизации может стоять в
такой посуде месяцами. Посудиной удобно
пользоваться. Только не нужно трясти
руками над открытой банкой во время
стерильного перелива.
Разное
ДЕСЯТЬ ТЫСЯЧ ЛЕТ С ДРОЖЖАМИ
Дмитрий Целиков
Наша любовь к алкоголю — результат эволюционной
схватки между человеком и дрожжами. Нет никаких
сомнений, что они, а не мы, пока выходят победителями.
Мы страдаем, а им от этого лучше прежнего.
Откуда у человека как биологического вида такая любовь к тому, от чего
столько неприятностей? Может быть, достаточно сказать, что мы пьём, потому
что от этого чувствуем себя хорошо? Нет, для эволюционной биологии этого
мало .
История интимных отношений между человеком и дрожжами началась миллионы лет
назад. И главная роль в этой драме принадлежит не нам. Хотя симбиотическая
связь — это, безусловно, взаимовыгодное партнёрство, баланс сил постоянно
смещается, и дрожжи взяли верх, заставив однажды наших предков сварить первое
пиво. С тех пор мы очень бережно выращиваем дрожжи, обеспечивая им выживание
и процветание, а в ответ получаем в лучшем случае клёвую вечеринку и похмелье
на следующее утро. Но так было не всегда — когда-то дрожжи и алкоголь
вознаграждали нас более щедро.
Сегодня наши затраты на любовь к продуктам брожения перевешивают любые
выгоды. К счастью, некоторые люди уже приобрели генетические изменения, которые
поощряют их пить меньше. Если эта тенденция не угаснет, то не исключено, что
в один прекрасный день мы заключим с дрожжами хрупкое перемирие.
Мы не единственный вид, который не прочь заложить за воротник. Плодовые
мушки тоже регулярно употребляют ферментированные фрукты и, по-видимому, безо
всякого ущерба для себя. Другие животные не умеют так хорошо пить. Например,
американский свиристель, отведав слишком много перезрелых ягод падуба
мутовчатого, может запутаться в ветвях или врезаться в стену. Существуют страшные
истории о пьяных слонах, но они плохо документированы. Есть даже рассказы о
существах, которые прилагают особые усилия, чтобы оказаться в состоянии
алкогольного опьянения. Так, тупайи (ближайшие родственники приматов) еженощно
ищут игристое «вино» — тодди, которое дрожжи готовят из пальмового сока.
Подобное поведение можно проследить до начала эволюции фруктов около 130
млн. лет назад. Именно тогда, в меловом периоде, возникли цветковые растения.
После этого род грибов Saccharomyces эволюционировал таким образом, чтобы
воспользоваться новым источником питания, и в ходе этого процесса научился
одному важному трюку. Вместо того чтобы тратить энергию на полное расщепление
Сахаров, дрожжи приобрели способности расправляться с ними только частично,
вырабатывая в виде побочного продукта этанол. Подобное происходит в том
случае , когда Сахаров много, а кислорода не хватает. На самом деле это говорит о
том, что те древние дрожжи были менее эффективными, чем их предки, но
неожиданно слабость обернулась преимуществом, ведь этанол убивает большинство
бактерий , питающихся плодами, изводя конкурентов.
Сахаромицеты, скорее всего, питались только спелыми фруктами, ведь незрелые
подчас токсичны, и запах этанола стал универсальным признаком того, что плоды
можно есть. По мнению Роберта Дадли из Калифорнийского университета в Беркли
(США.) , естественный отбор благоприятствовал приматам и другим фруктоедам,
которые могли найти съедобное в обширных лесах. Эти особи, вероятно, выработали
в себе способность ощущать приятное чувство при встрече с этанолом. С этого и
началась наша дружба с алкоголем. Согласно этой теории, каждый раз, когда
примат слышит характерный запах, в его мозге звенит колокольчик удовольствия.
Кстати, мы можем быть в этом не одиноки. Во рту плодовых мушек имеется
рецептор, который играет роль вкусового сосочка, нацеленного специально на
алкоголь . Его обнаружил один аспирант, который в момент творческого бессилия
предложил подопытным животным пива.
Г-н Дадли полагает, что наши предки начали варить алкогольные напитки,
чтобы удовлетворить эту любовь, — почти точно так же, как мы возделываем
сахарный тростник и сахарную свёклу ради любви к сладкому. Иными словами, то, что
некогда приносило пользу, превратилось в источник злоупотреблений.
Это лишь гипотеза, и она оспаривается. Дуг Ливи из Национального научного
фонда США. считает, что приматы никогда не обладали врождённой склонностью
искать плоды по аромату этанола, ведь сильный запах этого вещества чаще всего
свидетельствует о перезрелости фруктов и ягод. Он предлагает иной вариант:
наши предки изготовили спиртное, по неврологической случайности им
понравились ощущения, они захотели ещё, и всё завертелось. В этом случае любовь к
алкоголю сродни любви к кофеину или кокаину, а не сахару.
Алкоголь и впрямь вызывает приятные чувства, связываясь с рецепторами ГАМК
в мозге. Как правило, последние снижают активность нейронов, на которых
находятся, результатом чего становится нетвёрдая походка и ослабление внутренних
запретов. Благодаря этому было зачато бесчисленное количество детей и
завязаны бесчисленные дружеские узы. В то же время это привело к огромному
количеству ДТП, драк и даже войн.
В целом алкоголь оказался полезен не столько собирателям, сколько
земледельцам. 10 тыс. лет назад дрожжи были противопоставлены бактериям,
повреждающим пищу. Бражка позволяла сохранить лишнее зерно, и тем самым напитки и
кушанья становились ещё питательнее, ведь дрожжи помимо прочего вырабатывают
витамин «В». Кроме того, алкоголь, вероятно, способствовал социальному
взаимодействию, которое становилось всё сложнее по мере роста неолитических
общин . Но самое главное — ферментация позволяет стерилизовать жидкость, ведь
этанол убивает не только бактерии (в том числе холерные), но и другие
патогены. Животные тоже пользуются продуктами брожения как лекарством. Например,
плодовые мушки, заражённые паразитоидными перепончатокрылыми, начинают
потреблять больше алкоголя, что убивает осу без вреда для мушки. В
антисанитарных условиях древности продукты брожения были более здоровой альтернативой
остальным напиткам.
Что касается того, как мы научились делать алкоголь, то большинство
антропологов склоняется к тому, что первые фермеры открыли брожение случайно,
когда в хранилища с пшеницей и ячменём проникли сахаромицеты. Есть и другая,
более занимательная гипотеза. Антрополог Соломон Кац из Пенсильванского
университета (США.) утверждал, что сначала было брожение, а уж оно-то и побудило
наших предков взяться за возделывание зерновых. По крайней мере, древнейшее
свидетельство использования алкоголя старше древнейшего свидетельства
земледелия в Китае, где его откопали. Сосуду 7 тыс. лет.
Сегодня мы знаем, что первые кувшины с пивом обжил вид Saccharomyces
cerevisiae. У нас даже есть его точный генетический код (кстати, это был один
из первых организмов, геном которого мы секвенировали). Однако мы ещё очень
мало знаем о том, откуда он взялся.
Пивные дрожжи претерпели много изменений по мере того, как земледелие (а
вместе с ним пиво и вино) распространялось по свету. В качестве бонуса
человек получил множество штаммов пекарских дрожжей. В одной германской пещере
монахи варили пиво из гибрида S. cerevisae с видом из Патагонии. Каким-то
мистическим образом это происходило за сто лет до того, как европейцы
добрались до Нового Света.
В Британии и других странах пивовары подсели на совершенно другой род
дрожжей — Brettanomyces, который отделился от Saccharomyces 200 млн. лет назад,
но приобрёл те же способности.
Нет сомнений, что человек повлиял на эволюционную диверсификацию дрожжей,
но едва ли можно говорить, что управляли этим процессом мы. Грибы очень часто
вступают в симбиотическую связь с другими видами. Например, муравьи-листорезы
скармливают грибам кусочки листьев, а те в свою очередь позволяют муравьиным
личинкам пожирать свои плодовые тела. Плоскоходы носят грибы в маленьких
сумочках, а потом выпускают их на мёртвые деревья, где те, вырастая,
обеспечивают пищей личинки жуков. В этих и других случаях принято говорить, что
животное приручило гриб, но, возможно, в действительности всё наоборот. В конце
концов, это животные вынуждены кормить и носить их, а те лишь едят, растут и
размножаются. Аналогичным образом пивоварам приходится заботиться о
процветании дрожжей. И те сорта, которые отблагодарят нас лучше всех, получат больше
шансов на выживание. Так, некоторые из них развили в себе способность
переносить более высокую концентрацию алкоголя, чтобы человек мог насладиться более
крепким напитком и стал беречь дрожжи пуще прежнего.
Грибы манипулируют нами и более прямым способом. Человек отличается от
прочих приматов уровнем фермента, который расщепляет алкоголь, и тем, где он
сконцентрирован. У других приматов алкогольдегидрогеназа почти равномерно
распространена по всему организму, что неудивительно, ведь этанол является
побочным продуктом различных физических процессов, поэтому большинству клеток
приходится так или иначе с ним сталкиваться. Этот фермент можно найти повсюду
и в нас, но в печени его непропорционально много, ведь именно туда в конечном
итоге попадает весь потреблённый нами алкоголь. 0,4% алкоголя в крови
считается смертельной концентрацией для взрослого человека. Тот, кто выживает,
имеет обычно больше алкогольдегидрогеназы в печени, а потому успевает
переработать его быстрее, чем приходит старуха с косой. Сегодня в среднем 10%
ферментов, содержащихся в печени, занимаются этанолом.
В общем, мы прекрасная пара: дрожжи помогли неолитическому земледельцу
выжить , снизив опасность подхватить инфекцию, передающуюся через сырую воду, мы
ответили им тем же, а они сделали наши напитки ещё крепче. Регулярно
появляются исследования, которые утверждают, что немного вина или пива полезно для
здоровья. Однако в целом алкоголь нынче обходится обществу дорого: в 2010
году он занял третье место среди факторов риска, погубив 4,9 млн. человек.
Экономические потери исчисляются сотнями миллиардов долларов.
В тех местах, где это продолжается в течение многих поколений, естественный
отбор начал склоняться в пользу адаптации, которая поощряет потреблять меньше
алкоголя. В детоксикации этанола, помимо алкогольдегидрогеназы, которая
превращает его в ацетальдегид, принимает участие ещё один фермент — альдегидде-
гидрогеназа, преобразующая ацетальдегид в ацетат. У некоторых народов
Восточной Азии, в том числе у большинства китайцев и японцев, ген альдегида не
работает как следует. Когда люди с этой версией гена употребляют алкоголь, они
пьянеют быстро, лица становятся красными, пульс учащается, и приходит
спасительная тошнота.
Эта генная мутация распространялась в ногу с техникой возделывания риса и
производства рисовой водки 7-10 тыс. лет назад. Едва ли такое совпадение
случайно. По-видимому, отбор был не только естественным, но и половым:
краснолицые выпивохи реже находили себе пару.
Так что же, наш роман с алкоголем через некоторое время закончится? В
какой-то мере да, но мы ещё слишком мало знаем, чтобы прогнозировать будущее с
уверенностью. Поэтому давайте просто поднимем бокал за дрожжи. Проклянём их и
благословим!
Разное
МИР ГЛАЗАМИ ЗООПСИХОЛОГОВ
Лабас Ю.А., Седлецкий И.В.
ВВЕДЕНИЕ
По мере развития цивилизации изменяются условия жизни людей, и
увеличивается убойная мощь их оружия. Эти прогрессивные изменения осуществляются
несравненно быстрее, чем эволюционирует информация, хранящаяся в генах человека и,
в частности, та ее часть, которая ответственна за врожденные программы
поведения — инстинкты. Особенно большие изменения в человеческое бытие внесла,
как известно, научно-техническая революция. Она началась всего-то около двух
с половиной веков тому назад, причем прогресс науки и техники идет в
самоубыстряющемся темпе.
Казалось бы, этому прогрессу следует только радоваться. Однако
прекраснодушным мечтам о поступательном развитии человечества от первобытного
варварства к высоким технологиям и гуманизму положили конец ужасы двух мировых войн
и тоталитарных режимов XX века, бездумная расточительность и духовное
оскудение потребительского общества, надвигающаяся угроза глобального
экологического кризиса, Чернобыль, все новые вооруженные конфликты и постоянный риск
ядерного Апокалипсиса.
Почему же прогресс науки и техники сыграл с людьми такую злую шутку? В
этом, прежде всего, виновата наша низкая мораль или, если сказать точнее, ее
полное несоответствие нашим современным условиям жизни, знаниям и интеллекту.
Беда в том, что даже самые просвещенные и умные люди, помимо своей воли,
пожизненно обречены оставаться рабами «греховных помыслов»: эмоциональных
порывов и вожделений, побуждающих к аморальным поступкам. Одни владеют собой
лучше, другие - хуже, третьи вообще не способны или не считают нужным «рассудку
страсти подчинять». Но это — только детали. Общее же состояние общества в
наши дни позволяет придти к следующему пессимистическому выводу.
Нечего надеяться, что исправление общественных отношений, гуманное
вероучение, хорошее воспитание и образование, высокий уровень жизни, бытовой
комфорт, рано или поздно улучшат саму природу людей: сделают всех благородными,
честными и добрыми, пусть даже заметных успехов в этом направлении все-таки
удается добиться в обществе, основанном на более или менее разумных началах.
Трагическое фиаско социальных утопий прошлого века в значительной мере
связано с тем, что тогда еще вообще не существовало эволюционно-генетического
подхода к психологии. А потому многим даже величайшим мыслителям казалось,
будто достаточно построить на развалинах старого «мира насилия»
коммунистическое «Царство разума», и человеческие пороки сами собой исчезнут. На всей
нашей планете воцарятся справедливость и искренность, взаимное
доброжелательство, братская любовь. За такую светлую мечту о земном рае заплатили своей
жизнью многие десятки миллионов наших дедов и отцов.
Между тем, коренным образом улучшить человеческую нравственность в
исторически обозримый срок — в принципе невозможно потому, что она, к величайшему
сожалению, имеет врожденную, заложенную в генах эмоциональную основу. Это в
равной мере относится и вообще ко всем эмоциям человека, поскольку
биологическая эволюция оперирует временами, несоизмеримыми с историческими периодами.
Ее временные масштабы — не какие-нибудь там десятки или сотни-тысячи, а сотни
тысяч и миллионы лет. В результате же, эмоциональные мотивы взаимоотношений
людей, их общественного поведения, и ныне, в наш ядерно-компьютерный век, все
еще остаются во многом такими же, каким были у австралопитеков — наших доче-
ловеческих двуногих предков, когда-то (2-3 миллиона лет тому назад) бродивших
стадами по африканской саванне.
Ученые считают, что по своему образу жизни человекообразные обезьяны-
австралопитеки мало чем отличались от остальных, так же «спустившихся с
дерева» стадных обезьян африканской саванны, например, от современных павианов.
Стадность наземным обезьянам необходима из-за того, что поодиночке или в
малой семейной группе они не в силах защитить себя от леопардов и других
крупных быстроногих хищников. В то же время взаимоотношения отдельных
индивидов в обезьяньей стае строятся на жестком иерархическом принципе.
Иерархический ранг устанавливается в конфликтах, стычках, подчас даже жестоких драках
между самцами. Сильные старшие властвуют и часто измываются над слабыми и
младшими отбирают у них пищу, самок. Вместе с тем, каждое стадо кормится на
вполне определенной территории, которую коллективно защищает от других
аналогичных стад.
Врожденная «обезьянья мораль» не особенно высока, поскольку эти родственные
нам животные не вооружены от природы такими орудиями смертоубийства как,
например, мощные клыки и когти стайных хищных зверей, куда бережливее чем люди
относящихся к своим собратьям по виду. С эволюционной точки зрения эта
разница вполне понятна. Ведь, скажем, волки, просто-напросто вымерли бы, истребив
друг друга, если бы дрались между собой так же безоглядно и яростно как
стадные обезьяны!
Тяжелое «обезьянье наследие» постоянно дает себя знать в таких неизлечимых
пороках и бичах человеческого общества как взаимная агрессивность,
завистливость и мстительность людей, их вечная борьба за власть и территорию — «место
под Солнцем», социальное неравенство, лизоблюдство и обожествление тиранов,
их черная неблагодарность, самодурство и мнительность, коллективная травля
«белых ворон» и этническая либо идеологическая вражда, война, легковерие и
беснования толп, разжигаемых демагогами, объединяющее действие общей мишени
ненависти — «образа врага» и разрушительные революционные взрывы.
Эволюционно-психологический подход полезен и при рассмотрении столь, на
первый взгляд, далеких от естествознания феноменов и проблем как альтруизм,
совесть, личная и политическая свобода, механизм восприятия произведений
искусства, происхождение собственности и государств разного типа.
Таким образом, несмотря на все необозримое богатство человеческого
внутреннего мира, современной наукой, бесспорно, доказано, что в нашей психике много
общего с животными: млекопитающими, птицами и т.д., в особенности же, с
обезьянами — представителями отряда приматов, к которому мы сами принадлежим.
Всякий знает: в поведении высших животных проявляются отнюдь не только
врожденные программы-инстинкты, но и последствия разного рода процессов
обучения-накопления и обобщения, переработки индивидуального опыта. К тому же,
хотя у животных отсутствует речь, у них имеются более или менее похожие на
человеческие врожденные способы выражения эмоций, а также, несомненно,
наличествует в его неречевой форме мышление, рассудочная деятельность. Не даром же,
общаясь с обезьяной, с собакой или с кошкой, с попугаем и т.д., мы запросто
понимаем друг друга в тех или иных пределах. Можем даже дружить.
А как же все-таки появилась духовная пропасть между людьми и «бессловесными
тварями», если многие врожденные программы поведения у нас с ними — сходные?
Все знают, что решающую роль сыграл здесь беспрецедентный в животном царстве
речевой способ общения и связанный с ним коллективный опыт, постоянно
обогащающийся от поколения к поколению.
Сама наша способность выучивать и понимать язык тоже, впрочем, врожденная.
Ею всецело определяется наличие у людей несравненно более высокого, чем у
любых животных, интеллекта - духовной жизни.
«В начале было слово...». Человек без информации, получаемой с детства
посредством речи - не человек. Как продукт общественного развития люди обрели
уникальную способность мыслить и действовать, видя себя как бы со стороны и
самокритически оценивая свои поступки. Эта самооценка постоянно удерживает
цивилизованных людей от действий, диктуемых животными инстинктами, но не
соответствующих нормам поведения, принятым в данной культурной среде.
Как известно, отдельные (во все века, увы, немногочисленные) волевые
личности, руководствуясь своими жизненными принципами, способны действовать
наперекор любым инстинктам, включая даже самые мощные из биологических мотиваций
поведения: страх смерти и стремление избавиться от физических страданий. И у
животных наблюдается альтруизм, но безотчетный. Рискуя жизнью при защите
потомства и т.п., они не размышляют о возможно фатальных для них последствиях
своих действий, продиктованных инстинктом. Поэтому такое человеческое
поведение как жертвенное служение идее, героические подвиги, совершаемые на трезвую
голову, вполне осознанно, а не в состоянии эффекта даже, если цель их
совершенно неразумна, все-таки не имеют полного аналога в животном царстве.
То же можно сказать и о взлетах человеческого духа, творческих озарениях,
даже, по всей вероятности, о сложно-сюжетных снах и о фантазии — этом мире
словно второй («виртуальной») реальности, рождаемой в мозгу. Для таких высших
проявлений свободы человеческого «Я» как добровольное восхождение на крест
или на костер, зоологические параллели, попросту говоря, непристойны.
Одним словом, в практически любом человеке, наряду с животным началом,
уживается еще и другое, духовное, неодинаково развитое у разных личностей. В
результате , наш внутренний мир по самой своей сути трагически противоречив. Что
именно представляет собой духовное, «надбиологическое» начало (чисто
человеческий «разум», «сознание», «душа»), наука, несмотря на все ее успехи, толком
ответить не может. Однако только в нем — источник последней надежды на выход
человечества из того тупика, в который оно само себя загнало к концу XX века.
ГЛАВА 1. ЭТОЛОГИЯ, ЭТОЛОГИ
И ЭТОТ «БЕЗУМНЫЙ» МИР.
1.1. В чем суть
учения этологов?
Мы постараемся ответить на этот вопрос предельно популярно и кратко.
Этолори не видят особой разницы между морфологическими признаками —
строением организма и врожденными формами его поведения. С какой стати, спрашивают
они, эти формы поведения должны быть пластичнее тех нервных морфологических
структур головного мозга, в которых заложены соответствующие программы?
Возьмем для аналогии компьютер. В нем — набор программ. Что в вызываемых файлах,
то и на дисплее. Почему бы это вдруг на дисплее будет разное, если в хранимой
записи одно и то же?
Врожденные формы поведения, в конечном счете, определяет переданная по
наследству морфология нервных связей и режимов работы отдельных нервных клеток.
В доказательство приводят многочисленные наблюдения за животными разных
видов в естественных условиях обитания и в экспериментах.
Инстинкт слеп. Реакция запущена — она и пошла. Ей «нет дела» до того, что
повод к ней отпал. Скажем, одиночная оса строит гнездо: сперва соты, над ними
— крышу. Экспериментатор «украл» соты из под носа осы, а она, знай себе,
строит крышу над пустым местом.
К тому же побуждение к инстинктивному акту постепенно нарастает под
влиянием сигналов из внутренних органов организма или в зависимости от длительности
своего неосуществления либо сезона, времени суток. В какой-то момент он может
быть запущен слабыми или несоответствующими раздражителями, а в конце концов
— даже вхолостую. Скажем, животное «сексуально озабочено». Самец ищет готовую
к соитию самку, а ее, как назло, поблизости нет. Начинаются, так сказать,
реакции «по ошибке» и все прочее, о чем в применении к человеку так любят
писать те противные журналы и газетки, которыми у нас сейчас, к сожалению, так
бойко торгуют в подземных переходах и метро.
То же самое с голодом. Если нечего есть из нормальной пищи, будут
предприниматься попытки скушать нечто все менее и менее съедобное. Начнут нарушаться
и инстинктивные запреты, например, на поедание детенышей своего же вида.
Прекрасный пример появления «ошибочных» реакций по мере нарастания разных
потребностей (мотиваций) обнаружен в поведении раков-отшельников, пресмешных
морских существ, которые прячут свою мягкую как у гусеницы заднюю половину
тела в пустую раковину улитки. Рак постоянно таскает с собой этот домик, а на
него сажает с помощью клешней своего верного союзника: сидячее животное
актинию, вооруженную стрекающими щупальцами. Замечено, что не в меру «сексуально
озабоченный» рак пытается совокупиться с... актинией, слишком сильно
проголодавшийся — пожирает ее, а лишившийся раковины-домика тщетно пытается
запрятать задик в актинию.
Что лежит в основе таких явлений? Очень часто — накопление в мозгу и крови
особых веществ — нейромедиаторов и гормонов — производимых специальными
клетками желез внутренней секреции и самого же головного мозга. Поэтому некоторые
из таких состояний можно простимулировать инъекцией соответствующих веществ,
что многократно и делали ученые в экспериментах на животных. Сам процесс
накопления таких веществ по мере нарастания той или иной потребности хорошо
доказан . Когда соответствующая потребность удовлетворяется, концентрация побуж-
дающего вещества в мозгу и крови резко падает. Кроме того, в зависимости от
мотивации меняется электрическая активность некоторых вполне определенных
центров мозга. Их можно раздражать электрическим током и тогда животное
начинает, например, проявлять непомерную половую возбудимость, дикий аппетит или
столь же неутолимую жажду.
Раз начавшись, инстинктивная реакция часто разыгрывается по принципу «все
или ничего». Это — нечто вроде пистолетного выстрела. Нажал на спуск, а
дальше уже все пошло «само собой»: от удара бойка взорвался пистон, от него,
детонировал порох в гильзе. Пороховые газы вытолкнули пулю из ствола.
Остановить этот процесс на полпути уже не просто.
Что завершает инстинктивную реакцию? Информация о том, что ее
запрограммированная цель достигнута: произошло извержение спермы, пища или питье
заполнили желудок, опорожнился мочевой пузырь.
В самом ходе инстинктивной реакции, характере ее осуществления у разных
видов могут быть свои специфические вариации. Им посвящено громадное число
работ . Для разных видов насекомых, рыб, птиц и млекопитающих подробнейшим
образом описаны типичные особенности осуществления отдельных инстинктивных актов.
Например, описан процесс ухаживания за самкой и откладки икры у рыбки —
трехиглой колюшки. Самец строит для икры специальное гнездо на водяных
растениях, а затем своего рода «танцем» завлекает туда самку. Самка откладывает
икру, а самец эту икру оплодотворяет, после чего прогоняет самку и
принимается охранять, а также вентилировать гнездо, помахивая плавниками. Завидев
другого самца, самец его атакует.
Вся эта последовательность стереотипна как мелодия на грампластинке.
Однако , весь процесс, как оказалось, вырубает конечная информация: вид икры в
гнезде. Если экспериментатор подсовывает неоплодотворенную икру в еще пустое
гнездо колюшки, самец тотчас прогоняет еще не отнерестовавшую самку и
принимается бессмысленно охранять гнездо с неоплодотворенной икрой!
А как узнаются самка, самец, икра и так далее?
Как выяснилось, даже рыбки, выращенные в полной изоляции, все это
распознают по внешнему виду, причем признаки для распознавания довольно грубы и
приблизительны. Рыбку можно обдурить разными подделками, о чем мы расскажем
несколько позже.
Врожденное узнавание, зрительное, по запаху, звукам и так далее, играет
громадную роль в поведении самых разных живых существ и даже, как оказалось,
человек не составляет в этом отношении исключения. Кое-что, правда немногое,
о том, как выглядят человеческая физиономия, «мама», «мужчина», «женщина»,
«страшилище»-чужак; как отыскать мамину грудь и так далее мы знаем без
всякого обучения уже от рождения. Даже улыбку или насупленное выражение лица
младенец без обучения распознает на картинках типа: «точка, точка, запятая,
минус — рожица кривая».
У птиц по части врожденного узнавания — чудеса. Некоторые без научения
узнают даже вполне определенные созвездия на ночном небе или в планетарии,
когда приходит пора лететь на юг и надо ночью определять направление полета.
Маленькие ракообразные животные бокоплавы с учетом фаз Луны умудряются по
ее положению определять направление, в котором надо прыгать по влажному песку
во время отлива, чтобы добраться до воды. Днем они точно также умеют
ориентироваться по Солнцу.
«Хорошо яичко к пасхальному дню». Эта поговорка вполне применима к
инстинктам. Птицы, ориентирующиеся по звездам во время осеннего перелета,
вглядываются в звезды только осенью. Интерес к особям другого пола и стремление к
соитию появляются лишь когда в крови и мозгу накапливаются половые гормоны,
во вполне определенный сезон. При наличии мотивации животное начинает искать
то, что нужно, чтобы от нее избавиться. Голод побуждает к поискам пищи. Поло-
вое влечение стимулирует активный поиск брачной пары.
Поисковое поведение очень сложно. Вот в нем как раз много нестереотипного,
оригинального, громадную роль играет обучение, индивидуальный опыт. Все виды
творческой деятельности происходят тоже от поискового поведения. Слышали
стишок А. Заходера?
У червяка спросил чудак:
Чего ты ползаешь, дурак?
А я не просто ползаю,
А непременно с пользою.
Грустно, но факт: даже у наших самых возвышенных творческих порывов и
поисков всегда есть прячущаяся где-то глубоко в подсознании мотивационная, то
есть инстинктивная подоплека. Словами есенинского «Черного человека»:
Ах, люблю я поэтов!
Забавный народ
В них всегда нахожу я
Историю, сердцу знакомую, -
Как прыщавой курсистке
Длинноволосый урод
Говорит о мирах,
Половой истекая истомою...
Простите, дорогие читатели, за эту неаппетитную цитату из творения большого
поэта. В ней, конечно, явный перебор, но доля истины, разумеется, есть. И не
будем упускать из виду, что скрытым мотивом творчества, по-видимому, является
не какой-то один инстинкт — например, половой, как утверждают некоторые
слишком рьяные последователи 3. Фрейда, — а сложный комплекс разных мотиваций. Об
этом мы еще поговорим.
В процессе поиска его цель: раздражители, запускающие инстинктивную
реакцию . Напомним еще раз: в отличие от поискового поведения, она стереотипна и
более специфична для разных видов. Специфична и та информация, которая ее
запускает : в мозгу работает как бы фильтр, отсеивающий все несущественное.
Пусковая информация словно ключ, отпирающий определенный замок. Здесь к месту
английский детский стишок:
— Где ты была сегодня, киска?
— У королевы, у английской.
— А что видала при дворе?
— Видала мышку на ковре.
Инстинктивное поведение как бы созревает в процессе индивидуального
развития, но существенным образом не изменяется в результате обучения, в отличие
от стратегий поиска.
К примеру, до достижения зрелости животное «не обременяет себя» проблемами
секса и не проявляет к ним ни малейшего интереса. Однако бывает, что
соответствующие нервные механизмы уже созрели. Дело только за накоплением в мозгу
соответствующих гормонов. Так, если только что вылупившемуся из яйца
индюшонку инъецируют мужской половой гормон тестостерон, это покрытое пухом
крохотное существо тут же начинает преследовать взрослых индюшек и пытаться с ними
спариваться.
Очень большое внимание этологи уделяют сигналам социального характера, так
называемым социальным релизерам. Дело в том, что эти сигналы произошли от
разного рода движений, например, хватательных, связанных с бегством, полетом,
но давным-давно утратили всякий смысл, кроме сигнального. Такова, в частно-
сти, вся наша мимика. Она выражает многие чувства, передает общающимся с нами
обширную информацию.
У некоторых птиц, например, у разных видов уток, изучены многие десятки ри-
туализованных сигнальных движений и, что характерно, у каждого вида они свои.
Другой вид утки может их не понять или понять совершенно превратно. То же
самое — у разных рыб (например, очень хорошо исследованы разные виды
аквариумных рыб-цихлид), ракообразных, насекомых и так далее, и так далее. Особенно
тщательно изучены пчелы. У них есть набор жестовых сигналов о расстоянии,
направлении и цели полета пчелы-разведчицы: так называемый «язык», за
расшифровку которого, как мы уже говорили, Карл фон Фриш получил Нобелевскую
премию.
Интересно, что очень многие ритуализованные сигналы произошли от так
называемых перемещений активности: бессмысленных движений, возникающих при сшибке
разных побуждений, например, к броску вперед на врага и к бегству. У нас из
такого рода движений хорошо известны почесывание затылка в состоянии
растерянности, поднятие вверх бровей, пожатие плечами.
Описаны длинные «диалоги», осуществляемые у разных животных при посредстве
обмена различными ритуализованными выразительными движениями. Например, такой
«диалог» между самцом и самкой предшествует всегда соитию у птиц и у рыб,
причем у каждого вида он свой и прочим видам непонятен, полностью или
частично. И у нас, если разобраться по существу, тоже не без такого диалога: тут и
поцелуи, и улыбки, и многое другое. Не будем отбивать хлеб у сексологов.
Этологи пишут при этом о демонстративном характере многих движений и о том, что,
несмотря на видовые различия, у близкородственных видов все-таки в подобного
рода «диалогах» всегда есть много общего.
Что вообще характерно для ритуализованных демонстративных движений? Для их
понимания без обучения существуют особые генетически закрепленные программы,
своего рода врожденная предварительная «договоренность» между посылающим и
принимающим сообщение, будь то движение, звук или определенный запаховый
сигнал, как то часто бывает у насекомых.
И в обучении, о котором так много было известно уже до этологов, они
обнаружили его особую разновидность: раннее запечатлевание, по-английски «имприн-
тинг». Выяснилось, что кое-какая информация прочно запоминается животными
вскоре после рождения, во вполне определенный период индивидуального
развития, а потом уже необратимо «сидит в мозгу» и не поддается переделке.
Мы об этом еще расскажем весьма подробно.
Наконец, последнее, о чем мы сейчас сообщим, рассказывая об этологах.
Учеными этого направления убедительнейшим образом доказано, что агрессия —
инстинктивное поведение со своей вполне определенной мотивацией. Это означает,
что существует и особая потребность в отыскании предлогов для агрессии. Такие
предлоги разные живые существа, включая и нас, ищут точно так же, как ищут
еду, питье, особь другого пола. Роли агрессии в человеческом обществе
посвящена значительная часть этой публикации.
1.2. Обезьяньи процессы
Казалось бы, какое дело политикам до науки о поведении животных? Этологией
можно с равным успехом заниматься при любом государственном строе.
Огорчительное заблуждение! Ограничимся несколькими примерами.
1. В начале этого века в Берлине на тихой улочке Грибенофштрассе что ни
день толпились титулованные особы, иностранные туристы и ученые психологи.
Всем хотелось хоть одним глазком взглянуть на широко разрекламированных в
прессе «говорящих лошадей», явных предшественников Полиграфа Полиграфовича
Шарикова из «Собачьего сердца». Лошадей дрессировал чудаковатый старец фон
Остен, отставной кавалерийский офицер, который, надо отдать справедливость,
четырнадцать лет скрывал от всех свои эксперименты и, судя по рассказам
современников , вовсе не стремился к саморекламе.
С упорством маньяка он пытался доказать, что психическая пропасть между
людьми и животными — фикция. При надлежащем педагогическом подходе и лошадь,
и собаку можно обучить всему тому, что знает немецкий школьник в младших
классах или, Бог весть, может, и того более? С такими-то идеями он взялся
преподавать лошадям понимание устной речи и чтение, арифметику и другие
школьные предметы. Обучение шло приблизительно так. При лошади произносили
какую-либо одну букву алфавита, тут же показывая ее на грифельной доске, и
одновременно обучали животное бить копытом по помосту определенное число раз.
За правильный ответ кормили. Потом учили словам, числам и так далее.
В конце концов, Умный Ганс и другие воспитанники фон Остена, а после его
смерти (1909) — продолжателя этого дела Карла Краля в Эльберфельде дошли до
такой премудрости, что, будто бы, могли в уме возводить в степень большие
числа и извлекать из них квадратный либо даже кубический и так далее корень,
а также отвечали на многие другие вопросы восхищенных посетителей, стуча
копытами .
— Ганс , что ты видел на лугу?
— Милую госпожу Краль, которая меня кормила.
Разгорелась научная дискуссия. Некоторые ученые, посетившие чудо-лошадей, в
том числе студентка Московских высших женских курсов Надежда Николаевна Лоды-
гина-Котс (1889-1963) , в будущем крупнейший советский специалист по поведению
обезьян, писали о новой эре в психологии. Некий революционно мыслящий автор
восклицал:
— Раньше реакционеры утверждали, что дети низших сословий органически
неспособны получить образование... Теперь точно так же огульно в этой способности
отказывают животным!
Немецкое министерство просвещения прислало комиссию: а вдруг для лошадей
придется теперь открыть средние школы? В дискуссию ввязался даже германский
кайзер Вильгельм II. Он заявил:
— Достоверность опытов фон Остена и Краля не вызывает сомнений, поскольку
немецкий кавалерийский офицер не может лгать.
Тем не менее, подавляющее большинство тогдашних немецких и других ученых
постепенно пришли к заключению, что прорыва в новые сферы психологической
науки все-таки не произошло. Лошади просто-напросто начинают и перестают
стучать копытом, реагируя на какие-то едва уловимые поощряющие или, напротив,
неодобрительные движения дрессировщиков, предумышленные или даже, возможно,
непроизвольные. Дело, таким образом, сводится к обыкновенной дрессировке.
Какой-то налет неразгаданной тайны на всей этой забавной истории так,
однако, и сохранился по сей день... Она долго служила темой салонных разговоров,
породила многочисленные газетные статьи и анекдоты, в частности, английские.
На улице к прохожему подошла лошадь.
— Сэр, я — говорящая лошадь герцога Беррийского. Не затруднит ли вас
сказать , где здесь ближайший водопой?
Человек еще не успел ответить ей, как к нему обратился другой прохожий:
— Сэр, не верьте ей. Она лжет. Она вовсе не лошадь герцога Беррийского, а
самая обыкновенная говорящая лошадь.
2. 1943 год. Кенигсбергский университет вступил в свое трехсотлетие. На
кафедре философии, той самой, которую некогда возглавлял Иммануил Кант, новый
профессор, уже нам знакомый зоопсихолог Конрад Лоренц, австриец, но, между
прочим, с 1940 года кандидат в члены НСДАЛ — нацистской партии. Лекция о вы-
разительных движениях обезьян, известной работе Дарвина об общности этих
движений у животных и человека. В частности, профессор рассказывает о том, что
разгневанные горные гориллы бьют себя в грудь своим здоровенным кулачищем так
сильно, что гулкие удары слышны издалека, разносятся по всему лесу.
Лекция закончилась. Студенты высыпали в коридор, и вдруг кто-то прячет
улыбку или силится не улыбаться, а кто и хохочет в голос. На плакате фюрер
бьет себя в грудь кулаком точь-в-точь как горная горилла!
Разумеется, последовал донос. Профессора арестовали. Допрос в Гестапо
показал: этот чудак ничего плохого не имел в виду. Оставить такого не от мира
сего болтуна на кафедре сочли, однако, невозможным. Не посчитавшись с
возрастом, уже не призывным — сорок лет — и профессорским званием, Лоренца забрили
в солдаты и послали на уже трещавший Восточный фронт. Там, по его словам, он
сделал карьеру, достойную Наполеона: ротный санитар — солдат — полковой
психиатр... А потом произвели уже несмотря на звание младшего лейтенанта в
дивизионные психиатры, да толку было мало. Сумасшедших к тому времени стало так
много, что лечение просто потеряло смысл.
Позже, Лоренц вспоминал те дни в Белоруссии как какой-то дурной сон.
Бежали , драпали, вырывались из русских котлов. Шли на Запад. Не было сапог, но в
кармане зато был компас. Двадцать восьмого июня 1944 года заночевали в
моховом болоте под Витебском. Разбудили русские автоматчики. Назвался младшим
лейтенантом второй санитарной роты двести шестой пехотной дивизии. В этом
качестве этапировали в жуткий лагерь военнопленных под Кировом, а оттуда на
достаточно долгий срок в Халтурин, где лечебной работы было хоть отбавляй.
Несмотря на это, именно там была написана замечательная книга «За зеркалом».
Сам факт ее написания в таких условиях и то, что после долгих перипетий она
таки дошла до читателей — поразительное подтверждение того, что рукописи не
горят. Затем Лоренца после недолгой остановки в Баку, отправили в Армению, а
из нее, учитывая его антифашистские взгляды и неожиданно для него самого, в
привилегированный подмосковный лагерь в Красногорске.
О том, когда и как появились такие взгляды — чуть позже. А пока суд да
дело, «пленный антифашист Конрад Лоренц» написал письмо из лагеря известному
русскому коллеге академику Леону Абгаровичу Орбели в Ленинград, человеку в то
время с генеральскими погонами. Каким-то чудом письмо дошло, и Орбели
отреагировал . По его ходатайству основатель науки этологии, будущий Нобелевский
лауреат в конце 1947 года был освобожден досрочно.
В поезде Москва-Киев-Вена ехал оборванный репатриант, все имущество
которого состояло из сплетенной из прутиков самодельной клетки с ручным скворцом. В
таком-то виде Лоренц вскоре появился на квартире своего венского друга Карла
фон Фриша, а оттуда направился в отчий дом в Альтенберге под Веной. Потом
злые языки говорили, что в Кировском лагере Лоренц уцелел якобы потому, что,
в отличие от прочих пленных, бесстрашно ел мух, тараканов и других кишевших
там насекомых. Прочие пленные мерли от голода, но разделить его трапезу не
решались. А больше всех повезло в этой истории Л.А. Орбели. Когда его громили
на Павловской Сессии 1950 года, этот страшный грех — участие в судьбе
основателя «лженауки этологии» К. Лоренца — никто ему за неведением не припомнил.
Иначе бы, уж точно, не сносить ему головы.
3. В июле 1925 года в Дейтоне (США, Тенесси) гремел обезьяний процесс.
Судили школьного учителя биологии Д. Скопса. «Преступление» его состояло в том,
что он развращал умы американских школьников, излагая им «богохульное» учение
Ч. Дарвина и, в частности, осмелился утверждать, будто люди произошли от
обезьян, а не созданы вместе с другими божьими тварями, Землей, Солнцем,
звездами и галактиками около семи с половиной тысяч лет назад на шестой день
творения. Общественным обвинителем был один из лидеров демократической партии
У. Брайан. Учителя приговорили к большому денежному штрафу, причем ученых,
которых пригласила защита, не допустили на процесс.
Многие влиятельные люди в Америке тех лет были убеждены, что дарвинизм и
большевизм — одно и то же. Советская пресса торжествовала: Вот она хваленая
буржуазная демократия! Мракобесие! Царство тьмы! Поповщина!
У нас в стране в те годы выгоняли за рубеж или отстреливали как рябчиков
нежелательных гуманитариев: вышвырнули большую группу философов-идеалистов, в
том числе и Бердяева, расстреляли за участие в несуществующем заговоре поэта
Н. Гумилева, но к знаменитым естественникам, натуралистам относились с явным
почтением.
Двадцать пятого июня 1920 года Ленин писал в Смольный Зиновьеву:
Знаменитый физиолог Павлов просится за границу. Отпустить Павлова вряд ли
рационально, так как он и раньше высказывался в том смысле, что, будучи
правдивым человеком, не может в случае соответственных разговоров, не высказаться
против советской власти и коммунизма в России. Ввиду этого желательно было
бы, в виде исключения, предоставить ему сверхнормальный паек.
В одном, как видно, вожди революции ни на секунду не сомневались: за
сверхнормальный паек любой буржуазный интеллигент, пусть он хоть тысячу раз будет
великим ученым, конечно уж, согласится попридержать язык за зубами или даже
поменять на сто восемьдесят градусов свои убеждения! Пожалуй, эту точку
зрения отчасти подтвердил дальнейший путь развития нашей науки. Однако тогда
времена еще были для естественников довольно идиллическими. Творили корифеи,
а Т.Д. Лысенко, И.И. Презент и компания еще никому не были известны.
4. С начала тридцатых годов ситуация явно начала меняться к худшему. Везде
и всюду требовались классовый подход и немедленные практические результаты.
Все мало-мальски непонятное полуграмотным вождям объявляли идеализмом и
антинаукой . Уже появилось «табу» на 3. Фрейда, а также многих других западных
психологов. Начались первые наскоки на генетику. Вот, например, какой
уморительный диалог в лицах, воспроизводя интонацию, как-то пересказала Ю.А. Лаба-
су уже упомянутая профессор Н.Н. Ладыгина-Коте.
В 1939 году ее вызвали повесткой в НКВД и начали расспрашивать о ее коллеге
профессоре Н.Ю. Войтонисе.
— Хороший специалист, — сказала она.
— А известно ли вам, — спросил следователь, — что этот ваш «специалист»
написал злобный антисоветский пасквиль? — С этими словами он сунул прямо в лицо
Надежде Николаевне недавно появившийся труд Войтониса «Господство и
подчинение в стае павианов».
— Помилуйте, - удивилась Лодыгина-Коте, — это же научная работа.
— Какая уж научная, — прошипел следователь, — ведь у павианов нет
классового общества, нет политической борьбы, а, значит, не может быть и нет
господства и подчинения. Это все не о павианах, а о советских людях!
— Но ведь у нас социализм, а, следовательно, ликвидированы эксплуататорские
классы, — не сдавалась она.
— Не валяйте дурочку, — заорал взбешенный следователь. — Разве вам не
известно, что, как показал великий Сталин, озверелое сопротивление остатков
эксплуататорских классов непрерывно усиливается по мере нашего перехода в
светлое коммунистическое завтра? Или, может быть, вы считаете, что мы,
чекисты, зря едим народный хлеб?
Тут уж профессор не на шутку испугалась.
— Что же вы посоветуете делать, — робко спросила она, — если о господстве и
подчинении у павианов и других животных писали многие ученые, а не только
Войтонис. Об этом явлении писали еще до революции и пишут сейчас за рубежом.
— Да, — покачал головой товарищ следователь, — еще Ильич правильно указы-
вал, что ваша ученая братия ни черта не смыслит в марксистской философии.
Чтобы не было неприятностей впредь, рекомендую не пользоваться применимыми
только к людям понятиями «господство и подчинение». Когда пишете о животных,
употребляйте вместо того, к примеру, «согосподство и соподчинение», чтобы не
путалось с людьми.
Так с тех пор и пой сей день все советские зоопсихологи и этологи, знай
себе, пишут согосподство и соподчинение, хотя о происхождении этих «научных»
терминов и не подозревают, просто позаимствовали их у Ладыгиной-Коте.
Тогда еще худо-бедно обошлось, а после войны поведенческие науки у нас
вообще запретили вместе с другими «лженауками, платными девками американского
империализма» — генетикой и кибернетикой.
5. Четвертого июля 1950 года состоялась Научная сессия АН СССР и АМН СССР,
посвященная проблемам физиологического учения академика И.П. Павлова. На ней
одни ученые выступали как доносчики-обличители. Другие униженно молили о
пощаде, поливая грязью собственные научные труды, а заодно и своих учеников,
якобы совративших учителя с пути истинного (были и такие!). «Идея», с
позволения сказать форума, сводилась к одному: нету Бога, кроме величайшего гения
всех времен и народов товарища Сталина, а пророк его во всех областях
физиологии, психологии и медицинских наук — умерший в 1936 году академик И.П.
Павлов (который, кстати, будь он жив, конечно, открестился бы от этакой чести,
ибо, действительно, верил в Бога, не переваривал большевиков, о чем мы еще
порасскажем, а, главное, не страдал недооценкой собственной личности, но все-
таки был далек от самообожествления). Посему предали анафеме и запретили
любые направления, кроме одного: изучения павловских условных рефлексов. Вот
что, к примеру, говорил на сессии тогдашний президент АН СССР академик С.
Вавилов, родной брат загубленного Николая:
«Павловская материалистическая прямолинейность оказалась не всегда и не
всем по силам... Впору бить тревогу... Наш народ и все передовое человечество не
простят нам, если мы не используем должным образом павловского наследия... Нет
сомнения, что возвращение на верную павловскую дорогу сделает физиологию
наиболее действенной, наиболее полезной для нашего народа, наиболее достойной
сталинской эпохи строительства коммунизма.»
Любой интерес к проблемам врожденного и приобретенного поведения животных
и, тем более, человека сделался после павловской сессии почти таким же
опасным занятием как антисоветская пропаганда. Само слово «этология» можно было
произносить, разве что, в сочетании с несколькими бранными словами, а, того
лучше, вообще забыть.
Полагаем, ни в каких комментариях не нуждается нижеследующий текст
обращения участников Сессии к товарищу Сталину, цитируемый нами с небольшими
сокращениями .
Дорогой Иосиф Виссарионович!
Участники научной сессии Академии наук СССР и Академии медицинских наук
СССР, посвященной проблемам физиологического учения И.П. Павлова, шлют вам,
корифею науки, гениальному вождю и учителю героической партии большевиков,
советского народа и всего прогрессивного человечества, знаменосцу мира,
демократии и социализма, борцу за счастье трудящихся во всем мире, свой горячий
привет. Настоящая научная сессия войдет в историю передовой науки как начало
новой эпохи и развития физиологии и медицины, который призваны беречь и
укреплять здоровье трудящихся, служить делу построения коммунизма в нашей стране.
Мы все с глубокой радостью отмечаем, что сессия происходит в обстановке
небывалого общего подъема науки в СССР, связанного с неуклонным ростом могущества
нашей Родины, с дальнейшим улучшением жизни советских людей, с Вашей
неутомимой титанической деятельностью.
Благодаря повседневным заботам большевистской партии, Советского
правительства и лично Вашей, товарищ Сталин, наука в СССР переживает бурное развитие,
обогащается все новыми открытиями и достижениями.
Вы, товарищ Сталин, продолжая великое дело Ленина, обеспечиваете науке
большевистскую идейность, оказываете громадную поддержку всему передовому,
прогрессивному в науке.
Великий Ленин и Вы, дорогой товарищ Сталин, оказали неоценимую помощь
работам И. П. Павлова, создали все необходимые условия для творческого развития
его физиологического учения.
Как корифей науки, Вы создаете труды, равных которым не знает история
передовой науки. Ваша работа «Относительно марксизма в языкознании» — образец
подлинного научного творчества, великий пример того, как нужно развивать и
двигать вперед науку. Эта работа совершила переворот в языкознании, открыла
новую эру для всей советской науки...
Вы, товарищ Сталин, поднимаете и творчески решаете самые насущные вопросы
марксистко-ленинской теории, мощным светом своего гения озаряете путь к
коммунизму .
Вместе со всем советским народом мы горды и бесконечно счастливы, что Вы,
дорогой Иосиф Виссарионович, стоите во главе мирового прогресса, во главе
передовой науки.
Вы, товарищ Сталин, постоянно учите нас не останавливаться на достигнутом.
Следуя Вашему великому примеру и Вашим указаниям, мы отдаем себе полный
отчет, что учение И.П. Павлова не застывшая догма, а научная основа для
творческого развития физиологии, медицины и психологии, рационального питания,
физической культуры и курортного дела, направленного на укрепление здоровья
советского человека...
Мы обещаем вам, дорогой товарищ Сталин, приложить все усилия для быстрейшей
ликвидации недостатков в развитии павловского учения и всемерно используем
его в интересах строительства коммунизма в нашей стране.
Да здравствует наш любимый учитель и вождь, слава всего трудящегося
человечества, гордость и знамя передовой науки — Великий Сталин!
Американский ученый Лорен Грехем в своей книге, посвященной истории
естествознания в СССР пишет, что Павловская сессия (наряду с позорной Сессией ВАСХ-
НИЛ 1948 года, той, на которой громили генетику) вписала в эту историю одну
из самых мрачных страниц.
Как известно, гонения на кибернетику, а затем генетику постепенно ослабли у
нас после XX-XXII съездов КПСС. Однако, этологии повезло меньше. Рецидивы
налицо : этологи не имеют ни одной академической кафедры в университетах стран
СНГ. Недоброжелательное отношение официального научного руководства,
несомненно , сохраняется в нашем отечестве и по сей день. Удивительного в этом
мало . Слишком уж очевидно, подчас, смешное сходство между поведением человека и
других животных. Это сходство, если многие начнут чуть-чуть разбираться в
этологии, может поставить сильных мира сего в пикантное положение «раздетого
на сцене».
— Нет такой науки, — твердят и сегодня многие наши генералы от биологии,
те, в чьих руках находятся реальные рычаги по исправлению этологической
неграмотности , хотя бы среди студентов биологических факультетов.
Как-то в 1991 году в одном московском биологическом институте читал лекцию
председатель американского «Общества креационистов» (от creation — творение)
— ученых, верящих, что все живые существа не эволюционировали постепенно, а
созданы из ничего за короткий срок в соответствии с буквально понятой
библейской версией. Лекция началась с демонстрации слайдов. На первом была
изображена комната со множеством мебели. Отец семейства, восседая за столом,
спрашивал домочадцев:
— Как вы полагаете, эта мебель создана Творцом или возникла путем
естественного отбора?
На втором слайде оказалась фотография отпечатка на сланце археоптерикса —
вымершей птицы с рядом характерных признаков пресмыкающихся животных, жившей
около ста пятидесяти миллионов лет назад в юрском периоде мезозойской эры.
Лектор кричал:
— Дарвинисты — лжецы! Как этот допотопный урод мог быть предком современных
птиц и переходной формой, если их окаменелые останки обнаружены в еще более
древних слоях?!
Этаким аргументом можно доказать, что и белые жители Америки там и
зародились , а не являются потомками европейцев. Ведь в Европе до сих пор живут
англичане , испанцы и португальцы!?
А тут уже (август 1993) и по «Радио России» зазвучали призывы отменить
преподавание дарвинизма в средней школе, поскольку эволюция Вселенной, Земли и
жизни на ней — не более чем сенсационная выдумка, опровергнутая, оказывается,
всей современной мировой наукой. Так-то вот. Дожили.
Обезьяньим процессам несть конца. Как уж не вспомнить по этому поводу
великого нашего баснописца И.А. Крылова: Мартышка в зеркале увидя образ свой...
1.3. Пророк в
своем отечестве
У нас в стране за всю ее историю, начиная с появления Нобелевских премий,
их удостоились только два биолога: Иван Петрович Павлов в 1904 году (премия
по физиологии и медицине за новые методы изучения работы пищеварительной
системы) и Илья Ильич Мечников (1845-1916) — в 1908 году (за открытие
фагоцитоза) . Ивану Петровичу довелось прожить довольно длительный срок при
большевиках.
За этот срок ему удалось добиться громадных успехов в изучении высшей
нервной деятельности животных. Была показана универсальность принципа условных
рефлексов как одной из форм обучения. В те годы, когда их открыли,
естественно, казалось, что это единственная форма удержания в мозгу информации,
поскольку сами представления о его устройстве принципиально отличались от
теперешних .
После того, как ученым стало ясно, что психические процессы протекают в
головном мозгу, его в каждом веке уподобляли самым сложным техническим
устройствам данного времени. Р. Декарт (1596-1650) усмотрел в нем аналогию с
простейшим механическим или гидравлическим автоматом. Павлову, а также его
современникам, английскому физиологу Ч. Шеррингтону (1856-1952) и испанскому
нейрогистологу С. Рамону-и-Кахалю (1852-1934) виделась аналогия с
автоматической телефонной станцией. В наши дни мозг уподобляют системе сложных
компьютеров, в частности, новых их моделей с так называемой виртуальной
действительностью, но и эта аналогия по ряду причин не проходит.
Ведь в компьютерах циркулирует и обрабатывается только информация,
передаваемая электрическими импульсами. В мозгу же психические процессы сопряжены
со сложными феноменами обмена веществ и энергии, как то подчеркивает
современный биолог член корреспондент РАН Л.М. Чайлахян. Главное же, как нам
кажется: исторический опыт свидетельствует о том, что все попытки проводить
аналогию между мозгом и техническими устройствами со временем воспринимаются
как очень наивные. Это одно позволяет опасаться, что и нынешние компьютерные
модели скоро признают несостоятельными. По сформулированной уже после смерти
Павлова так называемой теореме Геделя:
Ни одна система не может, как бы выскочив за собственные рамки, познать,
объяснить, понять саму себя.
В связи с тем теперешние ученые в этом отношении далеко не так оптимистичны
как Павлов и его современники. Не будем, конечно, за то осуждать ни тех, ни
других.
Разумеется, Павлов не был этологом, да и не мог им быть: этология как
особая наука только начала зарождаться в последние годы его жизни. Зоопсихологов
же он, будучи очень строгим экспериментатором, но отнюдь не толкователем
естественного поведения животных в природе, даже и за ученых-то не считал, о
чем неоднократно и без всяких обиняков высказывался. Дескать, «описатели»,
«балаболки».
В то же время, что бы там ни говорилось, И.П. Павлов внес громадный вклад в
развитие современной науки о поведении животных и человека. В том, что наши
власти через четырнадцать лет после смерти Ивана Петровича попытались
превратить его в идола, классика марксизма-ленинизма от биологии, личной вины
великого физиолога, конечно, нет. Институты имени И. П. Павлова есть не только у
нас, но и в западных странах.
При жизни Ивана Петровича советские власти, в общем, относились к нему с
большим почтением. Революция застала его в должности заведующего кафедрой
физиологии Петербургской Военно-хирургической академии и, одновременно,
руководителя физиологической лаборатории Института экспериментальной медицины. В
1925 году он возглавил Ленинградский институт физиологии, при котором в 1926
году основал всемирно известную биологическую станцию в селе Колтуши.
Внешне, не в пример многим, жизнь Ивана Петровича, таким образом,
складывалась при большевиках весьма благополучно. Чины и звания так и сыпались как из
рога изобилия, эксперименты получали вполне по тем временам приличную
финансовую поддержку государства. Были многочисленные ученики. Из-за рубежа
наведывались коллеги и друзья. Казалось бы, чего уж жаловаться? Радуйся и
благодари предержащую власть. Но вот тут одна беда. Не того сорта человеком был
Павлов! Помните, выше цитировалось письмо Ленина Зиновьеву? Вождь революции
отметил, что Павлов — правдивый человек, ссылаясь на высказывания самого же
Ивана Петровича.
Да, это было именно так. Во всем, и в высказываниях, и в поведении Павлов
не платил взаимностью советскому режиму. С первых же дней революции он
упорствовал в своем неприятии новой действительности. Это проявлялось буквально
во всем.
Часто вспоминают, что Павлов демонстративно крестился, проходя мимо
церквей, чтил православные престольные праздники, вообще был верующим человеком,
хотя, иной раз, мог поразить собеседника крайним материализмом своих
воззрений на работу мозга. Что там было всерьез, а что — фрондой, своего рода
игрой, — трудно сейчас сказать. Иван Петрович был нетерпим, вспыльчив,
взрывался иногда по пустякам, но, в основном, был очень справедлив и умел
извиняться , когда бывал не прав. Он органически не переваривал подхалимов и
партаппаратчиков, внедренных в научную среду, соглядатаев, сплетников, стукачей и
никогда этого не скрывал.
Однако, многие его письма и высказывания, в которых проявилось поразительно
глубокое понимание нашей действительности тридцатых годов и будущего страны,
стали известны только сейчас. Многие годы из официальных изданий все это
тщательно устранялось. Поэтому позволим себе процитировать некоторые материалы
из недавно изданного сборника «Своевременные мысли или пророки в своем
отечестве» Лениздат 1989 г. После всего, нами рассказанного о Павловской сессии
1950 года, это все звучит особенно удивительно.
Шестого октября 1935 года, за год до смерти, Павлов направил позже
расстрелянному Н. Бухарину письмо с личной просьбой. В Ростове-на-Дону жили две
вдовы-старушки — сестры его жены — бывшая мелкая помещица и бывшая жена
городского головы. Обе они были иждивенками, жили в страшной нужде, и их единст-
венную кормилицу, дочь одной из них, арестовало ГПУ... Ручаюсь головой, пусть
арестуют меня самого, если я оказался бы не прав — так кончается письмо, — за
ничто. Это или низкий донос как какого-либо шкурника, или теперь применяемое
государственное вымогательство ценностей, которых в данном случае нет и нет.
Помогите, если можете. В отрицательном случае сообщите об этом. Я напишу в
Совнарком. Боже мой, как тяжело теперь сколько-нибудь порядочному человеку
жить в Вашем социалистическом Раю. Тут не родственные связи, а обязательность
порядочности вмешаться, раз в этом случае знаешь все доподлинно; как оно есть
— вопиющее попрание человеческого достоинства и издевательство над
человеческой судьбой?
Бухарин добился освобождения женщины, помог.
А через три недели после убийства СМ. Кирова, двадцать первого декабря
1934 г. И.П. Павлов писал в Совет Народных Комиссаров СССР:
«Революция застала меня почти в семьдесят лет. А в меня засело какое-то
твердое убеждение, что срок дельной человеческой жизни именно семьдесят лет.
И поэтому я смело и открыто критиковал революцию. Я говорил себе: «Черт с
ними ! Пусть расстреляют. Все равно жизнь кончена, а я сделал то, что требовало
от меня мое достоинство». На меня поэтому не действовало ни приглашение в
старую Чеку, правда кончившиеся ничем, ни угрозы при Зиновьеве в здешней
«Правде» по поводу одного моего публичного чтения: «Можно ведь и ушибить».
Теперь дело доказало, что я неверно судил о моей работоспособности. И
сейчас, хотя раньше часто об выезде из отечества подумывал и даже иногда
заявлял, я решительно не могу расстаться с родиной и прервать здешнюю работу,
которую считаю очень важной, способной хорошо послужить не только репутации
русской науки, но и толкнуть вперед человеческую мысль вообще. Но мне тяжело,
по временам очень тяжело жить здесь — и это есть причина моего письма в
Совет.
Вы напрасно верите в мировую революцию. Я не могу без улыбки смотреть на
плакаты: «Да здравствует мировая социалистическая революция, да здравствует
мировой Октябрь!» Вы сеете по культурному миру не революцию, а с огромным
успехом фашизм. До вашей революции фашизма не было. Ведь только политическим
младенцам Временного правительства было мало даже двух Ваших репетиций перед
Вашим Октябрьским торжеством.
Все остальные правительства вовсе не желают видеть у себя то, что было и
есть у нас, и, конечно, вовремя догадаются применить для предупреждения этого
то, чем пользовались и пользуетесь Вы, — террор и насилие. Разве это не видно
всякому зрячему?
Сколько раз в Ваших газетах о других странах писалось: «Час настал, час
пробил», а дело кончалось лишь новым фашизмом то там, то сям. Да, под Вашим
косвенным влиянием фашизм постепенно охватит весь культурный мир, исключая
могучий Англо-саксонский отдел (Англию, наверное, Соединенные Штаты,
вероятно) , который воплотит-таки в жизнь ядро социализма: лозунг — труд как первую
обязанность и главное достоинство человека и как основу человеческих
отношений, обеспечивающую соответствующее существование каждого — и достигнет этого
с сохранением всех дорогих, стоивших больших жертв и большого времени
приобретений культурного человечества.
Но мне тяжело не оттого, что мировой фашизм попридержит на известный срок
темп естественного человеческого прогресса, а оттого, что делается у нас и
что, по моему мнению, грозит серьезной опасностью моей родине.
Во-первых, то, что Вы делаете, есть, конечно, только эксперимент и путь
даже грандиозный по отваге, как я уже сказал, но не осуществление бесспорной
насквозь жизненной правды и, как всякий эксперимент, с неизвестным пока
окончательным результатом.
Во-вторых, эксперимент страшно дорогой (и в этом суть дела), с уничтожением
всего культурного покоя и всей культурной красоты жизни.
Мы жили и живем под неослабевающим контролем террора и насилия. Если бы
нашу обывательскую действительность воспроизвести целиком без пропусков, со
всеми ежедневными подробностями, — это была бы ужасающая картина, потрясающее
впечатление от которой на настоящих людей едва ли бы значительно смягчилось,
если рядом с ней выставить и другую нашу картину с чудесно как бы вновь
вырастающими городами, днепростроями, гигантами-заводами, бесчисленными учеными
и учебными заведениями. Когда первая картина заполняет мое внимание, я всего
более вижу сходство нашей жизни с жизнью древних азиатских деспотий. А у нас
это называется республиками. Как это понимать? Пусть, может быть, это
временно . Но надо помнить, что человеку, происшедшему из зверя, легко падать, но
трудно подниматься. Тем, которые злобно приговаривают к смерти массы себе
подобных и с удовлетворением приводят это в исполнение, как и тем,
насильственно приучаемым существам участвовать в этом, едва ли возможно остаться
существами , чувствующими и думающими человечно.
И, с другой стороны. Тем, которые превращены в забитых животных, едва ли
возможно сделаться существами с чувством собственного человеческого
достоинства.
Когда я встречаюсь с новыми случаями из отрицательной полосы нашей жизни (а
их легион), я терзаюсь ядовитым укором, что оставался и остаюсь среди нее.
Не один же я так думаю и чувствую?
Пощадите же родину и нас.
Академик Палов.
Ленинград 21 декабря 1934 г.»
За такое письмо любого человека, кроме академика Павлова, наверняка,
поставили бы к стенке. Да и не одного. Убили бы всех родственников и близких
друзей. Вот вам и «идол» с Павловской Сессии! Удивительны превратности судьбы
человеческой в нашем «безумном, безумном мире»!
Письмо прочли. Холодно-корректным посланием ответил председатель Совнаркома
В.М. Молотов. Не будем цитировать целиком...
«Должен при этом выразить свое откровенное мнение о полной неубедительности
и несостоятельности высказанных в Вашем письме политических положений...
Можно только удивляться тому, что Вы беретесь делать исторические выводы в
отношении принципиально-политических вопросов, научная основа которых Вам,
как видно, совершенно неизвестна. Могу лишь добавить, что политические
руководители СССР ни в коем случае не позволили бы себе проявить подобную
ретивость в отношении вопросов физиологии, где Ваш научный авторитет бесспорен...»
Последние слова особенно «хорошо» звучали накануне тотального вмешательства
советской власти в искусство и науку: постановлений о журналах «Звезда и
Ленинград» в 1947 году, затем — сессий ВАСХНИЛ и Павловской, гонений на ряд
направлений физиологии, генетику, кибернетику, «формалистическое» искусство,
погромного вмешательства в языкознание.
История рассудила.
А Павлов, мужественный и неистовый человек, до самой смерти, не в пример
многим, оставался верен своим взглядам. Однажды он прилюдно заявил, что
строительство социалистического общества — эксперимент, на который он не
пожертвовал бы... и одной лягушкой! На торжественном заседании, посвященном
столетию со дня рождения Ивана Михайловича Сеченова 26 декабря 1929 г. Павлов
говорил:
Мы живем под господством жестокого принципа: государство, власть — все.
Личность обывателя — ничто. Жизнь, свобода, достоинство, убеждения,
верования, привычки, возможность учиться, средства к жизни, пища, жилище, одежда, —
все это в руках государства. А обывателю только беспрекословное повиновение.
Естественно, господа, что все обывательство превращается в трепещущую массу,
из которой — и то не часто — доносятся вопли: «Я потерял или я потеряла
чувство собственного достоинства, мне стыдно за самого себя!»
На таком фундаменте, господа, не только нельзя построить культурное
государство , на нем не могло бы держаться долго какое бы то ни было государство.
Без Иванов Михайловичей с их чувством собственного достоинства и долга,
всякое государство обречено на гибель из внутри, несмотря ни на какие Днепро-
строи и Волховстрои. Потому что государство должно состоять не из машин, не
из пчел и муравьев, а из представителей высшего животного царства...»
Эти пророческие слова обращены к нам. Актуальны как никогда для нас,
свидетелей предсказанной Павловым «гибели из внутри». Не одолели нас ни
белогвардейцы, ни интервенты, ни гитлеровцы. Рухнули сами, и донельзя глупо в
очередной раз искать виновников на стороне, чтобы оправдать свои
безответственность , эгоизм и легковерие.
Наши нынешние мечты: жизненный уровень американцев или шведов, такое же
вкусное и калорийное питание, такие же общедоступные цены на автомобили,
«видаки» и шмотки, такие же шикарные квартиры... А Павлов из всех потерянных нами
ценностей на первое место ставил человеческое достоинство. Там, где оно
попрано и не имеет никакой цены, все прочее утрачивает смысл. Так думали и
чувствовали лучшие люди России, в отличие от нынешних жалких демагогов,
воображающих, что они «демократы» и (или?) «патриоты»!
1.4. Еще о
Конраде Лоренце
и других этологах
Конрад Цахариус Лоренц родился в 1903 году в Австрии. Он изучал медицину в
Вене, занимался также сравнительной анатомией, психологией и философией. В
юности он работал демонстратором, а затем читал курсы по сравнительной
анатомии и зоопсихологии. Поведение животных он изучал преимущественно в своем
фамильном доме в Альтенберге. С 1940 года он стал профессором философии Кенигс-
бергского университета, но в 1943 году, как мы только что рассказали, был
призван в армию и, провоевав всего несколько месяцев, попал в советский плен.
После освобождения из плена (конец 1947 года) он какое-то время преподавал в
Мюнстерском университете и, наконец, его пригласили в Зеевизен (Шлезвиг Голь-
штейн), институт физиологии поведения им. Макса Планка, который он возглавлял
до 1973 года, после чего вышел на пенсию. Скончался он в 1986 году, дожив до
нашей перестройки, но на все предложения посетить Советский Союз в годы,
когда официальные гонения на этологию уже прекратились, отвечал вежливым
отказом:
— Спасибо. Я у вас уже побывал.
У нас еще при Брежневе опубликовали три его популярные книги:
• «Кольцо царя Соломона», М., «Знание», 1970;
• «Человек находит друга», М., «Мир», 1971;
• «Год серого гуся», М., «Мир», 1973.
Однако, до самой перестройки оставалась под запретом самая знаменитая и
вызвавшая очень много споров за рубежом книга «Агрессия1 (так называемая
злоба) ». Ее и по сей день нет в подавляющем большинстве наших даже научных
библиотек. Не повезло и «Сравнительному методу изучения врожденных форм
поведения2». Эту классическую работу сразу же перевели на многие языки, но на рус-
1 К. Lorenz. (1963). Agressie (Das Sogenannte Bose). Borotha-Sohoeler, Wien (нем);
К. Lorenz. (1966). On agression. Methuen & Co. Ltd., London (англ)
2 Lorenz K. The comparative method in studying innate behaviour patterns. 1950. In:
«Phsiological mechanisms in animal behaviour», Cambridge.
ский она не переведена по сей день. Да и в оригинале ее не сыщешь в
большинстве наших библиотек: год издания — 1950 — совпал с Павловской сессией!
Только в 1992 году в «Вопросах философии» за №3, наконец-то появились
переводы хотя бы предисловия книги «Агрессия» и обширные выдержки из более
поздней работы «Восемь смертных грехов цивилизованного человечества3». Шансы на
издание у нас в ближайшем будущем русского перевода «Агрессии», учитывая
плачевное состояние государственных научных издательств, не слишком велики4.
Однако хотелось бы надеяться.
Как уже было сказано, создателями науки этологии считают двух человек:
Конрада Лоренца и Нико Тинбергена. Оба они вместе с открывателем языка пчел
Карлом фон Фришем удостоились Нобелевской премии по медицине в 1973 году.
Лоренцу ее присудили за «исследования социального поведения животных».
В общем-то, Лоренц был очень сложной и противоречивой личностью. Многие не
могли простить ему того, что в 1938 году он, в отличие от большинства других
австрийских интеллигентов, приветствовал аншлюс Австрии с гитлеровской
Германией, а в 1940 году даже вступил в национал-социалистическую партию. В том же
году он опубликовал явно конъюнктурную статью, в которой доказывал:
цивилизация ослабила действие естественного отбора не только на домашних животных, но
и на самих людей. Поэтому человеческий генофонд необходимо очищать от вредных
мутаций путем селекции. Надо установить типовую модель наших людей, а тех,
кто от нее сильно отличается, элиминировать во имя блага остальных.
Позже пришло прозрение. Только в лагере военнопленных Лоренц, наконец-то
узнал, что понимают гитлеровцы под словом «селекция» и, по его словам, сразу
стал убежденным антифашистом. Хотя первые сомнения появились гораздо раньше.
Пришло и раскаяние. Однако, прошлого не вернешь. После возвращения Лоренца из
плена многие американские и даже немецкие коллеги сторонились его. Особенно
большим ударом было охлаждение отношений с Тинбергеном. Тот участвовал в
голландском движении Сопротивления и встретил конец войны в гитлеровском
концлагере.
Уже стариком Лоренц с болью и стыдом вспоминал о предвоенных годах:
«Конечно, я надеялся, что-то хорошее может придти от наци. Люди, лучшие,
чем я, более интеллигентные, и в том числе — мой отец, верили этому. Никто и
не думал, что они подразумевали убийство, когда говорили «селекция». Я
никогда не верил в нацистскую идеологию, но подобно глупцу, я думал, что мог бы
усовершенствовать их, привести к чему-то лучшему. Это была моя наивная
ошибка. »
О пребывании К. Лоренца в советском плену только что опубликована
интереснейшая статья В.Е. Соколова и Л.М. Баскина5 .
Ох, до чего же нам сейчас знакомы такие рассуждения! Какой контраст с И. П.
Павловым!
«В своих наблюдениях и экспериментах Лоренц стремился выявлять врожденные
компоненты поведения. Выявлял и сравнивал у животных, более и менее
родственных друг другу в эволюционном отношении. В частности, человеческие действия,
продиктованные потребностями или эмоциональными аффектами, Лоренц постоянно
сравнивал с аналогичными действиями других существ, причем не только обезьян,
но и, например, птиц, которыми занимался особенно много еще с ранней юности.
Сходство часто, действительно, разительно. Тем не менее, неосмотрительно
принимать все, что пишет Лоренц об агрессивном поведении человека, за истину
в последней инстанции. Он часто отказывался от прежних взглядов и публикаций,
сомневался, искал и, конечно, как все слишком увлеченные своими идеями уче-
3 «Die acht Todsunden der zivilisierten Menscheit», Munchen, 1978.
4 Эта публикация написана в 1992 году. Что-то сбылось, что-то устарело.
5 «Конрад Лоренц в советском плену», «Природа», 1992, N7.
ные, иной раз пытался «укладывать» факты в прокрустово ложе схем. От этого
греха мало кто свободен, особенно, когда речь идет о поведении человека.
Слишком уж плохо по сей день знаем мы самих себя. Что вся современная наука
по сравнению с бесконечной сложностью устройства нашего собственного мозга?
(См. Ewans R. I., Lorenz К. The man and his ideas. N. Y.-L., 1975).
Как совершенно справедливо пишет отечественный исследователь поведения
животных Е. Н. Панов, ...претензии некоторых этологов объяснить сущность
человеческого поведения вне контакта с традиционными науками о человеке совершенно
несостоятельны. Имеются в виду, прежде всего, науки, смежные с этологией: со-
циобиология и психология.
Теория К. Лоренца скорее описывает, чем объясняет механизмы возникновения
конфликтных ситуаций в животном мире и предлагает некоторые гипотезы о
поведении человеческого сообщества. Между тем, упрощения и пристрастные
объяснения хороши в пылу полемики, но, чаще всего, «однобоки», и не совсем верны.
Даже там, где схематизированное объяснение выглядит гладким и логичным, оно
обычно пасует перед житейской практикой. Человек слишком нестереотипен даже в
тех поступках, которые диктуются подсознательными инстинктивными
побуждениями. И в них чисто человеческое то и дело берет верх над животным началом и
это может сделать бесперспективным чисто этологический, как и любой другой
концептуальный подход к индивидууму рода человеческого.»
В свое время у нас было принято объяснить все на свете с классовых позиций.
Как сказано у Б. Л. Пастернака:
В зияющей токийской бреши
Сумела разглядеть депеша,
Такой ученый водолаз,
Класс спрутов и рабочий класс...
В связи со знаменитым Токийским землетрясением (сентябрь 1923 года) Москва
не придумала ничего лучше, как официально заявить о своей полной классовой
солидарности с японским пролетариатом!
Нет смысла возрождать ту же традицию идеологического подхода к фактам на
новой, этологической основе, просто заменяя, где следует, слова, класс и
классовая борьба этологическими терминами: инстинкт, мотивация,
территориальное поведение, коллективная агрессия и так далее.
Наша задача — не агитировать за или против этологии, не утверждать свои и
чужие предположения, а, рассказав немного о специфических различиях между
психикой человека и прочих живых существ, обсудить вместе с читателем те
особенности нашего социального поведения, из-за которых еще у древних римлян
появилась дошедшая до наших дней поговорка: «Homo homini lupus est» —
«человек человеку волк».
Речь далее, как мы уже обещали, пойдет о подсознательных инстинктивных
побуждениях, которые плохо контролируются разумом и постоянно проявляются в
нашем социальном поведении, делая его не только иррациональным, глупым,
бессмысленным и смешным, но порой и очень страшным для окружающих. Как много в
повседневной жизни ситуаций при которых в человеке словно бы просыпается
зверь: срабатывают врожденные формы поведения — инстинкты, унаследованные от
хвостатых и волосатых предков.
На рубеже нашего века большой популярностью пользовались взгляды немецкого
философа Артура Шопенгауэра (1788-1860). За сто лет до появления этологии он
писал в «Афоризмах»: «Простой трезвый взгляд на натуру человека показывает,
что ему так же свойственно драться, как хищным зверям кусаться, рогатым
животным — бодаться; человек — «дерущееся животное»... Но поистине жестоко
внушать нации или какому-либо классу, что полученный удар — ужаснейшее несча-
стие, за которое следует отплачивать убийством. На свете слишком много
настоящего зла, чтобы стоило создавать еще воображаемые бедствия, приводящие
уже к реальным.» — Вполне, с этологической точки зрения, грамотно
сформулированный совет, нашим сегодняшним политикам.
1.5. Конрад Лоренц о
восьми смертных грехах
цивилизованного человечества
1. Грех первый: безудержное размножение. Перенаселенность Земли — фактор
прямой, экологической, а также косвенной, этологической опасности.
Скученность провоцирует агрессию в связи со стремлением человека насильственно
отгородиться от чрезмерно частых вынужденных контактов с себе подобными.
Краткий комментарий к сему.
Данные спутниковой съемки показывают, что зоны сельскохозяйственных угодий
успели заметно сократиться даже за время наблюдений. Еще быстрее исчезают
леса. Если население земли будет и далее расти с теперешней скоростью, оно
начнет голодать уже через несколько десятилетий. А через 500 лет люди, стоя
впритык, покроют сплошным слоем все континенты. Через 1000 лет этот слой
будет уже в миллион раз превышать средний человеческий рост.
2. Грех второй: разрушение внешнего жизненного пространства как, опять-
таки , двоякий фактор: подрыв экологической базы нашего бытия, истощение
природных ресурсов, а в то же время отчуждение человека от первозданной природы.
Уродство индустриального пейзажа, по мнению Лоренца, калечит душу людей. Там,
где нечем утолить эстетический голод, страдает и нравственный облик человека,
он сам становится моральным уродом.
3. Третий грех: безумный бег и суета. Самоускоряющийся процесс развития
науки и техники, а, заодно — рост производственных мощностей и подстегиваемых
рекламой вовсе не жизненных потребностей (это уже не Лоренц, а мы считаем
необходимым подчеркнуть) — бич нашего времени, непосредственно связанный с
потребительской идеологией технической цивилизации вкупе с рыночной экономикой.
Люди нашего века так спешат, что им некогда думать. Отучиваясь мыслить и
чувствовать за недостатком времени, они постепенно перестают быть
полноценными личностями. Их духовная жизнь, в значительной степени, сводится к
потребительским импульсам: «хочу купить то-то, достать то-то, иметь то-то...» Общество
в целом превращается в подобие чеховского Ионыча.
Человек — не только разговаривающее и мыслящее существо. Он также существо,
постоянно накапливающее новые знания, а, заодно с ними, в чем, собственно, и
есть корень многих бед, — и новые неуемные желания приобрести то, чего пока у
него нет, но уже появилось у соседа. Еще раз подчеркнем: речь при этом идет о
вещах отнюдь не первой необходимости. На их изготовление транжирятся
природные ресурсы, которые не восполняются, а убывают подобно шагреневой коже. До
чего же современно звучит пушкинская сказка о золотой рыбке, исполнительном
старике и жадной старухе, которой всего было мало, пока не доигралась она до
разбитого корыта. Цивилизованное человечество ведет себя сейчас ни на йоту не
умнее. И перспективы — те же самые. За последние пол столетия мы
израсходовали (выбросили на ветер) больше природных ресурсов, чем бесчисленные поколения
наших предков за всю предшествующую историю Гомо сапиенс!
Процитируем по сему поводу Курта Воннегута - «Бойня N5»:
Настанет день, настанет час — придет земле конец
И нам придется все вернуть, что нам вручил Творец.
Но, если мы, его кляня, подымем шум и вой,
Он только улыбнется, качая головой.
Процитируем и «Ветхий завет»: Екклесиаста, Гл. IV, 10: Умножается
имущество, умножаются и потребляющие его; и какое благо для владеющих им, разве
только смотреть своими глазами? — Это уж точно при теперешнем телевизионно-
компьютерном буме...
И оттуда же, Гл. IV, 14: Как вышел он (человек) нагим из утробы матери
своей, таким и отходит, каким пришел, и ничего не возьмет от труда своего, что
мог бы он понесть в руке своей.
4. Четвертый смертный грех человечества по К. Лоренцу: исчезновение всех
сильных чувств и аффектов в результате гедонистического нетерпения,
изнеженности. Техника и фармакология делают людей нетерпимыми к любым мелким
неудобствам. Стараясь от них избавиться, (что, вообще-то несложно в условиях
теперешнего западного быта), люди отучиваются испытывать подлинную радость,
преодолевая серьезные препятствия. Вместо сменяющихся волн радости и страдания
жизнь превращается в серое однообразное прозябание, «зыбь невыносимой скуки».
5. Пятая напасть: генетическая деградация. Ничто, кроме правовых норм и
традиций, интуитивного чувства справедливости, не оказывает ныне на нас
селекционного давления в пользу нравственного поведения перед аморальным.
Напротив, некоторые типы паразитического, безнравственного поведения могут
давать селективные преимущества, так что теперешний упадок культуры, умственных
способностей и нравственности молодежи может иметь и генетическую основу.
6. Шестой грех: разрыв с традицией. Молодые люди в связи с быстрыми
изменениями бытовых реалий по мере научно-технического прогресса и его политико-
экономических последствий (как мы видим, в основном, — негативных) утрачивают
взаимопонимание со старшим поколением и ценности былой культуры. Будучи ей
чуждыми, они отвергают ее, не умея и не желая приобщиться к культурному
наследию прошлых веков. В результате, общество погружается в варварское
состояние.
7. Седьмой грех: унификация культур и взглядов, благодаря обезличивающему
действию современных средств массовой информации. Слияние региональных
культур в единую космополитическую систему. Глобальная и возрастающая индоктрина-
ция6 человечества, его превращение в единую, серую и хорошо управляемую
массу , уничтожение индивидуальности. Зондирование общественного мнения,
рекламная техника и искусно направляемая мода помогают власть- и капитал-имущим
держать массы в своей власти.
8. Восьмой и последний грех: ядерное оружие, опасностей которого, по мнению
К. Лоренца, избежать легче, чем уйти от расплаты за семь других перечисленных
выше смертных грехов, подтачивающих цивилизацию незаметно и потихоньку, но —
верно.
1.6. Конрад Лоренц
о разрыве с
национальной культурой
Итак одним из восьми бедствий XX века К. Лоренц, как и многие другие
этологи, считал стандартизацию человеческой культуры, утрату национальных и
племенных культурных традиций, смешение всех языков и культур в единое
«Вавилонское столпотворение».
Цитируем К. Лоренца «Так называемое зло»: «...Консервативность в сохранении
однажды испытанного принадлежит к числу жизненно необходимых свойств аппарата
6 Индоктринация населения — насыщение определённым, угодным и выгодным правительству
или политической организации содержанием массового сознания населения страны в
социальном, идеологическом, политическом и психологическом планах в форме системы
убеждений , образов, установок, стереотипов.
традиции, выполняющего в развитии культуры ту же задачу, какую в развитии
вида выполняет геном. Сохранение не просто столь же важно — оно гораздо важнее
самого приобретения; и не надо упускать из виду, что без специальных
исследований мы вообще не в состоянии понять, какие из обычаев и нравов, переданных
нам в наследство культурной традицией, представляют собой ненужные устаревшие
предрассудки, а какие — неотъемлемое достояние культуры. Даже в случае норм
поведения, дурное воздействие которых представляется очевидным, — как,
например, «охота за головами» у многих племен Борнео и Новой Гвинеи, — вовсе не
ясно, какие реакции может вызвать их радикальное устранение в системе норм
социального поведения, поддерживающей цельность такой культурной группы.
Подобная система норм служит в некотором смысле остовом любой культуры и без
проникновения во все многообразие ее взаимодействий в высшей степени опасно
удалять из нее хотя бы один элемент... Заблуждение, будто прочное достояние
человеческого знания доставляет лишь то, что можно постигнуть разумом, — или,
тем более, лишь то, что можно научно доказать, — приносит гибельные плоды.
Оно побуждает «просвященную» молодежь выбрасывать за борт бесценные сокровища
мудрости, заключенные в традициях прежних культур и в учениях великих мировых
религий».
В связи с такими словами одному из авторов этой книги припомнилось недавнее
посещение кафедрального собора Фрауенкирхе в Мюнхене, оплоте немецкого
католицизма . На стене там начертано: «С собаками и мороженым вход воспрещен».
Письменно запрещают там, где запреты постоянно и нагло нарушаются. Одного
взгляда по сторонам было, увы, достаточно, чтобы убедиться: это именно так,
хотя в Западной Германии, вроде бы, не было семидесятитрехлетнего владычества
«безбожных» большевиков! Там же удалось подметить, сколь часто немецкая
молодежь , общаясь, вдруг переходит с немецкого языка на английский; не хватает
слов на родном языке, слишком уж напичканы мозги американскими фильмами.
Точно то же сейчас происходит и у нас, и в Таиланде, Египте и Китае.
Научно-техническая революция, спутниковая связь, глобализация электронных
средств массовой информации породили, по мнению К. Лоренца, веру в то, что
современная наука может создать новую культуру со всеми ее атрибутами чисто
рациональным путем, из ничего, хотя это так же немыслимо, как, например,
улучшение природы человека с помощью переделки его генов. Хотя это мнение
высказано до появления генной инженерии, оно отнюдь не утратило актуальности в
наши дни. Правда, в последние годы во всем мире наметились и тенденции,
диаметрально противоположные тем, которые так тревожили Лоренца.
После краха коммунистического колосса утратили притягательную силу раньше
геройски противостоявшие ему идеи либеральной демократии. Они перестали
служить пропуском на политический олимп для всех, желающих туда взобраться или
там усидеть. Свято место пусто не бывает. Поэтому возникший идеологический
вакуум быстро заполнила самая агрессивная и примитивнейшая из идеологий:
этническая ненависть, комплекс ущемленного национального достоинства. Она стала
одной из причин распада полиэтнических стран Восточной Европы и бывшего
Советского Союза на дерущиеся между собой моноэтнические куски и сделала
реальной угрозу перерастания локальных конфликтов в новую мировую войну. Призрак
бродит по сегодняшней Европе. Призрак нацизма!
ГЛАВА 2. О СУЩНОСТИ ЧЕЛОВЕКА
2.1. Кем был Адам, кто мы?
Напрасно меня обвиняют в том, что я очеловечиваю животных. Просто человек —
один из представителей животного мира, — слова К. Лоренца. Что же послужило
основанием для такого утверждения?
Конечно, тот бесспорный факт, что все мы — биологические индивиды вида Homo
sapiens (Человек разумный), рода Homo (люди) семейства Hominidae
(человекообразные) , все представители которого, кроме нас, давным-давно вымерли (мы их
назовем чуть позже). К тому же мы из подотряда Catarrinha (узконосые
обезьяны) , отряда Anthropoideg или Primates (обезьяны), класса Mammalia
(млекопитающие) , под типа Vertebrata (позвоночные), типа Chordata хордовые).
Этот факт убедительно доказывают: анатомическое строение нашего тела;
протекающие в нем биохимические и физиологические процессы; структура молекул
наследственности ДНК в ядрах наших клеток (нуклеотидная последовательность
этих молекул у нас всего на 1,1% расходится с ДНК шимпанзе7, но уже на 35% с
ДНК насекомоядных млекопитающих, таких как еж или крот); палеонтологические и
сравнительно-эмбриологические данные.
Имеются, к тому же, и другие доказательства. О них мы уже говорили
неоднократно . Это — явное, подчас весьма нелестное для нас сходство многих форм
нашего поведения, особенно, эмоционального, плохо контролируемого разумом, с
инстинктивными реакциями наших «братьев меньших» (расхожее определение
животного царства, не слишком нам импонирующее) и, в первую очередь, разумеется,
обезьян. В частности (на это обратил внимание еще Ч. Дарвин), у нас
сохранились в более или менее неприкосновенном виде типично обезьяньи выразительные
движения, их мимика, передающая разные эмоции. В этом любой читатель может
легко убедиться сам при ближайшем посещении зоопарка.
Ну, а как быть в таком случае с «души прекрасными порывами?» Не кощунство
ли признавать в нашем поведении наличие не только божественного, но и
скотского начала?
Специально для тех, кто очень обиделся, позволим еще раз процитировать
«Ветхий завет» — священную книгу христиан и иудеев, уважаемую также
мусульманами. Екклесиаст, гл. III, стихи 18-21:
18. Сказал я в сердце своем о сынах человеческих, чтоб испытал их Бог, и
чтобы они видели, что они сами по себе — животные.
19. Потому, что участь животных и участь сынов человеческих — участь одна;
как те умирают, так умирают и эти, и одно дыхание у всех и нет человека
преимущества перед скотом; потому, что все — суета.
20. Все идет в одно место; все произошло из праха и все возвратится в прах.
21. И кто знает: дух ли сынов человеческих восходит ли вверх, и дух
животных восходит ли вниз, в землю?
Так-то вот. А посему оставим-ка хоть на время в покое злополучный вопрос:
«Произошли ли мы от обезьян?» С какой стати нам обсуждать его, если для
любого мало-мальски объективного мыслящего биолога или медика мы и сейчас
продолжаем оставаться обезьянами, правда, голыми, подрастерявшими свой шерстяной
покров, а также разгуливающими на задних ногах (подобно тушканчикам, кенгуру,
птицам, некоторым вымершим ящерам-динозаврам) и, наконец, конечно же главное,
— разумными.
Как известно, у прочих обезьян нет ни членораздельной речи, ни
общественного разделения труда, ни научно-технического прогресса, ни политики, ни войн,
ни экологически вредных производств. Впрочем, — стоп. Где же гарантии, что
7 Шимпанзе считаются самыми близкими родственниками человека. Исходя из новейших
исследований, их генетическая база совпадает с человеческой на 98,7 %. Это позволяет
предполагать, что эволюционные пути человека и шимпанзе разошлись всего шесть
миллионов лет назад. Тем не менее, несмотря на схожесть генов, у человека и шимпанзе
они проявляют разную активность в разных органах тела. Шимпанзе настолько
генетически близки к человеку, что одно время даже предлагалось относить шимпанзе к роду
Homo.
живи на Земле какие-либо другие цивилизованные организмы, помимо человека,
например, умеющие писать и философствовать дельфины, слоны или муравьи, они
тоже признали бы нас существами высшего порядка? Не исключено, что они
усомнились бы в наличии разума у существ, которые всеми возможными способами
портят , себе же на погибель, среду обитания; ради сиюминутных выгод транжирят
напропалую невосполнимые природные ресурсы, а также, и того хуже, истребляют
миллионы себе подобных, непрерывно изобретая и совершенствуя средства своего
уничтожения.
Сограждане читатели, поверьте, что, если так дела пойдут и дальше, вполне
реальна угроза, что лет эдак через пятьдесят от человечества останется одно
воспоминание. Впрочем, и вспоминать-то будет некому.
Наша публикация, однако, как вы уже знаете, не о грядущем конце света, а о
тех наших действиях, которые, образно говоря, его приближают, об их
инстинктивной подсознательной основе.
Инстинктивной, подсознательной? А откуда взялись в нашем мозгу самые
разные, в том числе довольно несимпатичные инстинкты? Почему бы, собственно,
«царю природы» не обходиться во всех житейских ситуациях одним только
разумом, помноженным на знания и опыт, плюс, конечно, «нравственное чувство?»
Этот вопрос способны задать, понятно, только те, кто не верит в эволюцию
нашего вида и не желает ничего о ней слышать. Мы знаем, что таких людей немало
и число их в последнее время неукоснительно растет. Специально для них мы
решили включить совсем коротенькую и очень популярно написанную справку о
происхождении человечества.
Семейство человекообразных — из числа семейств-долгожителей. Долго-долго
существует на земле и наш биологический вид.
Многие другие виды млекопитающих, например, мамонт, саблезубый тигр и
пещерный медведь, появились и вымерли на глазах человечества. Менялись
очертания континентов. Изменялся и климат нашей планеты. Наступали ледниковые
периоды. Они чередовались с временными потеплениями. А мы все жили и жили,
постепенно обретая те человеческие черты, которыми так гордимся сейчас, и
расселяясь, мало-помалу, из первичного ареала в саваннах Восточной Африки на все
континенты, кроме Антарктики, и на почти все океанические острова Земного
шара.
Нашим вероятным общим предком с современными человекообразными обезьянами
был проконсул, окаменелые останки которого обнаружили в 1948 году англичане
Л. и М. Лики на острове Рузинга (озеро Виктория в Кении) в третичных
плейстоценовых отложениях, датируемых, приблизительно, в 25 миллионов лет. В черепе
проконсула чисто человеческие черты (большой округлый лоб без надглазных
валиков, строение зубов и так далее) сочетаются с типичными обезьяньими
признаками. Судя по сохранившимся костям конечностей, это существо бегало еще на
четвереньках.
Куда ближе нам австралопитеки, особенно, их вид «Австралопитек изящный», он
же афарский, отстоящий от нас во времени на 2,9-0,6 миллионов лет. Эти
двуногие обезьянолюди, по-видимому, уже пользовались для защиты и нападения
природными орудиями: палками, костями, камнями, которые иногда, похоже, и
раскалывали .
Очень существенно, что австралопитеки, судя по частому обнаружению их и,
рядом же, павианьих черепов с характерными проломами, были свирепыми
хищниками и охотно лакомились мозгом жертв, в том числе, не исключено, своего же
вида. Интересно, что проломы чаще слева — свидетельство праворукости. У всех
обезьян, кроме человекообразных, одинаково развиты обе руки.
Собственно человеческая эволюция началась, по пока имеющимся данным тех же
Л. и М. Лики, 2,6-2,3 миллиона лет тому назад с появления, опять-таки, на
востоке Африки «Человека умелого» (Homo habilis). Рядом с его костными остан-
ками обнаружено уже до восемнадцати типов вполне сносно обработанных каменных
орудий, хотя, доживи этот «умелец» до наших дней, споры о нашем родстве с
обезьянами отпали бы автоматически. Слишком уж явно он смахивал на них!
Реконструкция одного из видов проконсула (Proconsul).
Реконструкция австралопитека афарского.
Реконструкция Homo habilis.
Сие «постыдное» сходство с обезьянами, хотя и менее выраженное сохраняли
разновидности «Человека прямоходящего» (Homo erectus): знаменитый питекантроп
(остров Ява, 1,9-0,5 миллионов лет), «Гейдельбергский человек» (Германия,
около 0,8 миллионов лет) и «Китайский человек» — синантроп (0,8-0,3 миллионов
лет). Этот последний — пещерный житель, он уже не только умел делать
разнообразные орудия, но и, по-видимому, пользовался огнем.
Реконструкция Homo erectus.
^.^.•'Чдэ
Реконструкция облика гейдельбергского человека.
Синантроп (реконструкция).
Средний объем мозга у всех упомянутых выше предков человека был
приблизительно в два раза меньше, чем у нашего вида: у них шестьсот пятьдесят, у нас
— тысяча кубических сантиметров. Этого, однако, никак не скажешь об еще одном
вымершем виде людей: неандертальцах (Homo neandertalensis); мускулистых, уз-
колобых, весьма мозговитых коротышках, но без подбородка и почти без шеи,
обитавших в Африке и в Евразии, включая ее северные районы, на протяжении
очень длительного периода, примерно от 300 до 35 тыс. лет тому назад.
Неандертальцы уже, по-видимому, изготавливали, помимо каменных и костяных орудий,
кое-какие сосуды из глины и одежду из звериных шкур, конечно, умели получать
огонь, делали кое-какие украшения, и даже хоронили своих мертвых с какими-то
обрядами: найдено захоронение, засыпанное цветами! Они мумифицировались и
чудом сохранились в сухой почве. Почему вымерли неандертальцы? — Неизвестно, но
пока, по крайней мере, вроде бы, не обнаружены их останки с явными признаками
насильственной смерти и людоедства: типичными проломами в черепах и так
далее.
/
Неандерталец из Мустье (реконструкция).
То ли дело первые представители нашего вида — кроманьонцы! Они появились в
Африке и Евразии около, соответственно, семьдесят и сорок тысяч лет назад,
задолго до полного вымирания неандертальцев. Эти люди, похоже, постоянно
воевали между собой и, весьма вероятно, что не брезговали человечиной, хотя по-
настоящему в моду, как это ни странно, людоедство вошло совсем недавно: всего
за каких-нибудь десять тысяч лет до наших дней. От кроманьонцев, живших как и
неандертальцы, в пещерах, остались шедевры живописи, в том числе прекрасные
изображения мамонтов и волосатых носорогов; красивые, хорошо обработанные
орудия из камня и кости, черепки различных сосудов.
Речь, ее первые зачатки, появились, как допускают, уже у австралопитеков
или, во всяком случае, у «человека умелого», причем вначале она могла быть,
преимущественно, жестовой. Возможно, у неандертальцев и, наверняка, у
кроманьонцев, были членораздельные языки уже со вполне солидным словарным
запасом. Живи те люди в наши дни, они, скорее всего, смогли бы нормально учиться
в наших средних и высших учебных заведениях.
История материальной культуры человечества подразделяется на ранний (от
человека умелого), средний и поздний палеолит (древнекаменный век) от двух
миллионов до восьмидесяти тысяч лет. В позднем палеолите жили последние
неандертальцы и первые кроманьонцы. Затем — мезолит (среднекаменный век), 80-10 ты-
сяч лет, и, наконец, неолит (новокаменный век) , от X до V тысячелетия до
нашей эры. Далее: медный и бронзовый века, с V по II тысячелетия до нашей эры,
и, наконец, — век железный, наш, от I тысячелетия до нашей эры по сей день.
Монотеистическим религиям неполных три тысячи лет. Научно-техническая
революция началась всего полтора века назад (если по большому счету), а
компьютерная — в наши дни. Нетрудно видеть, что процесс развития технологий, таким
образом, идет сперва крайне медленно, а затем все сильнее ускоряется. Первые
поселения городского типа (Иерихон, Шумер, Индия) и, почти одновременно,
первая письменность, иероглифическая, на глиняных табличках и т.п. возникли в V-
IV тысячелетиях до нашей эры. Уже на четыре-пять тысячелетий раньше люди
научились сеять хлеб, воздвигать мегалитические постройки, а еще на несколько
тысячелетий раньше, по-видимому, зародилось скотоводство. Еще в мезолите
человек приручил волков, от которых произошли многочисленные породы домашних
собак (7-13 тысяч лет до нашей эры).
Кроманьонец (живописная реконструкция).
Одомашненные животные и растения отличаются, как известно, от своих диких
предков крайней степенью внутривидовой изменчивости: обилием разных способных
между собою скрещиваться сортов или (у животных) пород. Это явление объясняют
тем, что в условиях одомашнивания ослаблена роль естественного отбора, а в то
же время действует неосознанный или целенаправленный искусственный отбор. В
частности все домашние животные явно отличаются от диких предков
разнообразием и пестротой мастей: раскраска под окружающий фон утратила защитную функцию
и белые вороны перестали быть смертниками.
Этологи полагают, что не только домашние животные, но и сам человек,
подчиняя себе природу, сделался жертвой такого ослабления отбора, «безнаказанной»
изменчивости. Мы «коллекционируем» в себе всевозможные вредные и даже
летальные (смертоносные) гены, что приводит к обилию у нас разного рода врожденных
аномалий, в том числе наследственных отклонений психики, таких как, например,
наследственная шизофрения. Этому процессу накопления вредных мутаций,
несомненно, способствовали в последние десятилетия, испытания ядерного оружия в
атмосфере, развитие атомной энергетики (Чернобыль!) и другие работы,
связанные с применением радиоактивных веществ, разнообразные источники ионизирующей
радиации (рентген и тому подобное), а также химических мутагенов (веществ,
воздействующих на наследственную информацию в ДНК) в нашем окружении,
стрессы, повреждение озонового слоя, прогресс медицины, приведший к снижению
детской смертности (больше выживает детей с наследственными заболеваниями) и ряд
других факторов, связанных с научно-техническим прогрессом. Таким образом, мы
— невольные виновники неукоснительной «порчи» собственного генофонда.
К сожалению, в нашей стране эту порчу усугубили в XX веке еще три
обстоятельства, связанных с выпавшими на нашу долю тяжелейшими испытаниями. Это
гибель десятков миллионов людей на фронтах Гражданской, Великой Отечественной
войн, избирательное уничтожение лучших в годы массовых репрессий, а также
четыре многомиллионных волны эмиграции, — катастрофическая «утечка мозгов».
Говоря о сущности человека, необходимо особо отметить еще следующее
обстоятельство . Относительный вес головного мозга у человека в четыре раза больше,
чем у антропоидных обезьян, не говоря уже о прочих. Однако, за это
преимущество приходится расплачиваться долгим развитием. Человеческое дитя родится с
недоразвитым мозгом, развитие которого продолжается несколько лет после
рождения. Все это время ребенок нежизнеспособен без родительского ухода. Он, в
основном, осуществляется матерью, но для прокормления семьи, особенно
многодетной, совершенно необходимо участие отца. Этим обстоятельством
определяется, по-видимому, своеобразие менструального цикла у человеческих женщин, как,
впрочем, и самок у прочих приматов. Цикл делает возможным половые сношения в
течение практически всего года с малыми перерывами, в чем существенное
отличие от многих других млекопитающих с их одногодичными эстральными циклами8 и
коротким брачным сезоном. Биологический смысл таких круглогодичных сношений
очевиден: он привязывает у людей мужчину к семье, а у обезьян — самца к
семейной группе или стае.
По той же причине медленного развития детей человек везде, где бананы сами
не прыгают в рот, - моногамен9 (у одного мужа одна жена) . В этом он подобен
птенцовым птицам (тем, которые родят беспомощных голых птенцов — певчим и
др.), а также очень немногим из млекопитающих, а именно: человекообразным
Эстральный цикл (от новолат. oestrus - течка), совокупность регулярно
повторяющихся изменений половой системы у самок млекопитающих. Циклическая функция яичников,
связанная с происходящими в них ритмическими процессами (развитие фолликулов,
овуляция и образование жёлтого тела), гормональным путём определяет синхронные
характерные изменения во всём организме самки, и особенно в половом аппарате (яйцеводы,
матка и влагалище).
9 Моногамия больше распространена в областях с плуговым земледелием, полигамия -
там, где мотыжное или вовсе никакого.
обезьянам гиббону и сиамангу, пяти видам низших обезьян Нового Света, а кроме
того, бобрам, лисам, шакалам и некоторым другим хищникам. Таким образом, то,
что кое-кому представляется выдумками лицемерных попов, имеет, глубокую
эволюционную основу. Пресловутая «сексуальная революция» представляет собой бунт
против естественных инстинктивных форм брачного поведения человека,
выработанных в процессе естественного отбора.
2.2. Разговаривающие
обезьяны и немые пмауглип
Более шестидесяти лет назад Н.Н. Ладыгина-Коте, уже нами упомянутая,
поставила героический эксперимент. Она вскормила и взрастила вместе со своим
новорожденным сыном Руди младенца шимпанзе Иони, только что родившегося в
зоопарке . Молочные братья росли и воспитывались в совершенно одинаковых условиях.
Что же получилось в результате?
На первых порах дитя шимпанзе развивалось быстрее, чем человеческое. Оно не
только начало раньше играть в кубики и шарики, разбирать и собирать
пирамидки, но и проявило изрядную техническую смекалку. Дали ребенку и обезьяненку
длинные трубочки, внутрь которых глубоко загнана конфета — пальцами никак не
достать. Иони попытался ее извлечь, убедился, что не получается. Тогда он
отыскал подходящую палочку, сунул ее в трубку. Ррраз — и конфета, выбитая из
трубки, уже во рту! Достать конфету удавалось даже, если палочки поблизости
не было. Зато рядом лежала фанерка. Попробовал, обломил край — вот и готова
палочка. Выходит, шимпанзе при необходимости может даже изготовить простейшее
орудие труда. Благо, руки есть. А ведь не всякий человек так быстро сообразил
бы! Что же делал в аналогичной ситуации Руди? Бессмысленно тряс трубкой и
орал «аааа», мол, «мама, достань конфету!».
Прошло, однако, еще некоторое время и полутора-двух годовалый ребенок, уже
научившийся ходить на двух ножках, постепенно заговорил. Короче, начал
развиваться так же, как все обыкновенные дети. Что же сталось с Иони? Увы, но он
как был, так и остался обезьяной. Речь у него не появилась, даже на «мама» и
«папа» никаких намеков. Да и умственный прогресс был не велик. Конечно,
обезьяна росла ручной, очень любила приемных родителей и молочного братца.
Она усвоила к тому же многие человеческие бытовые «хитрости», но... их
осваивают, как известно, и другие млекопитающие, выросшие под боком у человека:
кошки , собаки и так далее. Они тоже бегут к двери, когда в нее звонят или
стучат. Открывают ее лапой, если хватает сил. Канючат: «пойдем гулять»,
«открой», «дай», а кошек некоторые хозяева учат даже ходить в сортир и спускать
за собою воду.
У человекообразных обезьян деревянные орудия используются и в природе:
обломанные ветки, палки. Отнюдь нельзя сказать, что умению такого рода их
обучает человек.
Чтобы выяснить сравнительную роль врожденного и приобретенного в общении с
другими особями своего вида, этологи широко используют метод изоляции. Его
называют «каспар-гаузеровым» по имени Каспара Гаузера (1812-1833) — жертвы
династической интриги, — которого вырастили в одной швейцарской деревне в
хлеву, в полнейшей изоляции от людей, кроме одного кормившего его
крестьянина. Этот последний все-таки выучил Каспара кое-каким словам и даже буквам. В
1828 году, когда К. Гаузера выпустили на свободу, он умел ходить и кое-как
изъясняться, хотя координация движений была у него нарушена, а позже, с
грехом пополам, даже окончил школу и получил мелкую чиновническую должность. Его
убили во время прогулки. Полагают, что он был сыном баварского монарха.
Жестокий эксперимент, поставленный за много веков до этого в Индии,
свидетельствует: большая группа детей, не обученных в младенчестве речи, сами не в
состоянии «изобрести» ее, общаясь только между собой, и остаются немыми на
всю жизнь. О экспериментах такого рода, поставленных на людях самой природой,
мы ниже расскажем особо.
Но, как бы там ни было, животные, выращенные людьми и с момента рождения ни
разу не встречавшиеся с особями своего вида, все равно сохраняют многие
типичные для него повадки, хотя в кое-чем, конечно, и отличаются от сородичей,
не изолированных от родителей. Эти отличия обычно не так велики и постепенно
исчезают после устранения изоляции или, во всяком случае, ограничиваются
какими-то отдельными аномалиями в сексуальной сфере и тому подобное. Природу,
как говорится, не обманешь. Кот, как его ни воспитывай, останется котом,
собака — собакой, шимпанзе — шимпанзе.
Вот, например, одно из свидетельств психологической пропасти между нами и
обезьянами:
Петербургский зоопсихолог Л.А. Фирсов на глазах у нескольких шимпанзе
положил в ямку сосуд с обожаемым ими вареньем, а сверху с помощью двух лаборантов
навалил тяжелый валун: непреодолимое препятствие для одной обезьяны, но не
для двух или трех при совместных усилиях. Обезьяны гурьбой кинулись к валуну
и долго, но тщетно пытались сдвинуть его с места. Не хватало ума объединить
усилия. Каждый толкал в свою сторону. А ведь два человека, даже не понимая
языка друг друга, шутя справились бы с этой задачей, объясняясь жестами!
Выходит, сигнализация обезьян, жестовая и голосовая, не годится для решения
даже самых элементарных задач, связанных с какими-то совместными трудовыми
действиями. Все — лишь в пределах команд типа: Иди сюда! Отстань! Бежим! В
атаку! Прочь! Враг! Почеши спину! Дай мне! и т.п., вроде наших междометий,
жестов и мимики, выражающих эмоции. Общее число таких сигналов у обезьян — не
более нескольких десятков10.
Все попытки научить обезьяну выговаривать хотя бы отдельные слова (кроме,
от силы двух-четырех простых в произношении), неизменно заканчивались
провалом . И неудивительно. Сам обезьяний голосовой аппарат, в отличие от такового
у попугаев и некоторых других птиц, не пригоден для произнесения звуков
человеческой речи.
А что получится, если приемные родители начнут обучать ребенка шимпанзе
жестовому языку глухонемых? Такая мысль пришла в голову американским ученым
супругам Беатрикс и Аллену Гарднерам в начале семидесятых годов.
Приблизительно тогда же американцы Д. Примак и др. начали учить своих питомцев
шимпанзе общаться с людьми с помощью выкладываемых жетонов разных цвета и формы.
Наконец американка Сью Саваж-Рамбо для той же цели приспособила компьютер с
особой программой: нажмешь на нужную клавишу, на дисплее появляется та или
иная символическая картинка-иероглиф, обозначающая определенное понятие.
Например, одна картинка — «еда», другая — «дай», третья — «яблоко», четвертая —
«кошка» и так далее.
Во всех трех случаях получилось нечто совершенно удивительное. Обезьяны,
шимпанзе, гориллы «заговорили» таки на нашем, на человеческом языке! Правда
«речь» их, особенно на первых порах, сводилась, в основном, к простейшим
просьбам или командам, вроде: «дай» или «дайте, пожалуйста» (так уж учили),
тот или иной конкретный предмет — яблоко, конфету, апельсин и так далее,
иногда с дополнением: «Дай, пожалуйста, банан и положи его в тарелку». Когда
просьба выполнялась, следовал, возможно, не понимаемый, а просто выученный
сигнал: «спасибо». Реже, впрочем, задавались и вопросы типа: «можно мне?» или
«это кто (что)?» при виде разных незнакомых предметов и живых существ, в том
числе, и на картинке.
См. напр. Линден. Ю. «Обезьяна, человек и язык», «Мир», 1981 и Якушин Б. В.
«Гипотезы происхождения языка», «Наука», М., 1984.
Сигнал — новый символ прекрасно запоминался, подчас, — с первого раза, и
далее обезьяны успешно пользовались им во всевозможных комбинациях с другими
символами, точь-в-точь как это происходит при усвоении речи у детей.
Более того, обезьяны оказались способны выражать некоторые нехитрые мысли с
переносом действия в будущее. Так, когда воспитательница Джейн садилась в
машину, обезьяна Люси просигналила ей руками в окошко: «Я плакать», — то есть:
«Когда уедешь, буду горевать». Выразить эту мысль в такой вот внятной форме
не позволял сам жестовый язык американских глухонемых негров-амеслан: в нем
имелись только обозначения предметов и действий, вроде: палец к уху —
«слышу», «слух», «ухо», хлопок по бедру — «собака», «лай», тыльная сторона руки к
подбородку - «дерьмо», «грязь»; палец в грудь, свою или собеседника — «я» и
«ты».
Поразительно, что, несмотря на такую убогость самих сигналов (вина людей),
обезьяны, подобно человеческим детям, вскоре занялись и словотворчеством.
Холодильник, в котором хранились фрукты, шимпанзе Уоши обозначила комбинацией
известных ей жестов: «ящик» + «фрукт» = «фруктоящик», лебедя, впервые
увиденного на пруду, она назвала «водоптицей», а арбуз «водояблоком» или «сладко-
питьем». Между прочим, впервые увиденных в зоопарке диких собратьев Уоши не
признала за своих и обозвала «черными тварями».
Все «разговаривающие» обезьяны самих себя считали людьми. Когда одной из
них предложили игру: рассортировать фотографии людей и животных, включая ее
же вид, собственные изображения она отложила к «людям», а прочих своих
собратьев — к «зверям». На вопрос: «Почему?» — последовал ответ: «Я
разговариваю» . Умно! Даже не верится.
Еще свидетельства ума. Горилле Коко, тоже обученной языку глухонемых, с
возмущением показали разорванную губку:
— Что это?!
— Неприятность.
Ту же Коко в присутствии ее воспитательницы Дж. Паттерсон и служителя
спросили:
— Кого ты больше любишь?
— Это нехороший вопрос, — тактично ответила горилла.
Подобно нам, «говорящие» обезьяны, как оказалось, способны и врать, и
ругаться, причем сами изобретают сходу всевозможные ругательные слова. Так,
Коко, когда ей устроили нагоняй за то, что она пожирает мел, просигналила:
— Я играть женщина красить губы.
В другом случае эта же обезьяна выломала из пола металлическую воронку для
стока воды и, когда ее начали за это корить, попыталась свалить вину на
уборщицу Кэт: «Кэт-там-плохое».
А Уоши, обращаясь к служителю, который, несмотря на ее многократные
просьбы, не приносил питье, показала руками:
— Ты, дерьмо, дай пить!
Этот пример ругани — один из очень многих. Другой шимпанзе обозвал чем-то
досадившего ему чернокожего служителя «белым унитазом».
Обучившись сами, молодые самки шимпанзе пытались, хотя и не особенно
успешно, передать свои познания детенышам - приемным детям.
Обнаружились и явные признаки понимания обезьянами (без всякой подготовки!)
грамматических конструкций речи. Например, если экспериментатор сигналил: «я
щекотать ты», обезьяна подставляла спину, а после сигнала «ты щекотать я»
сперва возражала: «нет, ты меня», а потом все-таки принималась щекотать
человека.
Детеныша карликового шимпанзе Канци никто языку не обучал. Саваж-Рамбо
учила его маму изъясняться с помощью нажатий на клавиши с разными символическими
рисунками. Тем не менее, обезьяненок освоил эту премудрость сам, как бы иг-
раючи, и проявил при этом совершенно поразительные лингвистические
способности. Он начал воспринимать и на слух английские слова, правильно реагируя на
660(!) разных устных просьб типа «Положи дыню в миску», «Достань морковку из
микроволновой печи», и заметно превзошел в этом отношении свою ровесницу -
двухлетнюю девочку Элли. Только еще через полгода человеческое дитя, наконец,
перегнало обезьяну по уровню понимания устной речи!
Мы рассказали довольно подробно об этих экспериментах потому, что они в
значительной мере изменили издавна сложившееся представление о бездонной
духовной пропасти между людьми и прочими живыми существами. Пусть с
наступлением половой зрелости обезьяны «дурели» настолько, что дальнейшая работа с ними
становилась опасной, да и забывали они при этом многое из того, что раньше
выучили. Пускай полный словарный запас Уоши и ее собратий достигал всего ста
семидесяти - трехста слов, как у двух - двух с половиной - годовалого ребенка
из интеллигентной семьи или, пожалуй, — на уровне взрослого воина у некоторых
первобытных племен. У «людоедки» Эллочки из «Двенадцати стульев» запас
употребляемых слов был, как всем известно, и того беднее. Пусть даже и в
грамматическом отношении «язык» обезьян существенно отличался от нормального
человеческого: в нем практически отсутствовали какие-либо времена, кроме
настоящего (отмеченное исключение см. выше), тем более, не было придаточных
предложений, которые, кстати, отсутствуют в языках народов, не имеющих
письменности. Все равно, то, о чем мы только что рассказали, — настоящее «чудо из
чудес» . Ведь до недавнего времени считалось, что сам механизм формирования
понятий и их ассоциирования с сигналами — суть членораздельного языка, —
непреложная и исключительная привилегия человека.
Подумать только: у обезьян нет общественного труда, — той обязательной
предпосылки речи о которой писал Ф. Энгельс в своем известном произведении
«Роль труда в превращении обезьяны в человека». Нет у них «за плечами» и тех
миллионов лет эволюции, которые привели к появлению в височной области коры
левого (у правшей) полушария человеческого головного мозга особого речевого
центра. Кровоизлияние (инсульт) в этом центре лишает человека способности
говорить : нарушается механизм перекодировки понятий-представлений в речевые
сигналы.
В естественных условиях обезьяны пользуются врожденными сигналами, набор
которых у них, как у других животных, весьма невелик. Откуда же взялась эта
потенциальная способность говорить у человекообразных обезьян? — Загадка!
А нельзя ли в таком случае обучить чему-то, похожему на человеческую речь,
и каких-либо других высших животных?
Как известно, попугаи, скворцы, вороны и т.д. прекрасно имитируют звуки
человеческой речи, абсолютно не понимая ее смысла. Тем не менее, недавно
появились сообщения Ирене Пеппенберг из Университета Аризоны (США) о том, что и
серый попугай-жако, если поощрять его довольно своеобразным способом за
правильный ответ (спрашивают лаборанта, к которому птица очень привязана, и тот
многократно отвечает впопад, а потом вдруг молчит, за что его выставляют из
комнаты, если попугай не подскажет), в конце концов, обучается отвечать
осмысленно, хотя и однозначно. Например: «Что это?» - «Дерево» (показали
карандаш) . «А это?» — «Авто» (показали игрушечный автомобиль). «А это?» — «Ключ».
«Цвет?» — «Желтый». «Сколько здесь ключей?» - «Три».
Всего попугаи, как и все прочие исследованные в этом отношении высшие
животные, включая «говорящих» обезьян, могли считать только до 6-7. Шимпанзе
различали даже соответствующие арабские цифры!
Оказалось, что серый попугай по имени Алекс может, так натренировавшись,
пользоваться человеческой речью и для того, чтобы выражать свои желания: «Дай
пробку!», «Хочу воздушную кукурузу!», «Хочу домой!» или даже — чувства: «Я
тебя люблю». Попугаю показывают разноцветные карандаши. «В чем разница?» —
«Цвет». А теперь демонстрируют связку одинаковых ключей, повторяя тот же
вопрос — «Нет», после некоторого раздумья отвечает попугай! Он здоровается и
прощается со своей хозяйкой. Всего попугаям удается осмысленно запомнить
более 70 слов.
А не пора ли в связи с этими новыми открытиями серьезнее отнестись и к
старым байкам о «гениальных» лошадях? Наблюдательная Ладыгина-Коте до конца
своих дней дивилась тому, что видела собственными глазами. Однако, как помнится,
рассуждала так: нельзя же поверить, что лошадь способна решать арифметические
задачи, такие, что не под силу и человеку, например, извлекать кубические и
четвертой степени корни из четырехзначных чисел. Значит, явно что-то там «не
то», какая-то мистификация, хотя и по сей день так и осталось загадкой, какая
именно. Дело, конечно, темное.
Выходит, с лошадьми лучше пока отставить. Ведь вполне достоверных данных с
обезьянами и попугаями и так более чем достаточно для того, чтобы по-новому
подойти к давно уже волнующему ученых вопросу: где же в таком случае
пролегает барьер между психикой животных и человека? Справедливо ли считать, что
речь идет только о количественных различиях? Мы, мол, такие же как и они, но
только неизмеримо «умнее»?
Нет, конечно. Пропасть между нами и ими, действительно, существует, но
проявляется она в другом. Вот, пожалуй, одно из наглядных подтверждений ее
существования .
В настоящее время описано уже несколько десятков случаев, когда
человеческих младенцев похищали при разных обстоятельствах и вскармливали своим
молоком животные: обезьяны, иногда по некоторым сообщениям, даже хищные звери:
волки, медведи, леопарды, причем дитя каким-то непостижимым чудом выживало.
Все эти случаи происходили в тропических странах: в Африке, Индии, Индонезии.
Результат таких опытов, поставленных самой природой и уже достаточно
многочисленных для того, чтобы можно было сделать обобщающий вывод, во истину
сенсационен .
Животное, вскормленное человеком, сохраняет многие повадки своего вида, в
том числе — свойственные ему способ передвижения, врожденные выразительные
движения.
Что же происходит с людьми, которых, подобно киплинговскому Маугли, Тарзану
или мифическим основателям Рима Рему и Ромулу, вскормили животные? У этих
детей после их возвращения в человеческое общество уже никогда не развивается
речь (разве, каких-нибудь несколько слов) или даже способность нормально
передвигаться на двух ногах. Они ловко бегают на четвереньках, подобно,
например, павианам, и издают нечленораздельные звуки, едят из поставленной на пол
миски, срывают с себя одежду. Обычно такие «маугли» живут в неволе недолго,
не более нескольких лет, оставаясь до конца своих дней не людьми, а, если
судить по поведению, — животными, какими-то обезьянами, что ли. Их повадки и
голосовые сигналы, в частности, напоминают таковые приемных родителей. Какой
же из всего этого следует вывод?
Наше умение ходить на двух ногах, речь и способность с ее помощью
накапливать знания имеют, несомненно, врожденную основу. Тем не менее,
соответствующие нервные механизмы включаются только в том случае, если ребенок после
рождения, общаясь со взрослыми, постепенно перенимает их поведение. Упущен
определенный критический срок, по-видимому, от нескольких месяцев до полугода-
двух лет после рождения, и все пропало. Возможность дальнейшего развития в
нормальную человеческую личность уже исключена. Если в этом возрасте
приемными родителями были животные, то уже пожизненно усваиваются их повадки. Раннее
обучение, в отличие от последующего, носит более или менее необратимый
характер.
Конечно, можно выучить иностранные языки, зная родной, который маленькие
дети подчас и забывают. Однако, если не было своевременного раннего обучения,
теряется сама врожденная способность говорить и даже — ходить на двух ногах.
Аналогичные явления необратимости раннего обучения — так называемого «запе-
чатлевания» — свойственны и ряду других животных, кроме человека. Например,
утенок или гусенок следует как за матерью за первым же попавшимся ему на
глаза после выклева из яйца крупным подвижным предметом; будь то хоть человек,
хоть футбольный мяч, который тянут за веревочку. Далее переучиться на
подлинную мамашу они уже не способны. Так же обстоят у них дела и с выбором брачной
пары. Например, селезень, если вырос в компании гусей, ухаживает только за
гусынями. Лососи возвращаются из моря нерестовать в ту реку, в которой
выклюнулись из икры. Рабочий муравей признает за «своих» только тот вид, в
муравейнике которого он вывелся из куколки.
И все-таки, похоже, ни у одного существа, кроме человека, последствия
раннего запечатлевания не играют такой всеобъемлющей роли, как у нас во всех
формах поведения и даже в способе передвижения.
Второе наше отличие: информация, хранящаяся в памяти любой человеческой
личности и, в значительной мере, определяющая все поведение человека, —
продукт не его индивидуального, а коллективного опыта, накопленного многими
поколениями людей. Любое человеческое «Я» — как бы «ячейка памяти» громадной
надличностной информационной системы, имя которой Общество. Общественный
информационный фонд растет подобно коралловому рифу веками и тысячелетиями на
всем протяжении человеческой эволюции.
Ничего подобного ни у одного животного нет.
Конечно, коллективное обучение играет важную роль в поведении всех
животных. К примеру, английские синицы-лазоревки после второй мировой войны
научились через подражание проклевывать насквозь фольговые крышечки бутылок и
воровать сливки. Макаки в Японии выучились мыть овощи, которые им дарят люди, и
даже красть газировку из автоматов. Однако, это — лишь подражание, не более.
Мы копим опыт, главным образом, благодаря языку, а в нем громадную роль
играет именно возможность изложения событий прошлого.
В некоторых современных человеческих языках, например, индейцев хопи,
никаких понятий, обозначающих прошлое или будущее не существует. Однако, выражать
события в прошлом они, как и все люди, конечно, могут, только получается это,
на наш слух, диковато: «Я нахожусь здесь пять лет (тому назад)».
Бойцы вспоминают минувшие дни
И битвы, где вместе рубились они...
Можно полагать, что такими воспоминаниями делились уже наши доисторические
пращуры, умелые и прямоходящие, когда еще и кроманьонцев на земле не
существовало. Речь, скорее всего, была тогда еще, преимущественно, жестовой и
многие действия, в виду ее скудного словарного запаса, передавались пантомимой,
этим древнейшим из всех человеческих искусств.
Одной из самых поразительных особенностей человеческого интеллекта является
способность в определенном возрасте ассоциировать сигналы с их смысловым
содержанием («слово-смысл») даже, если сигналы не обычные звуковые или хотя бы
зрительные (как в жестовом языке глухонемых и в письменности) , а...
осязательные . Это доказывают поразительные достижения некоторых слепоглухонемых людей,
в их числе — известной шведской писательницы Хеллен Келлер. Она в раннем
детстве лишилась слуха и зрения в результате тяжелого заболевания, но
талантливый педагог обучил ее языку осязательно ощущаемых сигналов и передал с его
помощью громадную информацию. Впоследствии X. Келлер научилась читать
пальцами «осязательные» книги для слепых и сама начала писать такие тексты,
создаваемые проколами в бумаге. Эта женщина имела оригинальный литературный стиль,
прекрасно формулировала глубокие мысли, дошла до интереснейших философских
обобщений. Ее долгая творческая жизнь — достойный пример для всех, потерявших
веру в себя, отчаявшихся и заблудших.
Характерно: в своей наиболее известной книге X. Келлер повествует о том до-
человеческом состоянии, в котором пребывала ее душа до овладения
«осязательным» языком. Где литература, там, неизбежно и воспоминания о прошлом.
Между тем, напомним: у шимпанзе, научившихся «говорить», точно так же как у
полутора-двухгодовалых детей, прошлое как бы отсутствует. У них, по-видимому,
просто нет столь свойственной человеку потребности делиться информацией о
том, что было раньше. Едва ли у обезьян возможны и какие-нибудь высказывания
о будущих совместных действиях. Не ясно и то, может ли помочь
человекообразным обезьянам освоенная ими жестовая сигнализация координировать трудовые
действия, например, общими усилиями все-таки свалить тот валун над сосудом с
вареньем, о котором мы недавно рассказали? Ведь, как отмечают многие
зоопсихологи, у этих обезьян в природе отсутствует даже столь типичный для нас и
легко ими перенимаемый указательный жест пальцем или рукой: «Глянь-ка, что
там такое»? Впрочем, человекообразные в этом отношении, возможно, не лучший
пример, поскольку они — не стайные животные, в отличие от, скажем, павианов и
мартышек, способных к кое-каким совместным манипуляциям.
2.3. Семиотические
революции и основные
закономерности
развития культур
Науку о знаках, символах, кодах, языках, используемых для передачи и
хранения информации, называют семиотикой. Символ не имеет никакого смысла, кроме
того, о котором «договорились» сообщающая и принимающая сообщение стороны
(так называемый принцип конвенции). К. Лоренц и Н. Тинберген, сравнивая
брачное поведение разных видов уток и аквариумных рыб-цихлид, приметили, что в
обоих случаях сигнал, обозначающий, к примеру, у одного вида приглашение
самке подойти ближе, у другого вида может выражать, напротив, угрозу, ничего не
значить и так далее. Сказав болгарину спичка, можно схлопотать по фейсу.
Красота по-польски — урода. Опыт по сербохорватски — вредность. Стакан по-
турецки — бардак. Автобусная остановка на том же языке — дурак и так далее.
«Знак» у нас вполне справедливо ассоциируется с дорожными знаками. Однако,
и брачная окраска у бойцовой рыбки — тоже «знак»: самец готов к брачному
поведению . Птичья песня — «знак»: «территория занята гнездующей парой и чужих
своего вида выгоним». Пес виляет хвостом, кот — тоже, но смысл этого «знака»
у них противоположный.
Язык — система знаков, обозначающих объекты (лексика) и межобъектные
отношения (грамматические конструкции).
Языков, только доживших до наших дней, — тысячи. Кроме так называемых
естественных языков, которые служат людям для общения, существуют многочисленные
машинные языки для ЭВМ. И наследственную информацию, записанную в длинных це-
певидных макромолекулах дезоксирибонуклеиновой кислоты (ДНК) разными
комбинациями по три из четырех веществ — нуклеотидов (цитозина, гуанина, тимина и
аденина), ныне ученые признают за «язык» — древнейший из всех. На примере ДНК
хорошо видна разница между «языком» и «кодом».
«Код» — способ выражения информации в знаковой системе, каковой является
любой язык.
Так, каждому сочетанию из трех нуклеотидов в цепочке ДНК соответствует одна
аминокислота в также цепевидной макромолекуле белка. Всех возможных
комбинаций из четырех по три — шестьдесят четыре, а аминокислот всего двадцать.
Поэтому в генетическом коде много синонимов, за что его называют «вырожденным».
Мы приносим глубокие извинения нашим читателям-небиологам за этот, возможно,
им не совсем понятный пример.
Что такое «код», без наших разъяснений прекрасно знают все разведчики. Ведь
им приходится сообщения на родном языке делать непонятными для непосвященных,
заменяя отдельные буквы, слоги или даже слова, фразы, разными другими
символами : буквами, числами и так далее. Смысл же от этого не меняется.
Когда мы строим фразу, в мозгу мгновенно появляется план ее содержания
(смысл). Он преобразуется в план выражения (как подать информацию, подобрать
получше слова и грамматическую конструкцию) и... все это происходит так быстро,
причем вне нашего сознания, что мы частенько сами узнаем, что хотели сказать,
только когда уже слышим собственные тирады, одновременно с нашим
собеседником!
Элементам языка соответствует их семантическое (т.е. смысловое) содержание.
В мозгу существует некая «семантическая карта» — громадный набор понятий, —
обобщенной информации об объектах внешнего мира, типа «стул вообще», «лошадь
вообще».
«Вообще» здесь означает: не какая-то одна конкретная, а «любая». Все стулья
подпадают под понятие «стул», все лошади — под понятие «лошадь».
Этого разъяснения, полагаем, достаточно, чтобы читатель понял все, о чем
будет говориться далее о языках, знаковых системах, эволюции культур и так
далее.
Кроме языков вышеупомянутых, ученые еще говорят о «языках» общественных
насекомых : термитов, муравьев и пчел. У первых двух он, в основном, химический
и пока не расшифрован. У пчел же их уже упомянутый нами «язык» — своего рода
«танец», сообщающий работницам, в каком направлении и как далеко летала
пчела-разведчица. Изучен этот «язык» хорошо, но он врожденный, так что особой
общности с нашими языками здесь нет.
Выходит, человеческие языки — нечто новое и особенное в истории
органической жизни на земле. Посему их появление, развитие (в масштабах истории Земли
все это — момент) можно справедливо назвать Первой великой семиотической
революцией .
Родившись, языки развиваются подобно биологическим видам. От какого-то
одного общего праязыка постепенно ответвляются новые. Сперва зарождается новый
местный говор, например, питерцы и москичи говорят чуть по-разному. Затем уже
возникает диалект, как, например, у волжан. А там уже мало помалу из одного
языка получаются несколько новых. Так, древне-славянский язык дал начало
польскому, чешскому, сербско-хорватскому, древнерусскому и другим языкам
славянской группы. От древнерусского произошли наш русский, украинский и
белорусский языки. Славянские языки, наряду с романскими, германскими, летто-
литовскими, индо-иранскими и так далее, образуют индо-европейскую языковую
семью. Некоторые семьи удалось объединить в надсемейства, выявив еще более
отдаленные отношения родства. По типу грамматик языки подразделяются на
флективные (есть склонения, спряжения — как в русском, немецком), аналитические
(более или менее обходящиеся без падежей, спряжений, как, например,
китайский) и удивительные для нас инкорпоративные, как, к примеру, чукотский, в
которых каждое предложение — как бы одно слово. Несмотря на это, перевод
смыслового содержания фразы с одного языка на другой возможен в практически
любом случае.
Язык всегда — часть культуры. Культура же — совокупность самых разных
взаимосвязанных семиотических систем или то, что мы в предыдущем разделе назвали
«информационным фондом» («мимофонд» по Р. Доккинзу).
У нас в последнее время очень много говорят и пишут о нациях и национальных
культурах, не очень-то затрудняясь проблемой: а что это, по сути дела, такое?
Собственный язык, в отличие от информационного фонда, — далеко не
обязательное условие существования единой национальной культуры. То же можно ска-
зать даже о территории. Известно немало народов, говорящих на нескольких
языках, но, тем не менее, имеющих единую национальную культуру. Это, например,
можно сказать о франко- и валлоноязычных бельгийцах, швейцарцах и даже о
норвежцах, у которых языков несколько, а этнос один. Курды живут на нескольких
территориях плотно, а в других местах — в диаспоре, но остаются единой
нацией. Англичане и американцы или немцы, австрийцы и германоязычные швейцарцы —
разные народы.
Между информационными фондами разных народов постоянно происходит обмен
компонентами. По разным обстоятельствам, включая и численность, у одних
народов этот фонд грандиозный, а у других — очень маленький.
То же относится и к словарному фонду языка. Не на каждом, прямо скажем,
языке прочитаешь лекцию по теоретической физике! На юге острова Суматра,
например, живет племя кубу, у которого в языке всего несколько десятков слов,
меньше, увы, чем у недавно упомянутых «говорящих обезьян», хотя, надо
полагать , выучив английский или какой либо другой язык эти люди вполне могут
оказаться ничуть не глупее нас с вами. Пример многих отсталых племен, шагнувших
в XX век из каменного за буквально одно поколение, это убедительно доказал
назло расистам.
Как бы то ни было, Второй семиотической революцией стало появление
письменности, сперва иероглифической, слоговой, позже (от финикийцев) —
фонетической, «нашего» типа. Первые обнаруженные письменные памятники — уже довольно
сложная клинопись и иероглифы на глине или камне — Шумер и Махенджо-Даро
(Индия) — 4,5-4 тысячи лет до нашей эры. Бронзовый век. Об этом мы уже говорили.
Третья и Четвертая революции произошли сравнительно недавно. Это, как
читатель уже вероятно догадался, изобретение Гутенбергом печатного станка (XV
век, на тысячелетие без малого позже, чем в Китае, но там книгопечатание мало
использовали) и первых печатных периодических изданий — Англия, XVII век. (В
древнем Риме была, правда, во II веке рукописная газета).
Дальнейшие очередные семиотические революции совершились и продолжаются уже
буквально на наших глазах во все убыстряющемся темпе. Так, появились средства
проводной (XIX век) и затем беспроволочной (начало XX века) связи, вскоре
превратившиеся также в новые, причем основные средства массовой информации
(первая четверть - середина XX века), возникли космические средства связи и
началась всеобщая компьютеризация (сейчас). Всевозможные информационные и
семиотические системы как бы переплелись в планетарном масштабе. При этом
большую роль сыграли создание и быстрый рост хранилищ информации на разного рода
«внемозговых» материальных носителях (библиотеки, музеи, кино- и фонотеки, в
последние годы — гигантская память ЭВМ, их глобальные системы связи через
электронную почту и информационные сети с глобальной базой данных типа
«Интернет» и т.п., развитие каналов оптической передачи посредством волоконной
оптики). Все эти плоды прогресса, в совокупности, изменили облик
человечества, и быстро продолжает изменять его на наших глазах.
Изменяется основная система ценностей, кардинальным образом
трансформируется психика человека. Национальные «информафондовые ручейки» все больше
сливаются в единый, невероятно мощный информационный поток, который несется все
быстрее и быстрее, Бог весть куда.
2.4. Развитие цивилизации
как частный случай
эволюционного процесса
Чтобы обозреть процесс развития нашей цивилизации, оглянемся назад, на его
истоки.
Еще столетие тому назад глобального «информационного пространства» не суще-
ствовало. Соответственно, не было оснований, следуя за академиком В.И.
Вернадским, называть это пространство «ноосферой». Однако, и тысячелетия назад
человеческая личность с ее языком, культурными навыками, знаниями,
представляла собой как бы часть единого целого. Вне этого целого, то есть общества с
его фондом информации, копившимся много поколений, человек уже тогда не мох1
нормально развиваться после рождения и существовать вообще. Он уже тогда
приспосабливал к своим нуждам среду, безжалостно изменял ее и не умел, в отличие
от других существ, жить в первозданной природе. Нарушение биологического
равновесия — результат деятельности человека — уже тогда выступало в роли
глобального геофизического фактора.
Человек разумный — человек разрушающий!
Громадные пустыни Северной Африки и Средней Азии, в значительной мере,
антропогенного происхождения, хотя возникли очень давно.
Одна из важнейших закономерностей развития человечества (мы ее уже
коснулись вскользь в конце предыдущего раздела) следующая.
У всех живых существ, кроме человека, эволюция связана только с изменениями
наследственной информации в молекулах ДНК: случайными мутациями и
естественным отбором. Последний контролирует результат мутаций через выживание
потомства по принципу обратной связи, для вредных вариантов — отрицательной, а для
полезных — положительной. У людей же есть еще и второй, внегенетический
информационный фонд, это культура, включая, в частности, язык как ее компонент
и, конечно, науку.
Информация, хранимая в этом фонде (английский ученый Р. Доккинз по аналогии
с генами, генофондом предлагает термины: «мимы», «мимофонд» — от корня «мим»
— подражание, имитация) эволюционирует неизмеримо быстрее генетической и
независимо от нее. К тому же, она, в отличие от генофонда, имеет тенденцию
постоянно наращивать свой объем за счет лепты, вносимой отдельными поколениями.
Такое наращивание издревле давало себя знать во всем, что относится к
технологиям изготовления орудий, навыком и приемам труда. Изобрел, например, кто-
то в незапамятной древности гончарный круг, пращу, лук и стрелы. Все это
осталось в коллективной памяти человечества, наряду с последними открытиями в
лазерной технике, ракетостроении и квантовой физике.
Аналогом мутаций изменений генотипа в культурной и языковой зволюциях
являются, соответственно, культурные и языковые инновации (отклонения от
культурной или языковой «нормы»). Инновации возможны во всем, что относится к
культуре : науке и технике, фольклоре, национальном костюме, архитектурных стилях
и модах, даже в религиях.
Как известно, христианство, изначально порвав с иудаизмом; вскоре
претерпело ряд расколов и ересей. В 1054 г. оно окончательно разделилось на две
большие ветви: восточную (православную) и западную (католическую), от которой в
XVI веке изошли несколько протестантских церквей, продолжавших дробиться и
далее. И православие раскололось на ортодоксальное и никонианское (XVII в.),
а также дало начало множеству толков и сект. Некоторые христианские церкви на
Востоке (несторианство, монофазиты) отделились от общего ствола еще более
тысячи лет назад. Число христианских конфессий продолжает расти и по сей день.
Например, в США насчитывается уже более двух тысяч христианских конфессий.
Точно таким же ветвлениям подвергаются и другие мировые религии.
Кому уж «сам Бог» велел множиться расколами и ветвлением, так это конечно,
политическим партиям. Кажется они только на то и созданы, чтобы подобным
образом «размножаться!»
Новации в языке и культуре — аналог мутаций в полном смысле этого слова.
Для них тоже есть контроль «тиражей» по принципу обратной связи. Одни новации
тиражируются, обретая право на долгую жизнь. Другие, как родились, так и не
приживаются, быстро сходят на нет, на манер наших послереволюционных словосо-
кращений Комбед, Профсож, Губтремод, Главкомснаб и многих других — кто сейчас
их помнит?
Подобно близкородственным биологическим видам, которые произошли от общего
предка, обитают в сходной «экологической нише» и потому ожесточенно
конкурируют между собой, родственные культуры и идеологии тоже вступают в жестокие
взаимно-конкурентные отношения.
Беспощадно «воюют» между собой разные виды муравьев и даже, очень часто,
соседние колонии одного и того же вида. Если в доме заводятся крысы, мышам в
нем не жить. Уничтожат.
Когда в Европе впервые появились серые крысы-пасюки, мигрировавшие туда из
Азии, у них разгорелась своего рода «война» против местных черных крыс-
конкурентов . Оба вида друг1 друга беспощадно уничтожали. Вероятно, не лучшими
были и отношения наших давних предков с неандертальцами. Точно так же ведут
себя друг с другом близкородственные религиозные конфессии (война за души
верующих !) и идеологии. Против кого был направлен весь запал ненависти христиан
и иудеев, когда христианство только-только отделилось от общеиудейской ветви?
А потом эта ненависть стала уже не такой острой (хотя и сохранилась) как
вражда между христианскими конфессиями: никейцев с арианами, католиков с
православными, старо- и новообрядцев, католиков и лютеран и так далее.
Марксисты, едва народились, передрались между собой, позабыв о «буржуях».
Вспомним, как ненавидели друг друга большевики и меньшевики, а потом уже
всякие там «правые» и «левые» уклонисты, троцкисты, сталинисты, бухаринцы,
«Рабочая оппозиция». Кровь лилась реками. Взаимная ненависть была куда острее,
чем, например, между коммунистами и монархистами!
В недавнем прошлом КПСС видела врага номер один вовсе не в «империалистах»,
а, конечно же, в раскольниках: тито-фашистах, маоистах, полпотовцах и пр. Те
отвечали полной взаимностью. Вспомним остров Даманский! В Веймарской
республике 1929-1933 годов коммунисты видели своего главного врага не в
гитлеровцах, а в либеральных социал-демократах, на большевистском языке тех лет
«социал-фашистах». Те, в свою очередь, окрысились на большевиков. Эта взаимная
грызня и открыла Гитлеру путь к власти.
Сейчас у нас, кажется, уже 8 или 10 коммунистических партий. Они
ожесточенно воюют между собой! Такая же малопочтенная драка идет между «демократами»
или внутри «патриотического» лагеря.
И другие закономерности эволюции культур, языков, религий, технологий во
многом напоминают закономерности биологической эволюции. Так, в изоляции
происходит задержка эволюционного развития. На островах и в горах часто
встречаются чудом уцелевшие древние (реликтовые) виды животных и растений. Подобным
же способом сохраняются и древние (реликтовые) культуры, например, некоторых
индейских племен, затерявшихся в дебрях Амазонских тропических лесов, цен-
тральноафриканских пигмеев, бушменов, австралийских аборигенов — народов, все
еще живущих в каменном веке. В Приуралье обитат малочисленная народность
манси, сохранившая до наших дней язык, многие обычаи и верования того древнего
угро-финского племени, большая часть которого около семнадцати веков назад
откочевав оттуда в Европу, дала начало венгерской нации. Канадские французы и
поволжские немцы говорят на том допотопном языке, которым их соотечественники
пользовались в XVII-XVIII веках.
Отрыв от общенациональной культуры породил неизбежный застой. То же
касается науки и техники в условиях изоляции. От этого в былые годы очень страдали
наши «почтовые ящики» и провинциальные вузы. Причина везде одна: в большом
количестве голов вероятность того, что хоть одну из них посетит умная мысль,
конечно, выше, чем в малом их количестве. То же — с языковыми новациями и
биологическими мутациями: в больших скопищах вероятность их появления выше,
как следует из только что рассказанного.
И биологическая, и языковая, и культурная эволюции выглядят как ветвящееся
древо. Биологи и, подражая им, филологи, историки и этнографы называют это
явление «дивергенцией» (ветвлением, расхождением).
Есть и другое общее явление — «конвергенция».
В сходных ситуациях эволюция избирает сходные пути и находит аналогичные
решения.
Так, млекопитающие дельфины и киты с виду очень похожи на рыб. И вымерший
ящер ихтиозавр внешне напоминал рыбу. Что поделаешь? Плавать надо!
Точно то же явление наблюдается в эволюции культур. Древние люди
монгольской расы около тридцати восьми тысяч лет назад перебрались в Аляску по льду
Берингова пролива и, расселяясь на юг, дали начало всем индейским племенам.
Пришли они в Америку дикарями еще в палеолите, а уже там создали со временем
великие цивилизации майя, атцеков, инков и др. И вот чего только не изобрели
краснокожие совершенно независимо от людей Старого света: письменность,
способы строительства сложнейших архитектурных сооружений, гончарный круг,
холодную и горячую ковку металла, точнейший в мире календарь, органические и
минеральные красители. Там тоже, как и в Старом свете, появились государства
с чиновничеством, аристократией, налоговой системой, регулярной армией,
сложные религии, храмы, развитое сельское хозяйство, хотя, по-видимому, из-за
отсутствия тягловых животных не использовались колесо и плуг. Индейцы первыми
освоили многие сельскохозяйственные культуры, позже вывезенные в Европу, в
том числе картофель, кукурузу, табак; научились выделывать прекрасные ткани.
Больших высот достигло мастерство ювелиров, расцвели изобразительные
искусства, строились громадные города. Все это — поразительный пример конвергенции с
культурной эволюцией Старого света. Американский психолог и психиатр Р. Юнг
(1875-1961) связывает такие совпадения с «архетипами» человеческого сознания.
Разные цивилизации развиваются весьма сходно, даже никак не контактируя между
собой.
Сравнительно недавно биологи открыли эффекты так называемой
«горизонтальной» эволюции: переноса генов от одних организмов другим, иной раз, совсем
неродственным. Известны и случаи возникновения новых групп организмов через
взаимовыгодное сожительство (симбиоз) и далее слияние неродственных живых
существ . Лишайники — продукт сожительства сине-зеленых водорослей и низших
грибов . В культурной и языковой эволюциях аналогичных примеров очень много. В
любом языке позаимствованных слов вроде наших «почтамт», «кино», французского
«бистро» от нашего «быстро». Известны и языки продукт слияния: «пиджин-
инглиш» от английского и малайского, английский от древнеанглийского языка
германской группы и французского, креольские языки Вест-Индии и так далее. В
культурах, обрядах, обычаях, религиях и технологиях подобных же явлений без
числа. Ряд культур, этносов, наций — продукт слияния.
Известны и народы, остающиеся веками этническими химерами: в одном народе
несколько несмешивающихся этнических групп языков, религий как например,
древние хазары, народы США, ЮАР, Зимбабве, Руанды, Сингапура, Ливана. В
химерах часто возникают межэтнические и межконфессионные конфликты, порой какая-
то группа вылезает вверх, но все-таки кое-как живут.
Даже такое, вроде бы, чисто биологическое явление как паразитизм имеет, как
известно, некоторые аналогии в социально-исторической сфере. Мало ли помнит
история завоевателей, живших за счет покоренных народов? В любом обществе
хватает паразитических социальных групп, а также отдельных индивидов-
захребетников .
В чем же все-таки причина единства многих закономерностей эволюции,
биологической, языковой, культурной и так далее? Един основополагающий принцип.
Эволюция через изменчивость и отбор — общее свойство самовоспроизводящихся
или тиражируемых систем (живые организмы, языки, культуры, технологии и так
далее), у которых копии (потомство) могут отличаться от оригинала (мутации,
новации) по отдельным признакам, влияющим на дальнейшее размножение (тираж).
Все системы такого рода называют «конвариантно репродуцирующимися» т.е.
«неточно копируемыми» системами.
Какие-то ненаправленные изменения этих систем, приводящие к их расхождению
(дивергенции) могли бы происходить даже, если бы изменения признаков
(опечатки) не влияли на численность потомства (тираж), а носили, так сказать,
«нейтральный» характер. Действительно, известно, что многие мутации организмов и
новации, например, в языке, носят как раз такой характер. Однако подобный
процесс без отбора был бы по последствиям равнозначен многократным
переизданиям книги без исправления в ней опечаток. Очевидно, что конечным результатом
стала бы хаотическая смесь букв.
Фактически же идет отбор: одни отклонения от оригинала ведут к уменьшению
численности новых копий или вообще прерывают дальнейший процесс копирования.
(Эффект отрицательной обратной связи). Другие варианты отклонений, напротив,
способствуют росту численности копий (потомства) в данных условиях. (Эффект
положительной обратной связи). В соответствии с тем, эволюция носит
приспособительный и направленный характер.
Так, понятно, что, если одну и ту же книгу выпускают в нескольких разных
переплетах и она хорошо раскупается при этом только в одном из них, далее ее
предпочтут издавать именно в нем, пока не придумают очередной того лучше
раскупаемый вариант. В разных ситуациях и странах вкусы покупателей могут
оказаться разными. Это неизбежно и на книжных обложках. Весьма обыденная
житейская проза, но в ней то общее с биологической, культурной и прочими эволюция-
ми.
В. Еременко в статье «Мессия11» пишет: «Годами выковывался образ вождя, все
дальше уходя от живого прототипа. Кто много путешествовал по нашей стране,
наверно, заметил сходство Ленина на портретах с типами лиц коренных жителей
республик. В Закавказье он типичный горец — чернобородый, нос с горбинкой. В
Средней Азии преобладают черты монголоида. Это не отклонение от стандарта.
Портреты одни и те же. Это своего рода приближение ленинского облика к
народным массам.»
Чем не пример приспособительной эволюции через изменчивость и отбор? Ведь
первыми оригиналами были одни и те же фотографии. Здесь налицо даже
дивергенция в условиях географической изоляции. Через сбыт сработал известный всем
технически грамотным людям эффект обратной связи, тот же, что и в
дарвиновской естественном отборе.
В капиталистическом производстве этот фактор сбыта всегда был движителем
научно-технического прогресса, а также причиной того, что капиталисты не
жалеют денег на рекламу.
Возьмем язык — там то же явление. Сейчас, к примеру, молодежь охотно
говорит вместо «хорошее» - «клевое». Пройдет лет сто, и не исключено, что все уже
привыкнут к новому слову. Оно постепенно вытеснит слово-конкурент. Такой
процесс идет тысячелетиями. Слова рождаются и отмирают, а заодно с ними и весь
язык постепенно изменяется до неузнаваемости.
Характерно, что Карл Маркс, по-видимому, хорошо понимая эту общность разных
типов эволюции, первоначально намеревался написать на титульном листе
«Капитала» : «Посвящается Ч. Дарвину». За соответствующим разрешением он обратился
к самому автору «Происхождения видов», но тот наотрез отказал.
Многие совпадения закономерностей биологической и культурной эволюции
рассматриваются в трудах американского психолога Эрика Эриксена, а также в
работах ряда других ученых. Их обзор приведен в статье А.К. Скворцова «Механизмы
В сб.: «Вождь. Ленин, которого мы не знаем», Саратов, 1992.
органической эволюции и прогресса познания ». Та же проблема освещается в
недавно появившейся у нас в русском переводе книге уже упомянутого Р. Доккин-
за «Эгоистичный ген».
В числе таких совпадающих закономерностей — прогрессивный (направленный к
усложнению) и самоускоряющийся характер эволюции. Первая закономерность
объясняется тем, что усложняющие изменения, как и любые другие, в принципе,
возможны. Поэтому в рядах поколений эволюционирующих систем то и дело
происходят, в частности, и такие изменения. В следующих аналогичных рядах возможен
новый усложняющий шаг от уже достигнутого уровня сложности. Так, шаг за
шагом, какая-то часть систем делается все сложнее и сложнее, если отбор
сохраняет усложняющие изменения, т.е. они способствуют выживанию потомства. Таким
образом, прогрессирует только какая-то часть параллельно эволюционирующих
систем. Прочие же остаются на прежнем примитивном уровне. Эту закономерность
хорошо иллюстрируют и биологическая и культурно-техническая эволюции. В
языках такая тенденция выражена гораздо слабее, поскольку усложнение может идти
в ущерб понятности, особенно в устной речи, но тоже наличествует. Развивается
грамматика, обогащается словарный запас в связи с появлением новых понятий.
Высшие млекопитающие и в том числе человек — только ничтожная часть ныне
живущих организмов. Так, на нашей планете неизмеримо больше примитивнейших
живых существ: вирусов, бактерий и сине-зеленых водорослей. Как мы уже только
что отметили, в дебрях Амазонии, на Суматре и Новой Гвинее, в Австралии, на
Филиппинах и так далее, до наших дней сохранились племена, живущие в каменном
веке. Среди современных языков, опять-таки, наряду с высокоразвитыми, такие
как только что упомянутый язык кубу с его ничтожным словарным запасом и ряд
других не намного богаче.
В чем причина самоускорения многих эволюционных процессов?
Если эволюция системы носит прогрессивный характер, по мере ее усложнения
нарастает объем информации. А чем больше информации, тем богаче и
потенциальные возможности дальнейших изменений. Сравните с только что нами
рассмотренным эффектом задержки биологической и языковой эволюции в малых изолированных
коллективах.
Напомним: возраст человечества — более двух миллионов лет. Наш вид Человек
разумный существует уже около семидесяти тысяч лет. Швейцарский философ и
инженер Г. Эйхельберг предложил более шестидесяти лет тому назад такую вот
образную картину темпов прогресса человечества.
От времени появления в Европе Гейдельбергского человека прошло около
шестидесяти тысяч лет. Представим дальнейшее развитие человеческих существ в
Европе как марафонский бег на шестьдесят километров. Большая часть этого пути
пролегает через непроходимые девственные леса и только на сорок пятом-
пятидесятом километре появляются, помимо все время попадавшихся первобытных
орудий, пещерные рисунки — начальные признаки культуры. Лишь на последних
четырех -трех с половиной километрах к ним добавляются первые возделанные поля.
За два километра до финиша дорога уже покрыта каменными плитами — бегун
минует древнеримские крепости. За километр повстречаются средневековые города. За
пятьсот метров на бегуна взглянет всепонимающим взглядом Леонардо да Винчи.
Остаются последние двести метров. Они преодолеваются при свете факелов и
чадящих масляных светильников. Наконец, когда до финиша осталось менее ста
метров , ночную дорогу заливает ослепительный свет электрических лампионов. Под
ногами асфальт. Машины шумят на земле и в воздухе. За пятьдесят метров до
бегуна доносится голос радиодиктора, сообщающего о взрыве в Хиросиме. Остались
считанные метры до финиша, где в свете прожекторов столпились теле- и
фотокорреспонденты! Естественно, последние фразы дописали уже мы. Научно-
«Природа», 1992, N7.
техническая революция началась полтора-два века тому назад. За последние
десятилетия прогресс принял невиданно быстрый характер. Столь же ускорились
потребление человечеством невосполнимых природных ресурсов и ухудшение
экологической обстановки в глобальных масштабах. Мы, похоже, уже у финиша. Только
радоваться этому нет у нас ни малейших оснований. Ведь похоже, что в конце
марафонского бега нашу цивилизацию ожидает самоубийство, если не произойдет
чудо. К этому вопросу мы еще вернемся.
В любой приспособительной эволюции с участием отбора большую роль играют
эффекты, названные биологами «замещением функций».
Несколько странно, но факт: наши конечности — продукт эволюционного
преобразования грудной и брюшной пар плавников рыб — предков наземных позвоночных.
И жаберные артерии рыб — та система, из которой развились сонные артерии у
позвоночных, перебравшихся на сушу.
Слова вратарь, самолет, ошеломить были очень хорошо знакомы русским людям
былых веков, но смысл имели не тот, что ныне: церковный служка при царских
вратах в православном соборе, ковер-самолет, удар по шлему мечом или палицей.
Удивительны превращения гончарного круга. Вероятно, он послужил техническим
прототипом для колеса. В древних возах и колесницах колеса, сперва, были
сплошные, без спиц. Колесо и сделанные на его принципе устройства — колеса
всевозможных разновидностей современного транспорта, ветряки, турбины,
пропеллеры — нашли бесчисленные технические применения. Автомобиль сперва
называли самодвижущимся экипажем. Он и выглядел как карета или пролетка. Та же
замена функций происходит со многими современными изобретениями.
Есть еще и такое важное свойство систем, эволюционирующих через отбор, как
неустойчивость, недолговечность, относительная малочисленность большинства
переходных промежуточных форм.
Новые биологические виды развиваются иногда постепенно: локальная
популяция , раса, подвид, наконец, новый вид. Этому способствуют условия изоляции,
например, географической. Но бывает и иначе: одна или немного мутаций
порождают нескрещиваемость с прежними сородичами. Потом естественный отбор
совершенствует получившихся «отщепенцев», если им повезет остаться
жизнеспособными. То же происходит с культурами, языками, идеологиями.
Напомним: местный говор — диалект — подъязык — язык. Но что же такое
полуязык , например, полуукраинский-полурусский или полупольский-полуукраинский?
Такой глупости не бывает в сколько-нибудь устойчивом виде. В чем причина?
Конечно, в конкуренции близких форм. Ни рыба, ни мясо быстро выбраковываются
отбором. Человека, говорящего на смеси русского и польского, и русский, и
поляк спросят:
— На каком это волопюке ты болтаешь?
Полуправославному-полукатолику неизбежно придется выслушивать обвинения в
ереси от приверженцев обеих конфессий, что, как известно, и происходит с
униатами. Полусобака-полуволк (гибрид) для собак — волк, а для волков, скорее
всего, — собака. И для собачьей, и для волчьей жизни он не очень-то
приспособлен . Вспомним «Белый клык». Естественно, и в политике то же самое. Больше
всего пинков и толчков достается соглашателям. Об этом так красочно
повествует бессмертное творение И. В. Сталина с анонимными соавторами «Краткий курс
истории ВКП(б)». О том, что промежуточный формы не жильцы на этом свете,
достаточно ярко свидетельствует палеонтология. В массах окаменелых раковин,
скелетов и так далее обычно один какой-нибудь вид в последующих напластованиях
осадочных горных пород сланца и известняка как бы «скачком» сменяется другим
близкородственным. Межвидовых, промежуточных останков — кот наплакал.
Эволюционистам такая закономерность кажется вполне понятной и объяснимой.
Ее связывают с особой формой естественного отбора, способствующей устранению
промежуточных форм. Ведь каждый биологический вид приспособлен жить в своей
специфической, как говорят биологи, экологической нише — варианте природной
среды, отличном от тех, в которых по соседству живут другие близкородственные
виды.
Разнообразие видов определяется или множественностью вариантов
экологических ниш в одном месте, или географической изоляцией.
Так же обстоит дело с культурами, языками, этносами. Там тоже к взаимному
обособлению привели те или иные факторы взаимной изоляции: социально-
экономической, политической, географической. Об этом мы уже вскользь сказали
в связи с явлением дивергенции.
Но вот антиэволюционисты редкую встречаемость промежуточных форм используют
постоянно как свой главный козырь. Дескать, между биологическими видами
вообще и не было никогда никаких переходов. Каждый вид возник из ничего,
одновременно со всеми прочими. Городской воробей был создан одновременно с
остальными птицами уже на Четвертый день Творения, а после того, очевидно, бедовал
без свойственной ему среды многие тысячелетия, пока люди не построили первые
города. Ведь в сельской местности городской воробей не живет. Там другой вид
— полевые воробьи.
Следуя той же логике, нетрудно убедиться, что и языки, на которых говорит
современное человечество, за отсутствием промежуточных форм родились все
сразу и одновременно после крушения Вавилонской башни! Да и все нынешние
христианские конфессии, выходит, появились одновременно. И между ними же
промежуточных форм почти нет!
Наконец, еще одна закономерность, общая для разных сложных конвариантно
репродуцируемых систем со множеством способных взаимонезависимо изменяться
признаков : ее практическая необратимость. Слова Гераклита «нельзя дважды войти в
одну реку» к любому процессу эволюции применимы вполне.
Так, все породы домашних собак произошли от волков или также, возможно,
шакалов . Однако, одичав в Австралии, собаки не стали ни волками, ни шакалами.
Появилась новая порода диких животных: динго. Отдаленными предками всех
наземных позвоночных животных являются кистеперые рыбы. Однако, те из
четвероногих, кто вернулся к водному образу жизни (киты, дельфины, вымершие
рыбоящеры-ихтиозавры и др.) , сохранили легочное дыхание и остались типичными
представителями своего класса (млекопитающие, пресмыкающиеся). И язык «Слова о
полку Игореве» вовек уже не станет живым русским языком.
Для биологической эволюции это правило необратимости впервые сформулировал
бельгийский зоолог Луи Долло (1857-1931).
Необратимость весьма просто объяснить с помощью теории вероятности. Если мы
будем много-много раз переиздавать книгу с опечатками, да еще при этом какие-
то их варианты приведут к изменениям тиража, велика ли вероятность, что
когда-нибудь повторится первый вариант? Ведь вероятности независимых событий
перемножаются. Поэтому-то невероятно, скажем, тысячекратное падение
подброшенной монеты одной и той же стороной вверх — «решкой» или «орлом». То же
можно сказать о мутациях и новациях.
Независимо друг от друга и случайным образом изменяющихся признаков у
организмов, культур, языков, технологий и прочих конвариантно репродуцирующихся
систем слишком много. К тому же, если эволюция носит прогрессивный характер,
то есть сопровождается обогащением системы разнообразной информацией,
выкинуть эту информацию «за борт», как Стенька Разин персидскую княжну, — задача
не из простых. В этом все подобного рода системы отличаются от памяти
компьютера, из которой при желании можно вычеркнуть что угодно одним нажатием на
клавишу. Отделаться от ранее накопившегося информационного груза сразу и
полностью практически невозможно, даже если он совершенно бесполезен. Обычно он
«вычеркивается» лишь медленно, по частям, теряется лишь небольшими случайно
не скопированными порциями, а в основной своей массе как бы «переводится в
архив», где-то и как-то хранится, хотя это может никак не проявляться до поры
до времени. У организмов, в их признаках, проявлена лишь какая-то, у высших
животных крайне незначительная часть наследственной информации, скрытой в ДНК
(менее десяти процентов). Прочее — «спящие гены».
То же самое можно сказать и об информационном фонде любой развитой
человеческой культуры. Многое, накопленное ею за века и тысячелетия, хранится в
устных преданиях, пылится в архивах и на книжных полках, одним словом,
сберегается в коллективной памяти общества, долго, а порой и никогда, не находя
себе применения. Так, при большом желании, мы могли бы и ныне в деталях
воспроизвести многие языческие обряды дохристианской Руси, технологию
изготовления луков, копий и кольчуг, древних судов. Вопрос только, кому это нужно?
2.5. Кто умнее:
люди или бактерии?
Ленинградское социологи М.Б. Борщевский и В.В. Руденко (1946-1970), очень
рано погибший в автомобильной катастрофе, попытались описать поведение людей
на улицах большого города, наблюдаемое сверху, с вертолета, с помощью
известных из физики газовых уравнений, уподобляя человека молекуле газа, движущейся
по случайной траектории. Конечно, каждый, казавшийся сверху черной точкой
человек, прекрасно осознавал цель своего движения. Петр Иванович спешил на
службу, Мария Петровна шла за покупками, а их сосед Пенкин уже с утра мчался
к приятелю опохмеляться. Однако, на сделанных сверху фотографиях все эти
человеческие личности были просто перемещающимися в пространстве черными
точками, а совокупность их движения — общая толчея в рабочий день — могла служить,
например, показателем качества работы городского транспорта и среднего
расстояния от работы до жилья. Города по этому признаку делились на объекты с
большой и малой толчеей — аналог «высокой» и «низкой» температуры в газовой
системе.
Точь-в-точь такой же предстает толчея одноклеточных микроорганизмов
ученому , наблюдающему за ней в микроскоп. На первый взгляд, она кажется совершенно
бессмысленной. Однако, и у них это вовсе не так. Например, если поместить в
сосуд с культурой бактерий или инфузорий очень тонкую стеклянную трубочку,
заполненную привлекательным для них веществом, у торца трубочки вскоре
скопится громадная масса этих одноклеточных организмов.
Как они туда добрались? На первый взгляд, сложного объяснения не требуется.
Из трубочки в сосуд понемножку проникает за счет диффузии привлекающее
вещество . Организмы чувствуют химический градиент и плывут вдоль него туда, где
вещества больше, с помощью своих двигательных органов: жгутиков или ресничек.
Однако, в действительности все совсем не так. Микроорганизмы — существа
размером в несколько тысячных или сотых долей миллиметра, не способны измерять
разницу между концентрациями какого-то вещества на противоположных концах
своего крохотного тела. Она слишком мала и постоянно нарушается за счет
разного рода течений в воде: конвекции и так далее.
В то же время есть другое, несравненно более разумное решение.
Микроорганизмы плывут куда попало, и при этом ощущают, как меняется концентрация
привлекающих, а также избегаемых ими веществ во времени на протяжении
проделанного пути. Если ощущается, что концентрация привлекающих веществ нарастает, а
(или) избегаемых — падает, движение в этом направлении затягивается. В
противном же случае микроорганизм вдруг меняет направление своего движения на
новое, тоже избранное совершенно «наобум». Затем следует новая проба среды, —
опять смена направления и так вновь и вновь. Для того, чтобы изменения
происходили именно в случайном направлении, бактерии, проплыв немного прямо,
принимаются крутиться на месте. Потом снова плывут прямо, но понятно, что уже не
туда, куда плыли раньше. Это все равно как, пройдя какое-то расстояние,
закрутить волчок с нарисованной на нем стрелкой и куда она укажет, туда и
двигаться . Потом опять его закрутить и снова идти по той же стрелке.
Разумно ли такое поведение? Конечно, разумнее любого другого, если нет ни
малейшей информации о том, куда надо идти, но по дороге можно оценить,
становится лучше или хуже. На этом принципе основана детская игра «тепло» и
«холодно» .
Что лежит в основе всех подобного рода поисковых стратегий? Конечно, уже не
раз упоминавшийся нами принцип обратной связи, отрицательной (тормозящей) для
неудачных попыток и, напротив, положительной (усиливающей, продлевающей) для
попыток удачных. Бактерия добирается именно туда, куда ей «надо», например, к
кончику капилляра, именно, потому, что плыла заведомо «куда попало»,
проверяла много-много разных вариантов. Никакого другого способа отыскать нужное
направление у нее не было и, в принципе, не могло быть.
Нетрудно сообразить, что подобного же рода поиск: проба — проверка
результата — новая проба — новая проверка и так далее без конца может
осуществляться не только в пространстве, но и во времени. И там он безошибочно приводит к
искомой цели, если, разумеется, она вообще достижима. Другие же виды поиска —
наметил цель и сразу же иди к ней напролом вперед — годятся только там, где
средства достижения цели ЗАРАНЕЕ хорошо известны. А часто ли так бывает в
жизни? Пусть читатель хорошо подумает прежде, чем ответит сам себе на этот
вопрос.
Во всяком случае, у всех видов эволюции, о которых мы писали в предыдущем
параграфе, «цель» сохранение, выживание, а способы ее достижения в постоянно
меняющихся условиях одному, как говорится, Богу известны. Вот ничего другого
и не остается, как изменяться «наугад» (напомним: мутации, новации) и
проверять результаты изменения на практике. Повезло измениться удачно, уцелеешь до
возраста, в котором оставляют потомство, да и оно выживет, растиражирует свои
новообретенные признаки. Ну, а что делать, если эти признаки ведут к
уменьшению числа потомков, понижают прибыль от сбыта товара, делают слово менее
удобопроизносимым, чем в прежнем его варианте? В таких случаях извини, но пеняй
на себя. Неудачные изменения происходят куда чаще удачных. А того чаще
изменения бывают никакие, нейтральные, от которых ни холодно и ни жарко. Что
поделаешь , опять-таки?
Эволюции без жертв не бывает. Все требует жертв: эволюция, революция,
наука, но одна разница есть. В первом и третьем случаях жертвы неизбежны, а,
следовательно, разумны. Во втором же случае этого не скажешь никак.
Решили мы, к примеру, в 1917 году построить коммунизм, а, как его строить,
об этом никакой у нас информации не было. Построили неслыханно дорогой ценой
нечто совсем иное и саморазрушающееся. «Оно» постепенно загнило, а потом и
рухнуло на восьмом десятке. Теперь точно так же уверенно мы прем напролом
обратно к капитализму, беря за образец западные страны с их совершенно
непохожим на наше историческим прошлым! Бактерии на нашем месте, конечно, так
неосмотрительно себя бы не вели. Они бы двигались к цели, способ достижения
которой им не известен, испытанным методом «проб и ошибок».
Один из «отцов» нашей перестройки в самом ее начале изрек: «У нас нет
времени на пробы и ошибки!» Результат: сплошные ошибки в пути напролом Бог весть
куда.
В «Войне и мире» можно прочитать о тактике австрийского командующего под
Аустерлицем: все до мелочей было спланировано заранее, и дальше действовали
строго в соответствии с планом: «эрсте колонне марширт, цвайте колонне мар-
ширт...» Кончилось, разумеется, разгромом, как только и могло кончиться...
Как это ни удивительно, но самые разные биологические процессы и механизмы:
механизм мутаций — скачкообразных изменений наследственной информации в моле-
кулах ДНК, двигательные системы одноклеточных микроорганизмов и мозг животных
или, тем более, человека, таят в себе те или иные как бы специально, нарочито
созданные источники непредсказуемости, случайности (как сказали бы «технари»
— генераторы белого шума). Природа не может себе позволить глупость
действовать напролом там, где способ достижения цели не известен заранее. В
математике описанные выше методы достижения цели называют СЛУЧАЙНЫМ ПОИСКОМ.
Случайный поиск — одна из главных стратегий жизни.
Мы в развитии цивилизации этому поиску обязаны практически всем. Как люди
еще в древности добрались до дальних островов в океане? Что побудило человека
впервые попробовать обжаренное на огне мясо? Как появились разные способы
добывания огня? Гончарный круг? Лук со стрелами и бумеранг — гениальное
изобретение австралийских аборигенов?
По преданию порох открыт алхимиком Бертольдом Шварцем. Как-то он нагрел в
ступке неизвестно зачем смесь угля, серы и селитры. Произошел взрыв, пестик
выбило подобно пушечному ядру. Любое положительное знание восходит в своей
истории к так же случайно сделанным открытиям. Этому утверждению вовсе не
противоречит то, что, по словам астронома Кеплера, случай благоприятствует
только подготовленным умам.
Мало ли кто до Ньютона видел как падает яблоко? Сколько, небось, людей до
Архимеда наблюдали как вытекает вода из переполненной ванны? Тем не менее, до
теории тяготения первым додумался Ньютон, а удельный вес — открытие Архимеда.
Бывает еще и так. Ищут одно, а натыкаются на другое. Искали путь в Индию, а
открыли Америку.
Есть два разных варианта случайного поиска.
Один — так называемый локальный поиск. Мы бы его, назвали «поиском минера»,
который, как известно, может серьезно ошибаться только один раз. Цель проста
и сурова: удержать теперешнее состояние, уцелеть, не погибнуть с голоду и так
далее, и тому подобное. В природе этим поиском обеспечивается, например, то,
что организмы, несмотря на непрерывную неопределенную изменчивость — мутации,
долго-долго сохраняют свои признаки, если внешняя среда не изменилась и нет
повода приспосабливаться к ее изменениям. Биологи в таком случае говорят о
стабилизирующем естественном отборе. Изменения невыгодны. Наилучшее выживание
обеспечено потомкам, ничем существенным не отличающимся от родителей.
Другой вариант — глобальный случайный поиск: по тем или иным причинам
удачные попытки сулят большое вознаграждение, а вот опасность от неудачных
попыток не так уж и велика. На организмы в изменившейся среде действует
«движущий» естественный отбор. «Белые вороны», плохо кончившие в прежних условиях,
в новых, скажем, попав в Заполярье, где белый цвет маскирует жертву от
хищника и хищника от его добычи, наоборот, могут преуспевать. Так, из всегда
возможных мутаций-альбиносов получились белый медведь, белая полярная сова,
белая полярная куропатка, белая пуночка (полярный «воробей») и так далее. Ото-
брались мутации, изменяющие цвет шкуры по сезону, как у белеющих зимой зайцев
и белок.
Примеры локального и глобального поиска в человеческой деятельности:
ухищрения крестьянина-бедняка получить на своем крохотном земельном участке хоть
какой-то урожай в засушливый год и эксперименты помещика, решившего посеять
на половине своих полей новую для данного места сельскохозяйственную
культуру: авось повезет? Бедняк, как и минер, может ошибаться только один раз и,
чтобы не слишком рисковать, пробует лишь разные дедовские способы полива,
вспашки и так далее. Поиск налицо, но цель скромна и ни малейших открытий не
предвидится. Не до них. Богач рад бы еще больше разбогатеть, вырастив у себя
нечто сногсшибательное, а если дело не выгорит, риск не велик. В следующий
год попробует еще какое-нибудь новшество.
В науке больше перспектив сулят стратегии глобального поиска. А в обществе
социальные эксперименты желательно проводить, соизмеряясь с обстоятельствами:
«по одежке протягивай ножки».
Нашим властителям это было всегда невдомек, как и многое другое, например,
что есть цель поиска, а что — только средство ее достижения? Первое они
постоянно путали и путают со вторым. Вот мы теперь и пожинаем злонравия
достойные плоды, сидя у разбитого корыта, и снова одержимы грандиозными планами.
Кто же выходит, на поверку, умнее: мы или одноклеточные микроорганизмы?
2.6 Краткий урок
истмата на примере
Римской империи
В связи с необратимостью эволюции приходит на ум вопрос: а можно ли, в
принципе, создать в стране с семидесятичетырехлетним стажем командно-
административной системы и, без малого, тысячелетней традицией полного
неучастия народа в решении своей судьбы, мало-мальски стабильное правовое
государство с процветающей экономикой западного типа?
Ход событий пока говорит, что это задача, в самом лучшем случае, не из
простых. То, что получалось у нас в этом плане пока, напоминает такую ситуацию.
В Зоологический институт РАН является верблюд и приносит заявление в
дирекцию:
— Прошу считать меня лошадью с начала следующего финансового года по
собственному желанию.
Пора понять — наши нынешние беды — результат исторически неизбежного
процесса саморазрушения, а не злой воли каких-то внутренних или внешних врагов.
Этот вопрос мы еще специально рассмотрим. Рухнуло подгнившее у корня больное
дерево — мировая социалистическая система. Кто же виноват? Те, кто стояли
возле дерева в момент его падения или, может быть, давно умершие садовники
посадившие это дерево по невежеству на дурную почву и не помешавшие жучкам-
древоточцам многие десятки лет точить древесный ствол? Люди, призывающие к
топору, ничего не желают знать о нашей истории. Для них не существует
прошлого. Во всем случившемся сейчас виновен кто-то из современников, из ближних.
Это, мол, они, «враги народа», составив тайный заговор за иностранные деньги,
сгубили нашу страну. Все беды, якобы, начались в последние несколько лет, а
до этого наши дела шли прекрасно. Происки! Заговоры! Внутренние враги!
Иностранное вмешательство! Шпионы!
Об этом мы слышим ежедневно. Как видно, марксистско-ленинское
материалистическое учение, которое столько лет вбивали в наши головы, не пошло нам впрок.
Не сумели мы усвоить, что не по воле отдельных личностей рушатся и сменяют
друг друга общественно-политические формации. Исторический материализм рано
сдавать на свалку. В нем имеется много рациональных зерен.
Когда погибала Римская империя, тоже хватало людей, воображавших, что ее
сгубили чьи-то происки. Теперь-то любому историку очевидно, что все это было
совершенно не так.
Сам расцвет рабовладельческой сверхдержавы таил в себе причины ее
неминуемой грядущей гибели.
В чем же заключались эти причины?
Римская республика изначально была страной с необычайно эффективным
сельским хозяйством и довольно умеренной степенью урбанизации. Земля
обрабатывалась, в основном, руками свободных земледельцев и их немногочисленных рабов.
Армия представляла собой гражданское ополчение. Отечество защищали мелкие
собственники. Однако, завоевательные войны, расширение территории, обусловили
приток в страну громадного количества рабов и потребовали создания большой
профессиональной армии. Такая армия всегда и везде верна не столько земле от-
цов и ее законам, сколько своему военачальнику.
Изменившееся соотношение общественных сил породило вооруженную борьбу за
власть между отдельными полководцами и замену республиканских институтов
военной диктатурой. Чехарда свергающих друг друга императоров привела к тому,
что они, желая задобрить своих ветеранов, принялись раздаривать большие
земельные участки, отобранные у мелких земледельцев. Рим превратился в страну
гигантских поместий-латифундий (сравни совхозы, укрупненные колхозы), где все
делалось нерадивыми руками рабов.
Города начали быстро расти из-за притока туда обезземелевших крестьян. Эти
бывшие крестьяне, основная их масса, становились люмпенами, дармоедами,
живущими на государственное пособие. Армия же лишилась необходимых ей
человеческих резервов. Неимущие горожане, в отличие от крестьян, были плохими
солдатами. Между тем, нерадивые рабы не могли заменить крестьян на полях. Римская
империя в конце ее истории питалась, почти исключительно, импортными
продуктами. Так, столица не смогла бы просуществовать без подвоза египетской
пшеницы , вина со средиземноморских островов, мяса из Галлии и так далее.
Латифундии сделались настолько экономически нерентабельными, что
рабовладельцы сочли целесообразным превратить рабов в колонов-крепостных. Эта
запоздалая мера не помогла. Империя превратилась в колосса на глиняных ногах.
Добили ее не явившиеся из-за рубежа варвары, а иноплеменные римские
наемники, которых государство вынуждено было приглашать на воинскую службу потому,
что сами римляне стали нацией белобилетчиков. Рекрутские наборы регулярно
срывались. А наемники бунтовали: правительству нечем было им платить! Кризис
неплатежей, столь знакомый нам ныне, довел их до белого каления!
Характерно, что бегство крестьян в города принудило императора Диоклетиана
(284-305 гг.) ввести даже нечто вроде нашей постоянной прописки и лимита! Был
объявлен и запрет на смену профессий: их сделали наследственными. Сыну
горшечника полагалось лепить горшки, а сыну свинопаса — пасти свиней. Но и это
не помогло. Бегство из деревни в город продолжалось в таких масштабах, что, в
конце концов, некому стало бежать. Колоны и крестьяне-арендаторы бежали в
города , спасаясь от налогов, точно так же как наши колхозники при Хрущеве.
Параллельно происходило еще и смешение разных этнических групп. Италию и Рим
наводнили выходцы из завоеванных провинций, рабы и вольноотпущенники, просто
переселенцы, беженцы из и там многочисленных «горячих точек». Это привело к
окончательному исчезновению последних остатков римского великодержавного
патриотизма. Если раньше жители провинций и союзных государств мечтали хотя бы
за большую плату обрести римское гражданство, теперь уже от того гражданства
с радостью избавлялись даже некоторые родовитые римские патриции. Ведь у со-
седей-«варваров» жизненный уровень был выше, да и человек ощущал себя в
большей безопасности, чем в своем былом римском отечестве.
Те же причины привели к экономической, культурной и военно-политической
дезинтеграции гигантской империи. Отдельные провинции спешили одна за другой
отделиться от метрополии и стать независимым государством. Центральная власть
ослабла, а зависимость от нее не сулила провинциалам решительно ничего, кроме
новых безобразных поборов, участия в дальних, а потому бессмысленных для них
войнах и чувства постоянного страха: «Что там еще учинят при очередных
разборках эти скудоумные и чехардой сменяющие друг друга столичные владыки, не
способные ни себя, ни нас защитить от варваров?»
Такими видятся причины саморазрушения Римской империи непредвзятому
наблюдателю. Наши теперешние политики консервативного толка, если бы их удалось
спровадить в тогдашний Рим в машине времени, наверняка, объяснили бы все
иначе : «заговор масонов и ЦРУ».
Конечно, читатель при желании быть чуть-чуть объективным, разглядит
совершенно явную аналогию тогдашних событий с нашей современностью. Наша империя
сгнила на корню и развалилась подобно древнему Риму. Что же сгубило нас,
почему так велика печальная аналогия? Рим тоже был агрессивной империей, хотя,
конечно, не тоталитарной и не социалистической. Даже законы и частную
собственность там все-таки временами чтили, хотя упадок нравов в той погибшей
империи был, пожалуй, под стать нашенскому.
Мы вернемся еще раз к этой проблеме. Не все сразу.
2.7. В мире
несуществующих
вещей
Прекрасно в нас влюбленное вино,
И добрый хлеб, что в печь для нас садится.
И женщина, которою дано,
Сперва измучившись, нам насладиться.
Но что нам делать с розовой зарей
Над холодеющими небесами,
Где тишина и неземной покой,
Что делать нам с бессмертными стихами?
Ни есть, ни выпить, ни поцеловать.
Мгновение бежит неудержимо,
И мы ломаем руки, но опять
Осуждены идти все мимо, мимо...
(Н. Гумилев, «Шестое чувство»)
С древнейших времен и до наших дней человека постоянно окружает иллюзорный
мир его собственных фантазий и снов, а также созданные для него другими
людьми многих поколений и народов миры живописи, литературы, музыки, театра и
прочих искусств. Тот, кто не вхож в эти нематериальные миры, вероятно, не
хуже других прокормит свою семью и себя, но, по большому счету, конечно, не
является гармоничной личностью.
Итальянский философ XVI века Николай Кузанский утверждал, что человек в
своем творчестве подобен Богу. Разница в одном. Идеи Бога воплощаются в
материальные объекты окружающего нас мира, а наши идеи находят выражение в
образах этих объектов.
Что же такое «образ»?
Если уж совсем просто, то, пожалуй так: образы — это обобщенная
(абстрактная) информация о признаках объектов и процессов в окружающей нас мире. Она
хранится в памяти, позволяя распознавать то, что встречается на жизненном
пути , и обозначать это словами, имеющими смысл. Образы могут воплощаться в виде
представлений, снов, галлюцинаций, картин или скульптур, они обязательно
нужны , чтобы появилась членораздельная речь.
Одна из самых замечательных способностей нашего мозга заключается в
следующем. Он может произвольно (фантазия) или непроизвольно (сны, галлюцинации)
мгновенно создавать из множества абстрактных образов вполне реальные
«индивидуализированные» представления даже о никогда не существовавших вещах. Эти
представления встают «как живые» перед нашим «внутренним взором», природу
которого пока толком не могут понять ни психологи, ни физиологи, ни философы.
Привиделся, скажем, художнику Илье Репину Иван Грозный, убивший сына. А Ивану
Карамазову приснился черт во всем своем прозаическом обличье, причем затеял
весьма премудрую беседу с Иваном, говорил кое-что такое, что сам Иван, вроде
и не сообразил бы!
Хотим представить «стол» вообще, а в представлении тотчас явилась какая-то
комната с кучей разной мебели, в ней — вполне конкретный стол, раскладной, не
накрытый, дубовый; мгновенное усилие фантазии — и это уже иная комната с
венской мебелью, посреди — круглый черный стол на одной ножке и с плющевым
зеленым верхом, виденный когда-то в детстве. Так за несколько секунд перед тем
самым «взором» могут промелькнуть десятки «столов», но каждый — конкретный,
пусть даже нарисованный или мысленно произнесенный вслух. Но вот абстрактного
«стола вообще», понятие о котором хранится в нашей памяти, мы так никогда и
не представим себе. Представления всегда конкретны. В этом — суть разницы
между абстракцией и «конкретикой». Зато, не будь абстрактных понятий, не было
бы и языка с его соответствующими понятиям словами. Не было бы и основы для
тех мысленных команд, по которым возникают конкретные представления.
Надеемся, мы понятно это объяснили?
К абстракции вполне способны, помимо людей, также и высшие животные.
Это доказано довольно давно в опытах с обучением узнавать определенный
образ, например, треугольник, независимо от его размера, цвета, углов,
положения в пространстве и пр. Однако последние сомнения отпали лишь после только
что упомянутых экспериментов супругов Гарднеров и других ученых на шимпанзе,
попугаях и так далее. Чему уж тут удивляться, если и современные компьютеры,
устроенные, несомненно, проще, чем мозг высших животных, вполне способны
распознавать , классифицировать, называть и даже изменять, как бы творить заново
на своем дисплее, сложнейшие образы разных объектов и процессов, что, кстати,
вовсе еще не говорит о наличии «машинного разума».
Не так давно появились так называемые компьютеры с виртуальной
действительностью (интерактивные программы, мультимедиа). На их дисплее возникают
реальные как в кино картины, в которые, однако, человек, сидящий за пультом, может
как бы войти, вмешаться, например, повлиять на сюжет показываемого фильма —
нечто вроде управляемого сна! В ближайшем будущем на западные экраны выйдет
игровой фильм с участием... компьютерного призрака киноактрисы Мзрилин Монро,
умершей около 30 лет тому назад. Она там движется, говорит и т.д. точь-в-точь
как живая. Немало виртуальных движущихся изображений можно сейчас наблюдать
ежедневно на нашем телеэкране.
С философской точки зрения важно, что биологические эксперименты и
технические открытия такого рода утвердительно отвечают на волновавший еще древних
греков вопрос: могут ли в мозгу или моделирующих его устройствах
формироваться обобщенные образы-понятия или, по терминологии Платона, «идеи» объектов
внешнего мира и отношений между ними, то есть то, что соответствует
смысловому (семантическому) содержанию нашего языка: его, соответственно, лексике и
грамматическим конструкциям?
Другой вопрос: что же первично — материя или сознание (информация) — вечный
предмет споров между материалистами и идеалистами. Мы не хотим мешаться в
этот спор. Но, во всяком случае, никаких образов, понятий не существует вне
воспринимающего, кодирующего, запоминающего, анализирующего, обобщающего и
так далее устройства некой единой, формирующей эти образы системы, будь то
хоть мозг, хоть ЭВМ. Не может, конечно, существовать и информация вне
материальных ее носителей или каналов передачи — нервных структур, книг, дискет,
нервных импульсов или электромагнитных волн, хотя все это, конечно же, не
сама информация, которая имеет нематериальную природу.
Таковы факты. Прочее — интерпретации.
Распознавание образов животными — особая наука, один из разделов
современной нейроэтологии и нейрофизиологии. Чтобы исследовать механизмы зрительного
или слухового восприятия, ученые используют сложную электронную аппаратуру.
Они вводят тончайшую стеклянную пипетку, заполненную электропроводящим
раствором — микроэлектрод — в нервные клетки головного мозга и регистрируют их
электрическую активность. Оказывается, характер этой активности меняется,
когда животное смотрит или слушает.
Американцы Д. X. Хьюбел и Т.Н. Визел около тридцати лет назад так изучали
зрительные центры кошек. Обнаружено, что часть нервных клеток первичной
зрительной коры больших полушарий высоко специализированы. Каждая из этих клеток
возбуждается только, когда кошка видит нечто, обладающее вполне определенным
абстрактным признаком. Например, есть нейроны, активные только, когда что-то
в зрительном поле кошки, (неважно, что именно), движется влево, но не вправо,
вверх либо вниз. Другие клетки, напротив, отвечают лишь на движение вправо.
Третьи клетки реагируют только на прямые линии, четвертые, исключительно, на
любой (какой, несущественно) выпуклый предмет, пятые — на надвигающийся край
любого предмета, шестые — на вертикальную линию, седьмые — на аналогичные
горизонтальные линии и пр., и пр., и пр.
Такие опыты, удостоенные Нобелевской премии, подтверждают, что в мозгу не
только человека, но и других высших животных, не имеющих членораздельной
речи, зрительные образы, тем не менее, классифицируются по признакам, носящим
сугубо абстрактный характер.
Не будь этой уже издревле существовавшей классификации, не смогла бы
появиться и наша речь. Платон был во многом прав! Мы способны говорить потому,
что мозг наших еще не говоривших отдаленных предков уже обладал способностью
формировать обобщенные образы типа «шар» (вообще), «зверь» (вообще), «дерево»
(вообще или с детализациями вроде: «с листьями», «хвойное» и пр.),
«двигающийся объект» и так далее, и так далее, и так далее.
Есть и другой подход к той же проблеме распознавания образов. Животным
предлагают на выбор муляжи пищи, особи другого пола, детеныша и ждут,
обманутся они или нет. Кое-что о таких экспериментах мы уже рассказали выше.
Оказалось, что распознавание независимо от того, какой характер оно носит:
врожденный или связанный с обучением, вполне возможно даже при самом
отдаленном сходстве. Вовсе не нужно точно копировать натуру. Напротив, — лучше
преувеличить характерные особенности и тогда подделка может вызвать гораздо
более сильную реакцию, чем подлинник!
Например, самец рыбешки колюшки узнает готовую к нересту самку по выпуклому
брюшку и паре темных пятен «глаз», а другого самца-соперника по красному
пятну на боку. Опустите в аквариум на рыболовной леске «пузатый» свинцовый муляж
с подрисованными «глазами» или же нарисуйте на консервной серебристой крышке
красное пятно в два-три раза больше рыбки, и самец в обоих случаях будет
непомерно возбужден, не замечая отсутствия жабер, плавников, чешуи и прочих
характерных деталей рыб своего вида. Такое же «надувательство» вполне удается с
насекомыми, птицами, млекопитающими, и, главное, из-за чего мы завели весь
разговор, — с людьми.
Не исключено, что кому-нибудь из читателей посчастливилось наблюдать
пьяного , обнимающего и целующего фонарный столб. Однако, зачем такие крайности? Мы
каждый день «сталкиваемся» с рукотворными заменителями подлинных объектов
либо ситуаций... Это — рисунки и скульптуры, фотографии и компьютерная графика,
литература, театр, кино и телевидение. Вот здесь, наконец-то, мы приблизились
к той животрепещущей проблеме, для обсуждения которой потребовалось столь
обширное предисловие. Мы, как и прочие животные, легко поддаемся на «обман».
Удивительной особенностью психики человека является то, что его можно
«обмануть» не только с помощью изображений разных объектов или звукоподражанием,
но и посредством слов, обозначающих эти объекты, если такие слова
произносятся очень твердым убеждающим тоном, причем много раз подряд. Одни легко
подаются на такой обман. Другие ему совсем не подвержены, но их меньшинство.
Восточная поговорка: Сколько ни говори «халва» во рту сладко не станет, —
справедлива только отчасти. Существует магия слов. Иногда она проявляется в
достаточно ясной форме:
— Вы на пляже, вокруг — красивые девушки. Вы на пляже. Вы на пляже... —
глянь, а человек уже раздевается до трусов прямо на сцене.
Это, как известно, называют гипнозом. В какой-то более или менее скрытой
форме гипнозоподобное внушение часто наблюдается и в быту. Так ведь действуют
и реклама, и политическая пропаганда. В театре, в кино, у экрана телевизора,
в уличной толпе, всюду и везде личность современного человека не свободна от
внушающих влияний. Подобного рода влияния, в значительной мере, определяют
поведение людей. Так было уже в первобытном обществе с его шаманскими
заклинаниями, ритуальными танцами, песнями, исполняемыми хором, прыжками и
выкриками под мерные удары там-тама. Однако и современный человек в этом отношении
весьма недалеко ушел от дикарей. Более того, в XX веке появились новые мощные
средства массового внушения. Это, разумеется, средства массовой информации,
не говоря уже, конечно, о художественной литературе, театре, живописи, кино,
музыке, митингах и демонстрациях.
Большевики говорили: Религия — опиум для народа. Э. Хэмингуэй в «Зеленых
холмах Африки» перечислил добрый десяток куда менее благотворных «опиумов».
Там и искусство, и политика, и наука, и пресса и вообще все, что угодно. Даже
«половую любовь» помянул. Дескать, «тоже опиум для народа», но только для
«лучших его представителей»...
Однако, что же из всего этого следует?
Шедевры искусства, несомненно, благотворно действуют на человека. Это —
прописная истина. И проповедь талантливого и благородного священника, такого,
как, скажем, умученный от большевиков отец Павел Флоренский или недавно
убиенный отец Александр Мень, естественно, несла пастве только слово благое.
Однако же, неисчислим вред от ораторского гения таких исчадий как Марат и
Робеспьер, Гитлер, Муссолини, или же им подобные современные демагоги. Сколь
многих толкнула на смертоубийства и прочие преступления злокозненная агитация
французских якобинцев и пропагандистов нашего кровавого века!
Ясное дело, в пропаганде, как и в искусстве, широко используется принцип
утрированного подобия, о котором мы только что писали. Что ни день, с нами
происходит то же, что с колюшкой, которой вместо настоящего самца, показали
жестянку с красным пятном! Опять-таки. Это не значит, что именно «во вред».
Хорошая художественная литература издревле способствовала воспитанию
хороших людей, будила в душах прекрасное, доброе, вечное. Будила и будит, но не
следует забывать: сопереживание при восприятии произведения искусства далеко
не всегда укореняет в душе человека нравственное чувство, переносимое в
житейскую практику. Есть люди, которые с гадливостью глядят на голодного
ребенка, просящего подаяния в переходе метро, но через пять минут, сев в вагон, не
могут без слез читать рассказ Леонида Андреева «Петька на даче».
Увы, но способность эмоционально воспринимать произведения искусства и
элементарное чувство сострадания к ближнему далеко не всегда связаны между
собой.
«Злодейство и гений — суть вещи несовместные?» Как знать? Как знать?
Тем более уже, отнюдь не гарантирует высокой нравственности необычайно
высоко развитое эстетическое чувство.
В самом конце XV века изощренным злодейством обессмертили себя Римский Папа
Александр Борджиа и властолюбец Цезарь Борджиа, отец и сын. Однако их славу
злодеев затмила иная: слава меценатов. Они ведь покровительствовали Леонардо
да-Винчи! Среди нацистских и чекистских палачей было немало тонких ценителей
искусства. Сам Гитлер был не только гениальным оратором, но и большим
любителем симфонической музыки, неплохо играл Вагнера с листа, хорошо рисовал.
Гейдрих был одаренным скрипачом. Юношеские стихи И. Сталина удостоились
включения в тогдашнюю грузинскую христоматию. Славились артистичностью гнусные
римские императоры Калигула, Нерон и Каракалла. Сказочная архитектура
Самарканда — свидетельство тонкого вкуса такого кровавого чудовища, как Тамерлан.
Иван Грозный обладал ярко выраженным литературным даром. Записки
талантливейшего итальянского скульптора и ювелира XVI века Бенвенуто Челлини —
убедительное доказательство подлости их автора. Подобный перечень, вероятно, можно
продолжить до бесконечности. Стоит ли?
И все-таки, тем не менее, психологи утверждают: если руководствоваться
статистикой, можно убедиться, что эстетическое и нравственное чувство тесно
связаны между собой.
При прочих равных, нравственность в среднем, выше у людей, не лишенных
способности предпочитать красивое уродливому.
Современная урбанизация лишает человека возможности наслаждаться видом
природных ландшафтов, да и красотами архитектуры, поскольку строящиеся ныне
здания сугубо утилитарны: «коробка с окнами». Большинство современных городских
пейзажей выглядят одинаково отвратно в любой стране и на любом континенте.
Высотные многоквартирные дома повсеместно смахивают на бройлеры для
выращивания кур.
Словами К. Лоренца: «Клеточное содержание кур-леггорнов справедливо
считается мучительством животных и позором для нашей культуры. Однако, содержание
людей в таких же условиях находят вполне допустимым, хотя именно человек
менее всего способен выносить подобное обращение, в подлинном смысле унижающее
человеческое достоинство. Самоуважение нормального человека побуждает его
утверждать свою индивидуальность, и это его бесспорное право. Филогенез
(эволюционный процесс) сконструировал человека таким образом, что он способен быть,
подобно муравью или термиту, анонимным и легко заменимым элементом среди
миллионов таких же...»
Обитателям стойл остается единственный способ сохранить самоуважение: им
приходится вытеснять из сознания самый факт существования многочисленных
товарищей по несчастью и прочно отгородиться от своего ближнего. Часто в
многоквартирных домах балконы разделены стенками, чтобы нельзя было увидеть
соседа. Человек не может и не хочет вступать с ним в общение «через забор»
потому, что страшиться увидеть в его лице свой собственный отчаявшийся образ. Это
еще один путь, по которому скопление людских масс ведет к изоляции и
безучастности .
Как считает К. Лоренц, для духовного и душевного здоровья человека
необходимы красота природы и красота созданной человеком культурной среды. Всеобщая
душевная слепота к прекрасному, так быстро захватывающая нынешний мир,
представляет собой психическую болезнь и ее следует принимать всерьез уже потому,
что она сопровождается нечувствительностью к этическому уродству.
2.8. Жертвы
информационной
революции
В наше время человек без активных действий, риска и творческих усилий, как
пассивный потребитель, почти непрерывно получает зрительную и звуковую
информацию , которая его предкам доставалась, как правило, очень дорогой ценой, в
реальной жизненной борьбе. Эта информация перенасыщена утрированными
образами, «муляжами», подобными тем, которые у самца колюшки вызывают большее
возбуждение, чем реальная самка или подлинный соперник-самец. С телеэкрана
людей, их бедный мозг, непрерывно бомбардируют стимулы, вызывающие «вхолостую»
сильнейшее половое возбуждение, реакции агрессии на «образ врага» и стадный
инстинкт. Жизненно необходимое общение с друзьями и близкими, чтение и
размышления, наконец, все больше подменяют диалоги с компьютером и имитация
общения с героями бесчисленных «мыльных» опер и «семейных» телесериалов.
Революций без жертв не бывает. Информационная революция — не исключение.
Что сулят человечеству распространение видеотехники и всеобщая
компьютеризация? С одной стороны — несомненный прогресс. Это известно всем. С другой
стороны беднеет, говоря языком этологов, поведенческий репертуар человека. У
людей, увлеченных компьютерными играми и телепрограммами, обычно нет ни охоты,
ни времени для чтения, бесед и других занятий, требующих больших
эмоциональных, умственных и физических усилий. Возможно, что это и есть «Homo
informaticus»? Чего доброго, грядущие Робинзоны вполне смогут обходиться без
Пятницы. Живого человека им заменит ЭВМ.
Н.Р. Мюллерт с соавторами писал в книге «Компьютеры делают глухонемыми13»:
Изоляцию через новую технику люди ощущают, прежде всего, на своем рабочем
месте... Печатающие устройства, текстовтоматы и персональные компьютеры
затрудняют прямые контакты с коллегами... разговоры и обсуждения делаются излишними.
Взгляд на дисплей требует сосредоточенности, поэтому социальные контакты
отклоняются. Навыки с рабочего места переносятся и в электроннофицированное
жилище. Обращение с техникой погружает человека в одиночество, устраняя
потребность в содержательном общении с соседями... Хотя спутниковая телетрансляция
приводит в дом к человеку практически весь мир, утрачивается человеческая
близость в непосредственном социальном окружении... Человек пребывает всюду и
нигде... Таким образом развиваются эгоизм, завистливость, привычка пробивать
себе дорогу с помощью локтей. Особенно велика опасность для детей и молодежи,
которые воспринимают внешний мир опосредованно через отношение к себе. У них
утрачивается ощущение общности с окружающими, способность к совместной
работе, потребность во взаимодействии с близкими... Таким образом, потребление
новой техники превращает людей как бы в вечных грудных младенцев, которые без
компьютера уже не способны ни мыслить, ни фантазировать, ни творить...»
Компьютерно-телевизионный бум формирует нового «человека толпы» с
незнакомыми людям прошлых поколений маленькими огорчениями и радостями. Одна из
характерных черт, пожалуй, мы ее еще обсудим в другом месте, жизнь как бы в
двух измерениях. За телеэкраном и в лице компьютера у человека появляется
вторая жизнь, вторая семья, иной круг собеседников и друзей, причем все это —
фиктивное!
Р. Бредбери в антиутопии «451 по Фаренгейту» описывает вполне возможные
грядущие последствия. Муж (один) работает. Домочадцы с утра до ночи глазеют
на гигантские, во всю стену, телеэкраны. Там идет своя, причем совершенно
бездумная и отучающая думать жизнь. Сцены откровенного секса чередуются с
глубоководными съемками и телерепортажами: где-то война, взрывы. Далее —
пляски полуголых или вообще голых девиц, соответствующая музыка, снова война,
мордобои или секс, снова тропические рыбы или птицы и так далее, и так далее.
Однако, главное — не это. За одним из экранов все время — самая обыденная
жизнь такой же скудоумной семьи: болтают за столом о всяких глупостях, едят,
спят, глазеют в телеэкран, а там... зрители. К ним обращается как к
родственникам семья за экраном, а нехитрое устройство в каждом доме позволяет, когда
там открывают рот, произносить имена зрителей, балдеющих в данной комнате у
экрана: «мистер Джонс», а в соседней квартире: «мисс Кэтлин» — в тот же самый
момент. И так сутки, месяцы, годы. Муж — жене, возвращаясь с работы:
— Как провела день?
— Чудесно. Правда, огорчилась: У мисс... (там, за экраном), сильно подгорел
пудинг (или была мигрень). Какая чудесная программа по двадцать второму
каналу! !
— А о чем?
Mullert N. R. , Solle A., Geffers S. G. , Jungk R. «Kompjuter machen taubstumm und
Uberleben in Komputersog» Landes-regierung Nordhein-Westfalen Verlag, Ratingen,
1987.
— Уже забыла...
Чем же занят муж? Он — пожарник. В этом земном раю пожарные занимаются не
тем, чем они заняты в наши дни. Еще кое-где, оказывается, есть лица, которые,
вопреки государственному запрету, держат в своем доме и (о, ужас!) читают
книги! Пожарные по доносам соседей разнюхивают такие дома, врываются туда с
полицией и сжигают литературу.
Кем сейчас приходится Изаура, Марианна или «просто Мария» миллионам наших
сограждан? Сестрой? Дочерью? Матерью? Возлюбленной?
В том романе Бредбери, если, например, умирал муж, жена звонила в службу
быта. Оттуда приезжали и увозили труп, чтобы сжечь. Жена, не отвлекаясь,
продолжала глазеть в телеэкран: там — настоящая родня, а здесь — так, ерунда...
Сколь многие наши юноши и девушки ныне там, за экраном, завели себе идеал,
сильного, умного, красивого покровителя-отца, любовника, мужа, друга...
Жила-была когда-то милая девочка Алиса и вот по воле писателя Кэрролла
угодила она в Зазеркалье. Сейчас место Алисы — в Заэкранье.
Конечно, человеку, присосавшемуся к телеэкрану, мало знакомы творческие
порывы: не до них! И любознательность незнакома. Все, что надо и хочется
узнать, поднесут «на блюдечке» телевизор и видеомагнитофон. В избытке поднесут,
так что на прочее душевных сил не хватит. Ну, а все-таки, если приспичит,
захочется творить или просто интеллектуально поиграть, — к услугам бесчисленные
программы компьютерных игр! Они дают необходимую разрядку уму.
Многие стайные рыбы очень плохо чувствуют себя в одиночку. От чувства
одиночества их полностью избавляет зеркало. Им теперь мерещится, что они —
вдвоем. И люди перед телеэкраном точно так же избавляются от одиночества, а, в
результате, теряют контакт друг с другом, даже со своими близкими в семье.
Они чудовищно одиноки, хотя сами не понимают этого!
Каковы перспективы всеобщей компьютеризации и массового производства
бытовой видеотехники? Пока сказать трудно. Благие последствия очевидны. О них мы
наслышаны в избытке. Они и, правда, очень велики. Современное общество —
производство, бизнес, наука — уже никак не могут обходиться без компьютеров.
Вопрос только: компенсируют ли эти благие последствия тот громадный вред,
который видеокомпьютерный бум приносит детям, молодежи, нарушая их нормальное
развитие?
Почему у нас все больше пустеют музеи и библиотеки? Почему недобор во
многих высших учебных заведениях? Почему школьные учителя плачут: до чего же
поглупели многие школьники? Ничего им не интересно и знать они ничего не хотят,
даже природу разлюбили, За город поехать отказываются. Почему ветераны
Афганской войны, вернувшиеся из Чечни, с ужасом рассказывают, что творили там с
гражданским населением и пленными восемнадцати-девятнадцатилетние «крутые
парни», наглядевшиеся кинобоевиков? Почему так участились бессмысленные
преступления и разного рода зверства на сексуальной почве?
Не мешает помнить: античную цивилизацию разрушили не варвары, а сами греки
и римляне: Не варвары, а местные жители спалили Александрийскую библиотеку.
Как бы и сейчас наша информационная революция не повернулась против нас...
Все хорошо в меру.
2.9. Культ
высшего существа
Религиозное чувство нельзя обойти молчанием, обсуждая природу человека.
Однако мы не решаемся, не хотим распространяться на эту вечную тему.
Ограничимся самыми общими представлениями.
Французский писатель П. Веркор в фантастическом романе «Люди или животные»
повествовал о встрече современных людей с где-то чудом уцелевшими доисториче-
скими обезьянолюдьми вроде австралопитеков. В связи с убийством одного из
этих существ затеялся судебный процесс: люди или животные? Решили: люди.
Признак: наличие каких-то ритуальных действий, которые сочли за религиозные
обряды . Само слово «культура» происходит от «культ».
Любая культура в ее изначальной форме обязательно включает как своего рода
стержень определенные формы религии.
Это относится даже к самым отсталым племенам. Атеистических культур не
бывает . Общность религиозных представлений объединяла людей уже в глубокой
древности. Об этом можно прочитать в уже упомянутой нами статье В.Р. Дольника
«Кто создал творца?».
Бог1 или Боги в любой религии — бессмертные существа высшего ранга,
распределяющие и дарующие блага, но способные и жестоко покарать за ослушание.
Характерно обращение к высшей силе: «Отче!» Характерны и такие формы бунта
как, например, в «Антихристианине» Ф. Ницше. Этому философу-индивидуалисту
претил Бог1 униженных и оскорбленных, сам моливший в Гефсиманском саду и
погибший на кресте. По Ницше, такой Бог1 не может быть авторитетом для арийцев,
западных людей. Первая ипостась арийского Бога в том, якобы, что он — высшая
сила, неодолимая, капризная и без малейшего нравственного начала.
Таковы, действительно, были боги древних германцев — Один, Тор и другие. Не
случайно, поэтому гитлеровцы хотели разделаться с христианством и возродить
древнегерманское язычество. Им, как, кстати, и большевикам, претил
христианский «гнилой гуманизм».
Не даром и персонаж Ф. М. Достоевского, отринув идею Бога, приходит к
логическому выводу: все дозволено.
Таким образом, богоборчество во многом родственно бунту против отца и
культурно-нравственных ценностей старшего поколения, — вопрос, к которому мы
вернемся .
Все народы пяти континентов, обращаясь к Богу или богам, принимают
молитвенную позу подчинения.
Более или менее несомненна историческая связь всех древнейших религий с
тотемами и табу, чему посвящена специальная работа 3. Фрейда.
Действительно, во всех древнейших религиях боги зооморфны или представляют
собой синкретические существа: одни части тела человеческие, другие —
звериные . Часто богов представляли в виде животных, имеющих самое прямое отношение
к жизни человека: бык, телец, пес или человек с головой пса: реже — слон,
вепрь либо сильные хищники: орел, лев, медведь, леопард; дракон, непостижимым
образом похожий на динозавров, вымерших еще задолго до появления человека на
земле.
Жертвы изначально, по-видимому, были почти везде человеческими. Отголосок в
Библии: несостоявшееся жертвоприношение Исаака Авраамом.
В Междуречье, колыбели трех мировых религий, с древнейших времен Шумера,
царил генотеизм: каждый народ, каждый город поклонялись своим богам, чьи
изображения ставили в храмах. Стоило завоевателям убрать из храма и увезти с
собой идола-изображение божества, и население города переставало ощущать себя
особым народом. Именно так было в Вавилоне после того как ассирийский царь
Синаххериб в 689 г. до н.э. разрушил город и увез в Ассирию идола бога
Мардука. Наследник этого царя Асаргаддон возвратил Мардука в восстановленный храм
и к вавилонянам вернулось самоощущение особого народа! Вскоре они разгромили
Ассирию.
После похищения Ковчега завета филистимлянами иудеи, по-видимому, тоже
рисковали оказаться в положении народности, утратившей свое самоосознанное «Я».
Спасла идея Бога единого, вездесущего, незримого, вечно ведущего свой
«избранный» народ, подобно тому, как пастырь ведет стадо. Эта идея Бога единого
брезжила уже у древнеегипетского фараона Эхнатона, (1400 г. до н.э.), кото-
рый, как известно, провозгласил единым богом в Египте Солнце — Гелиос.
Однако, в совершенной и законченной форме она встречается впервые в истории
человечества только в текстах Библии, Ветхого завета, книге Бытия и др.
Идея Бога вездесущего и бесплотного обеспечила древним иудеям своеобразное
историческое преимущество. Сознавая себя народом «избранным» вездесущим и
бесплотным Богом, они, благодаря этой вере, не растворились в массе других
народов даже после военных разгромов, двукратного разрушения Иерусалимского
храма и рассеяния по всему миру. Уже в древности, до разрушения первого храма
и позже в разные века иудейскую веру, хотя прозелитство14 не поощрялось,
приняли выходцы из разных этносов. Поэтому говорить о каком-то генетическом
единстве всех людей (белых, черных и желтых), исповедующих иудаизм, мало
оснований , вопреки утверждениям расистов. Вопрос этот запутанный, больной, что
ни скажешь, кого-нибудь непременно разозлишь. Но и ничего не сказать нельзя,
говоря о человеческой цивилизации. Ведь от иудаизма — начало двух мировых
религий, опирающихся на библейские сказания: христианства и ислама.
Нам как биологам, конечно, лучше держаться от этих опасных проблем
подальше. А вдруг скажем что-нибудь «не то», заденем чьи-нибудь религиозные или
национальные чувства, вовсе не желая этого?
Применительно к основным мировым религиям рискнем коснуться только еще
одного вопроса. Многие верующие отрицают эволюционное учение как,
противоречащее библейской версии, изложенной в «Книге бытия». Между тем, некоторые
богословы всех трех основных монотеистических конфессий считали, что Бог-творец
Вселенной вмещает в себя ее пространство и время, подобно тому, как мы —
существа трехмерного мира — вмещаем в себя его трехмерность. Таким образом,
допускалось что, для Бога иудеев, христиан и мусульман любые процессы,
начавшиеся и протекающие во времени, а также и предстоящие, уже как бы
одновременно и предстоят, и идут, и завершились. Для него практически не существует
непредсказуемости и случайности. Будущее так же прозрачно и детерминировано,
как и прошлое. Бог — вневременной творец и наблюдатель Вселенной. Он «видит
от начала до конца весь процесс, идущий во времени, подобно тому как мы
обозреваем лежащий на нашей ладони трехмерный предмет! Любую деталь этого
процесса он может изменить с такой же легкостью, с какой мы управляем
представлениями, возникающими в нашей фантазии, где фактор времени — полностью в
нашей власти.
Так интерпретируется идея божественного управления миром, например, в
трудах Николая Кузанского (Италия XVI в.) ив «Иконостасе» П. Флоренского.
От этой управляемости вытекает возможность пророчества, причем характерно:
прорицать, не совершая при сем смертного греха, может, по понятиям всех трех
мировых религий: иудаизма, христианства и ислама, только боговдохновляемый
пророк.
Само собой понятно, что такая концепция (мы о ней рассказали, воздерживаясь
от собственной оценки) устраняет кажущееся противоречие между идеей бытия
Божьего развития Вселенной, в частности, органической эволюции.
В середине прошлого века зародился бахаизм — конфессия, отделившаяся от
ислама. Характерные отличительные черты этого вероучения — величайшая
терпимость , гуманизм и полное признание всех научно установленных фактов. Как
пишет Абдул-Баха, один из основателей бахаизма: «Религия и наука идут рука об
руку и любая религия, противоречащая науке, не истинна.»
Прозелитизм - стремление распространить свою веру, обратить других в свою веру,
стремление к повсеместному установлению поддерживаемой религии. В переносном смысле
- горячая преданность вновь принятому учению, новым убеждениям. Отсюда — прозелит
часто означает новообращённый. В иудаизме прозелитизм затруднен тем, что требуется
сдавать экзамены при гиюре.
Таких же, приблизительно, взглядов на науку, включая эволюционное учение,
придерживаются многие современные индуисты и буддисты, в особенности,
последние . Ч. Дарвин вовсе не был атеистом. Не был им, как уже говорилось, и И. П.
Павлов. Грегор Мендель, заложивший основы современной генетики, был
католическим монахом, так же как и крупнейший палеоантрополог середины XX века Тейяр
де Шарден, автор знаменитой книги «Феномен человека». Бытие Божие стремился
обосновать в книге «Что такое жизнь с точки зрения физики?» один из «отцов»
современной квантовой физики Эрвин Шредингер. В этой классической книге,
сыгравшей громадную роль в развитии молекулярной биологии и биофизики, конечно
же, полностью признавался факт органической эволюции. Некоторые из крупнейших
современных биологов — глубоко верующие люди. В их числе известный российский
биофизик Е.А. Либерман.
Как первоначально зародилось религиозное чувство доисторического человека?
Об этом подробно в статье В.Р. Дольника «Кто создал творца?»
Конечно, на многие мысли наводит наблюдаемая часто, в особенности у древних
народов, связь между структурой общества, его иерархической организацией, и
религиозными представлениями. Эта связь обсуждается в других разделах нашей
книги. В то же время, нельзя считать случайным совпадением поразительное
сходство основных верований у подавляющего большинства первобытных народов
разных континентов. Везде боги или духи, (в каком бы зверином или
человеческом обличье их ни представляли) — высшие вожди и покровители племени, как бы
его «отцы», чему вполне соответствует и культ обожествленных животных или
растений-«предков», тотемы.
Самое принципиальное во всех культурах и религиях отсталых народов, живущих
еще ныне как бы в каменном веке, это системы табу: ограничений и запретов, а
также многообразные ритуалы.
Как возникают табу, приметы, многие ритуалы?
В чуть ли не любом совпадении во времени разных, между собой часто не
связанных событий и обстоятельств первобытным людям мнилась какая-то
зависимость , закономерность. Так возникали бесчисленные ассоциации типа: «Перед тем
как случилось это, было то, то и то. Значит если повторятся сами или будут
специально воспроизведены предыдущие события, последует и все дальнейшее».
В. Р. Дольник по этому поводу пишет: «Слабому интеллекту лучше не искать
причинные связи (до них, добавим, он все равно не докопается), а связи
совпадений и воспринимать причинную связь как двустороннюю, обратимую.»
Если читатель еще помнит то, что только что рассказали мы о локальном
(«консервирующем») случайном поиске, то, вероятно, сам догадается: здесь
типичный пример применения стратегии именно такого поиска. При полном незнании
истинных причин природных явлений, действительно, целесообразно
воспроизводить «на всякий пожарный» все детали тех ситуаций, после которых следовала
удача, или, наоборот, остерегаться абсолютно всего, что хотя бы однократно
предшествовало беде. Скажем, однажды охотнику перед очень неудачной охотой
повстречался на пути навозный жук-скарабей. Вот и появилось «табу». Теперь
уже и этот охотник, и его соплеменники, и их потомки после встречи с
навозником будут сразу же возвращаться домой. «Пути не будет, охота обречена на
неудачу» . Повстречается тот же жук перед удачной охотой, и все будет наоборот.
Жука перед охотничьим походом будут ловить и высаживать на тропу или
изображать на стене пещеры, носить на шее как амулет.
Заметим, что у животных по точно такому же принципу вырабатываются так
называемые цепные или (если сигналы действуют одновременно) комплексные
условные рефлексы. Мы, люди, в этом отношении не исключение.
Спасение минера — в консерватизме его стратегий поведения.
Недаром даже современные люди, если профессия их сопряжена с риском для
жизни, обычно бывают довольно суеверными. Знаменитый летчик-испытатель М.М.
Громов однажды рассказал одному из нас (Ю.А.Л. — знакомство состоялось в
поезде) , что всегда отказывался от испытательных полетов, если по пути на
аэродром дорогу ему перебегала черная кошка. Полное неверие в подобного рода
приметы, по словам М. Громова, нечто вроде духовной махновщины.
Действительно, следует признать, многие ритуализированные запреты издревле
имели глубокий смысл. Они вынуждали людей обуздывать себя, воздерживаться от
опасных для окружающих импульсивных порывов. Члены любого первобытного
племени воздерживаются от действий, осуждаемых жрецами, шаманами, колдунами, и так
далее чьими указаниями руководствуются во всех сферах частной и общественной
жизни. При этом, как правило, никто не задается опасным вопросом: а почему,
собственно, мне нельзя делать то-то и то-то, вопреки моему желанию? Бунт
против предписаний религии появляется на более поздних этапах исторического
развития .
Борьба с религиозным сознанием и атеистическая пропаганда в наши дни обычно
носят явно выраженную политическую окраску. То же можно сказать еще с большим
основанием о межконфессионных конфликтах и крестовых походах против научных
знаний, попытках «отменить» те из них, которые почему-либо не устраивают
какую-то группировку священнослужителей, а также их паству.
Как писал Э. Фромм (1990-1980), крупный немецкий психолог-неофрейдист: «Не
пришло ли время прекратить споры о Боге и вместо этого объединиться в деле
разоблачения современных форм идолопоклонства. Сегодня это не Баал и Астарта,
это — обожествление государства и власти в странах с авторитарным режимом; и
обожествление машины и успеха в нашей собственной культуре, угрожающее
наиболее ценным духовным обретениям человека15.»
2.10 Извращения
религиозного чувства
Затронув проблему религиозного чувства, нельзя обойти молчанием такое его
комичное извращение нашего времени как религия Карго.
В годы Второй мировой войны на Тихом океане союзники, высаживаясь на
некоторые острова Микронезийского архипелага, строили там аэродромы и одаривали
туземцев съестными припасами, мелкими зеркалами, бусами, иногда даже кое-
какой полезной техникой, посудой и так далее. Каково же было удивление
путешественников, когда лет через сорок после войны на этих островах обнаружился
новый культ. В глубине тропических зарослей туземцы расчищали площадку,
устанавливали на ней деревянное подобие самолета, иногда даже с явным признаком
мужского пола, и вокруг этого странного идола плясали, пели, приносили ему
жертвы. В чем суть веры?
— Эта птица много лун тому назад принесла на землю наших бледнолицых
предков с обильными дарами. Мы молим ее: «Принеси их опять». Мы точно знаем: они
посетят нас снова и тогда мы вместе с ними улетим туда, откуда они принесли
дары, на Второе небо.
Похоже, и у нас в стране появился этот культ. Вера в НЛО, сакрализация
(превращение в предмет веры) разнообразных антинаук, часть из которых тоже
залетели с «дикого Запада», ожидание «пришельцев» с обильными дарами, будь то
хоть гуманитарная помощь, хоть инопланетяне, хоть выходцы из оккультного
«параллельного мира» или из Шамбалы, ритуальные пляски. Появился
идеологизированный рок. Он приводит в состояние экстаза, подобно камланиям шаманов. На
эти действа молодежь идет в подпитии или наколовшись наркотиков — еще одна
аналогия. Шаманы и участники их действ во многих странах, например, у ряда
народностей нашего Дальнего Востока и индейских племен, вкушали наркотики:
Из «Психоанализ и религия», по переводу в сб. «Сумерки богов», Политиздат, 1990.
настойку мухомора или других грибов, тех, в которых содержится ЛСД. Этот и
некоторые другие грибные яды вызывают удивительные галлюцинации: мерещатся
как во сне совершенно реально видимые человеческие существа, разговаривают,
общаются; нарушается чувство времени. «Рокоманами» тоже нередко овладевает
массовое безумие. Самоконтроль утрачивается полностью. Все очень напоминает
радения хлыстов, описанные, например М. Горьким в «Климе Самгине».
Удивительные мы переживаем времена. В нашу вчера еще безбожную страну
начала возвращаться религия, но, как видно, «и бес не дремлет».
К извращениям религиозного чувства, несомненно, относится не только то, о
чем мы сейчас рассказали. Есть и другое извращение: политический фанатизм.
Поклонение идолам в лице земных тиранов, их обожествление.
Культ Сталина, Гитлера и Мао, несомненно, носил религиозную окраску. Говоря
точнее, эти культы паразитировали на естественном религиозном чувстве. Бог
земной тщился подменить собой Бога небесного.
Все мы жили под Богом,
У Бога под самым боком.
Он был не в небесной дали.
Его иногда видали,
Живого на мавзолее.
Он был намного умнее и злее
Того, другого,
По имени Иегова,
Которого он низринул,
Извел, пережег на уголь,
А после из гроба вынул
И дал ему хлеб и угол...
(Б. Слуцкий. «Все мы жили под Богом»)
Именно в этом крылась причина ненависти тоталитарных правителей к церкви и
религии. Изничтожали опасных конкурентов! Не удалось! Руки коротки.
Ю. Богомолов16 писал: Большой террор требовал не только большой лжи, но и
новой мифологии, и нового фольклора. Мир реальный переворачивался, собственно
жизнь не считалась реальностью — она подменялась ирреальностью, мифомиром. В
этом мифомире государство приобретает статут цели и становится объектом
религиозного культа, а человек утилизируется как материал для построения нового
мира... В сталинском мифомире есть свой Олимп — это Кремль. И есть свой Тартар
— это застенки тюрем и необозримый архипелаг ГУЛАГ. Боги — обитатели Олимпа
бессмертны, но не гарантированы от низвержения в Тартар — Бутырки. Троцкий,
Бухарин и другие, изгнанные с Олимпа, не лишаются статуса бессмертных. Они
обречены на вечное присутствие в мире, но с клеймом вульгарного злодея.
Весьма символический, по сути дела, исторический эпизод. Самым высоким
зданием предреволюционной Москвы был, как всем известно, ныне восстановленный
Храм Христа Спасителя. Большевики его взорвали в 1932 году, чтобы воздвигнуть
не где-нибудь, а именно на этом самом месте свое капище: Дворец Советов,
увенчанный грандиозной статуей Ильича. Здание по проекту должно было стать
самым высоким в мире. Работы начались. Вырыли гигантский котлован, как в
известном романе Андрея Платонова. Но и кончилось все как там. Годами
огороженная забором стройплощадка являла собой зрелище запустения. Котлован
постепенно превратился в большой затянутый ряской пруд. Потом в этом месте построили
зимний бассейн. Здание Дворца Советов в архитектурном проекте:
параллелепипед, на нем второй поменьше, третий — еще меньше и так далее, явное подобие
16 «Искусство кино», N8, 1991
Зиккурата - Вавилонской башни. И смех, и грех... Нарочно не придумаешь!
2.11. Где
начинается
совесть?
Текст этой публикации был уже подготовлен к печати и был представлен на суд
тех читателей, чье мнение нам особенно не терпелось услышать, когда нам вдруг
подумалось о величайшем упущении в главе о природе человека. Есть еще нечто
очень важное, что отличает нас от бессловесных наших предков, поскольку
неразрывно связано с нашим умением мысленно возвращаться в прошлое и с
внутренней речью...
Ах, чувствую, ничто не может нас
Среди мирских печалей успокоить;
Ничто, ничто... едина разве совесть.
Так здравая она восторжествует
Над злобою, над темной клеветою.
Но если в ней единое пятно,
Единое случайно завелося,
Тогда — беда! Как язвой моровой
Душа сгорит, нальется сердце ядом,
Как молотком стучит в ушах упрек...
Так говорит сам с собой пушкинский Борис Годунов.
Способно ли какое-либо живое существо, кроме человека, испытывать
длительные угрызения совести?
Конечно, чужая душа — потемки, тем более бессловесная. Собака, укравшая
котлету в отсутствие хозяина, когда он возвращается в дом, вроде бы,
переживает свой грех: скулит, ползет к его ногам, извиваясь на брюхе, поджимает
хвост, в отличие от, например, кошки, всегда склонной действовать по принципу
не пойман — не вор. Однако, что это? Переживания, подобные человеческим, или
ожидание и страх грядущего наказания? Скорее уж, все-таки, второе.
В следующих главах будет рассказано о действующих у животных инстинктивных
запретах: не ешь детеныша, корми его, не добивай сдавшегося соперника, не
нападай на него исподтишка, не разоряй гнезд или нор собратий по виду, не буди
спящих, не воруй пищу у своих, уважай чужую территорию и так далее. Это все,
надо полагать, зачатки того нравственного чувства, которое у людей Эммануил
Кант назвал категорическим императивом. Как известно, великого философа
нравственное чувство, заложенное внутри нас, волновало не в меньшей степени, чем
вид звездного неба. В том и другом виделись ему подтверждения бытия Божьего.
Способность к длительным угрызениям совести, как нам кажется, — еще одно
существенное отличие человека от животных.
Конечно, и они испытывают отрицательные эмоции, нарушая свои врожденные
моральные запреты. У некоторых видов, например, у гиеновых собак или врановых
птиц, эти запреты определяют социальное поведение куда в большей степени, чем
у человека. В то же время и высшие животные, подобно нам, нередко преступают
свои моральные нормы. Бывает, случается, что, например, самка по неопытности
или с голодухи пожирает своих детенышей или, играючи, убивает их.
Разошедшийся самец в пылу драки убивает сдавшегося соперника или даже умерщвляет
собственную подругу жизни, повздорив из-за какой-нибудь ерунды. У галок, подобно
людям, моногамных (один муж — одна жена) и объединяющихся надолго в
супружеские пары, случаются и «разводы», «супружеские измены». Известно немало
случаев, когда собаки или (гораздо чаще) воспитанные человеком шимпанзе умерщв-
ляли или калечили своих, вроде бы, любимых хозяев. Описан случай когда
шимпанзе, откусивший вдруг ни с того ни с сего палец своему приемному отцу,
очень после этого огорчался и даже пытался приставить палец на прежнее место.
Все это, вроде, так. Но вот все-таки. Многие, еще, вероятно, помнят
трагическую историю в Баку с семьей любителей животных Берберовых. Они вырастили в
своей квартире львенка и еще нескольких крупных хищников. В один непрекрасный
день эти звери неожиданно разбушевались и расправились со всей семьей: одних
растерзали до смерти, другим нанесли тяжкие увечья. Ворвавшаяся милиция была
вынуждена перестрелять весь домашний зоопарк. Спрашивается, а как бы себя
вели в дальнейшем эти хищники, если бы их оставили в живых? Опомнились бы,
мучились бы длительными угрызениями совести? Нет, отвечаем уверенно. Тосковали
бы, возможно, по загубленным людям, но так и не поняв, куда они делись и
вообще, что произошло. Ведь ни одному живому существу, кроме человека, не
понять, что такое смерть. Животные, таким образом, не смогли бы осознать, что
были ее причиной.
Известно, правда, немало случаев, когда собаки даже околевали от тоски,
потеряв хозяина, выли на его могиле, отказывались от пищи. Но, тем не менее,
только мозг «вооруженный» речью, способен осознать вину даже перед теми, кто
ушел давно в «мир иной» и никого ни в чем не может укорить. Страданиям Рас-
кольникова или Ивана Карамазова нет никаких аналогов в животном мире.
Приведем исповедь одного знакомого, физика. В годы войны он, тогда
десятилетний мальчик, оказался в оккупированной немцами Виннице. Кто-то донес на
его родителей. В квартиру ворвались полицаи и всех членов семьи, которых
застали дома, повели на расстрел. На глазах у ребенка убили его младшую
сестренку, бабушку и деда, который в последний момент подсадил внука на забор и
тем помог убежать. Вслед стреляли, но пуля только оцарапала бок. Родители
сыскали его потом и вместе с ним укрылись в деревне у свояка. Через два года,
когда подступили наши, мальчик, уже двенадцатилетний, пробегая мимо развалин
какого-то кирпичного строения, услышал из-под стены стоны и крики:
— Хельфен зи мир, вассер, вассер, тринкен... — Помогите, помогите, воды,
пить...
Взглянул, за стеной лежит раненый в живот эсэсовец, а рядом пулемет и
стрелянные гильзы. Мальчик перелез через стену и своим большим, не по размеру,
солдатским ботинком наступил на живот немца, прямо на рану. Наступил и начал
медленно давить, глядя с усмешкой прямо в глаза раненому. Даванет,
остановится, снова придавит. Немец дико взвыл. Лицо его позеленело. Руки судорожно ко-
рябали землю. Через минут пятнадцать все кончилось. Мальчика вид агонии и
смерти врага ни чуточки не испугал. Напротив, развеселил. Он ощущал себя
тогда мстителем за бабушку, дедушку и сестренку.
Но вот мальчик повзрослел, и с каждым годом проклятое воспоминание все
больше сверлило его душу. Начались почти еженощные ужасные сны. Прошли
школьные годы, университет, аспирантура, а на душе делалось все поганее. С
третьего курса аспирантуры этот физик запил и бросил учебу. Немец продолжал сниться
почти каждую ночь! Теперь уже они во сне познакомились, разговаривали, и все
кончалось иногда лучше, чем в жизни. Подъезжали санитары, забирали раненого.
Их обоих куда-то везли. Поразительно, что не снился расстрел, не снились
убитые родственники. А снился раздавленный немец, вероятно, такой же изверг, как
и прочие эсэсовцы. Разумом физик, конечно, понимал: велик ли спрос с
озлобленного двенадцатилетнего мальчишки после всего им пережитого? Да, понимал,
но толку-то от этого не было никакого. Совести не прикажешь. Душевные муки
продолжались, и в жизни, карьере, в результате, все пошло прахом.
Известна трагедия некоторых, хотя и далеко не всех, членов экипажа
знаменитой летающей крепости «Энола Гей», той, которая бросила атомную бомбу на
Хиросиму. Из палачей, творивших расправу в Катынском лесу, некоторые (опять-
таки только небольшая часть) потом покончили с собой: видно, совесть заела.
Другие, напротив, до конца жизни похвалялись тем, как пускали в расход «бело-
поляков», «по секрету» весьма охотно рассказывали подробности.
В массе гитлеровских убийц процент раскаявшихся, по-видимому, ничтожен,
хотя , несомненно, были такие. Подавляющее большинство, включая доживших до
наших дней, ни о чем не жалели и не жалеют, но просто боятся разоблачения и
расплаты. То же можно сказать и о многих чекистских палачах, которым по сей
день и бояться-то нечего.
Убийцы царской семьи Я.М. Юровский и компания, все, кажется, за одним
единственным исключением, очень гордились содеянным и даже грызлись между собой,
спорили, кто именно первым стрельнул.
Не стоит продолжать этот перечень. И так ясно.
Мучительное сознание своей вины, отнюдь не исчезающее в силу таких
обстоятельств, как гарантированная безнаказанность и невозможность возместить
жертве принесенный ей ущерб — чисто человеческая черта. К тому же свойственна она
далеко не всем человеческим индивидам, а только некоторым, как бы избранным.
Заметим, что евангельский Иуда, памятуя конец его, стоял на голову выше
многих нераскаянных преступников былых времен и нынешних. Для них даже
уподобление Иуде — незаслуженная честь. Они ведь и его намного хуже.
Ясность в вопросы совести внесло учение Христово. Как известно,
христианская Церковь отпускает даже самые страшные грехи кающимся грешникам, если
только покаяние их искренне и глубоко. Однако, если даже Церковь, именем Бо-
жиим, простит именно человеческую душу, и это отпущение грехов, конечно же,
не может освободить ее от чувства вины. Для совестливой души великие грехи не
имеют срока давности и продолжают ее угрызать раскаянием до самой гробовой
доски. Христа окружали среди других и такие совестливые души: прощеные им, но
самих себя не способные простить раскаявшиеся грешники.
В послевоенной Германии многие лучшие ее люди томились и томятся по сей
день чувством общей великой вины. Одна из главных причин наших бед, возможно,
в том, что мы на такое покаяние пока оказались неспособны. А ведь на почти
каждом народе и человеке нашей распавшейся империи лежит доля вины за гибель
и страдания многих наших соотечественников. Все мы повязаны кровью, как
сообщники Петруши Верховенского, весь советский народ в той или иной степени,
словами Людмилы Ивановой сам участвовал в изготовлении собственной удавки.
Система была заинтересована, чтобы никто не остался чистеньким. Конечно, речь
идет о современниках кровавых лет и застоя, но и более поздние поколения
далеко не безгрешны. Достаточно вспомнить Афганскую авантюру, кровавый октябрь
1993 г. и бездарную Чеченскую войну, все те гнусности, которые творятся
сейчас не только «наверху», но и повсеместно.
(ПРОДОЛЖЕНИЕ СЛЕДУЕТ)
Разное
ФОТОГАЛЕРЕЯ
Разное
тш
if33@******.**
Уважаемая редакция!
ПЕРЕПИСКА
Мне кажется, что если вместо публикации "Список опубликованного"
пользоваться предлагаемым ниже Путеводителем можно получить значительно больше
информации о публикации.
Можно сразу увидеть более полную информацию о статье или цикле статей.
Я составил этот после того, как потратил довольно значительное время для
поиска статьи по автору.
Путеводитель можно выложить на FTP.
С Уважением, Иван Внуковский, г. Днепропетровск