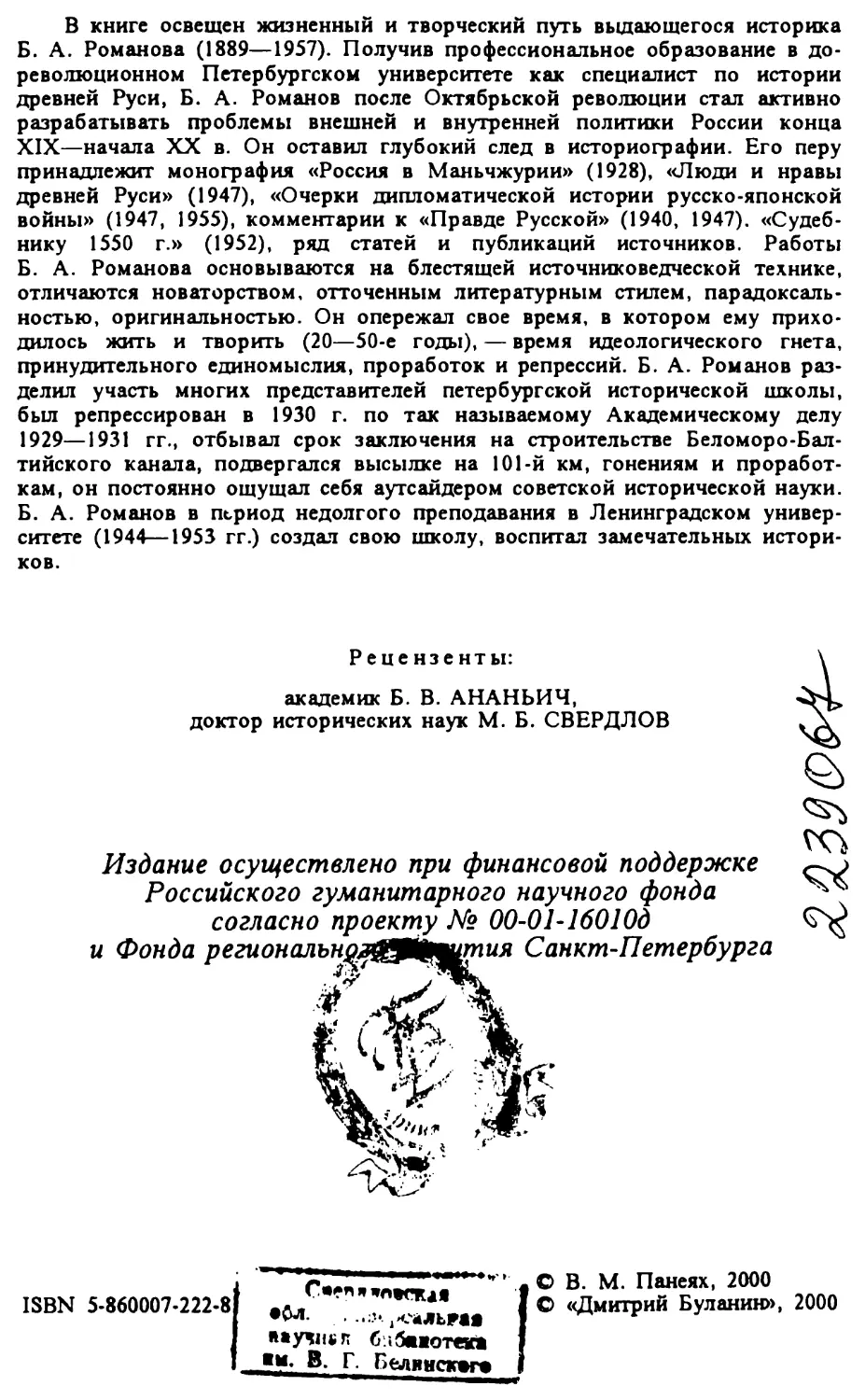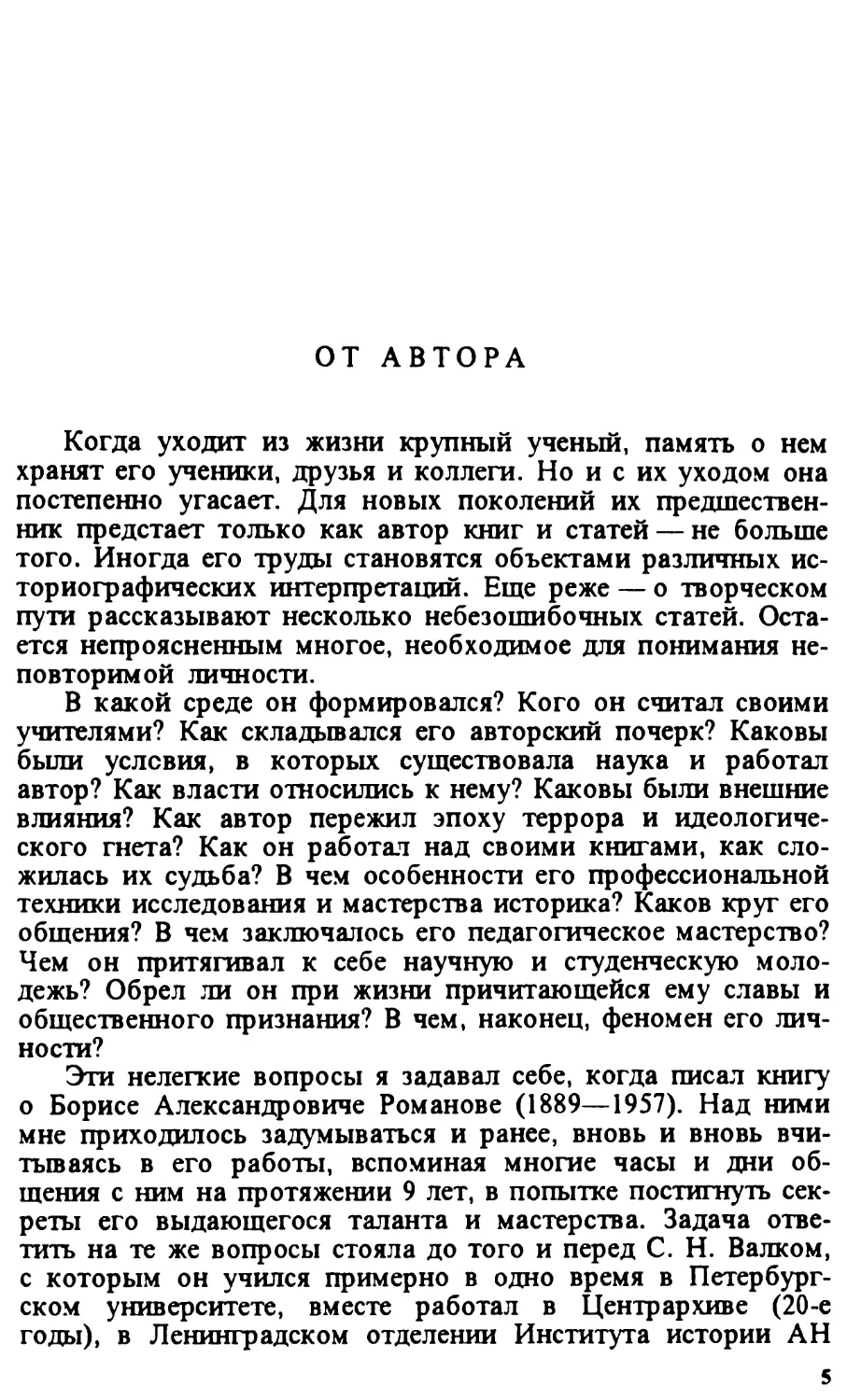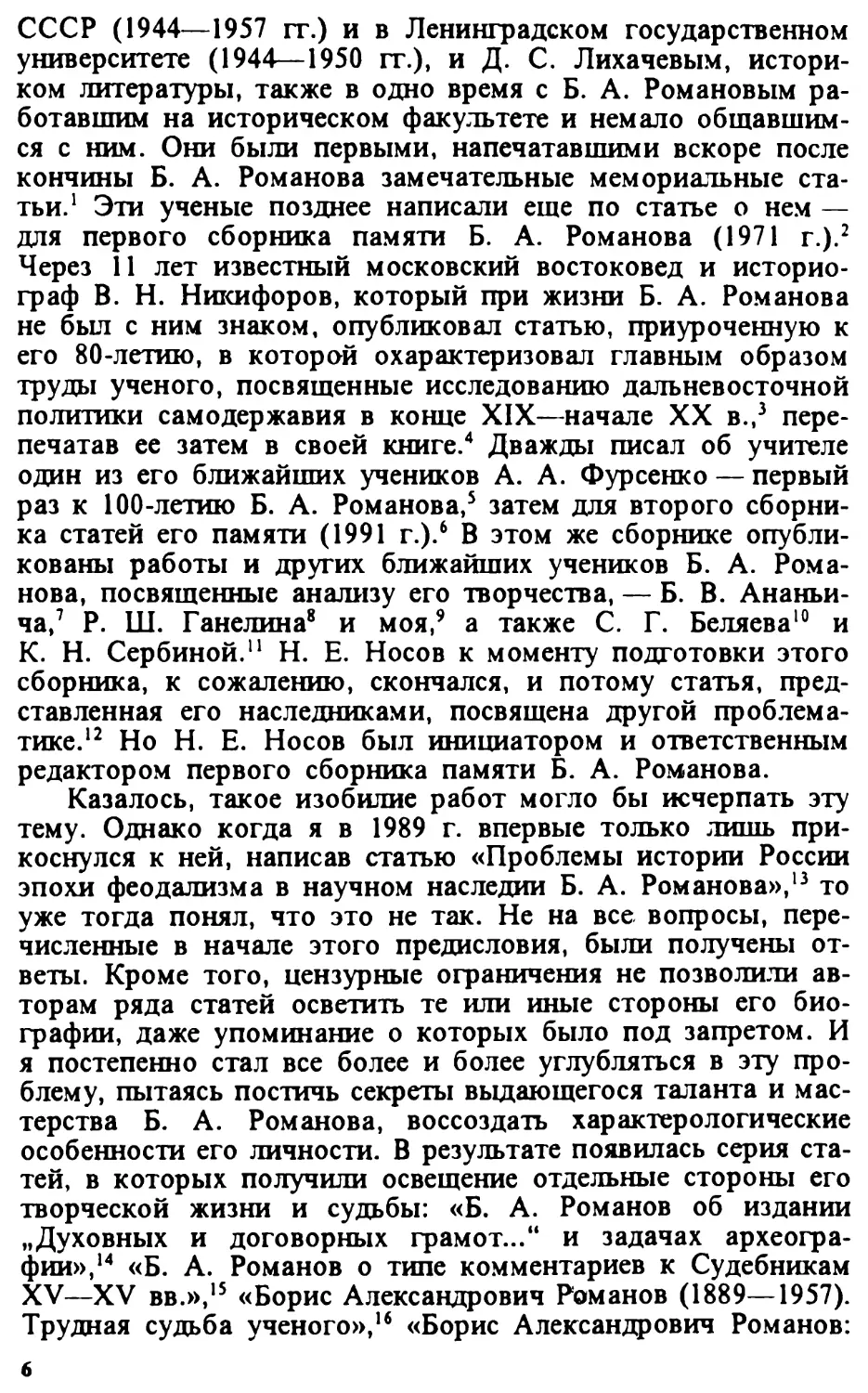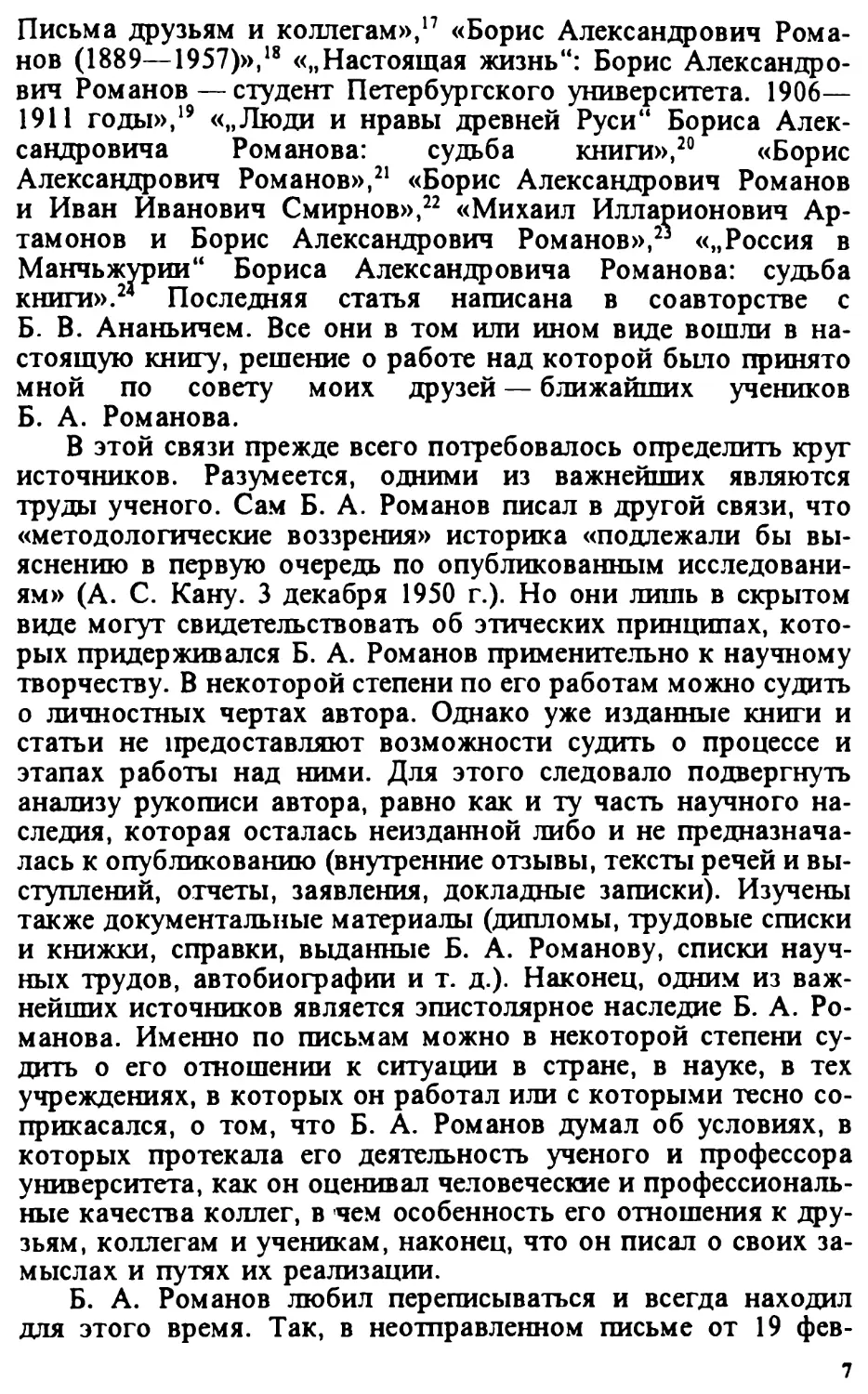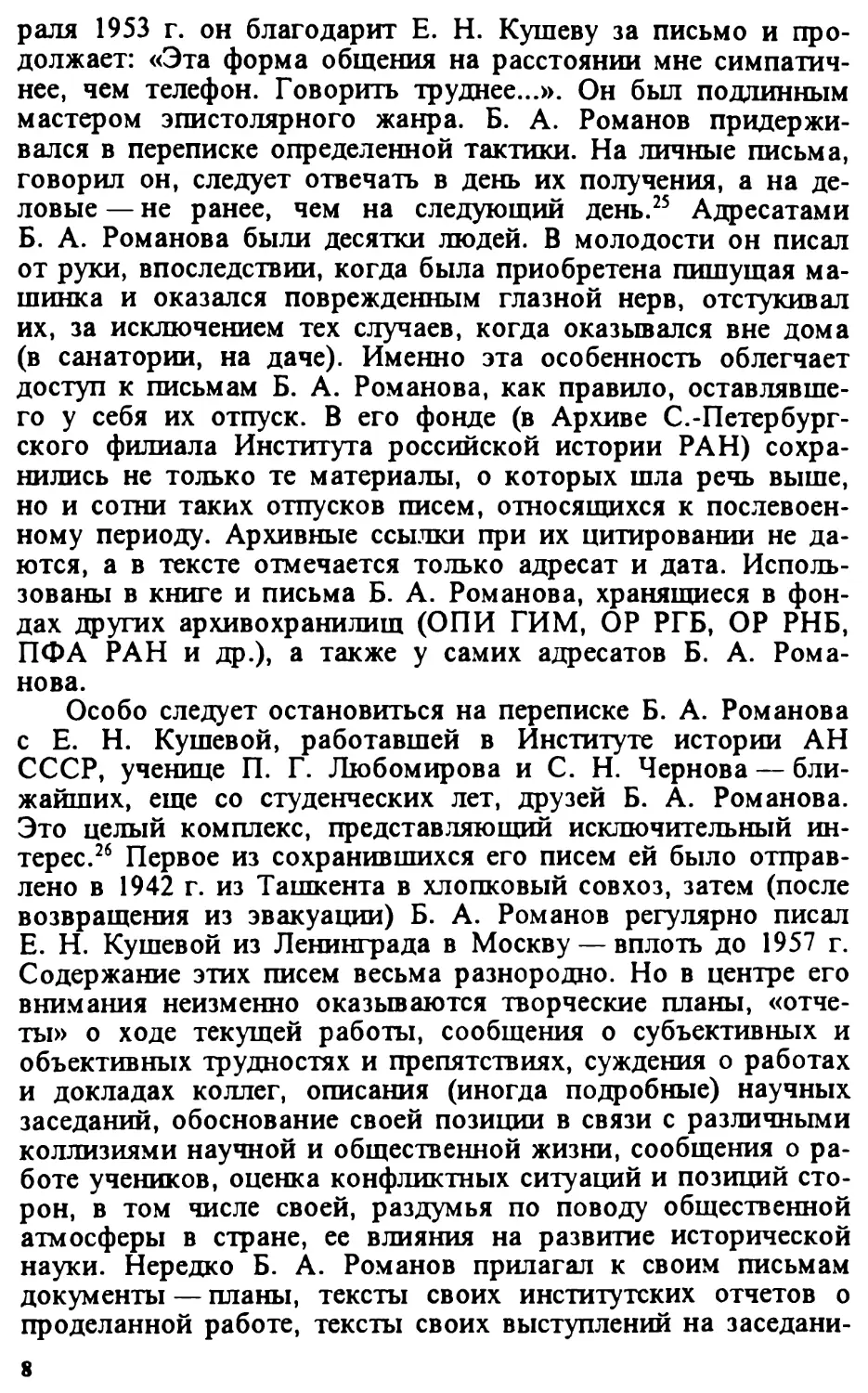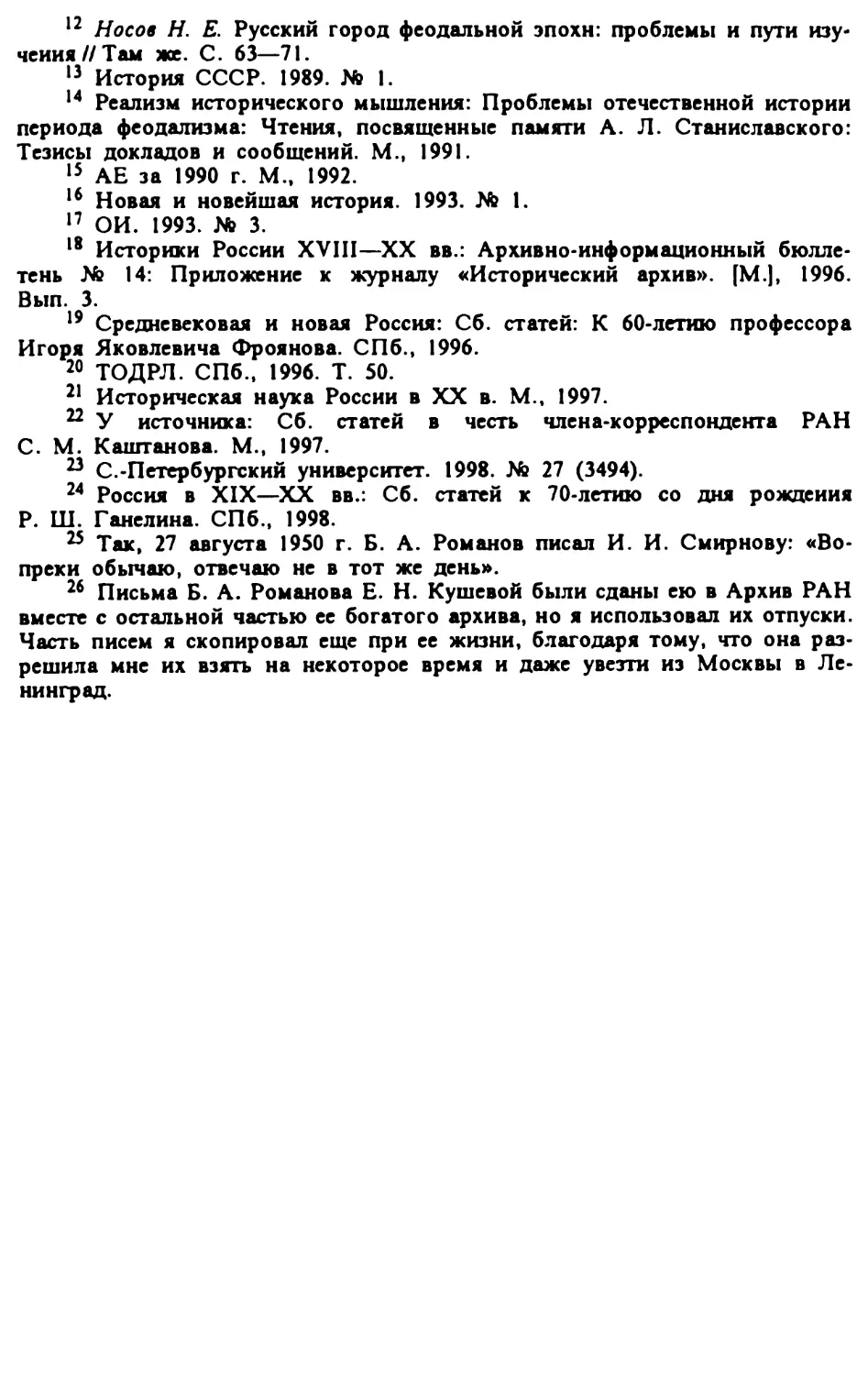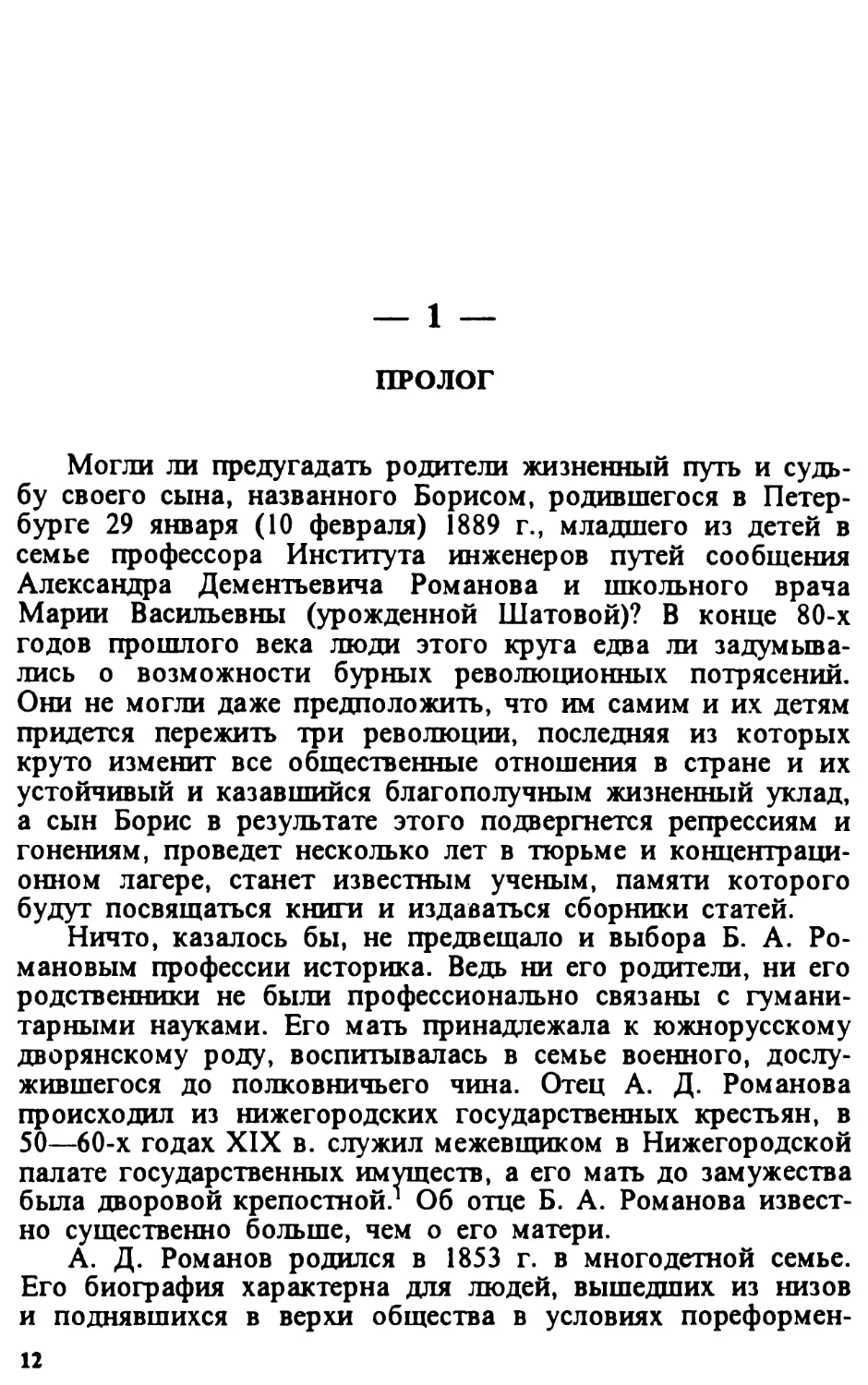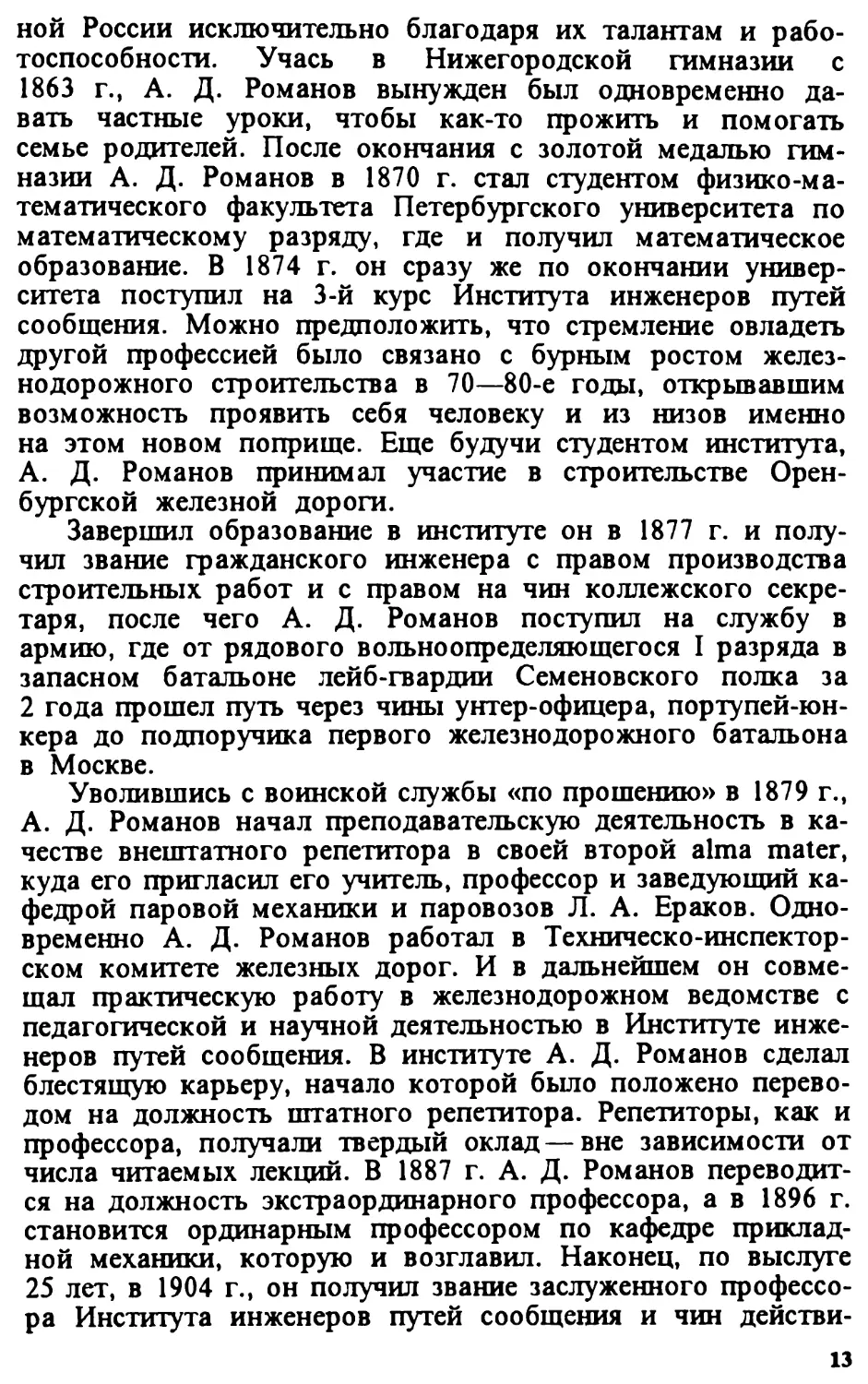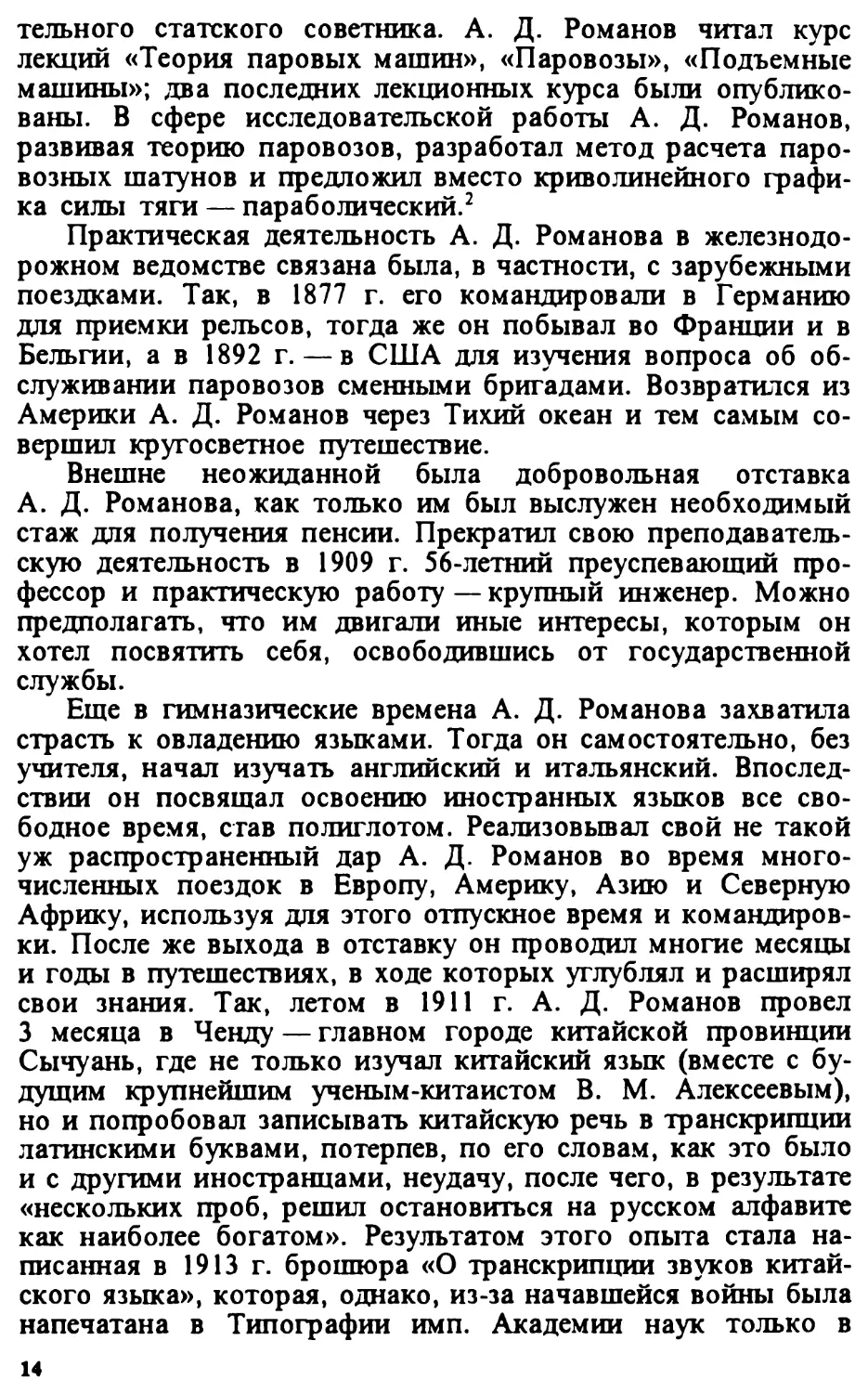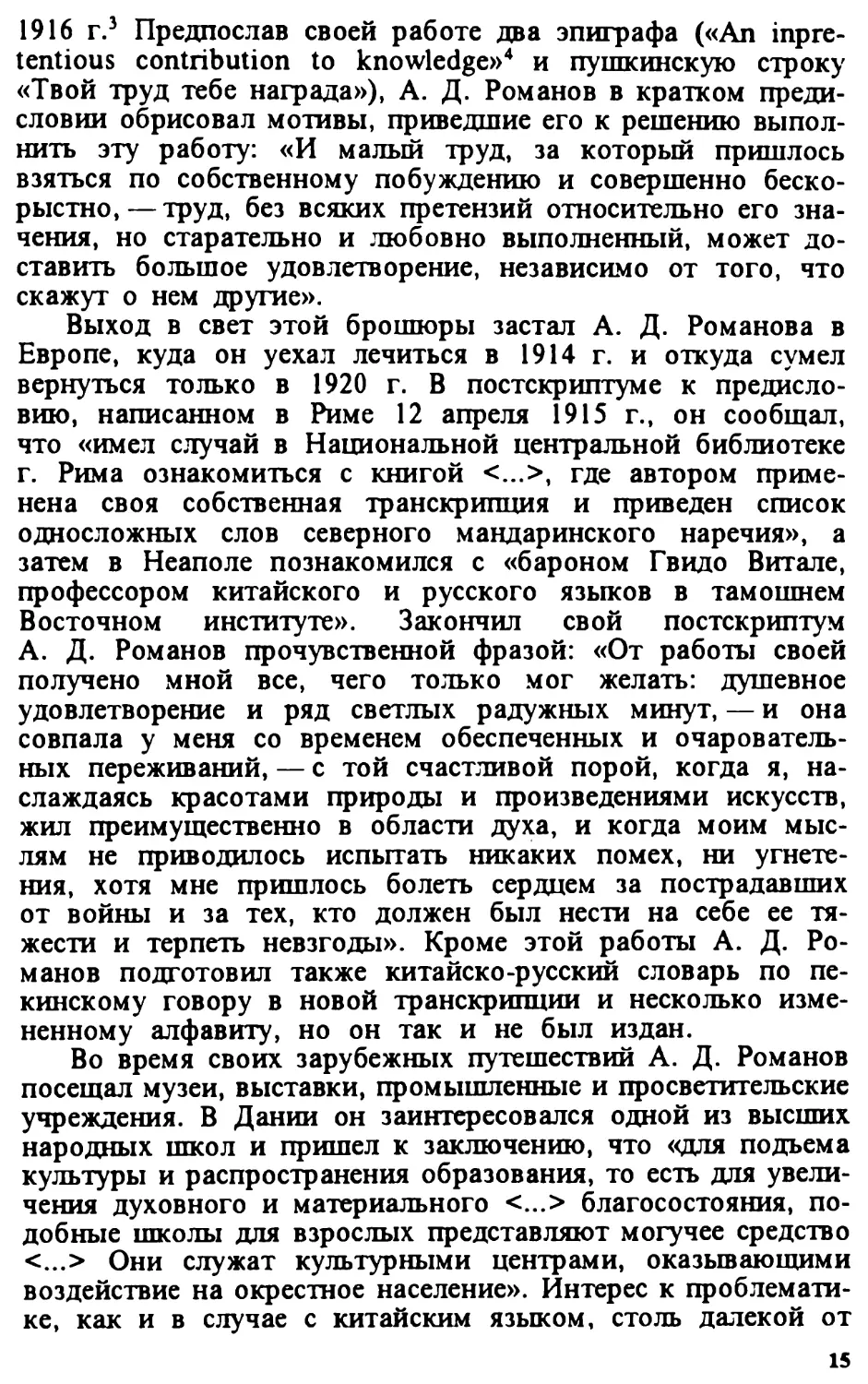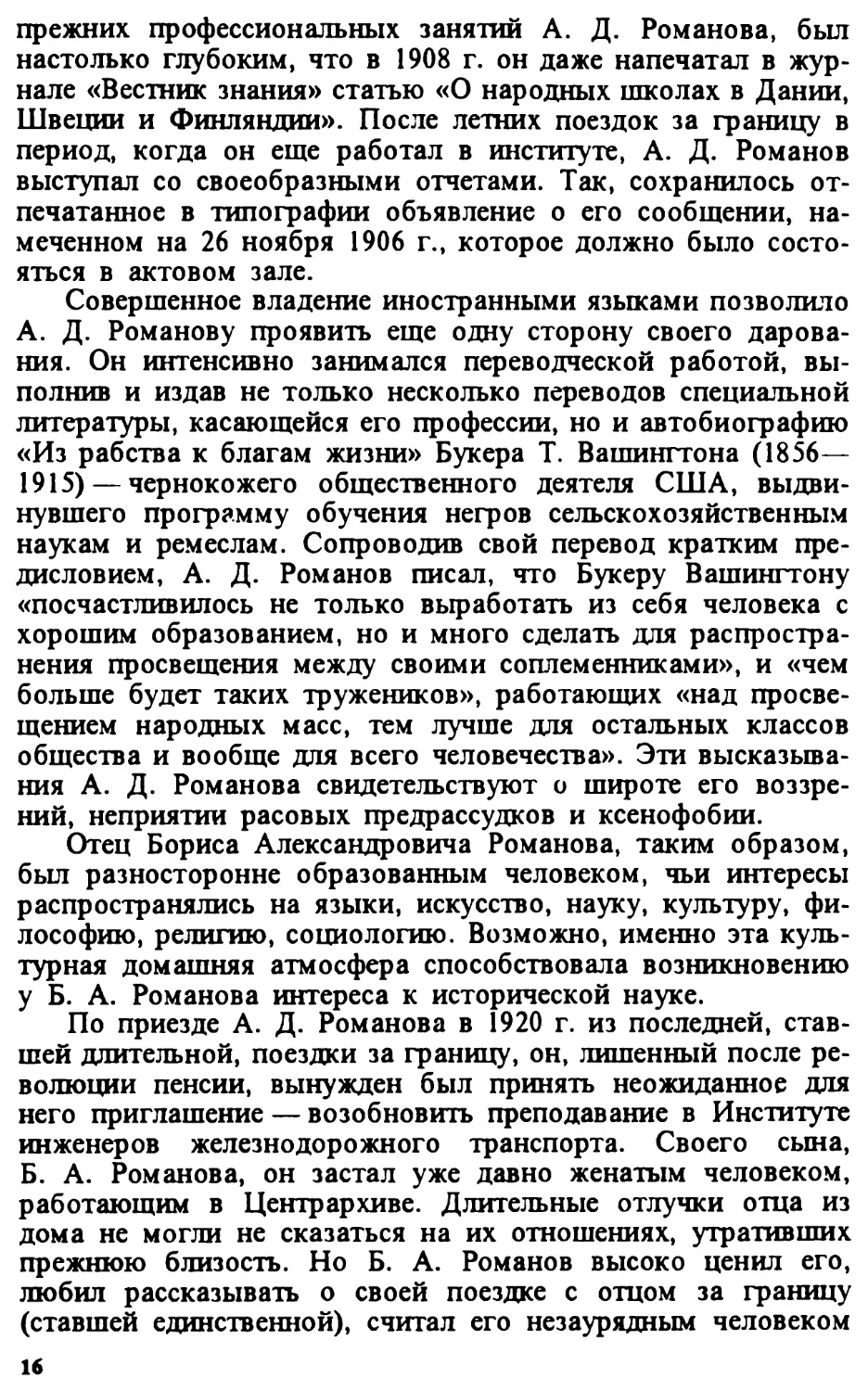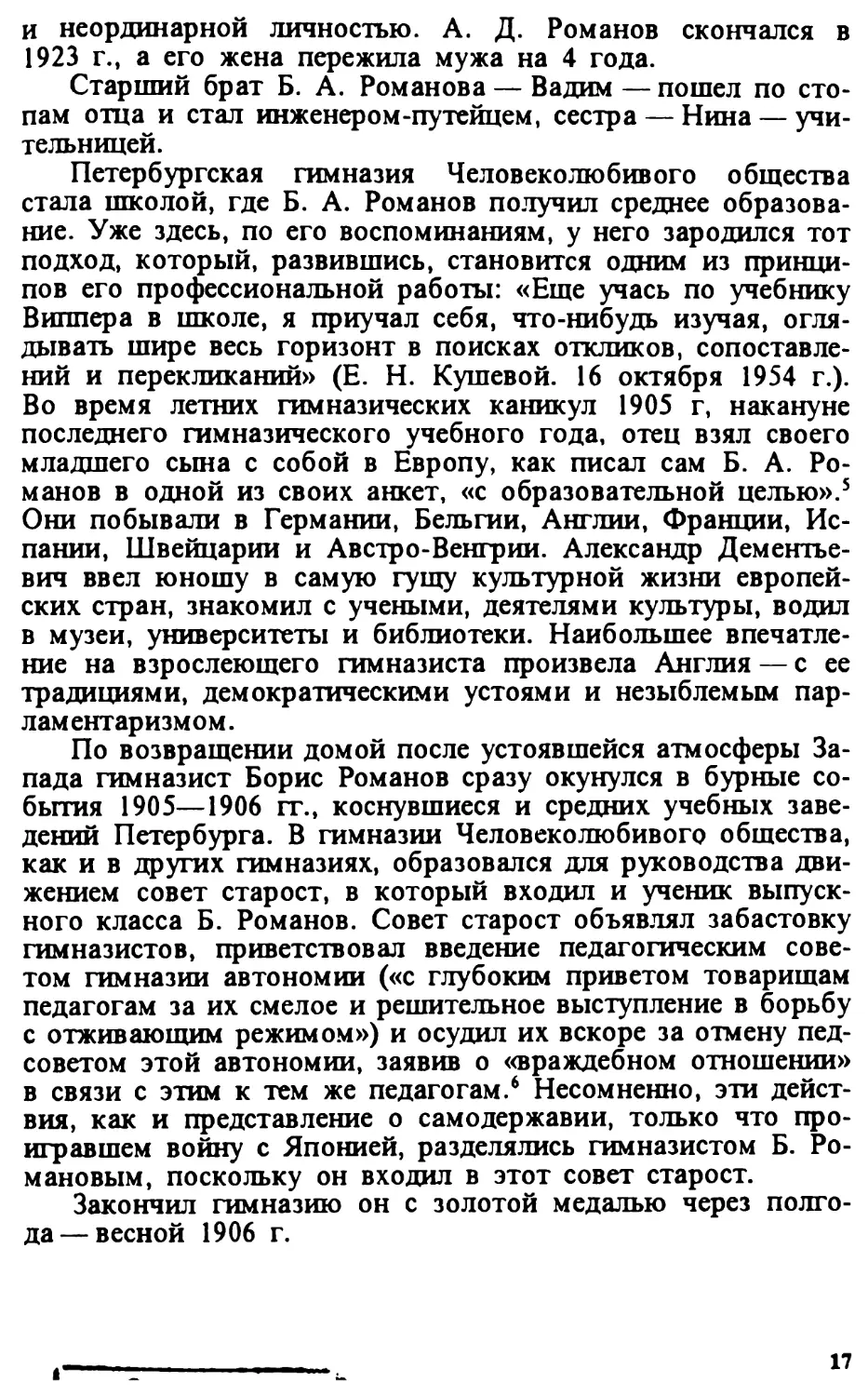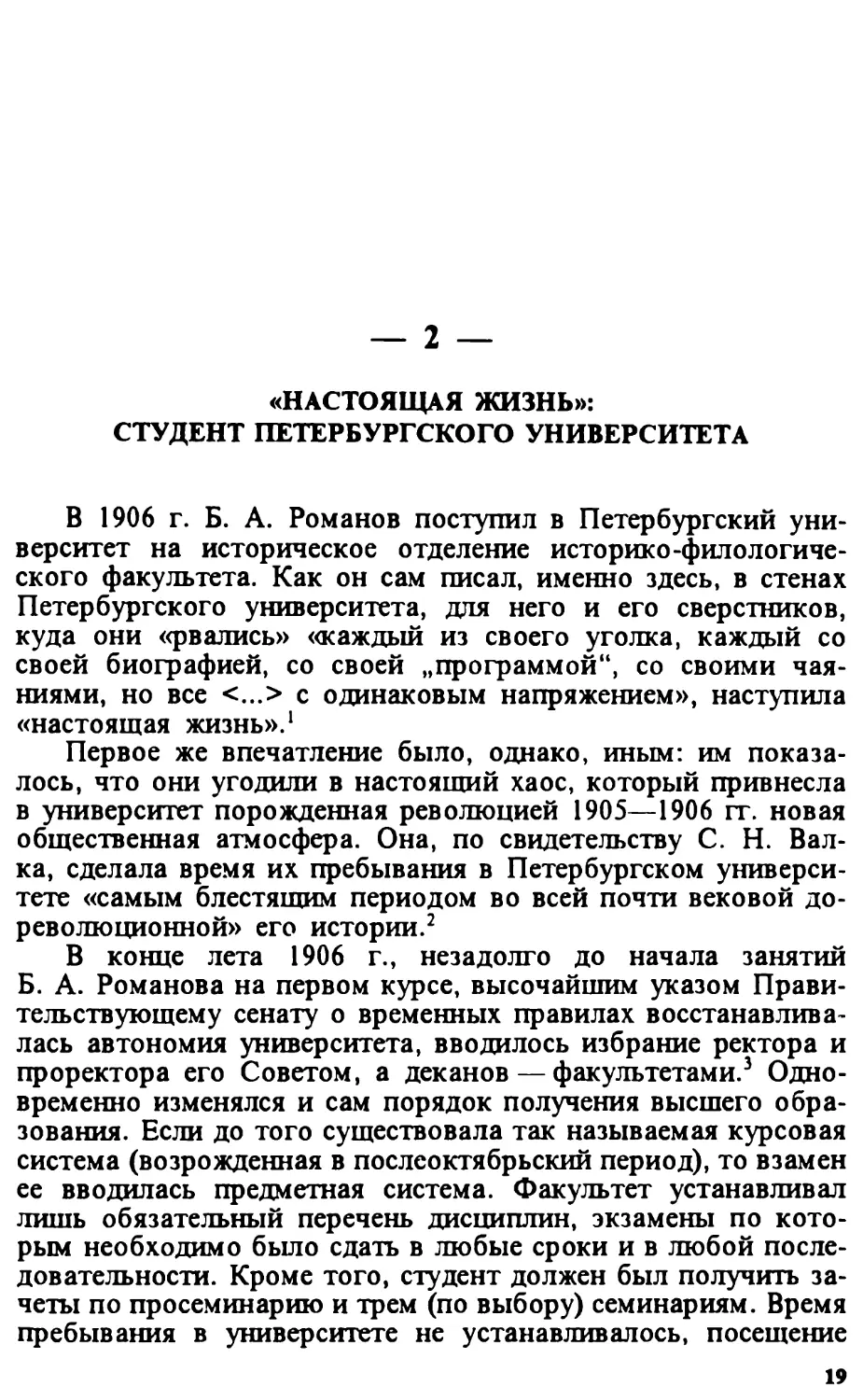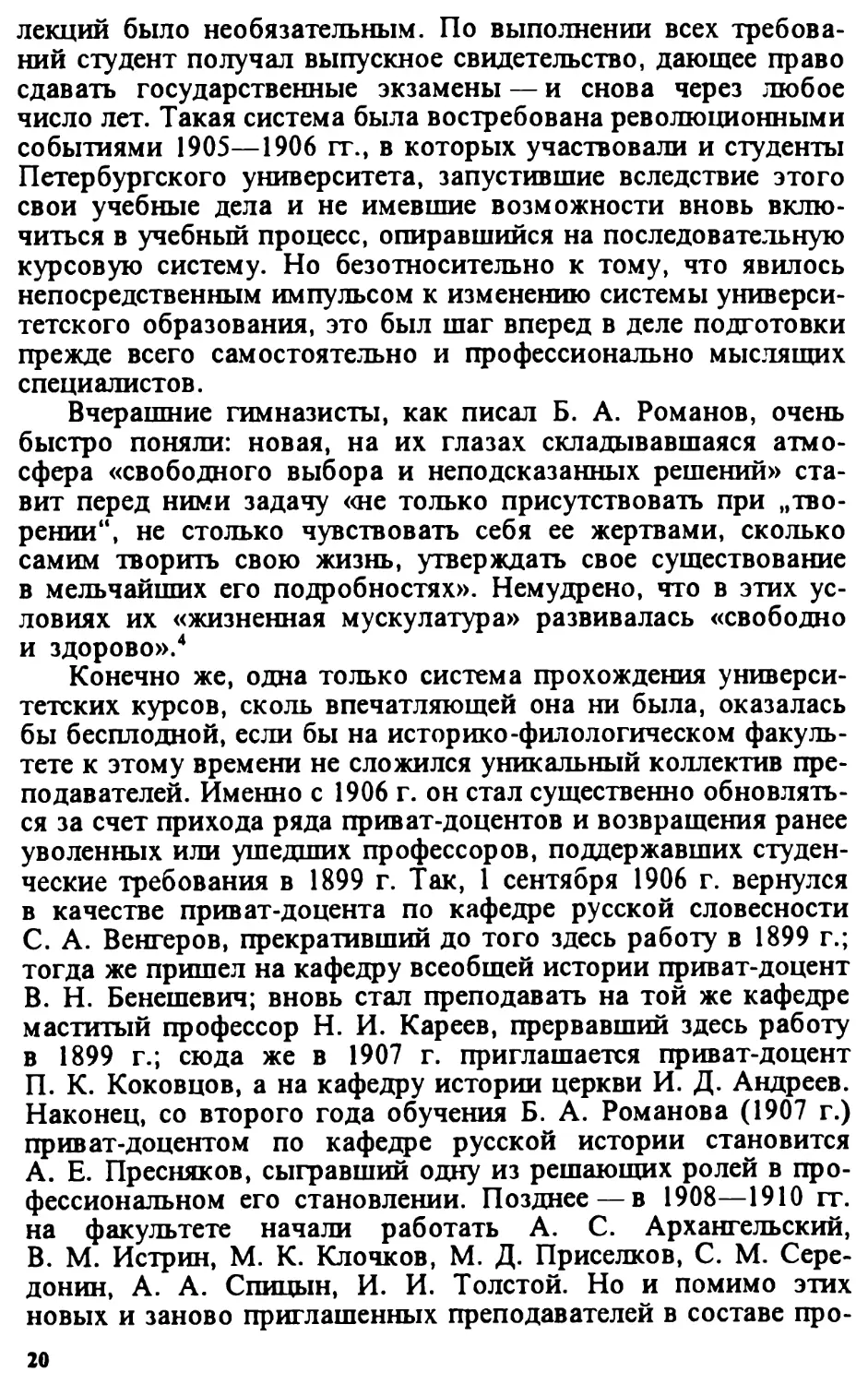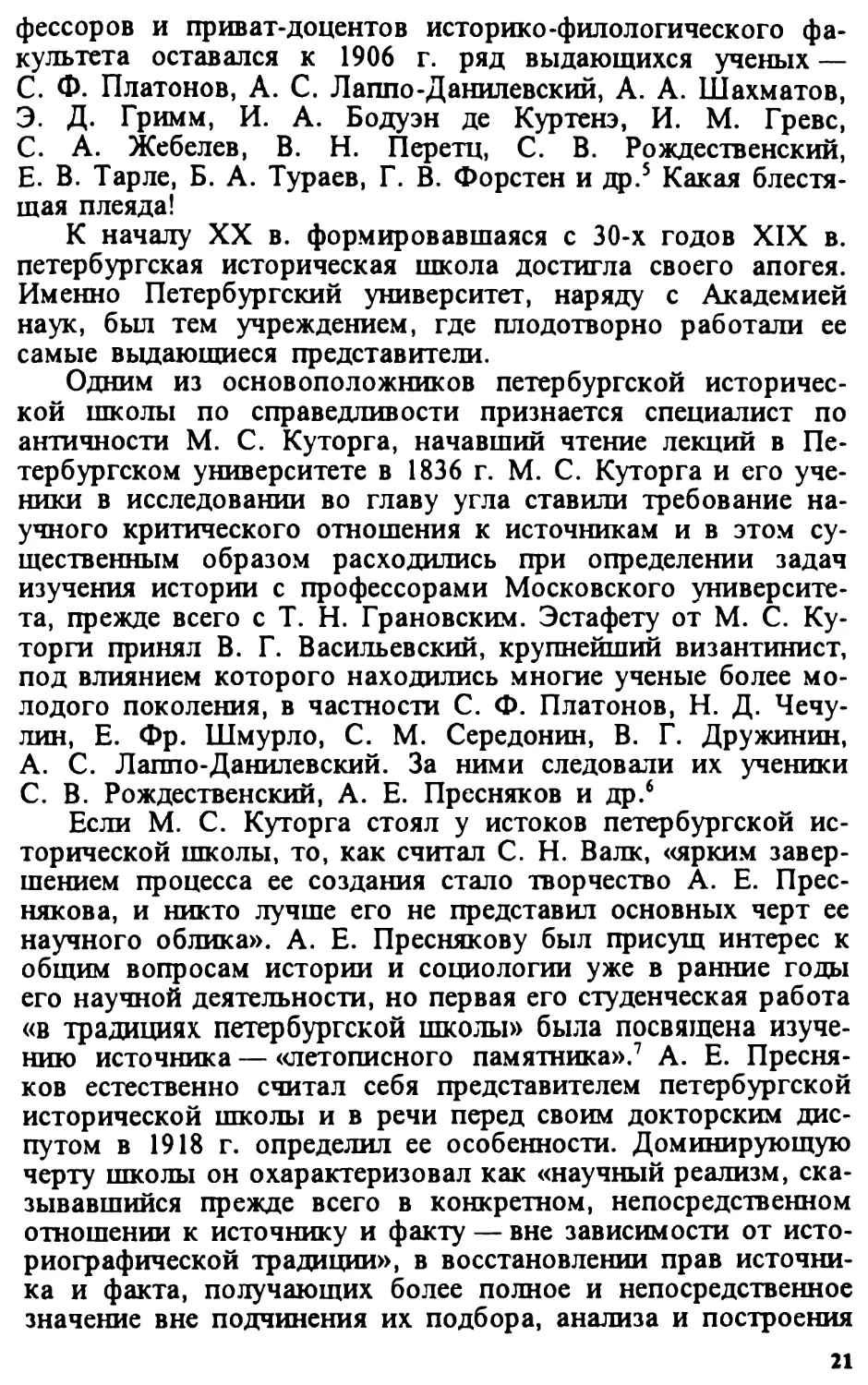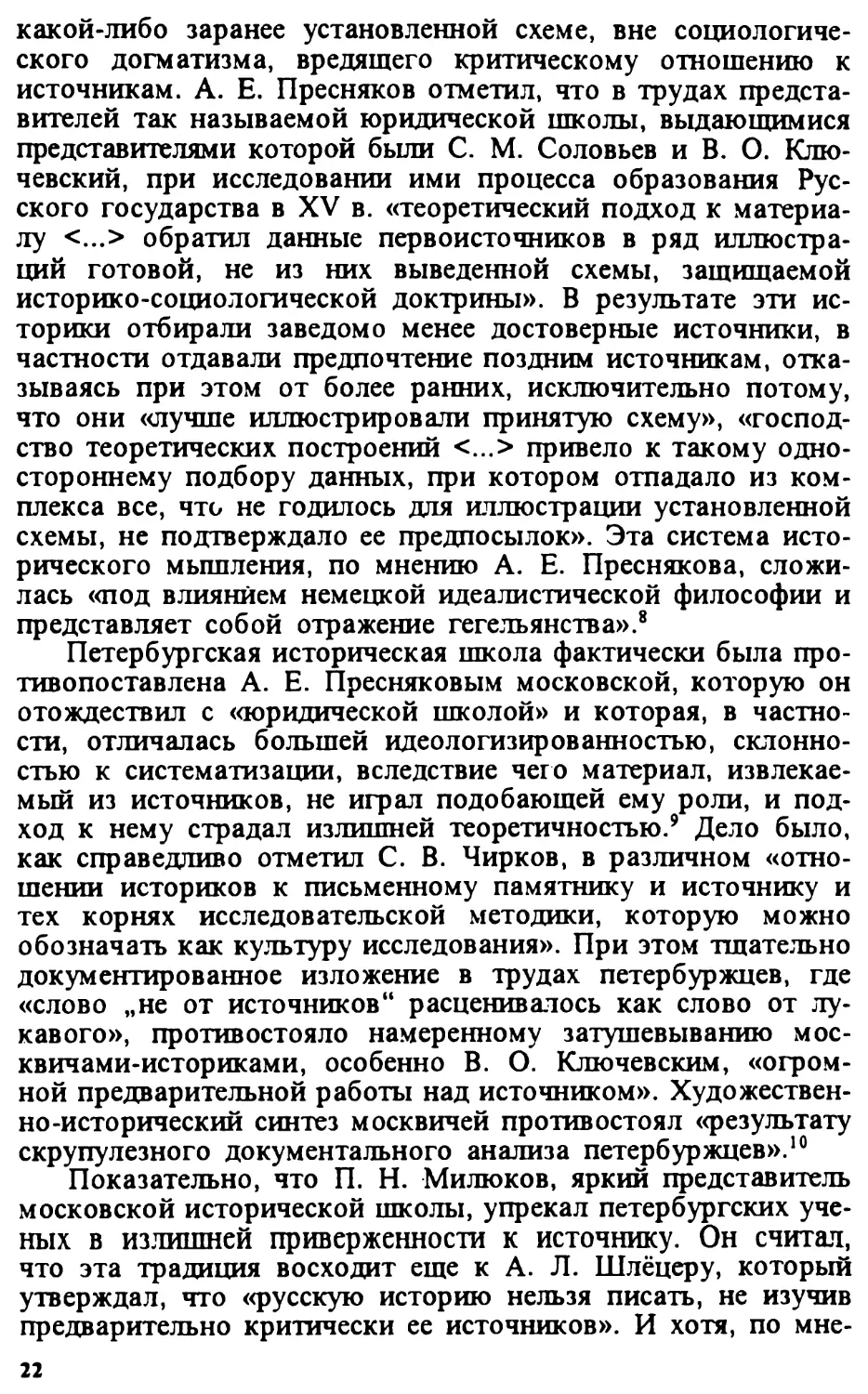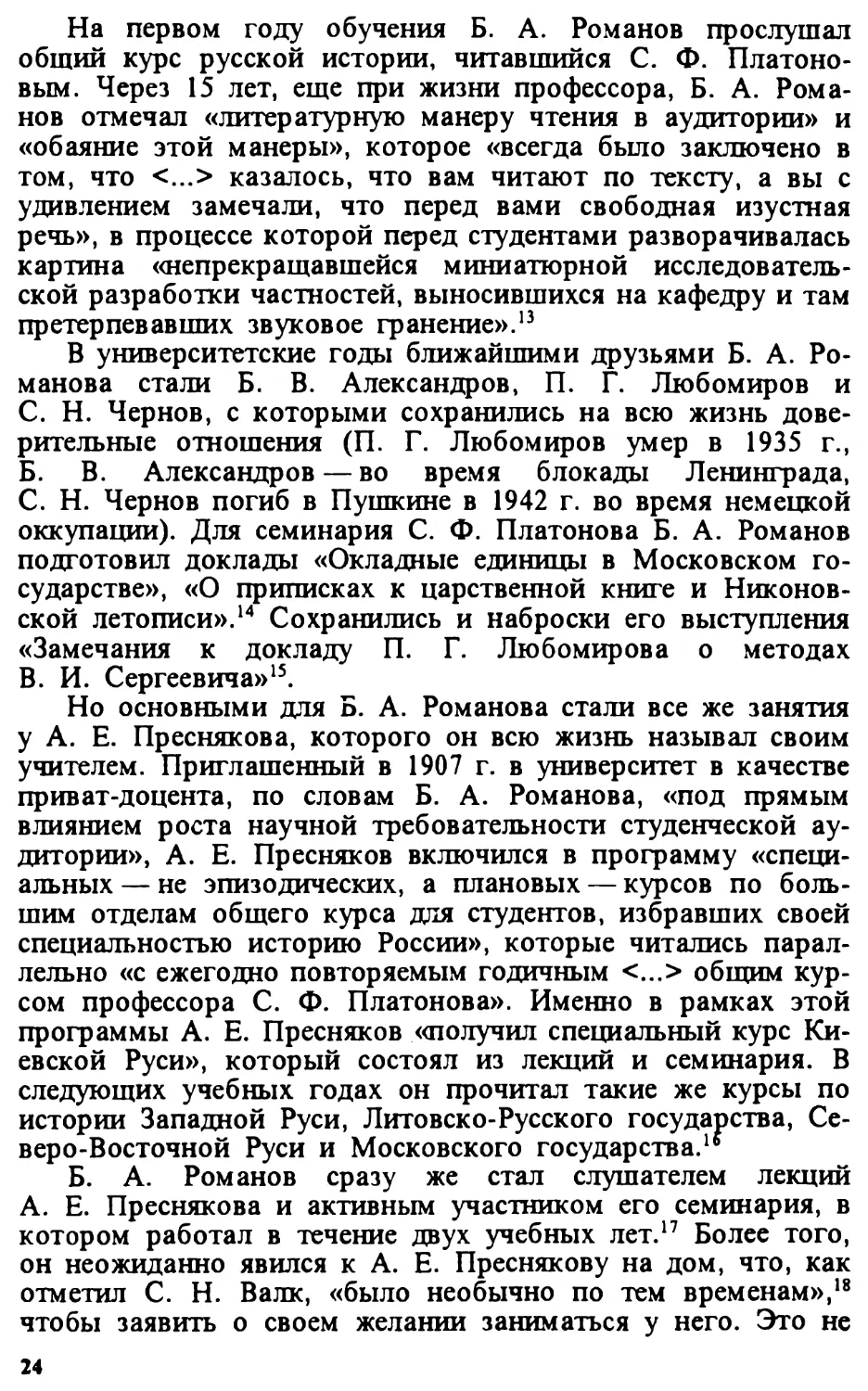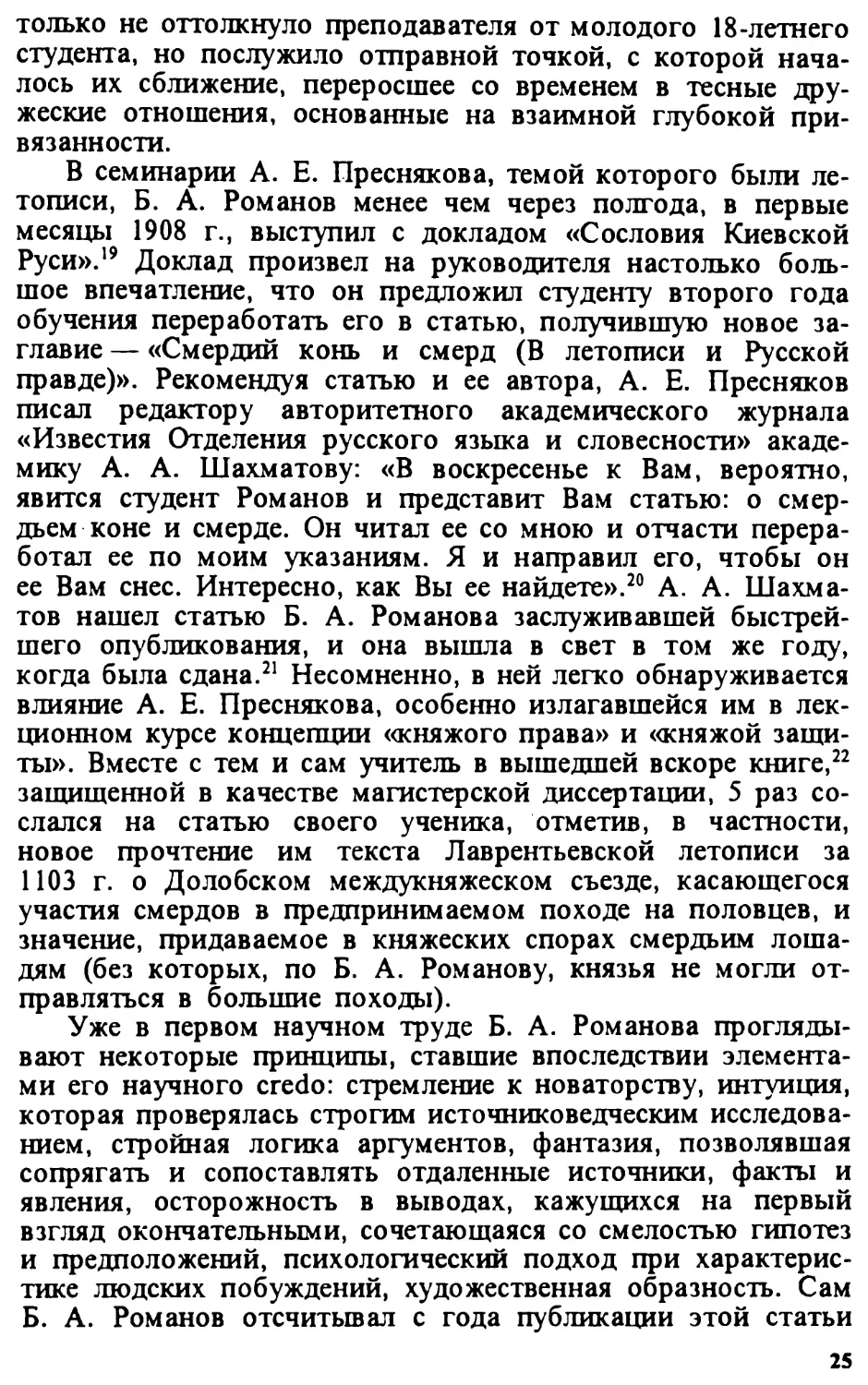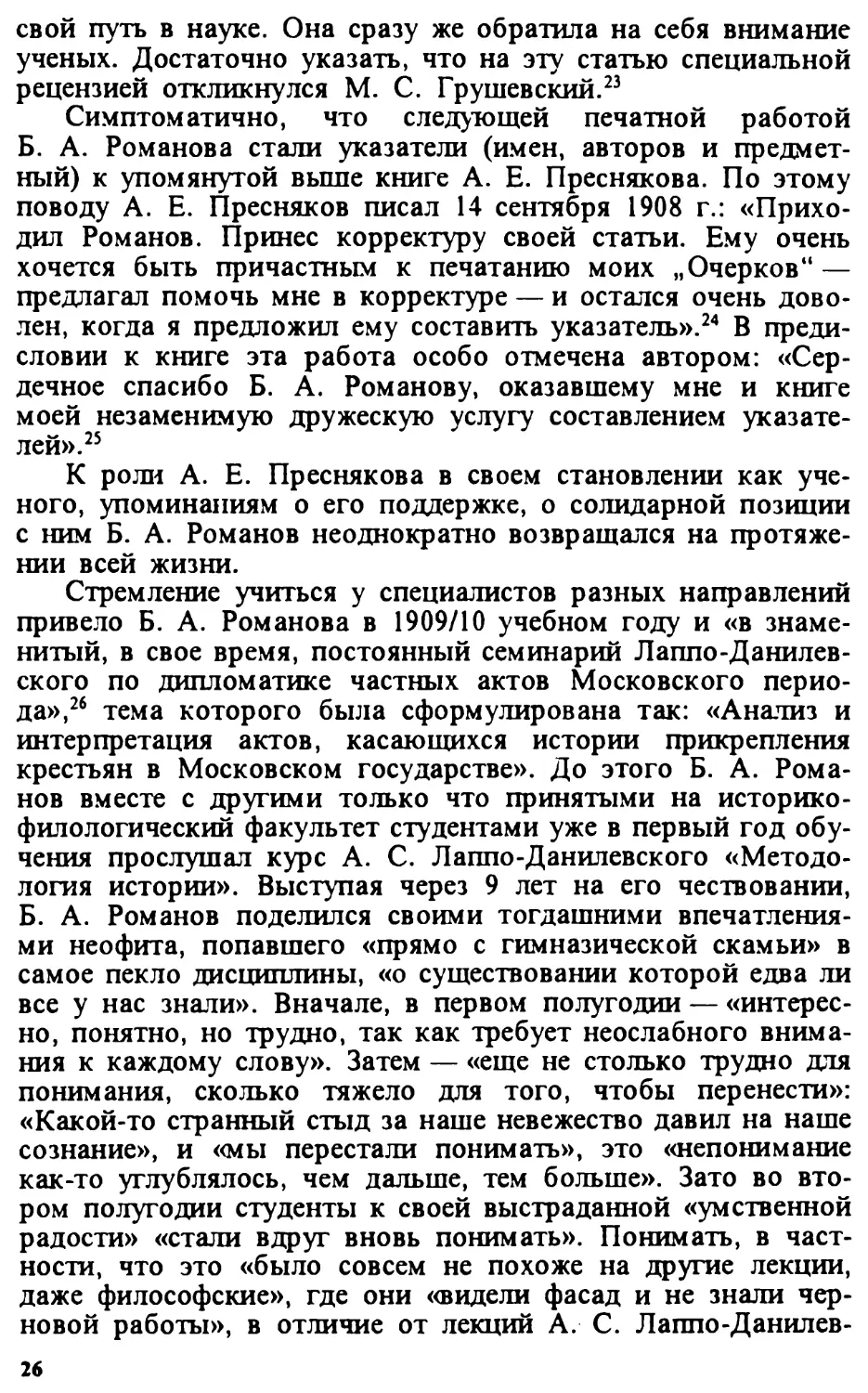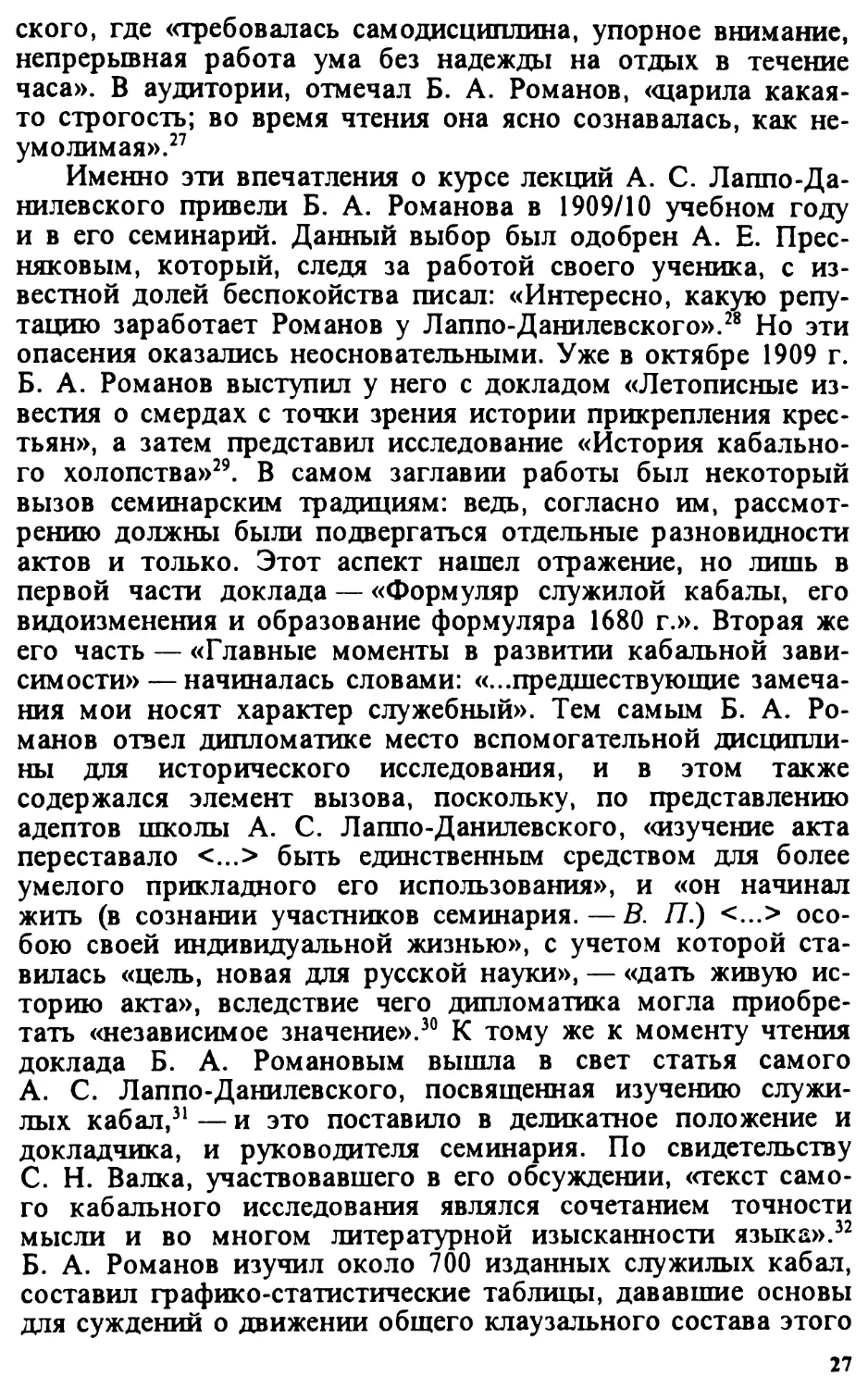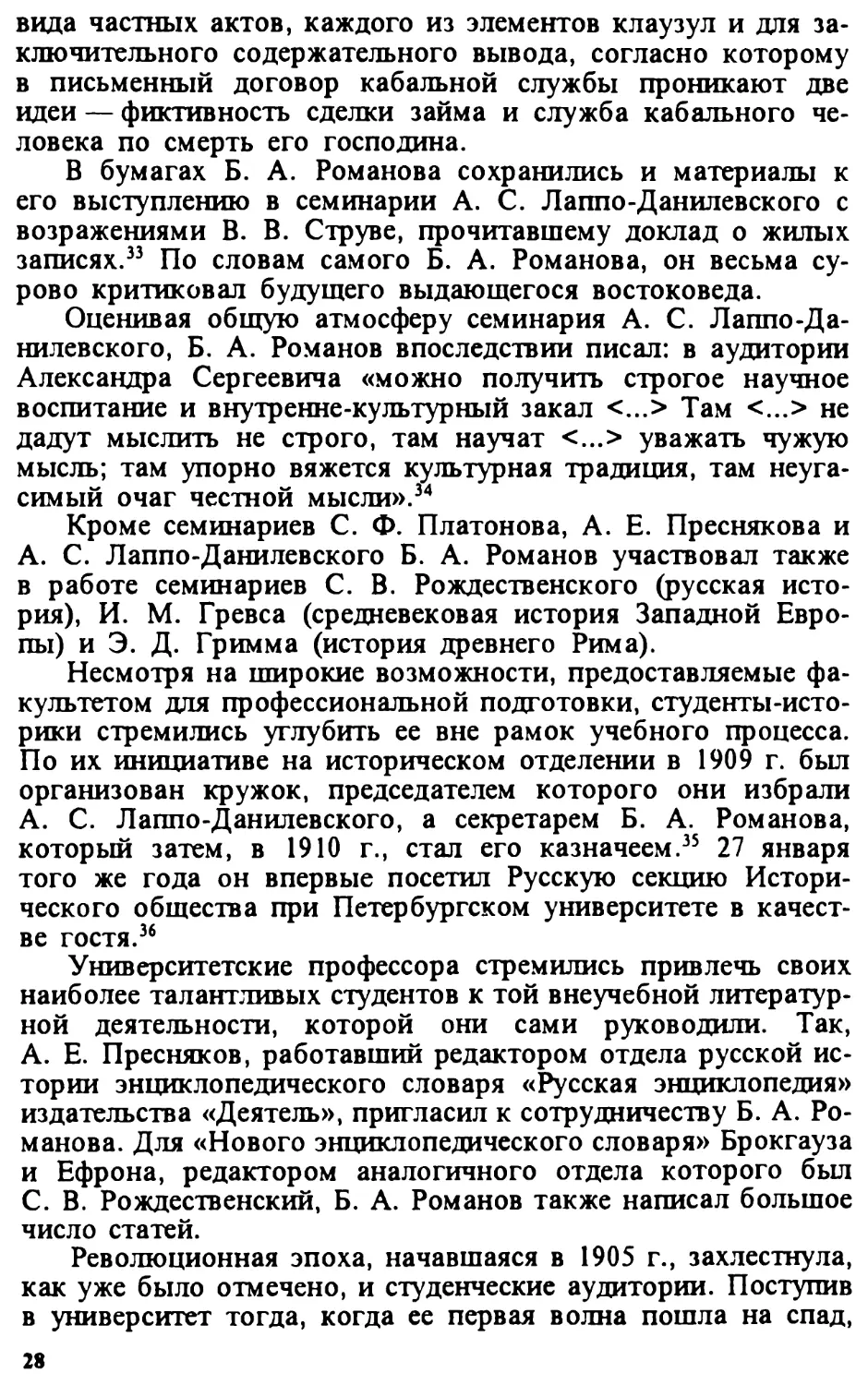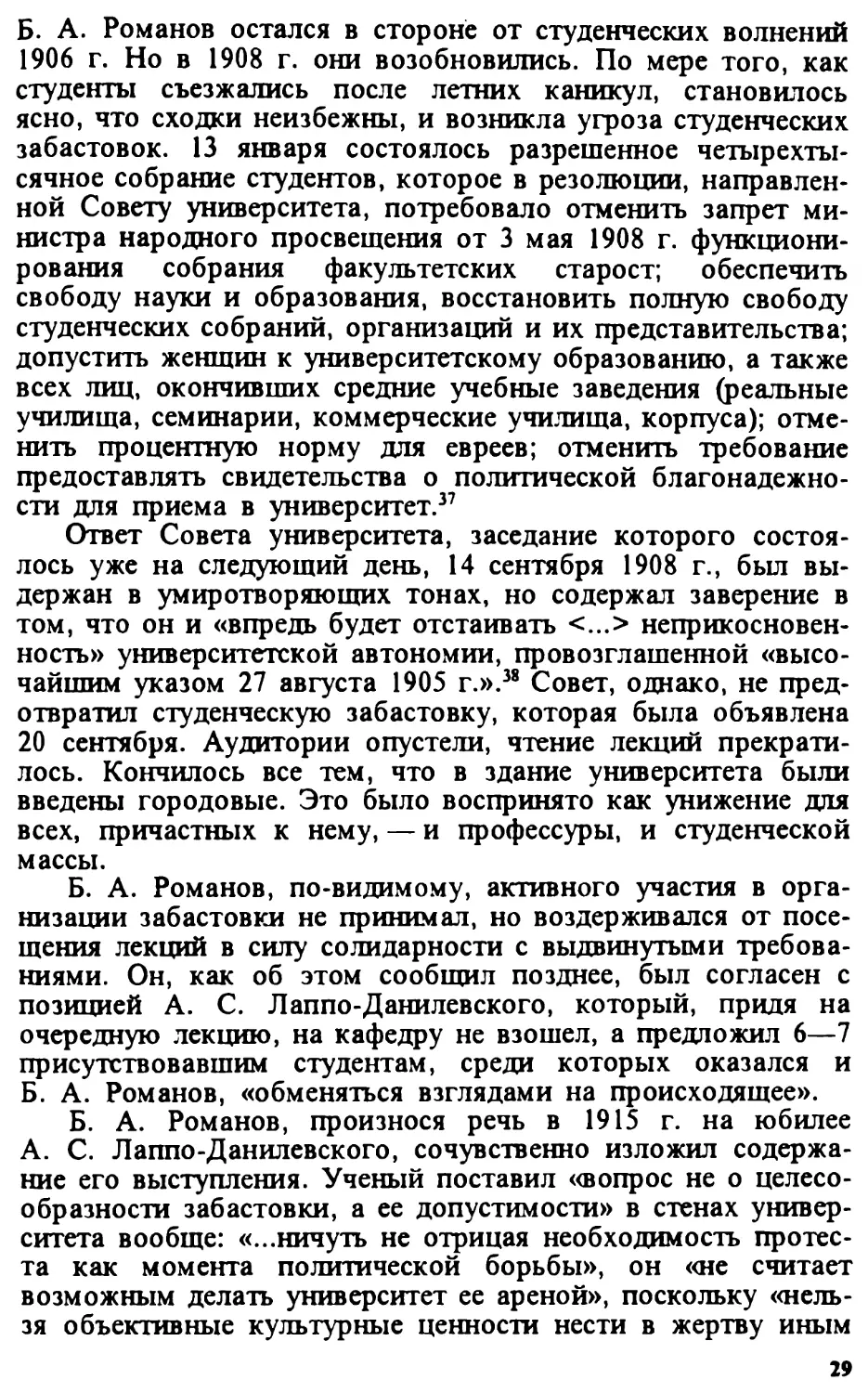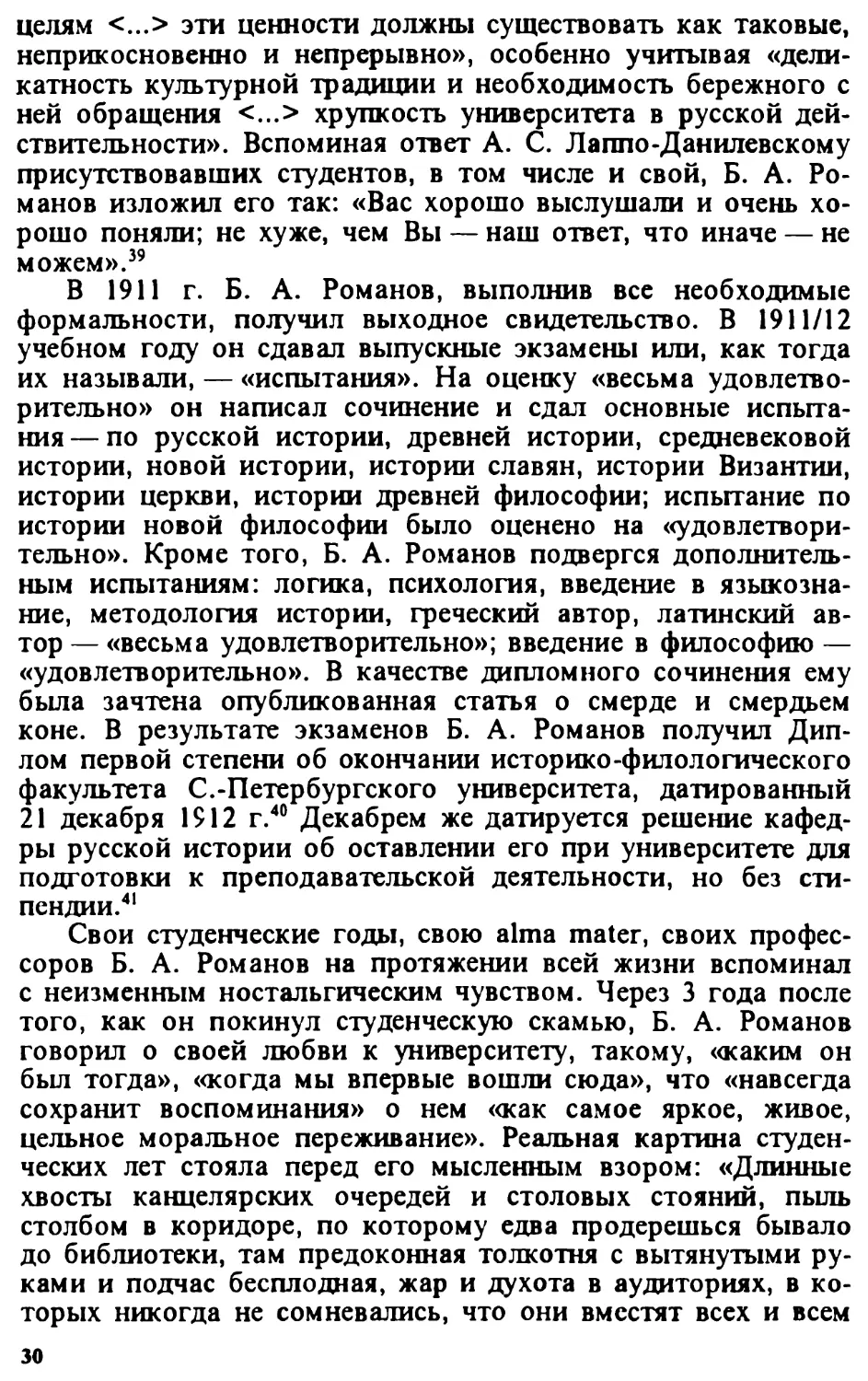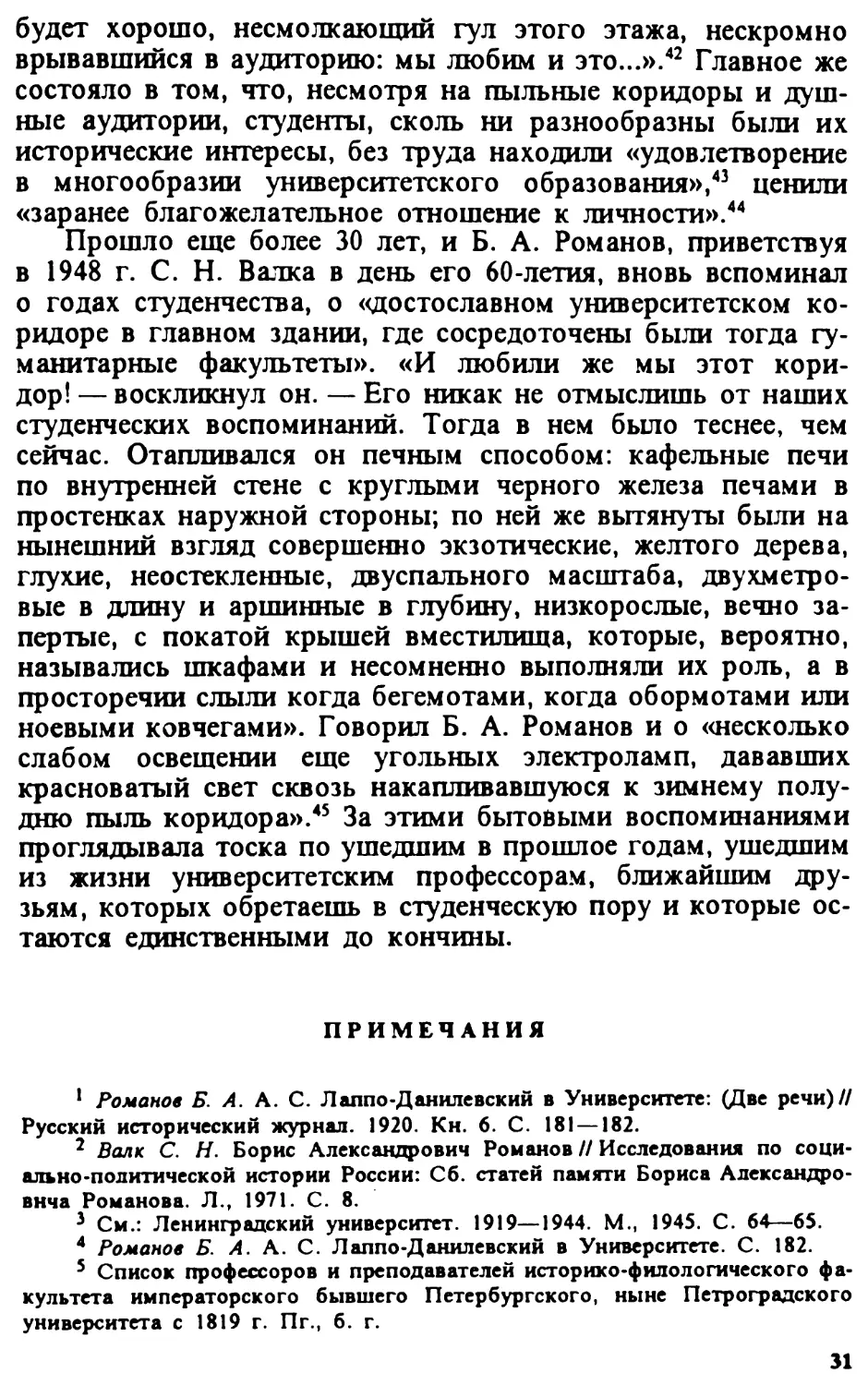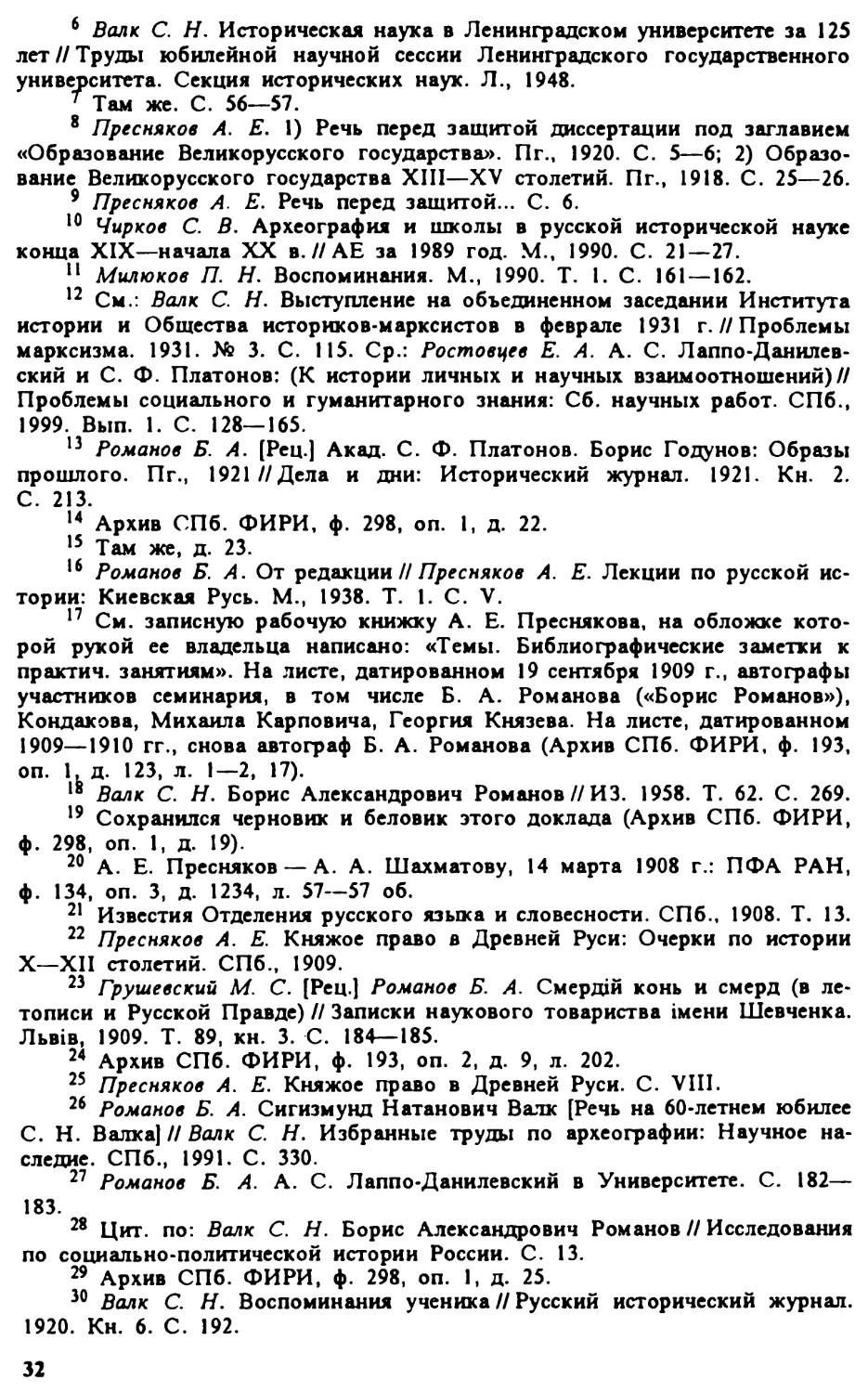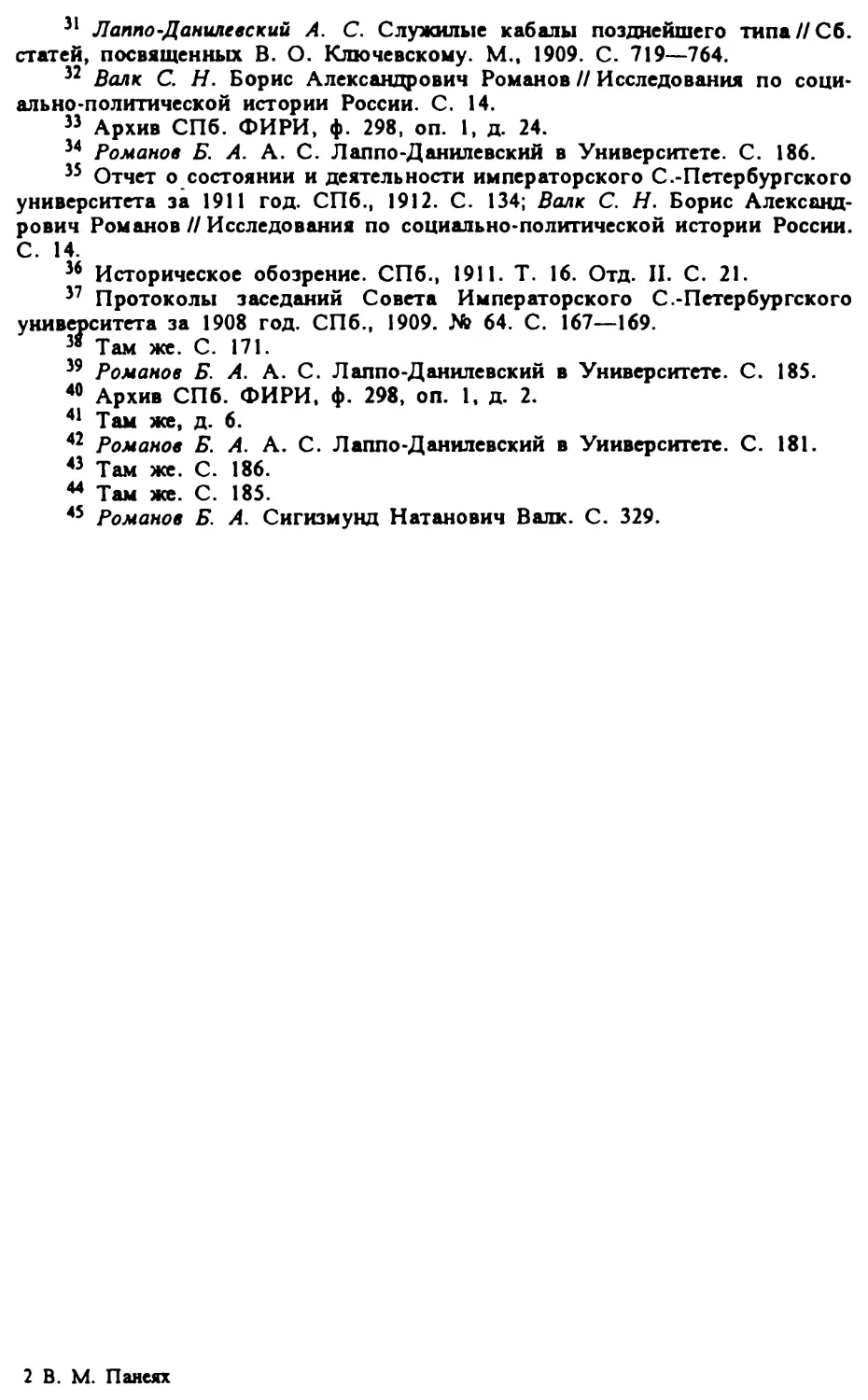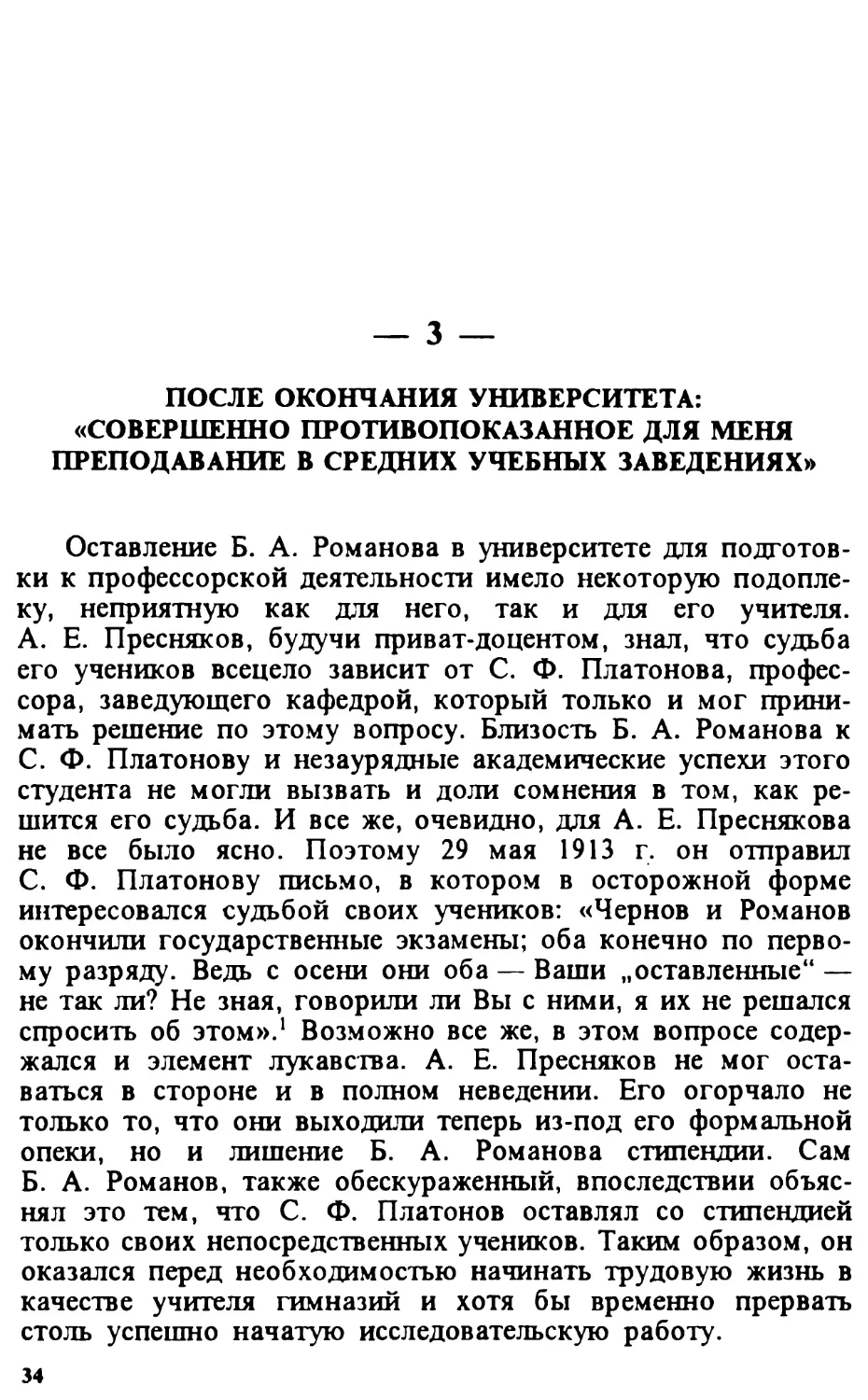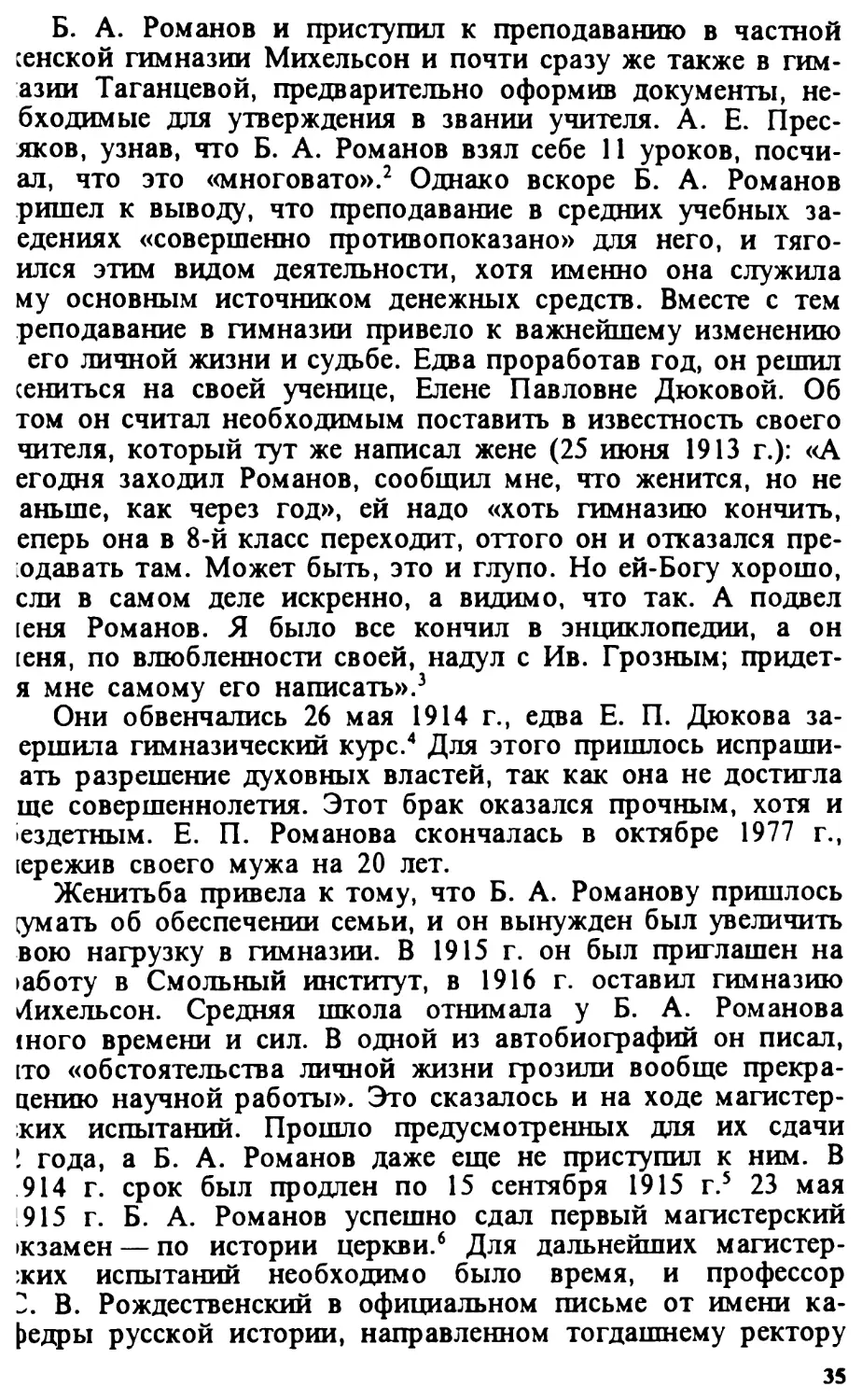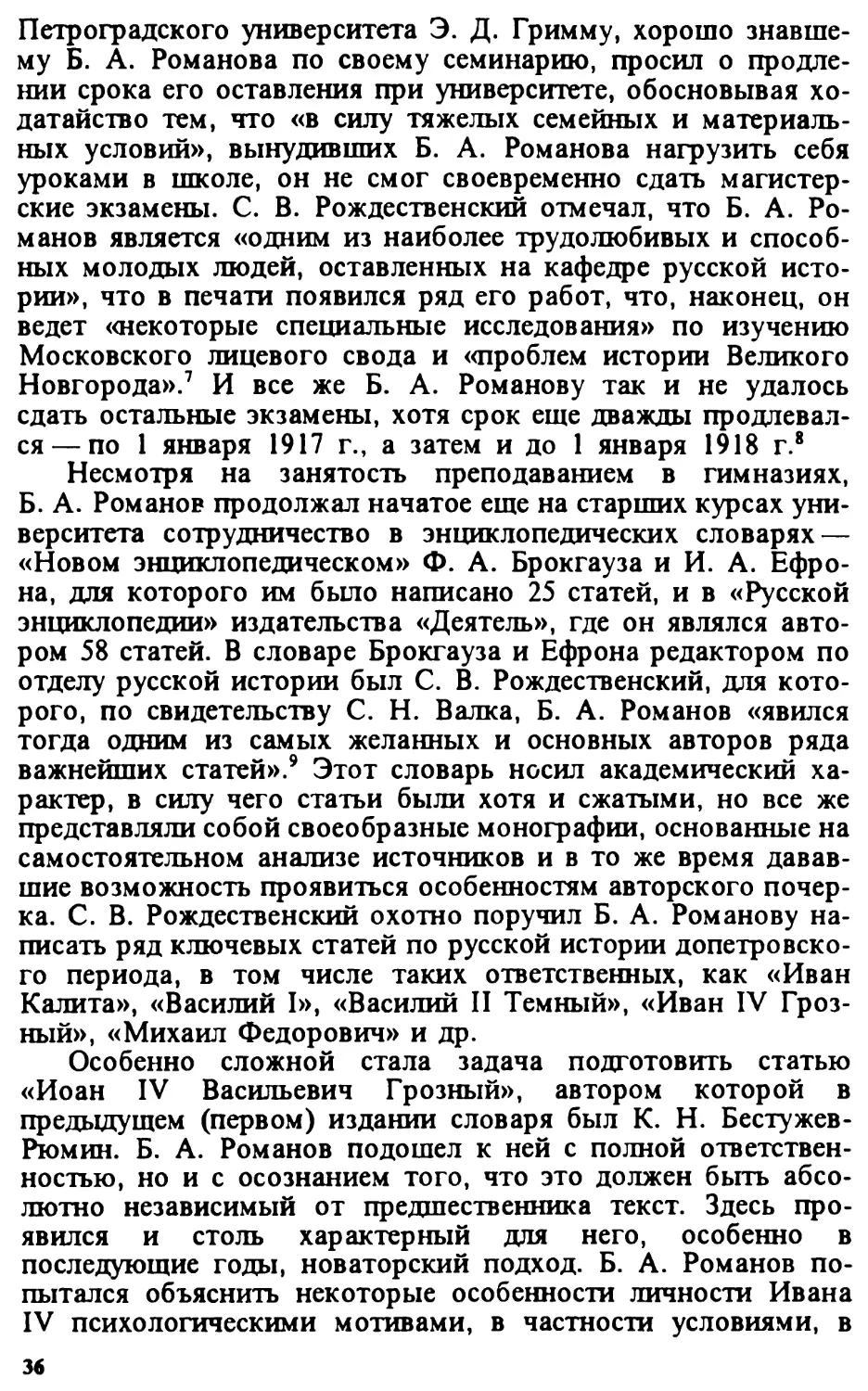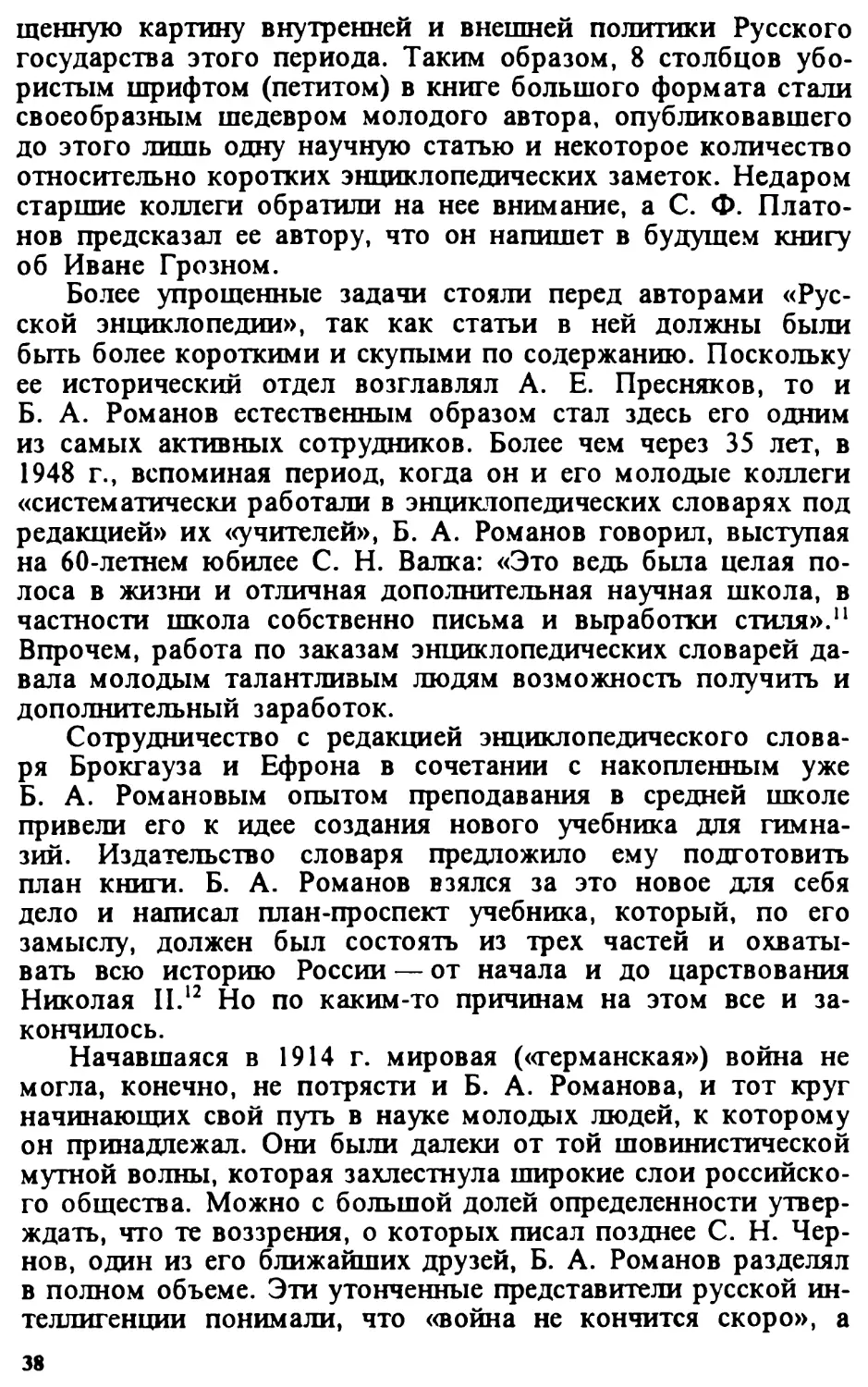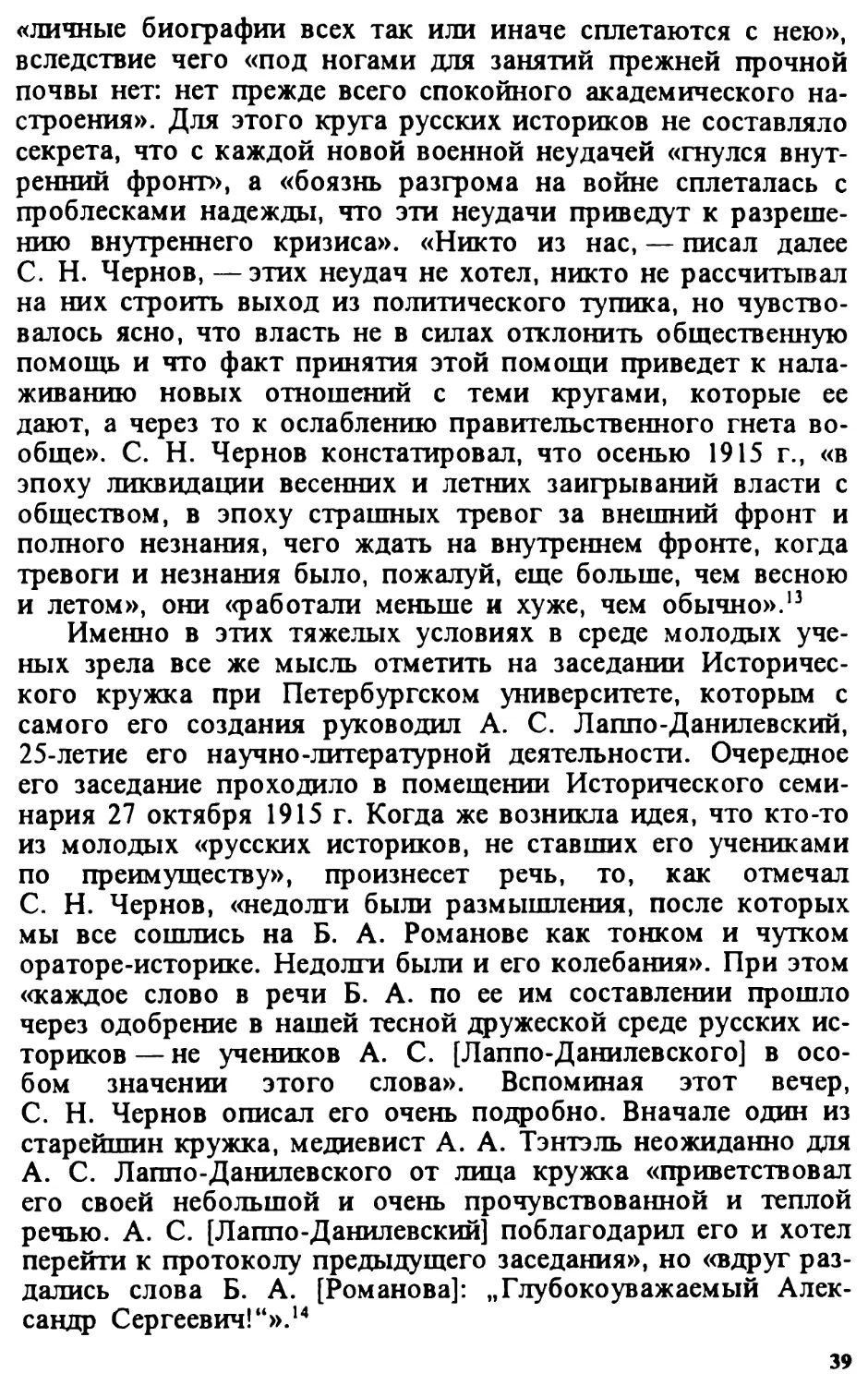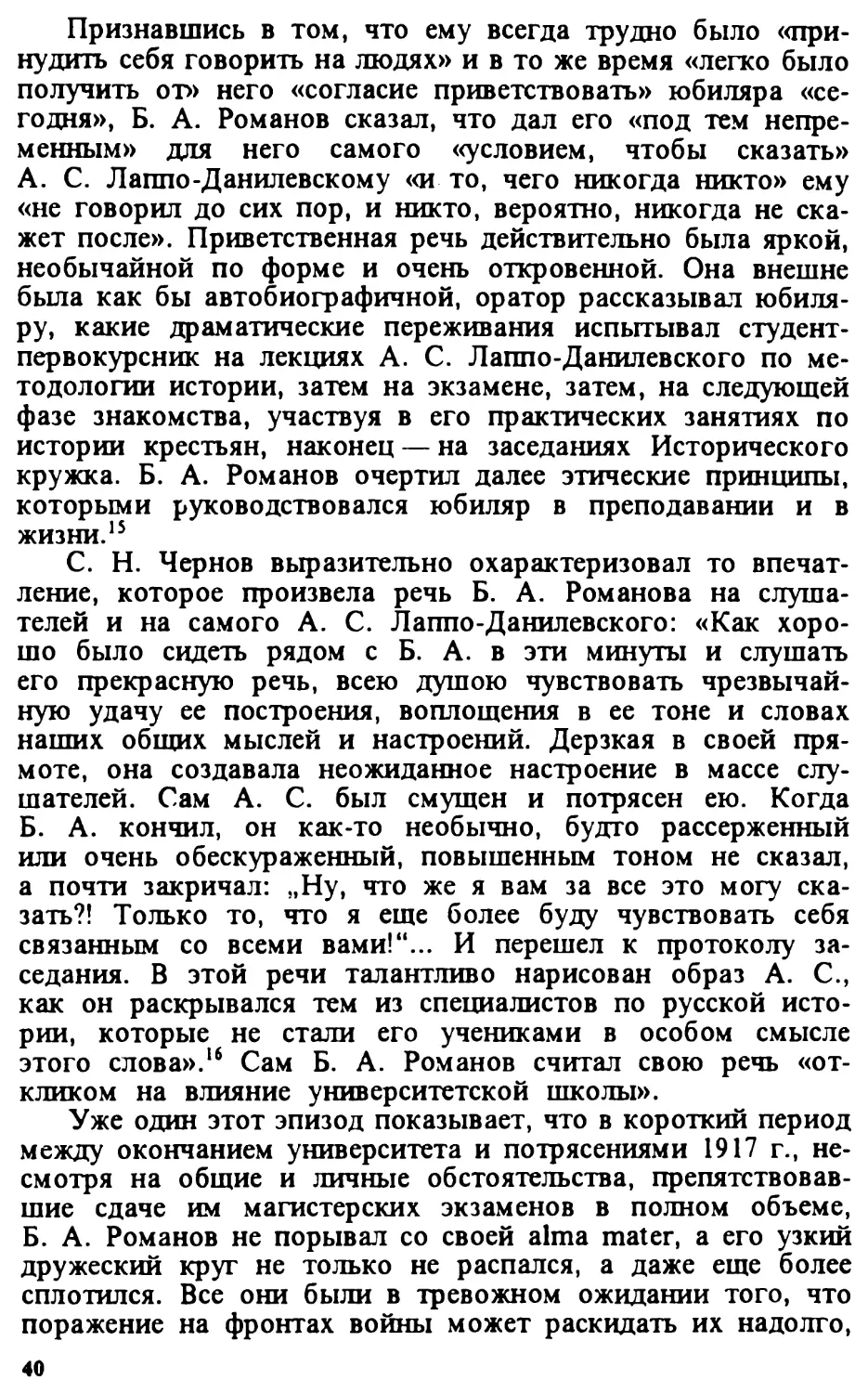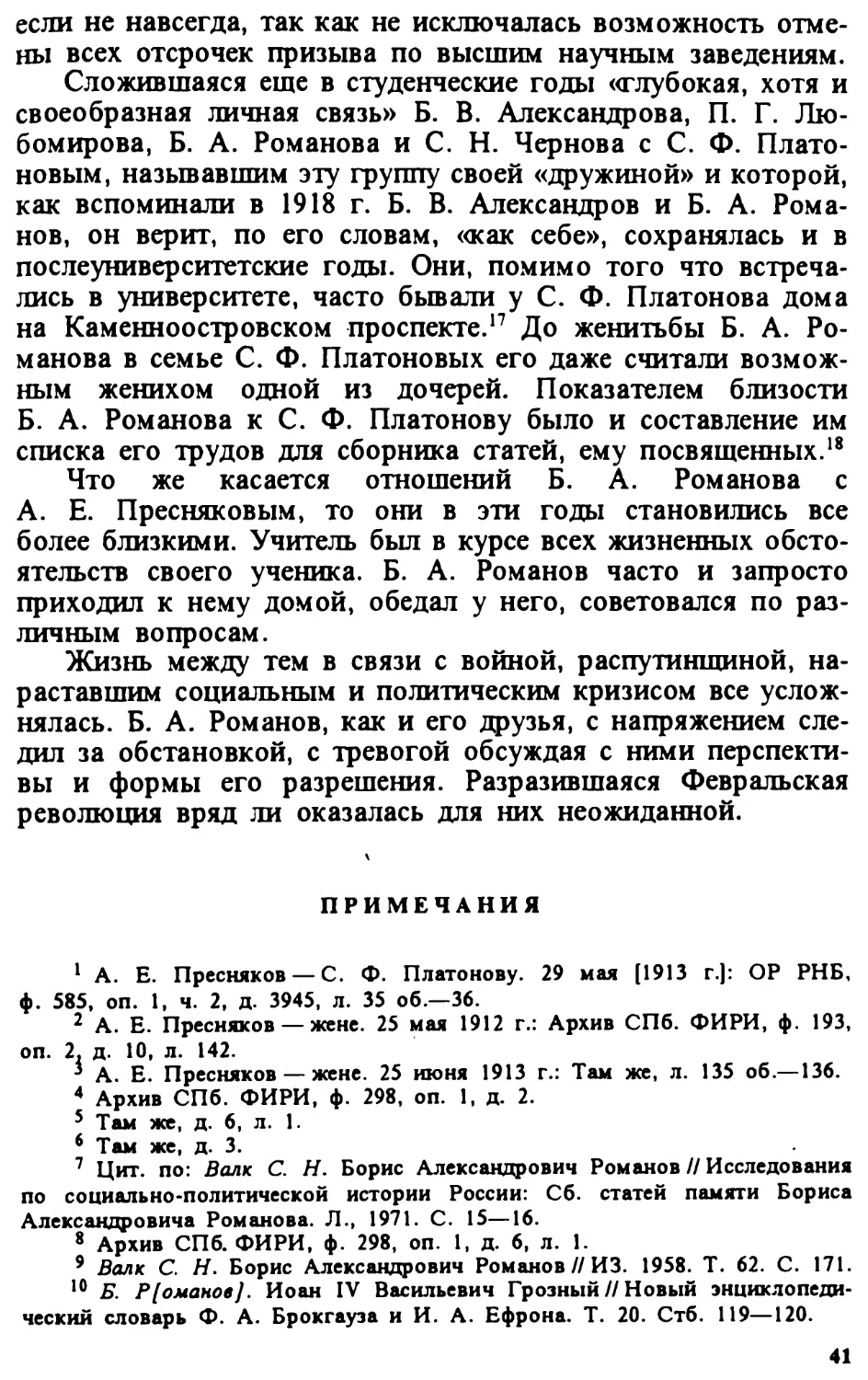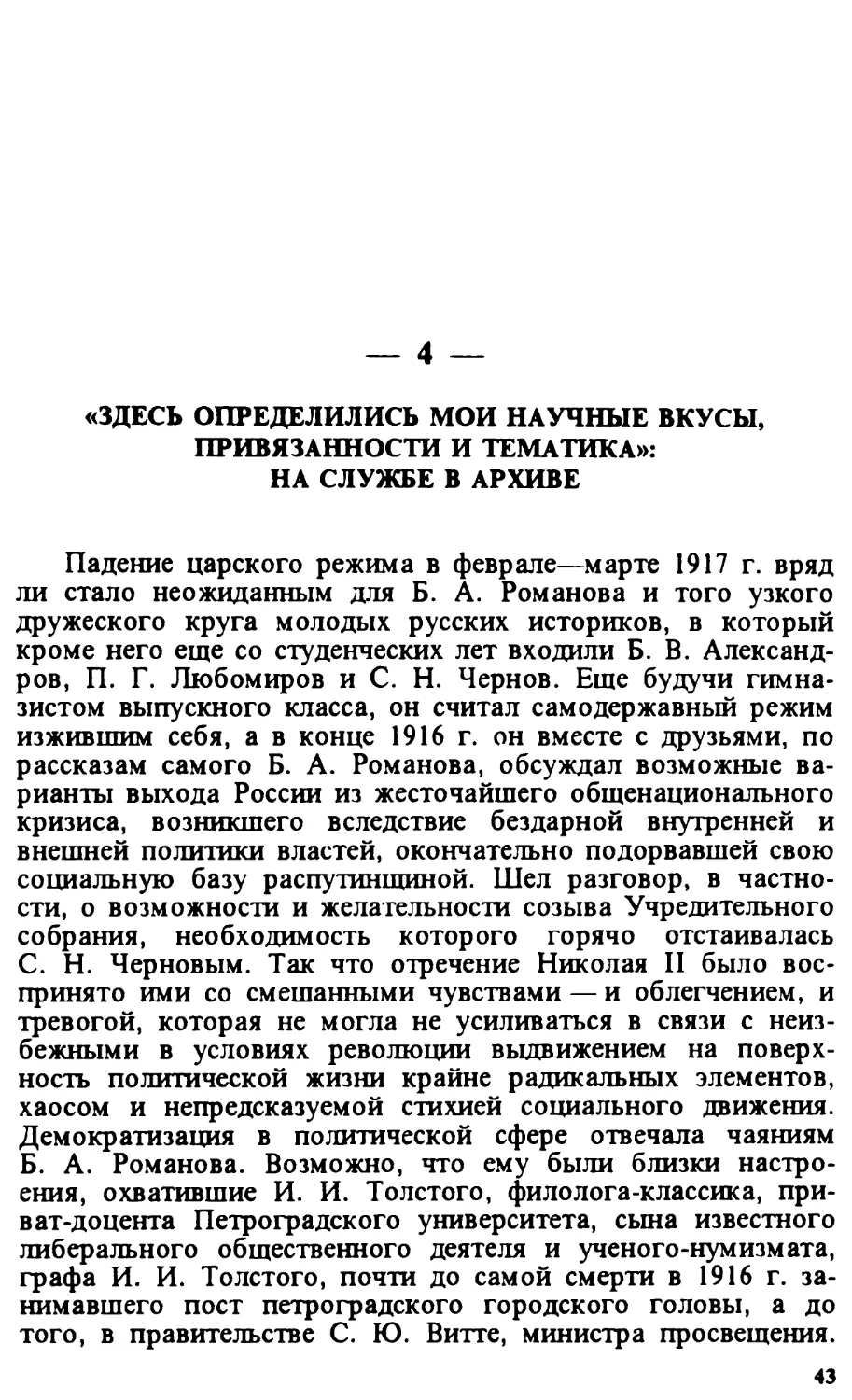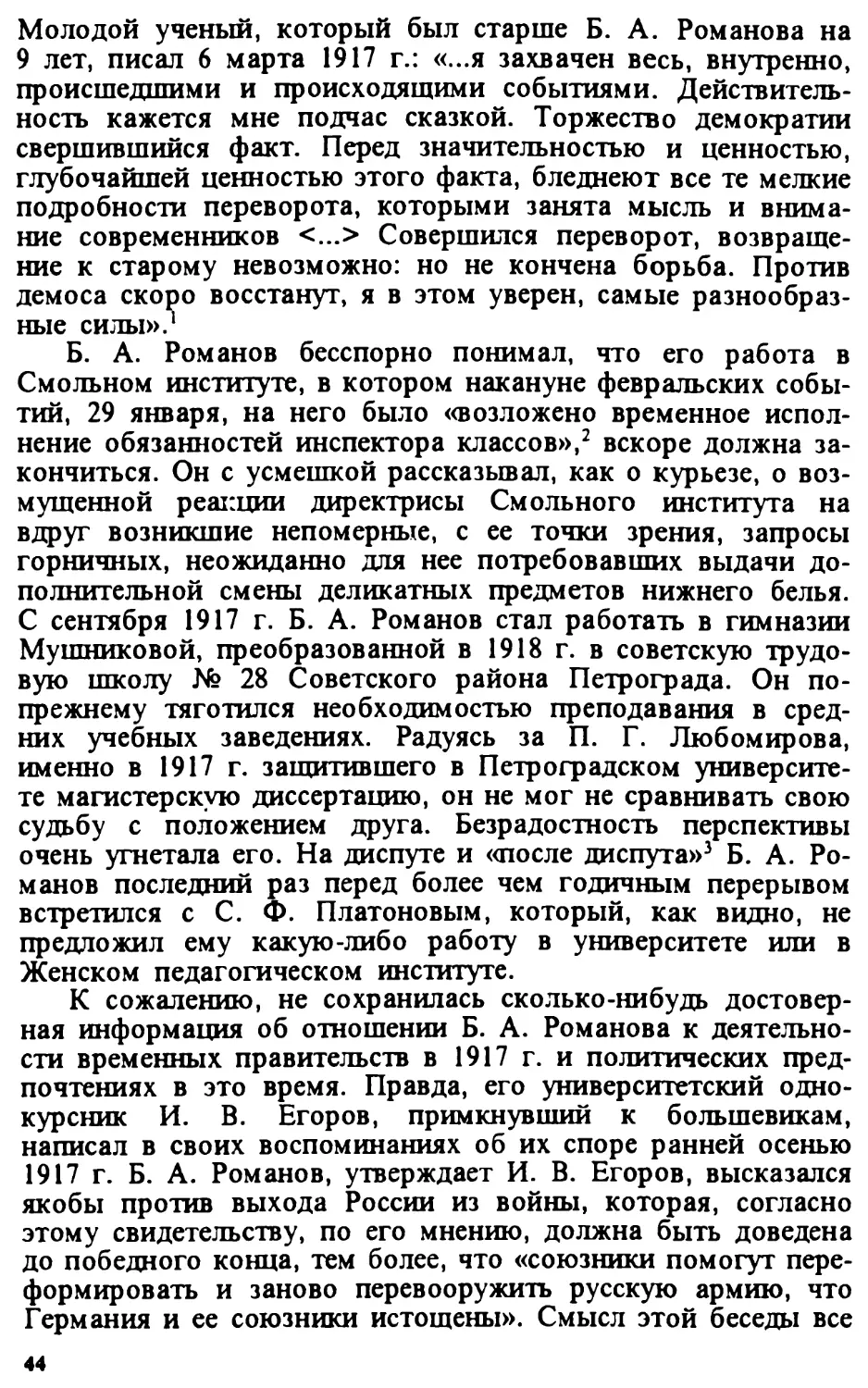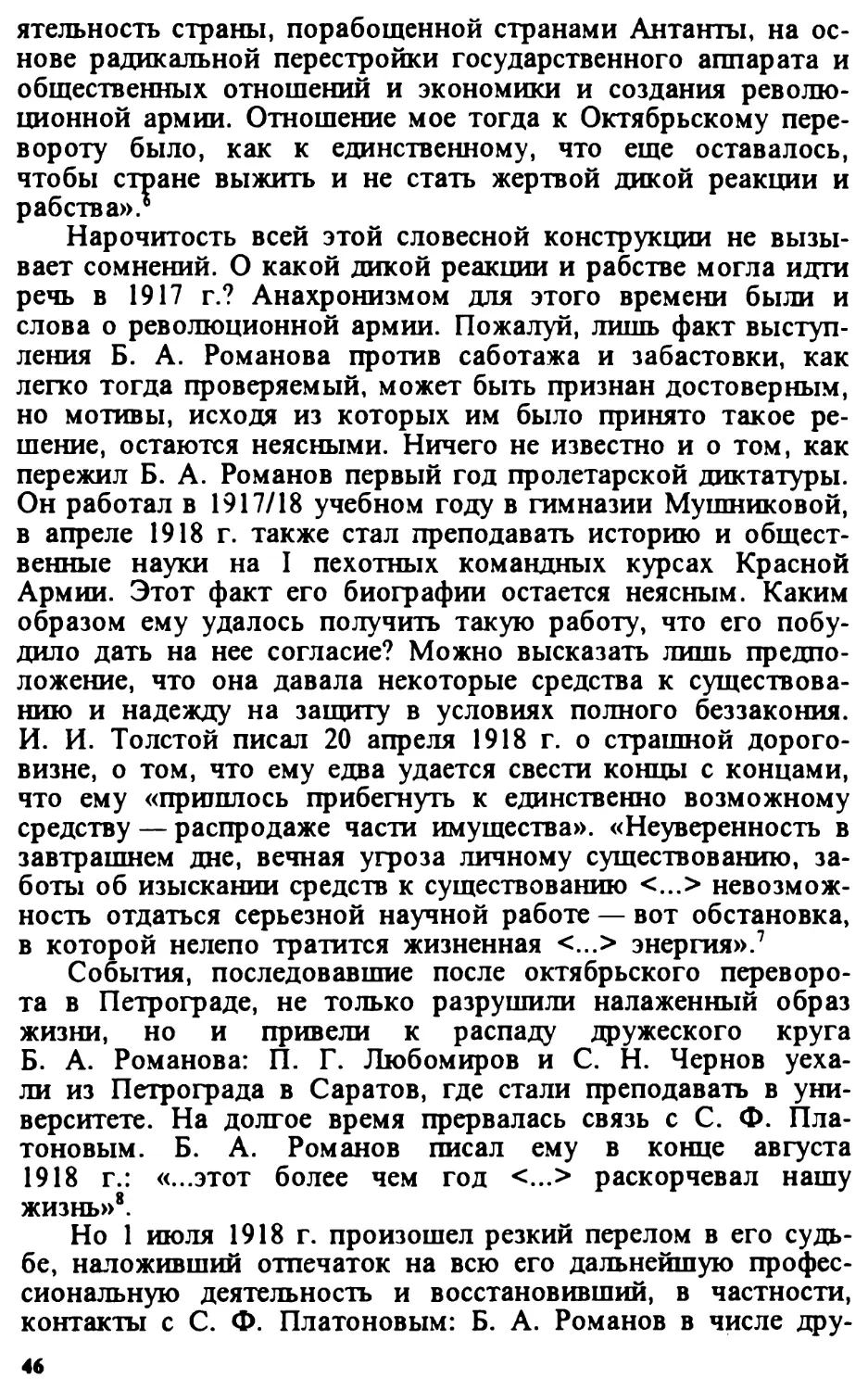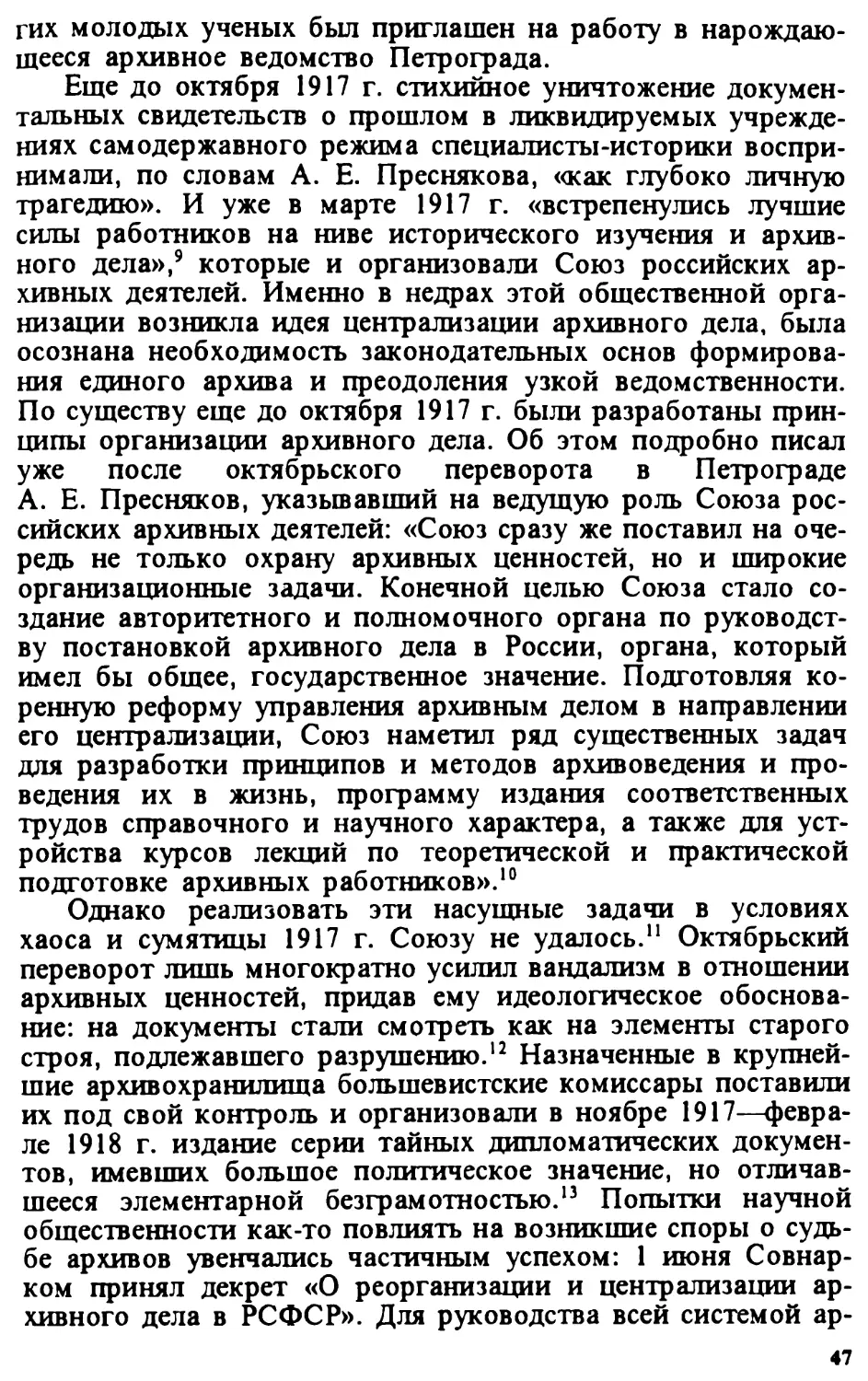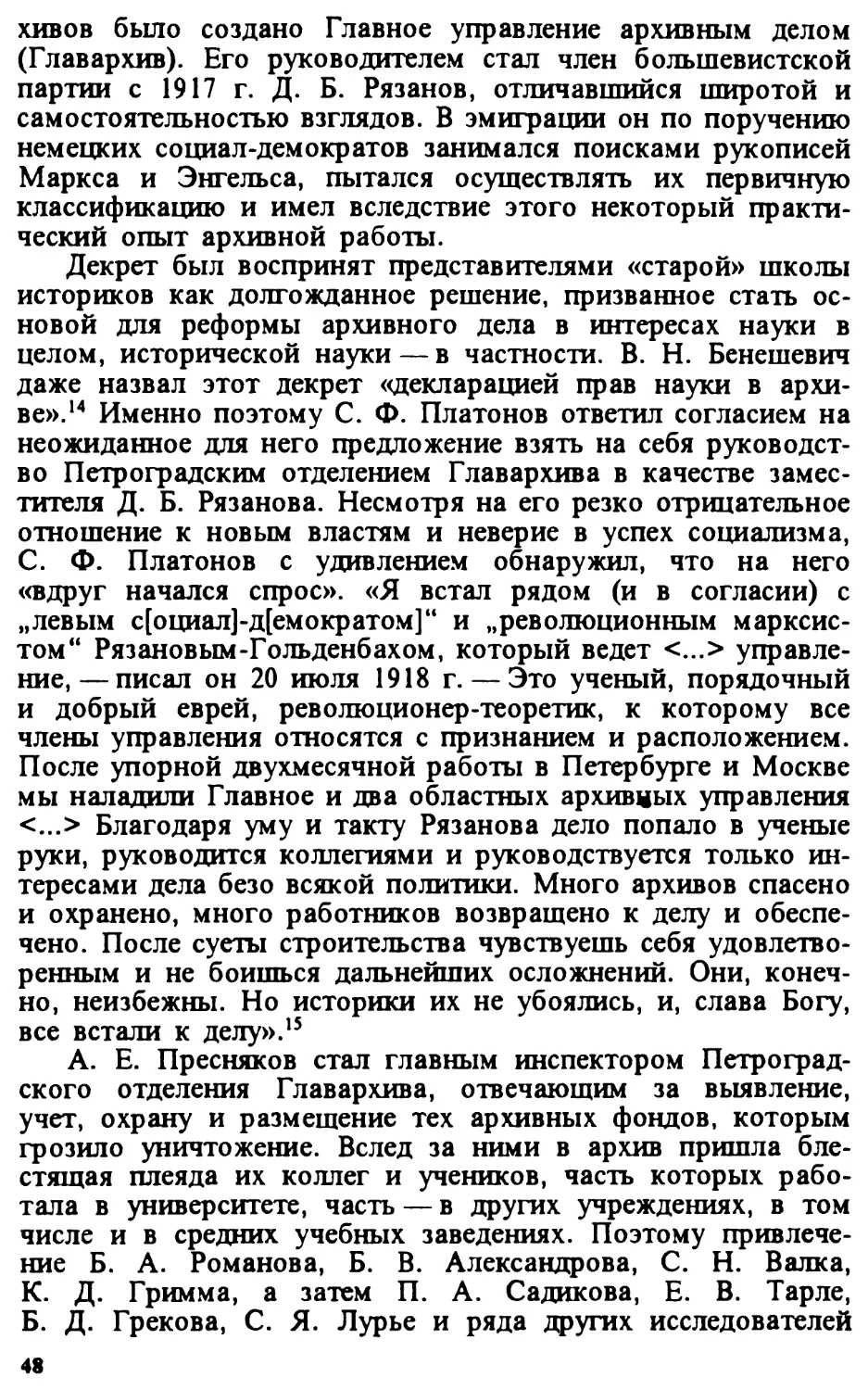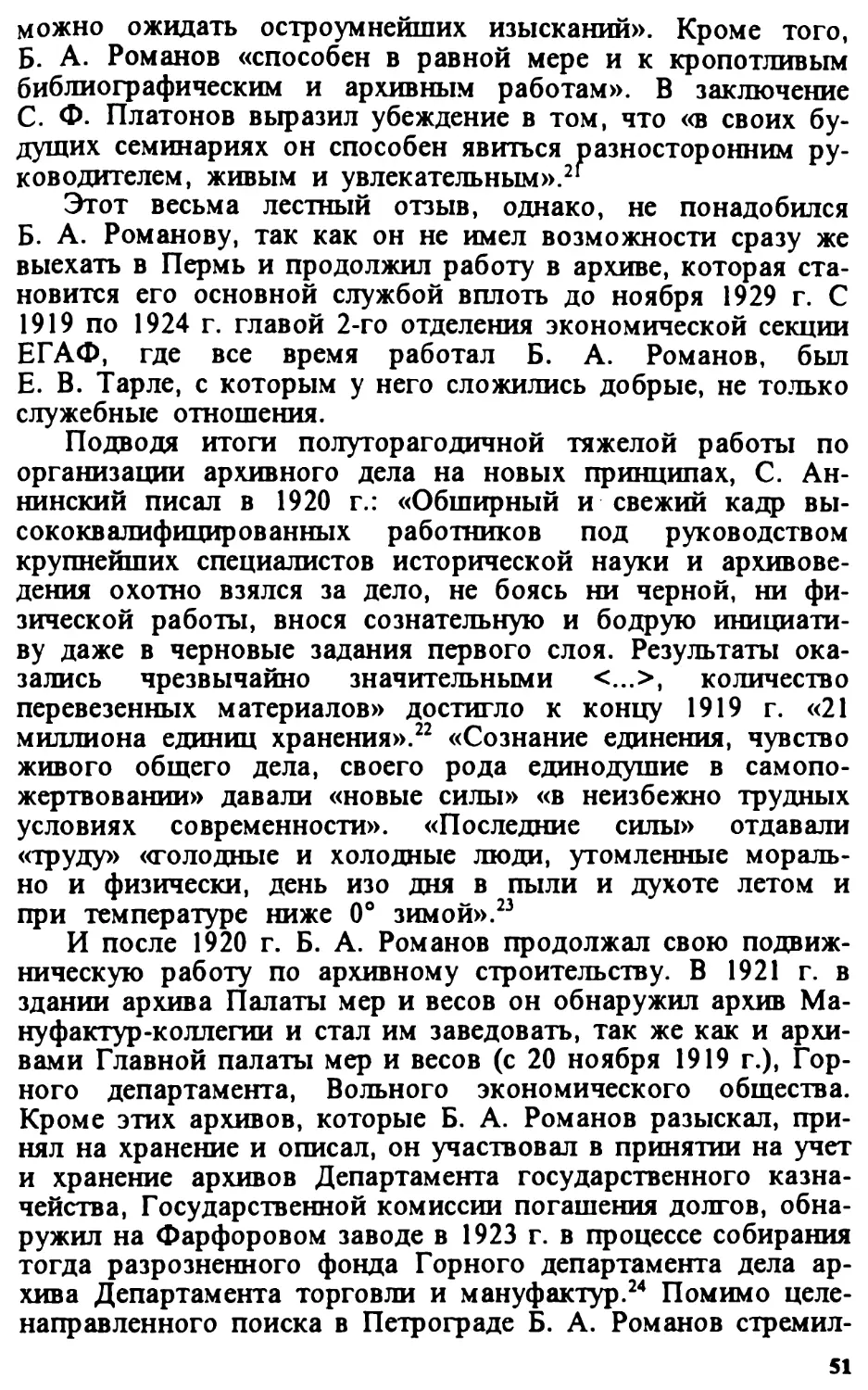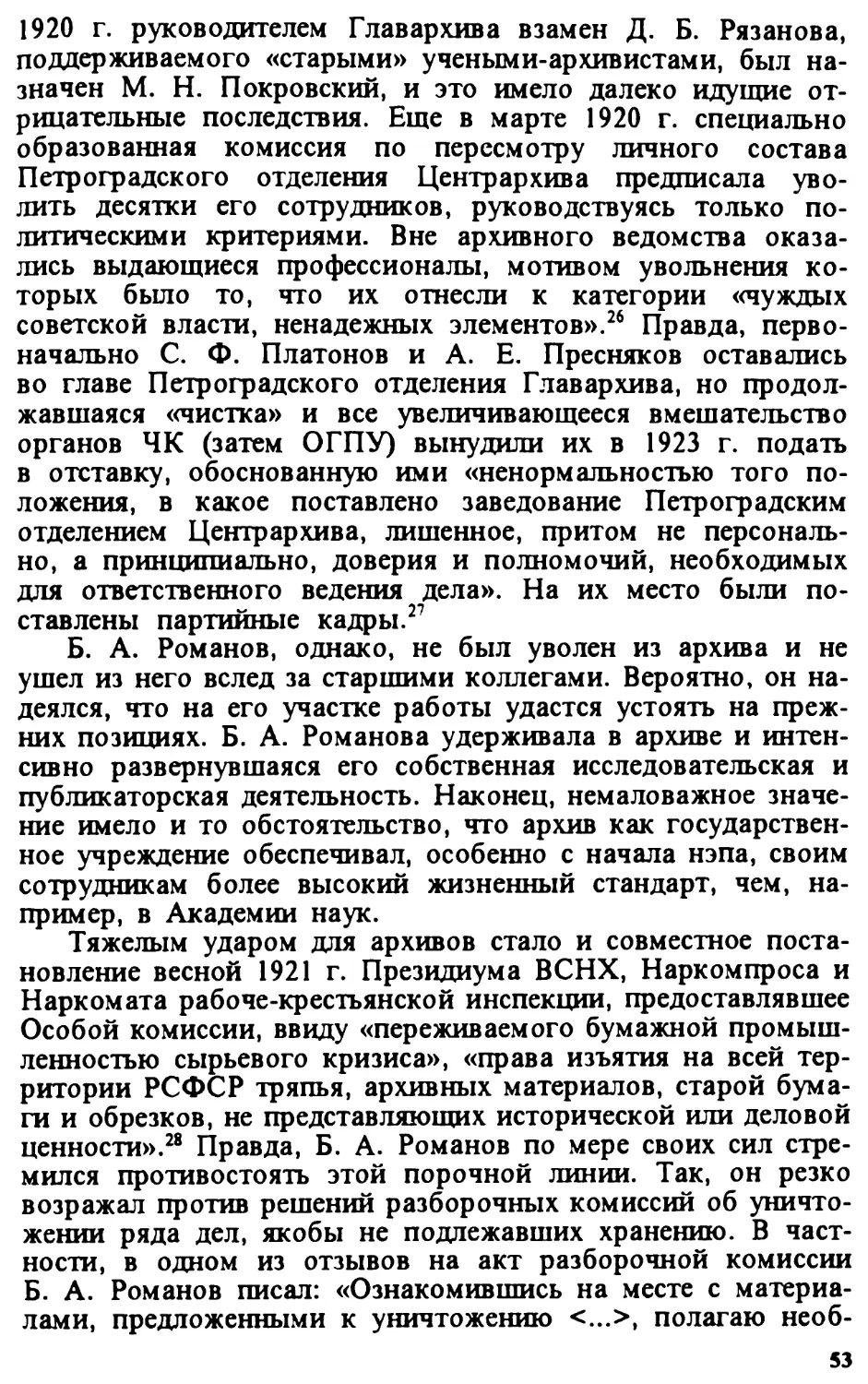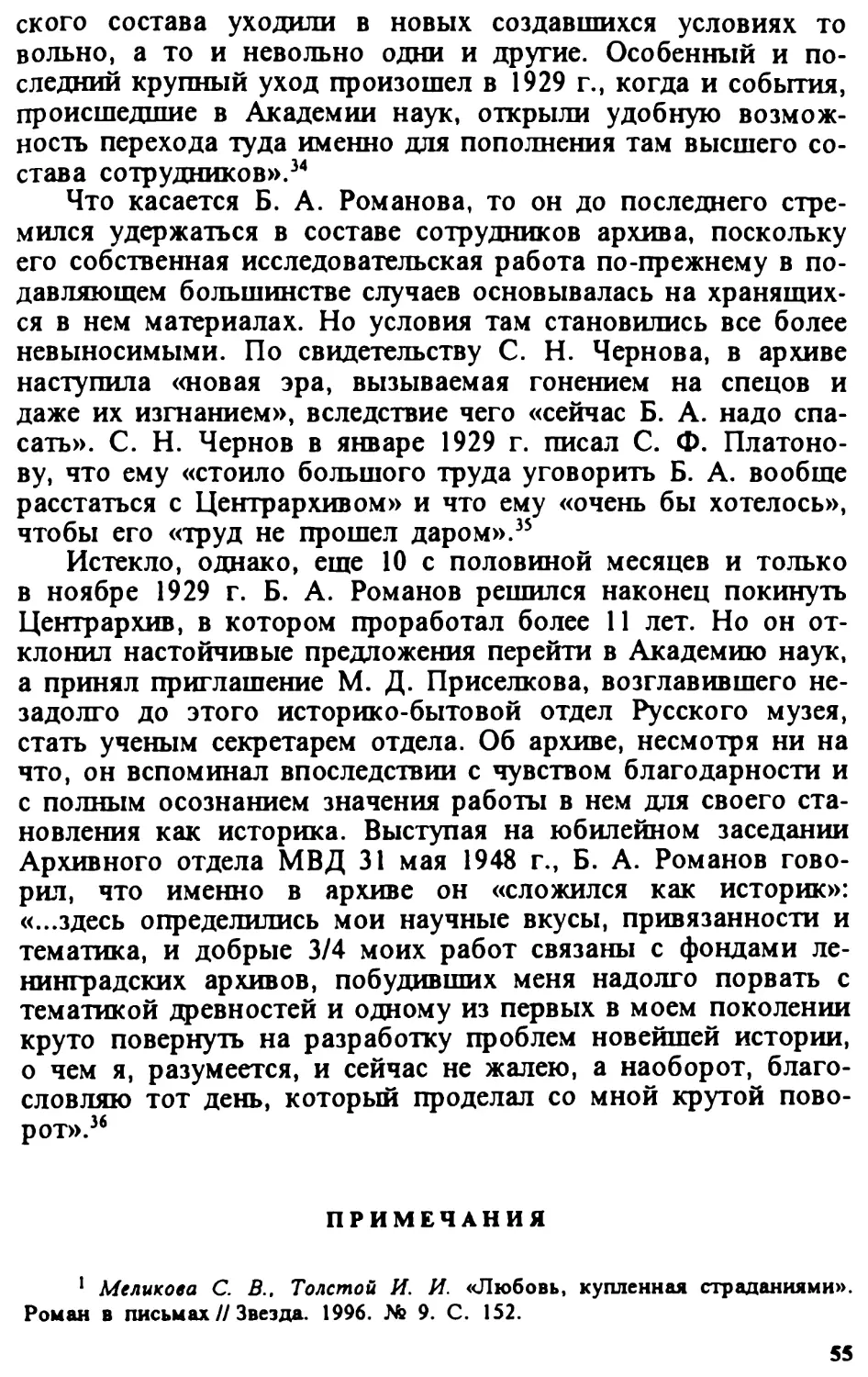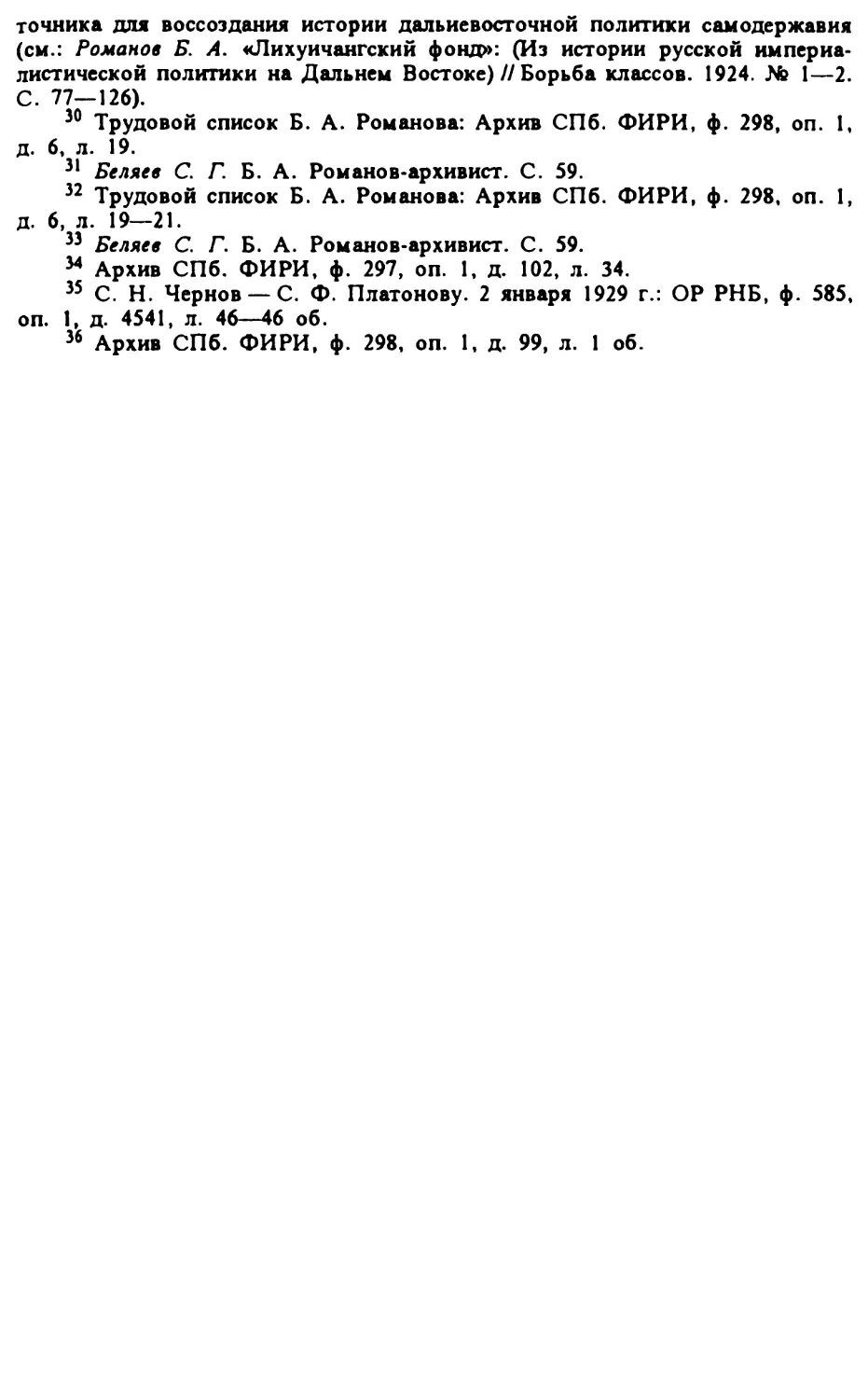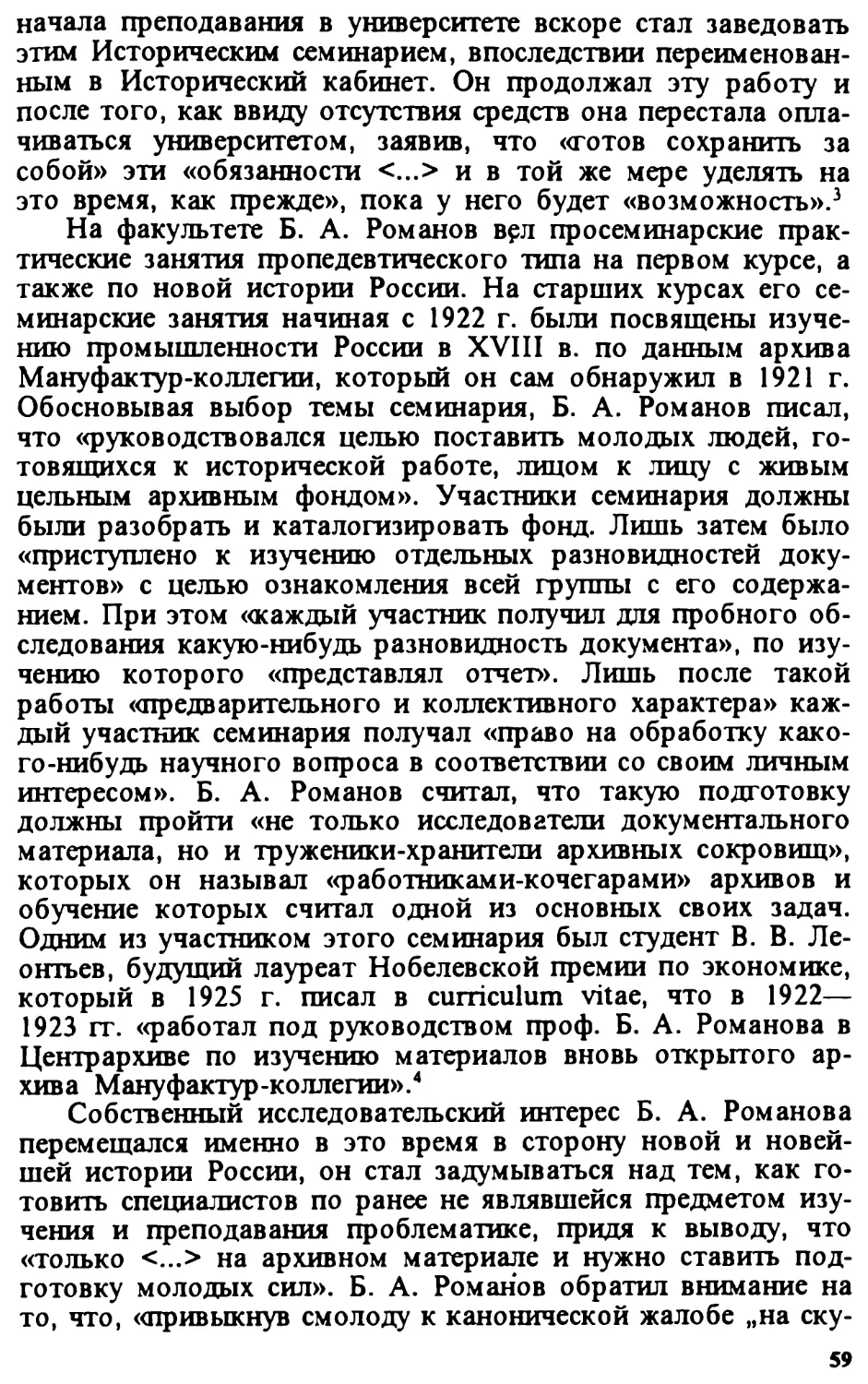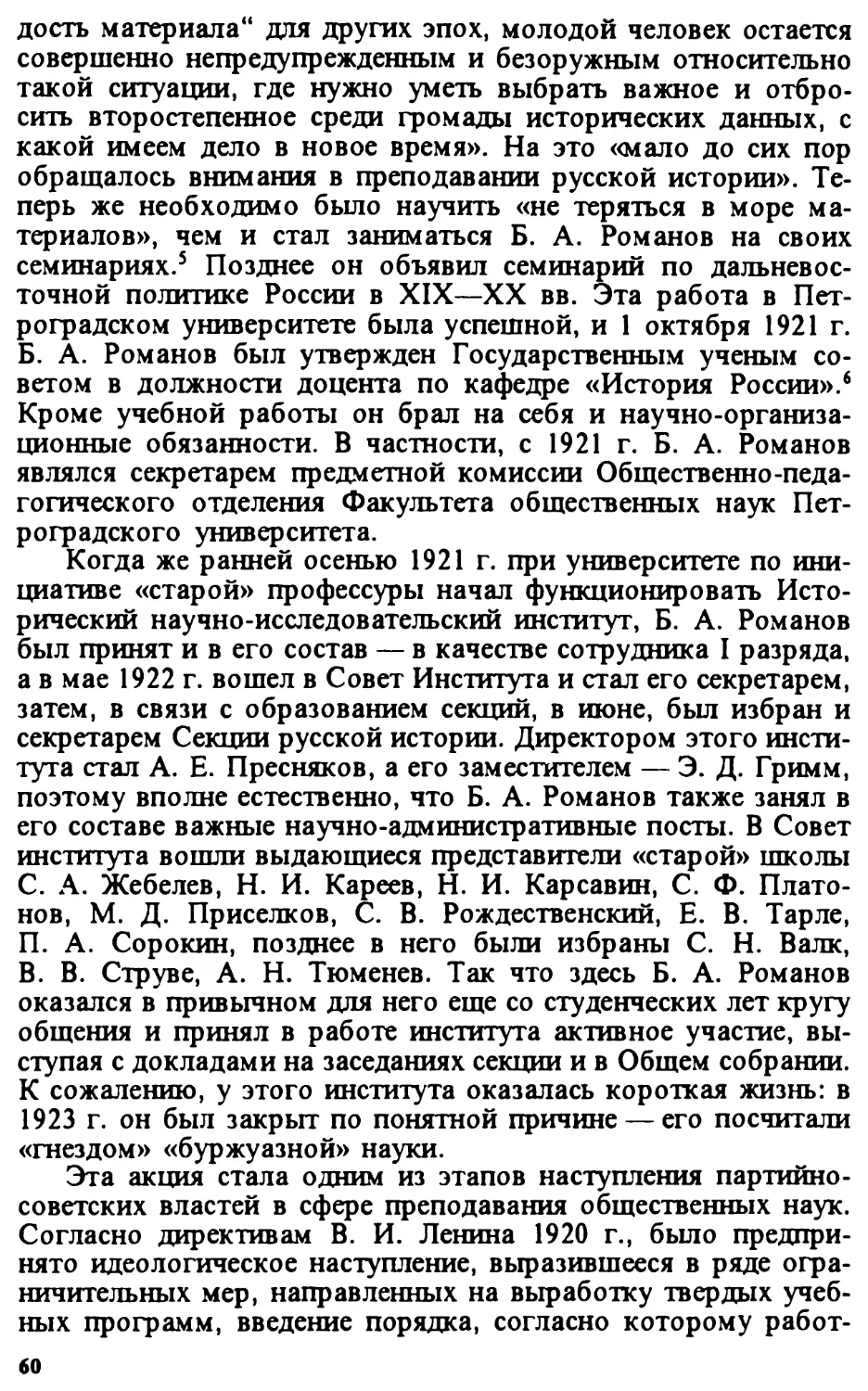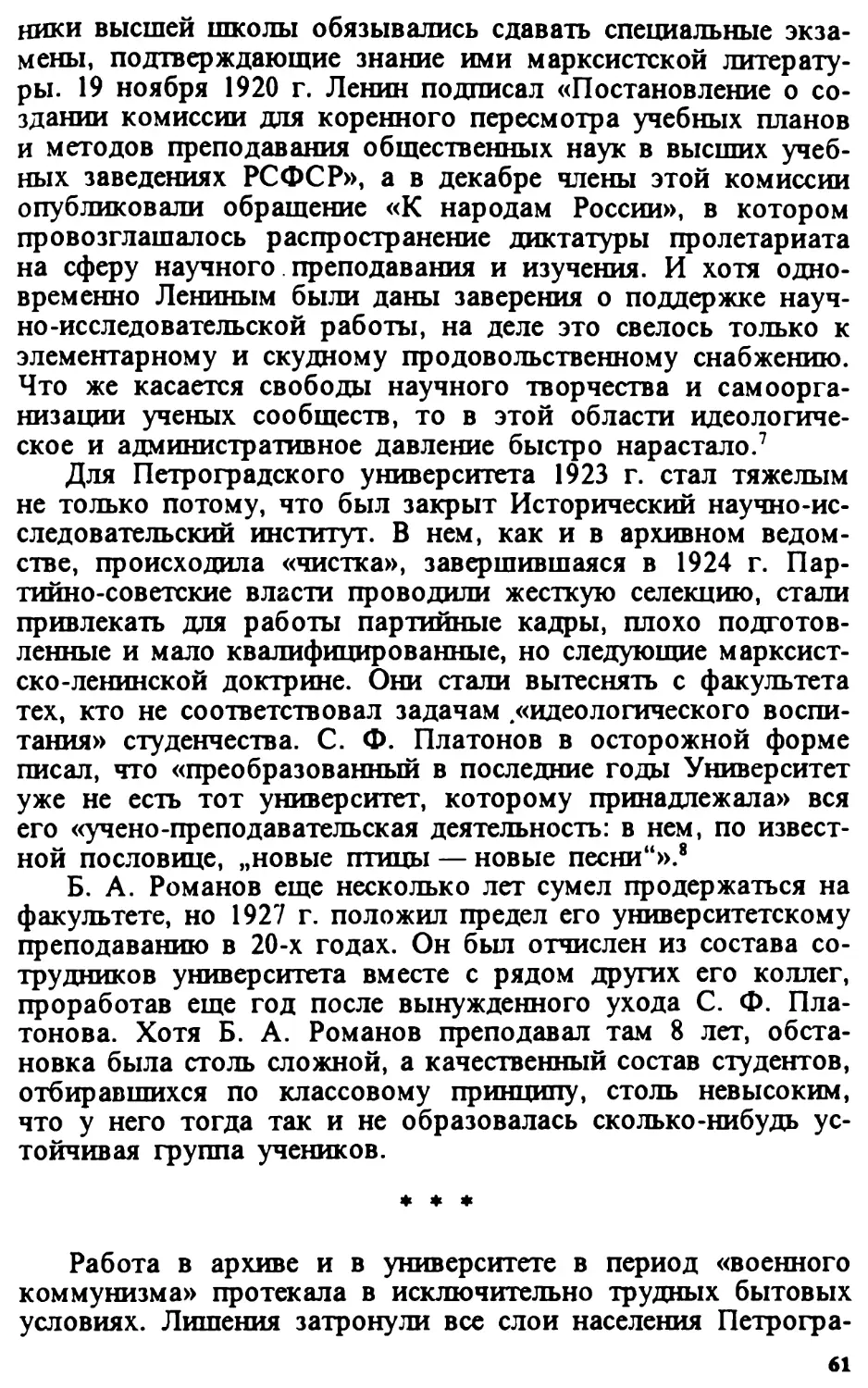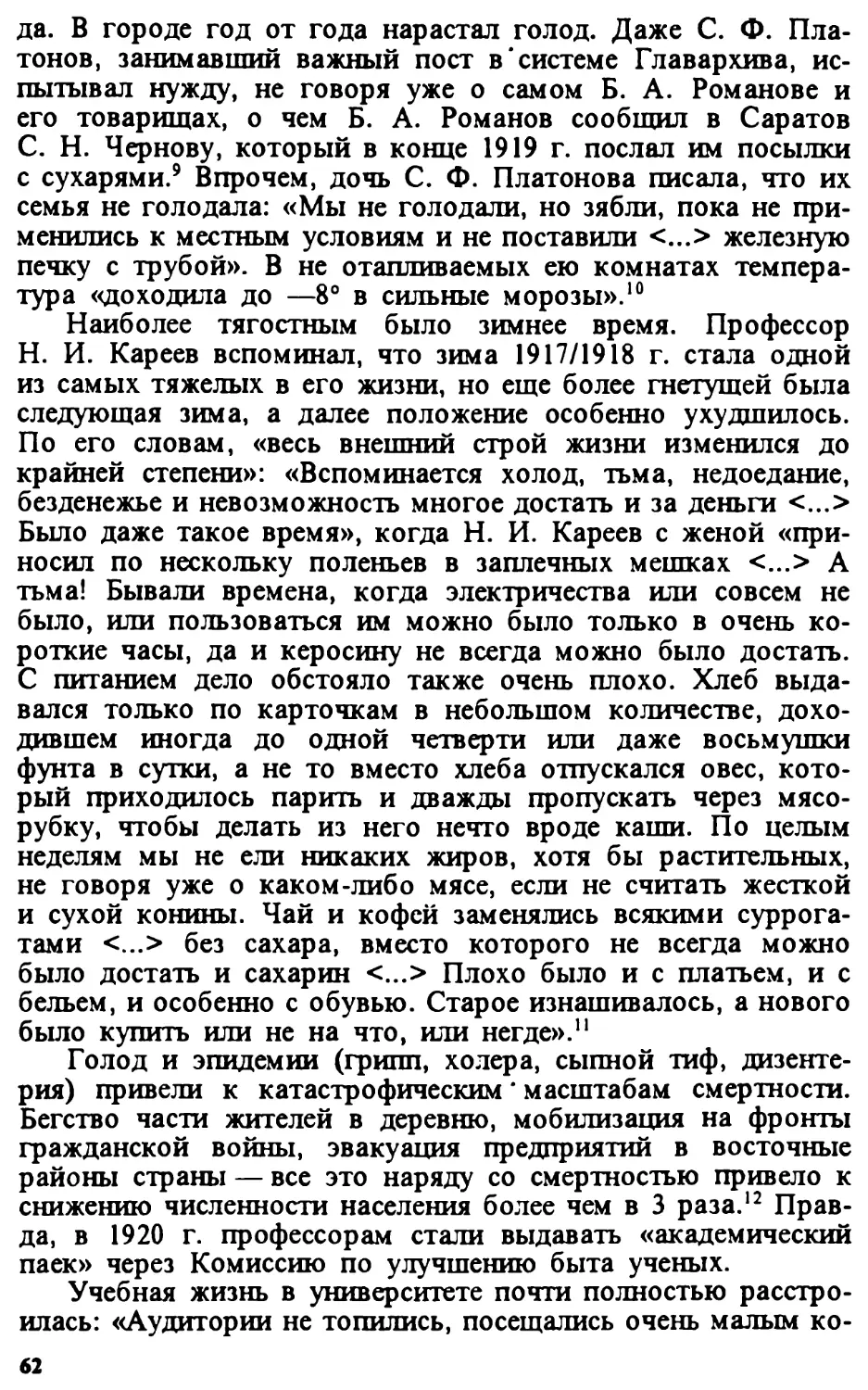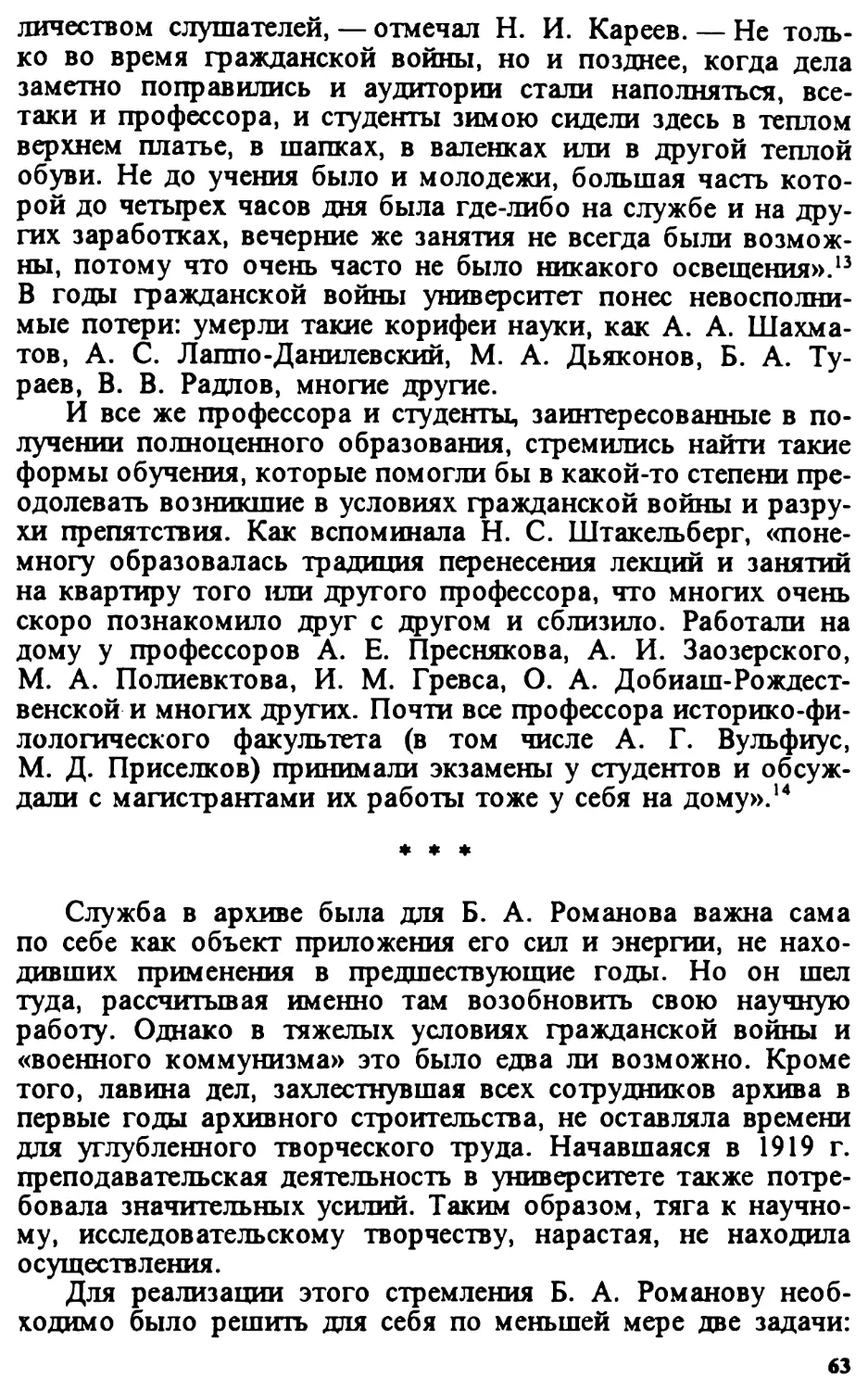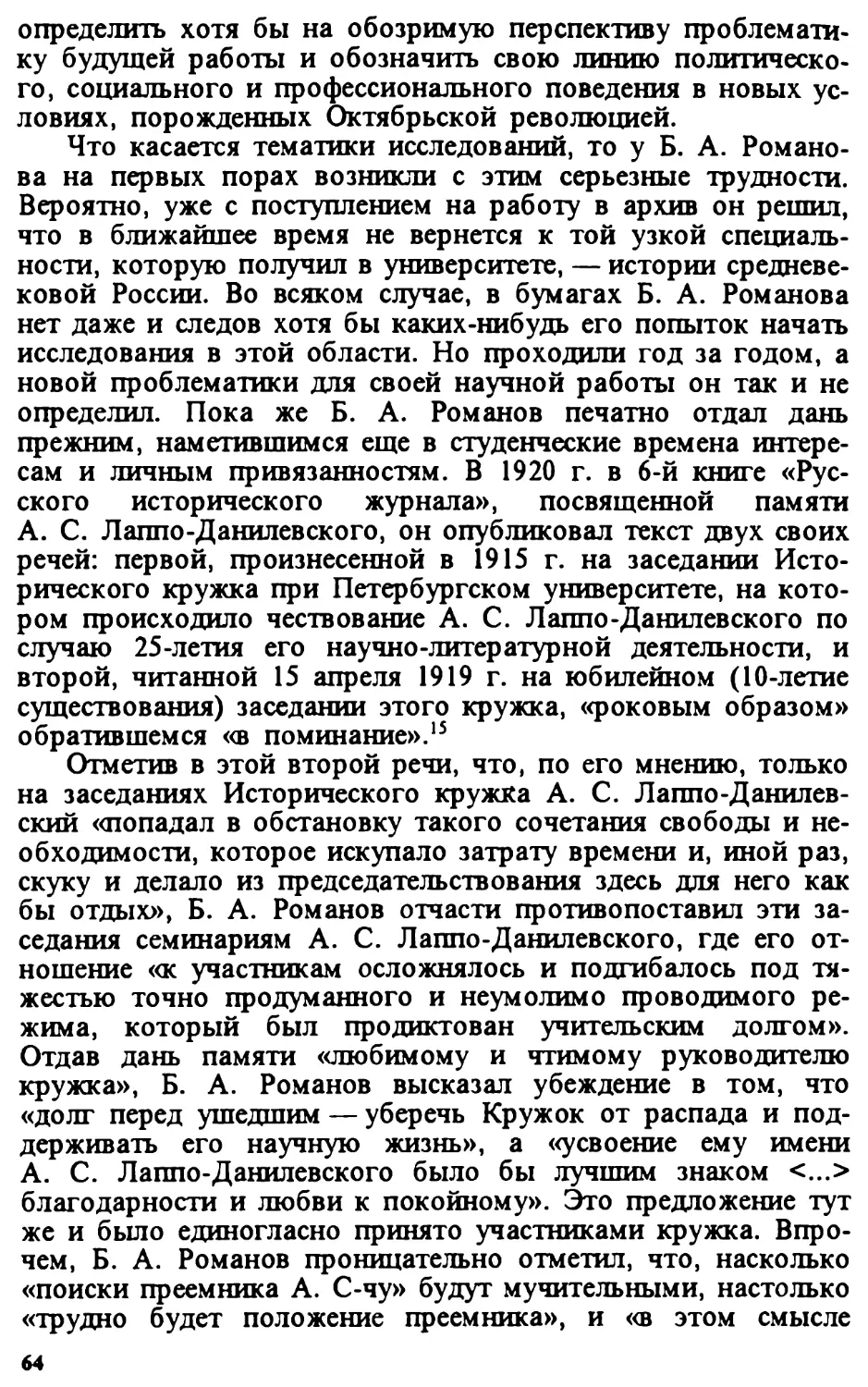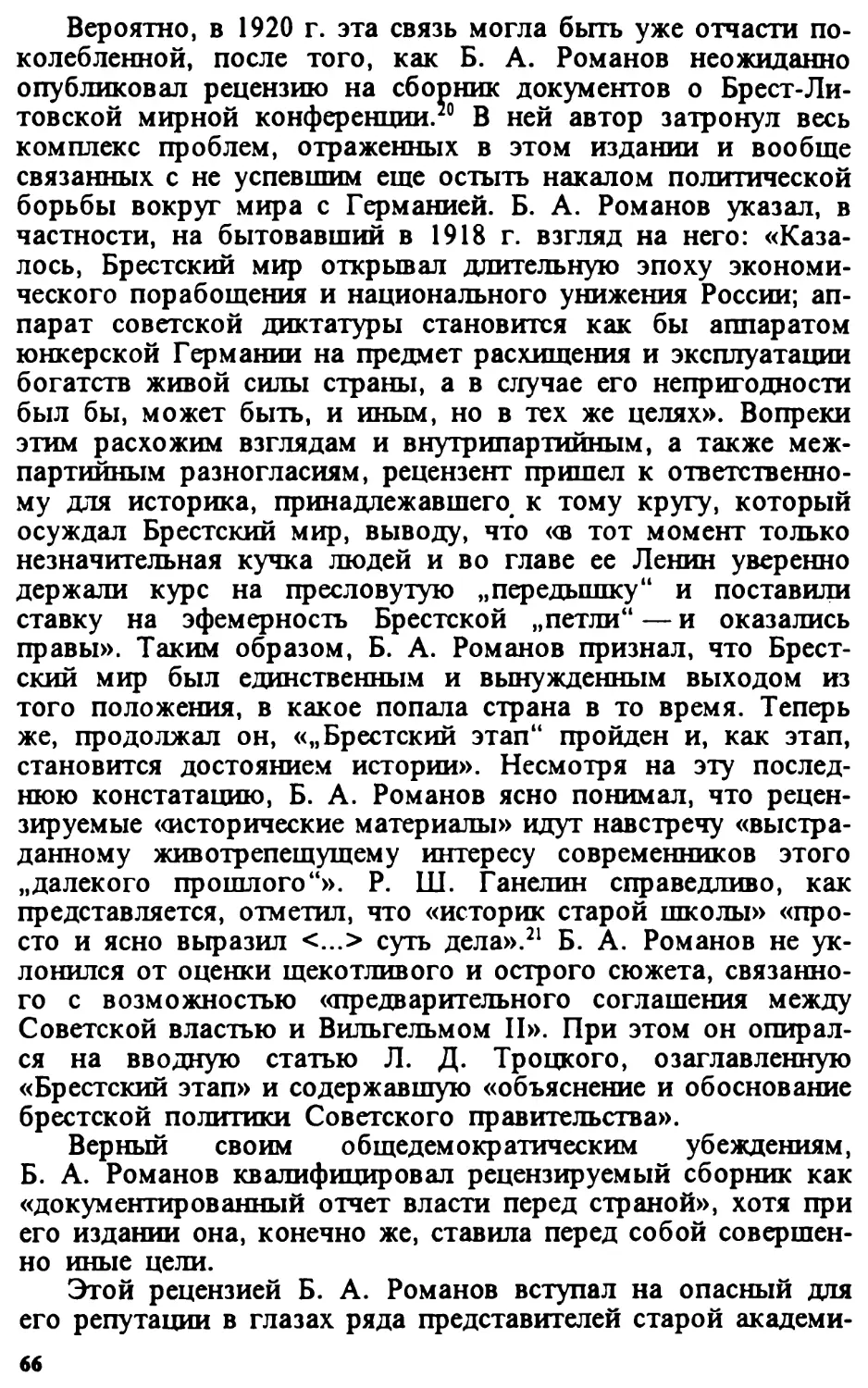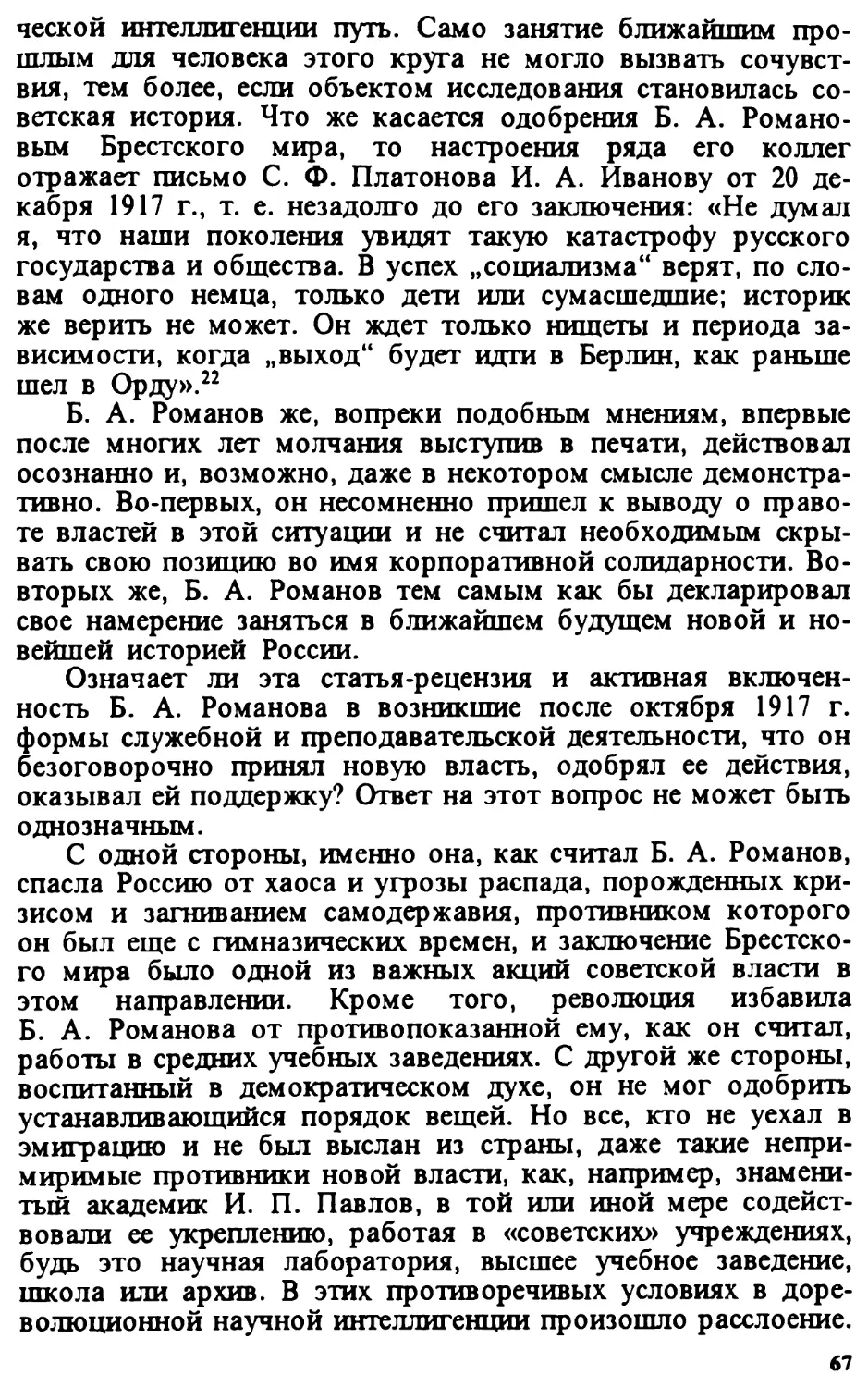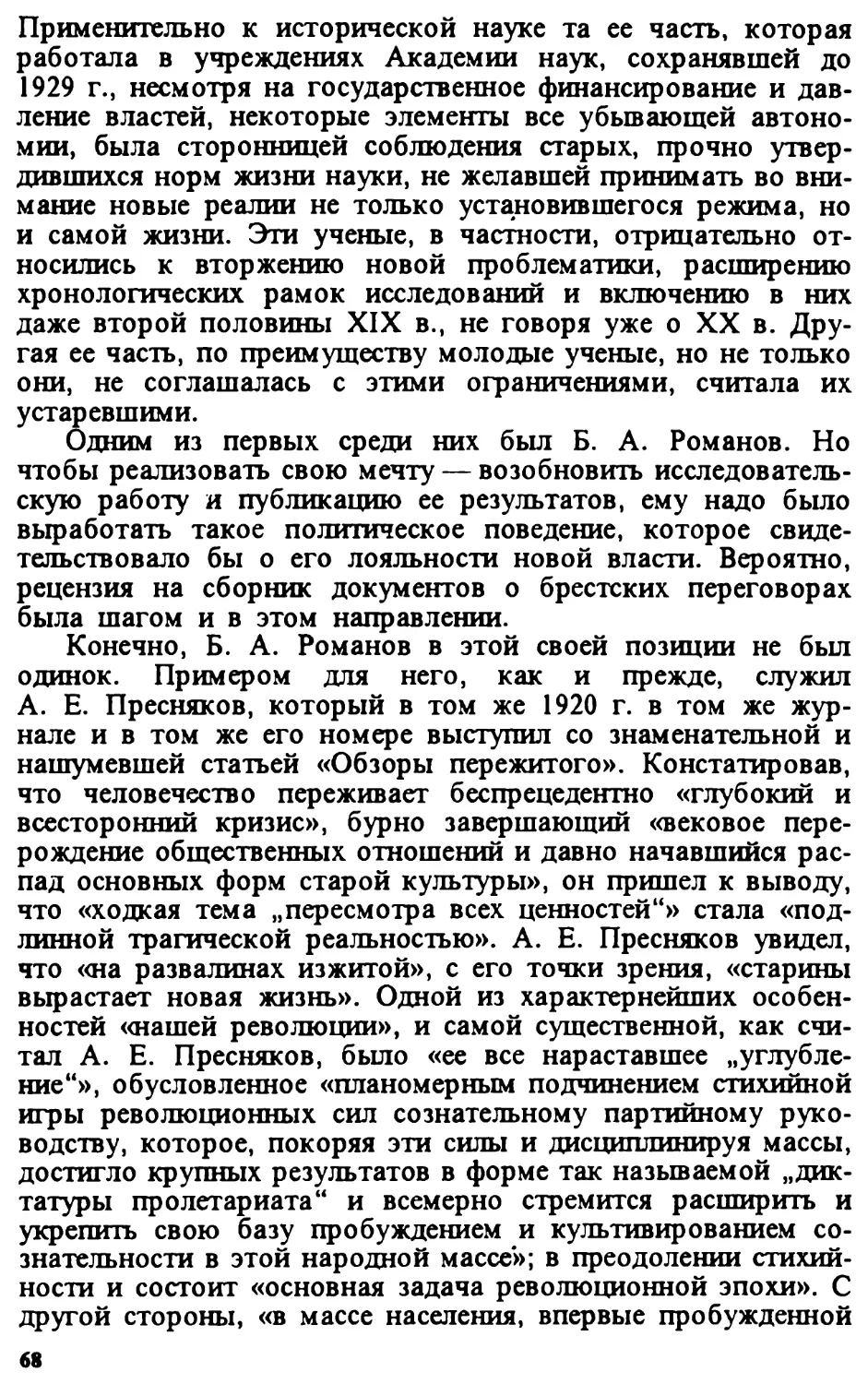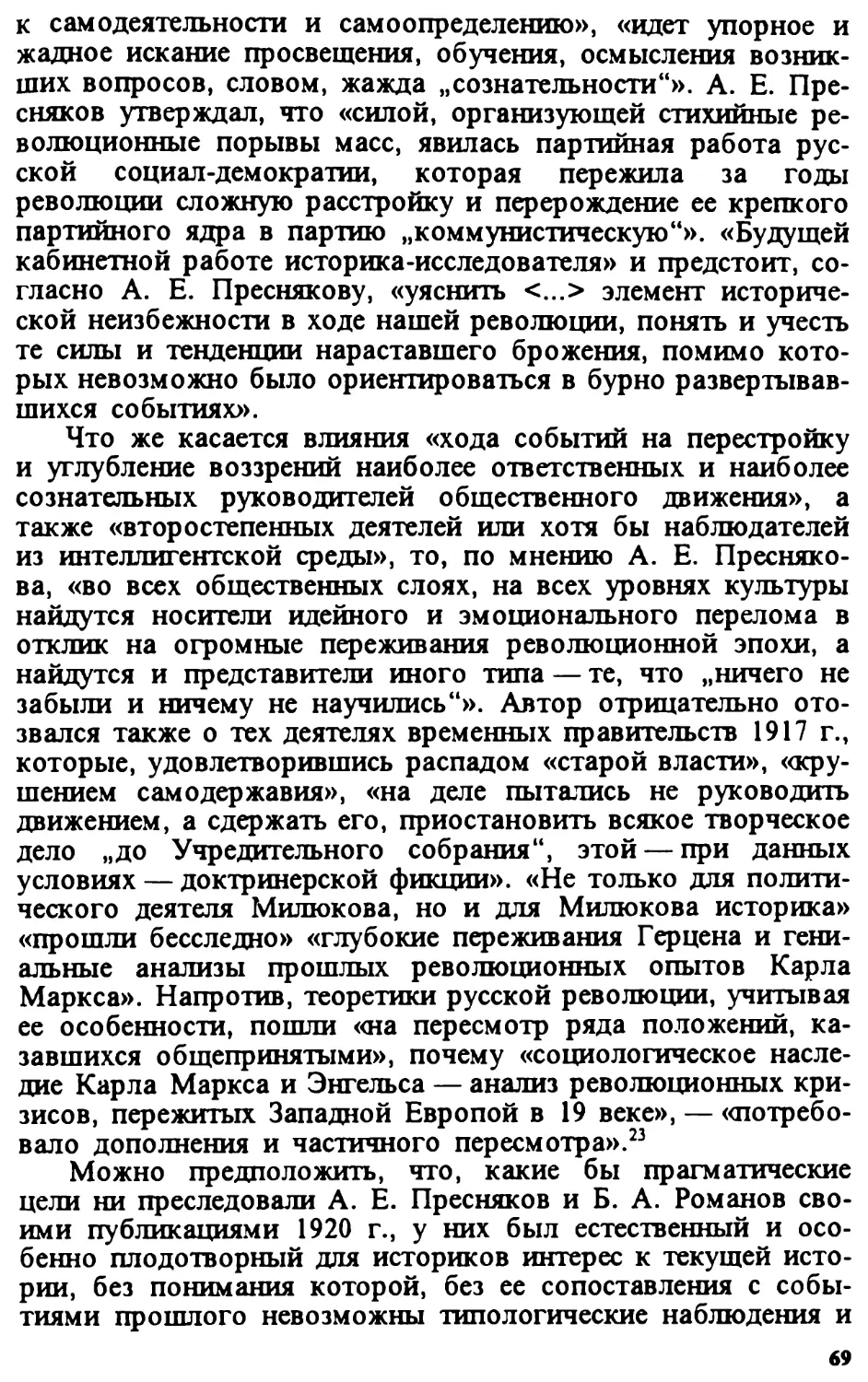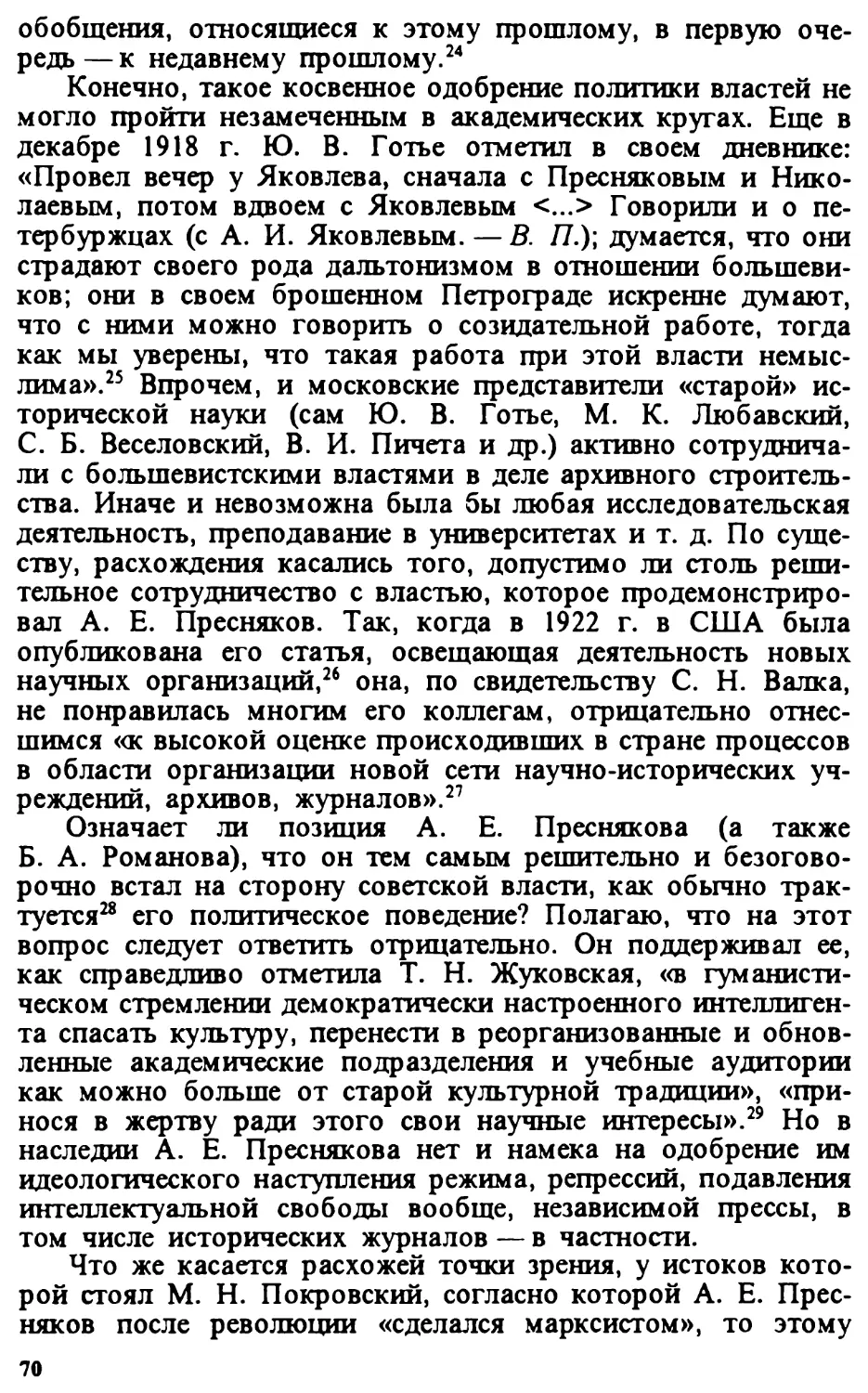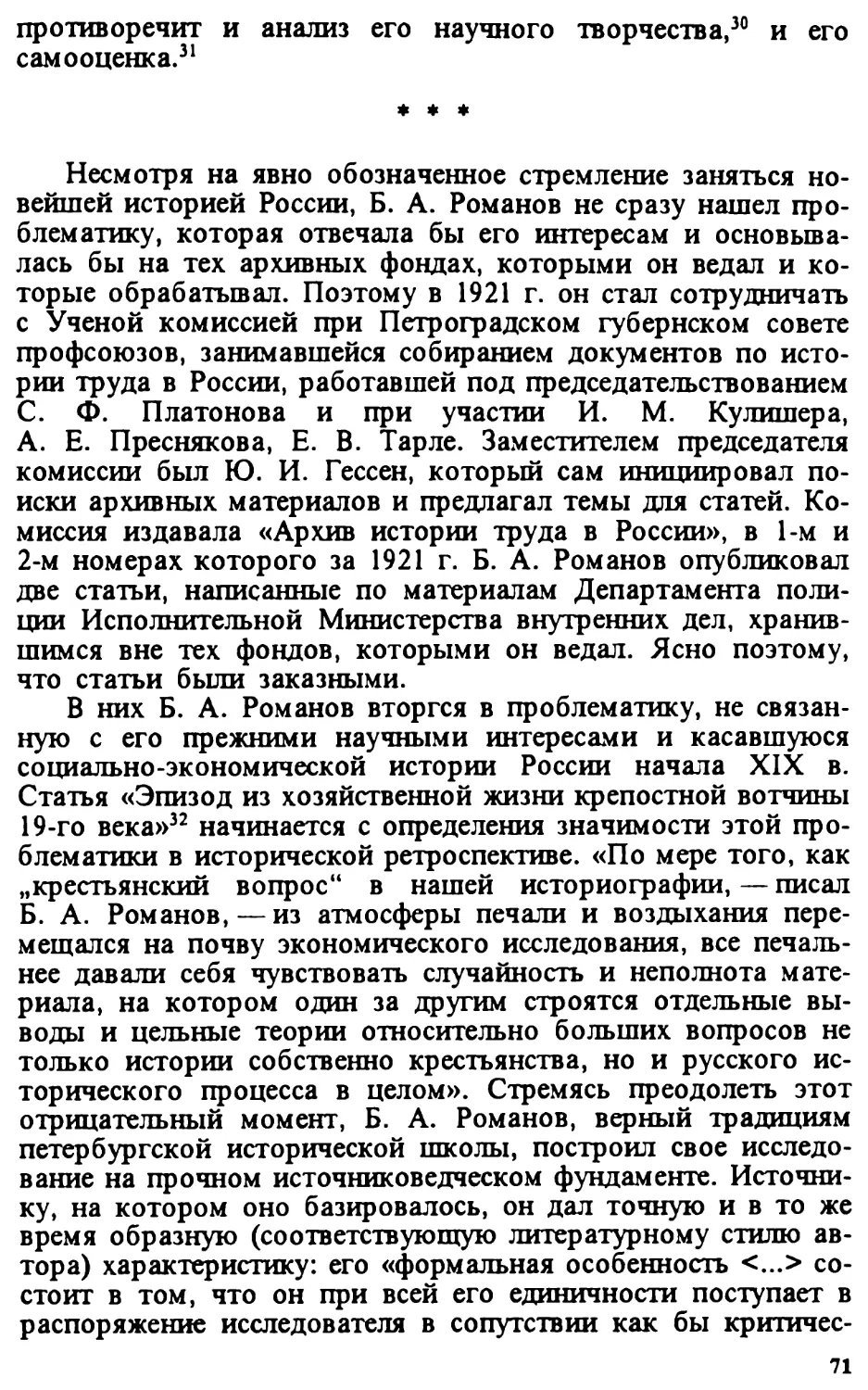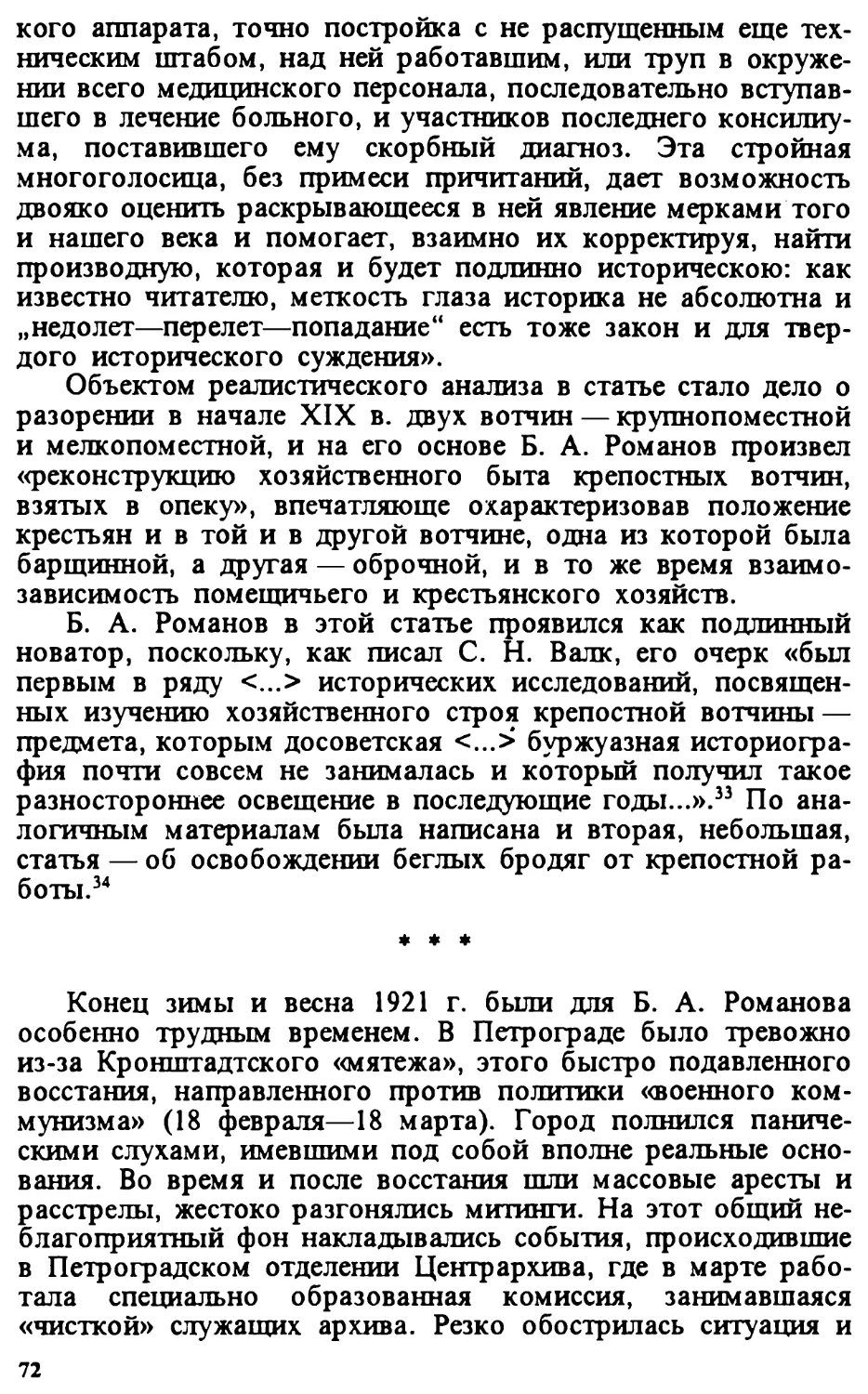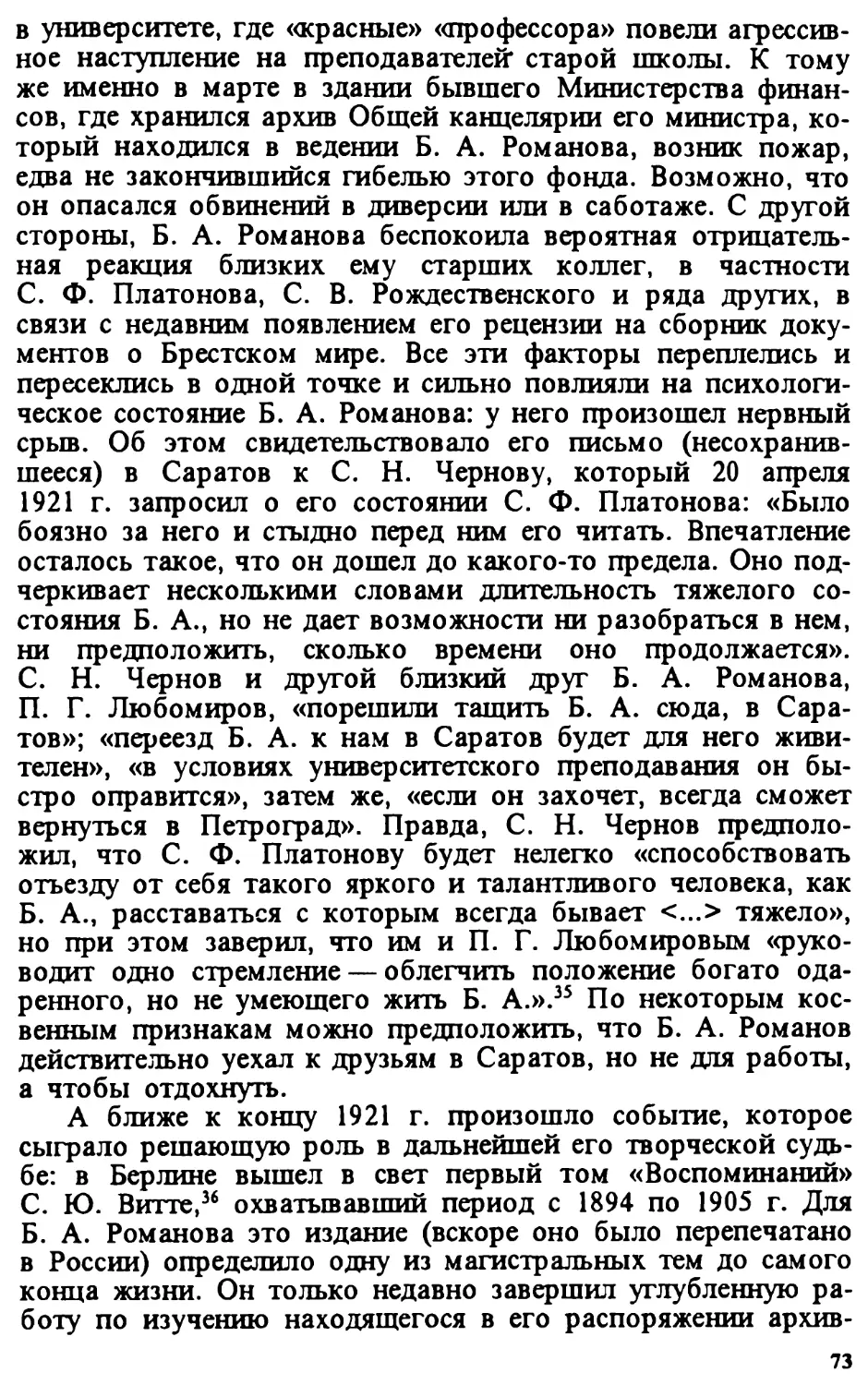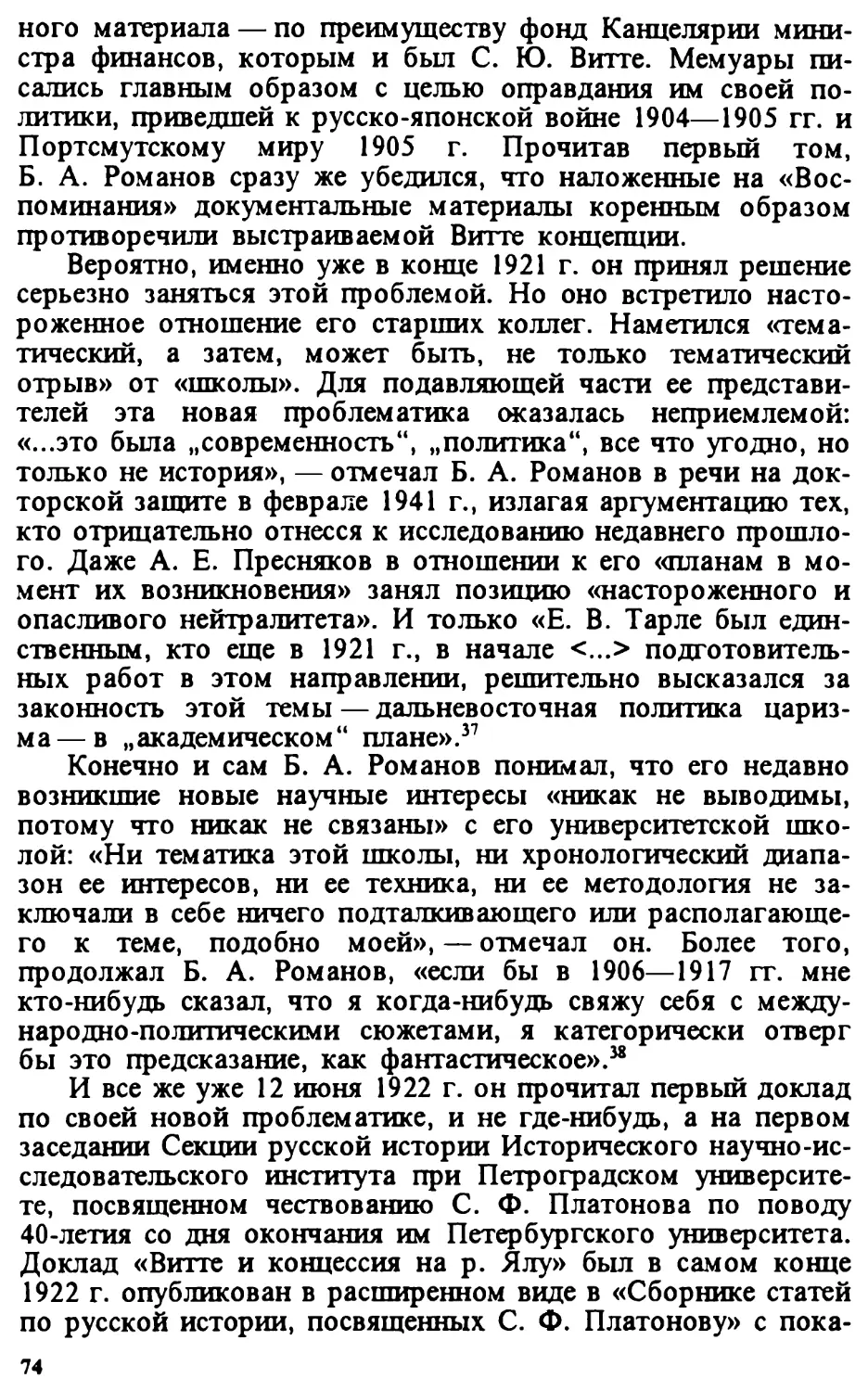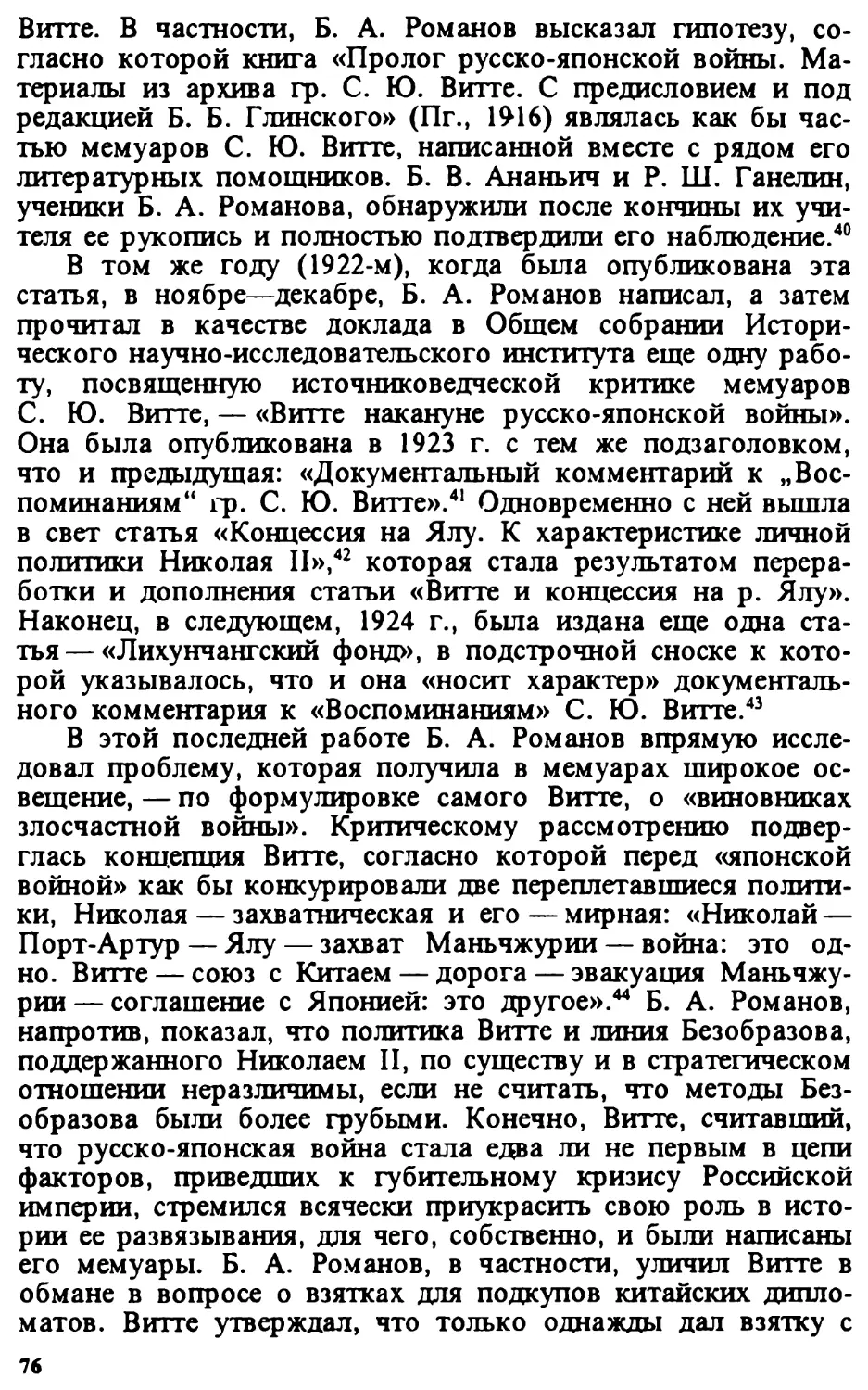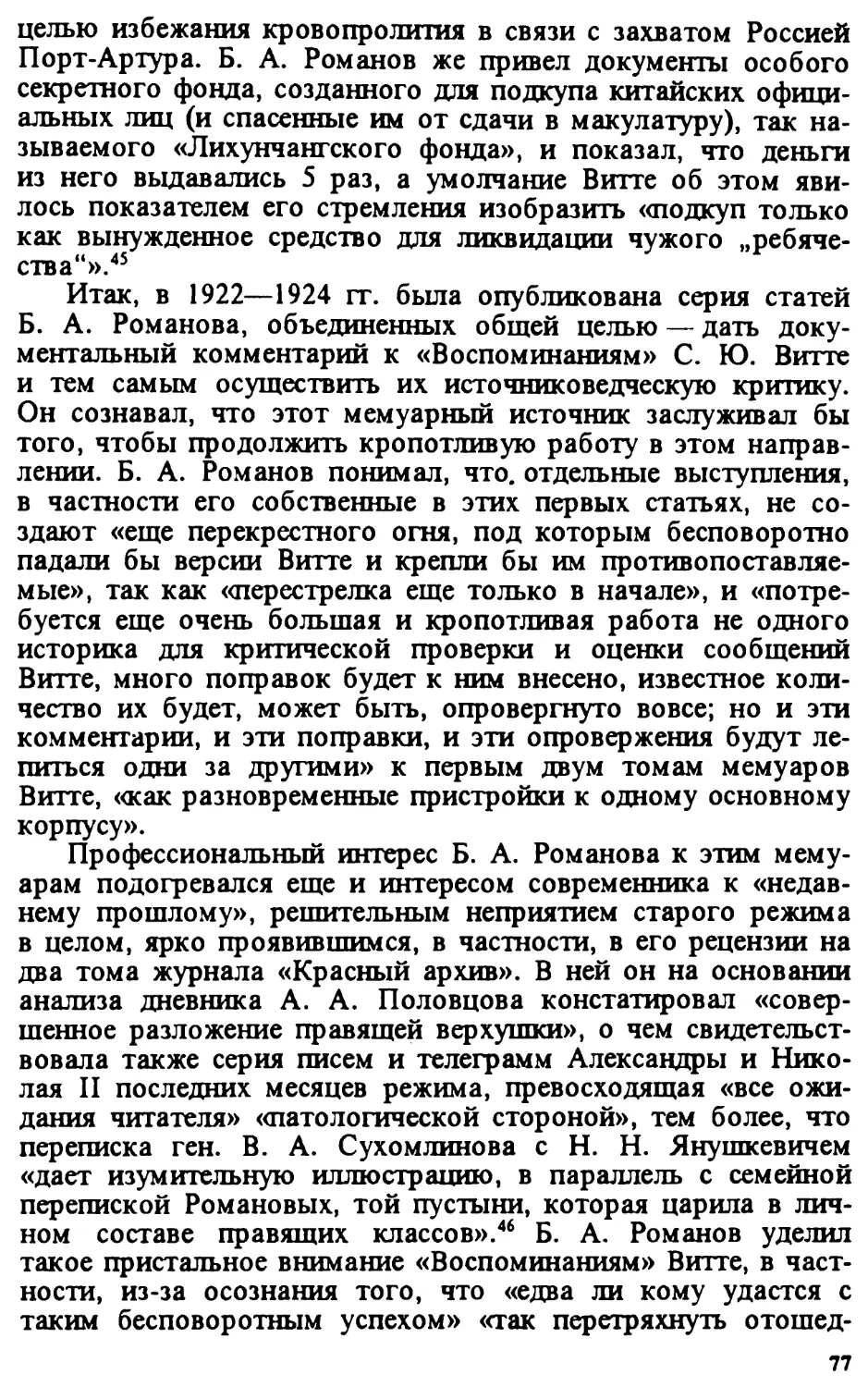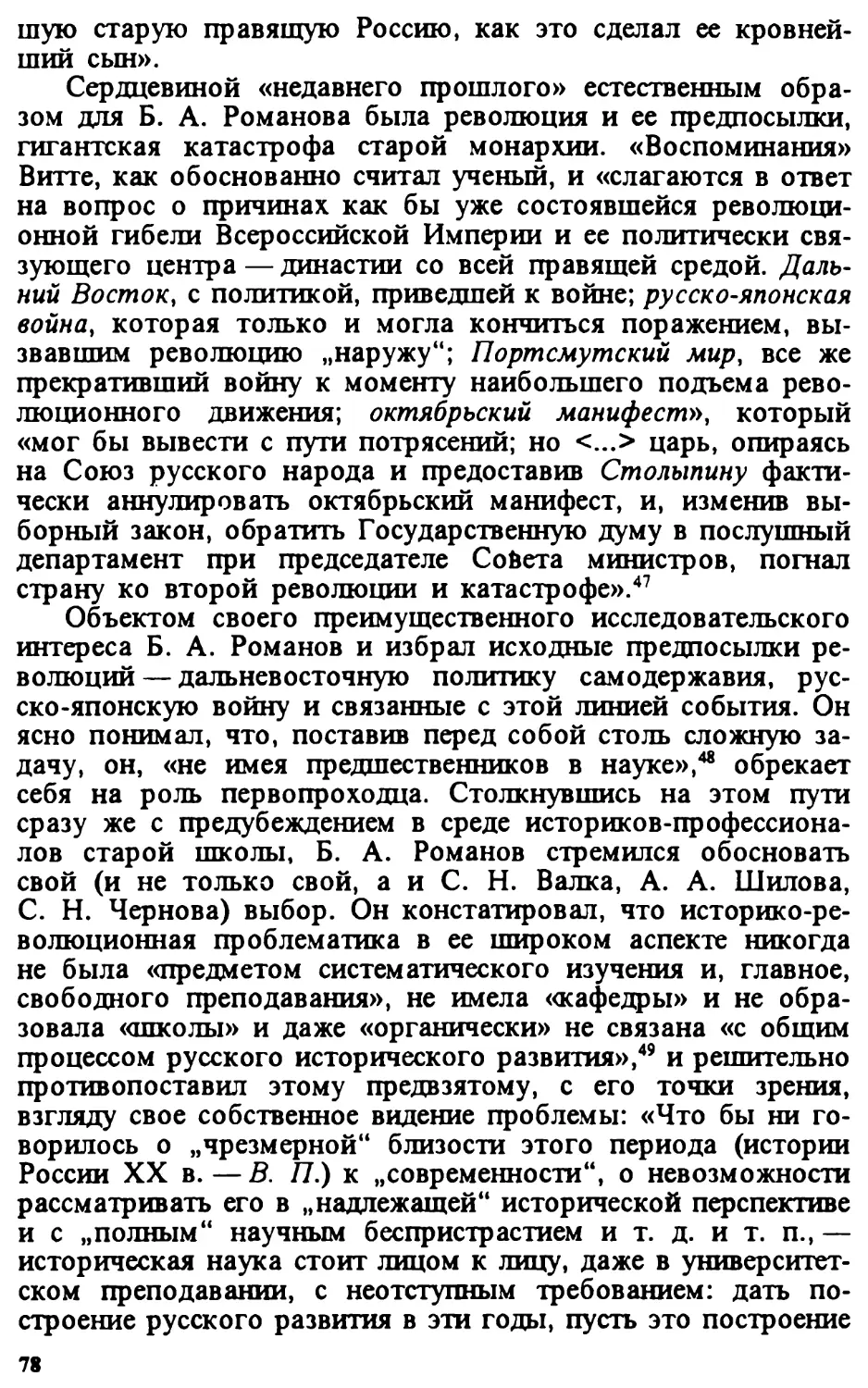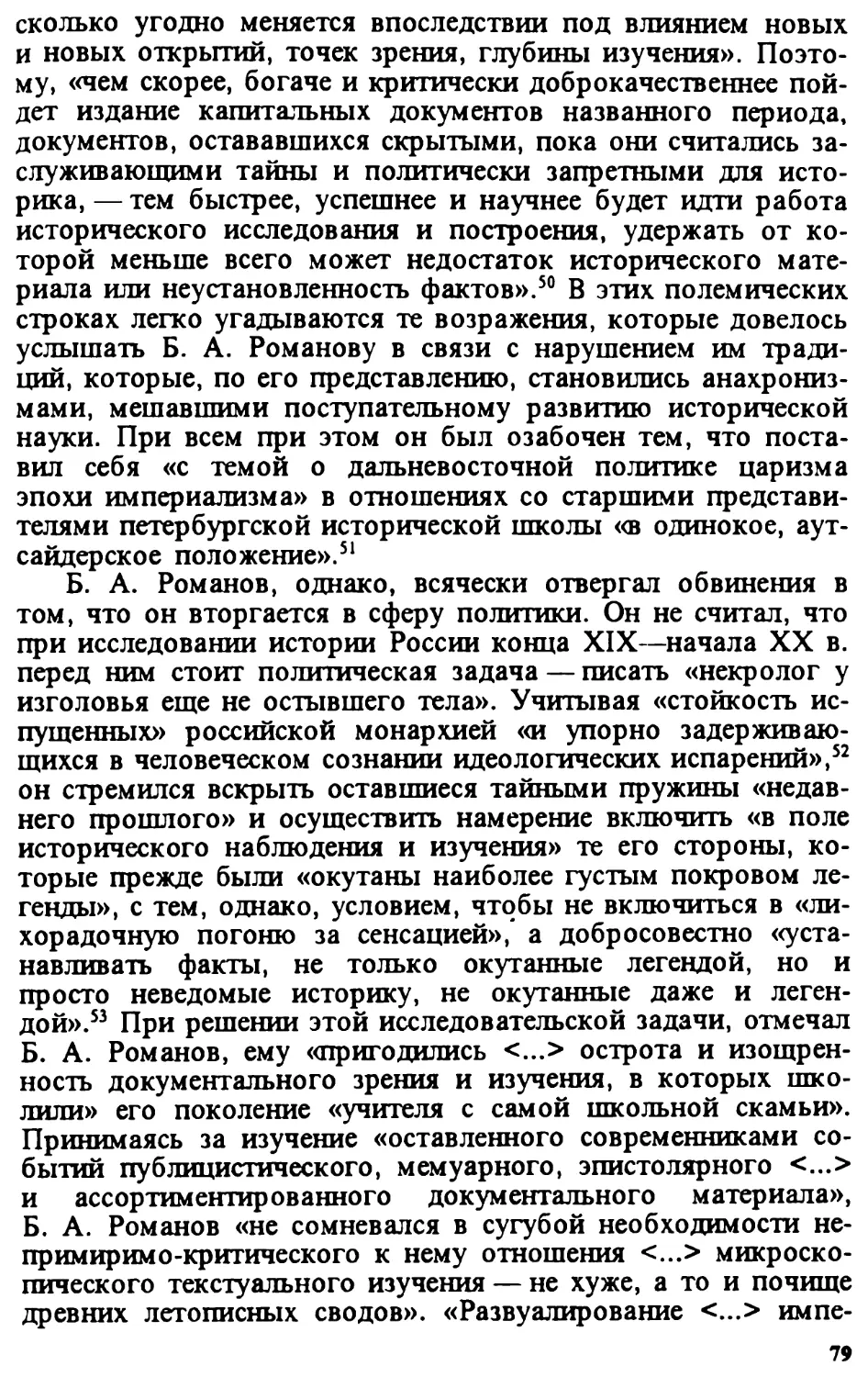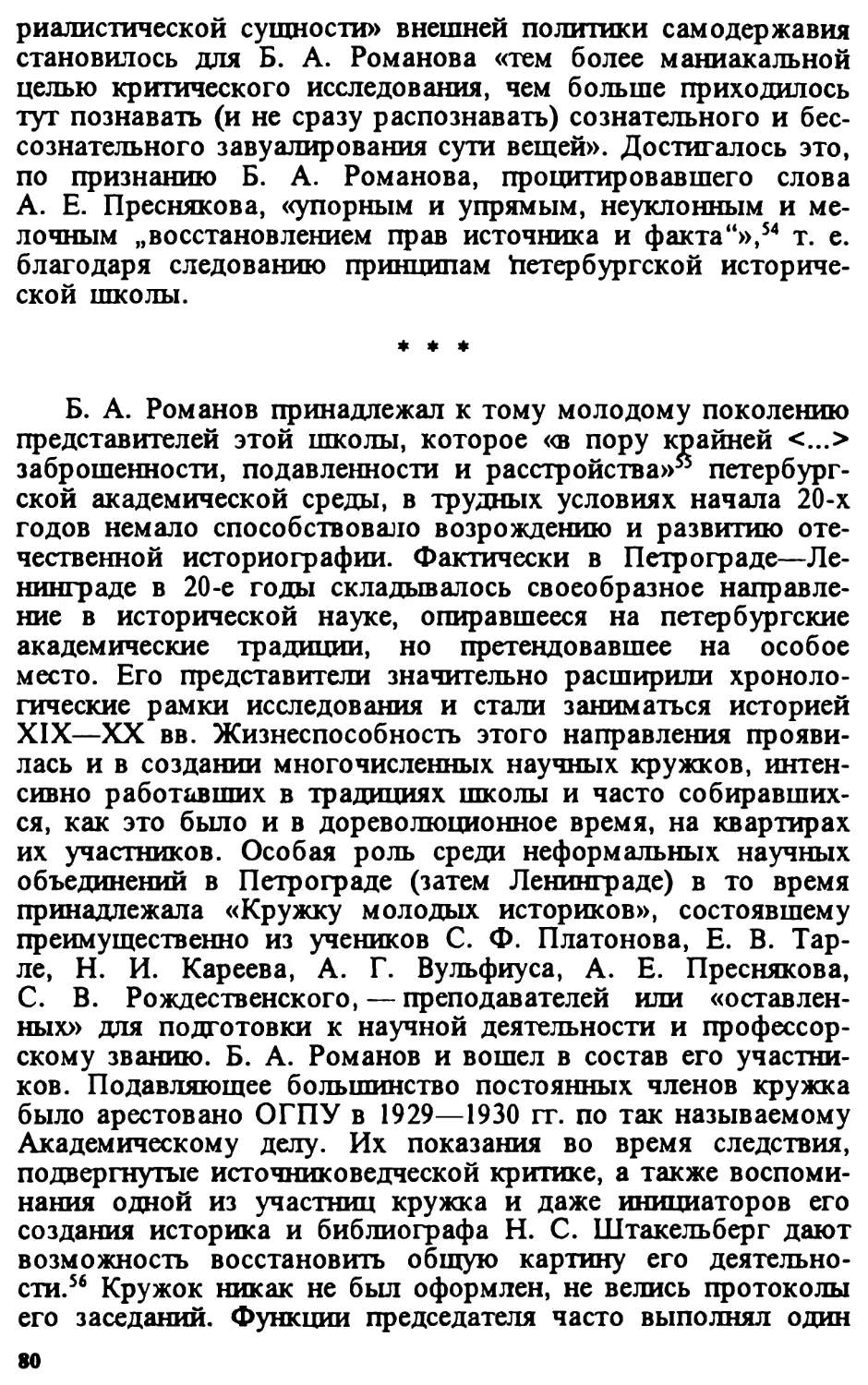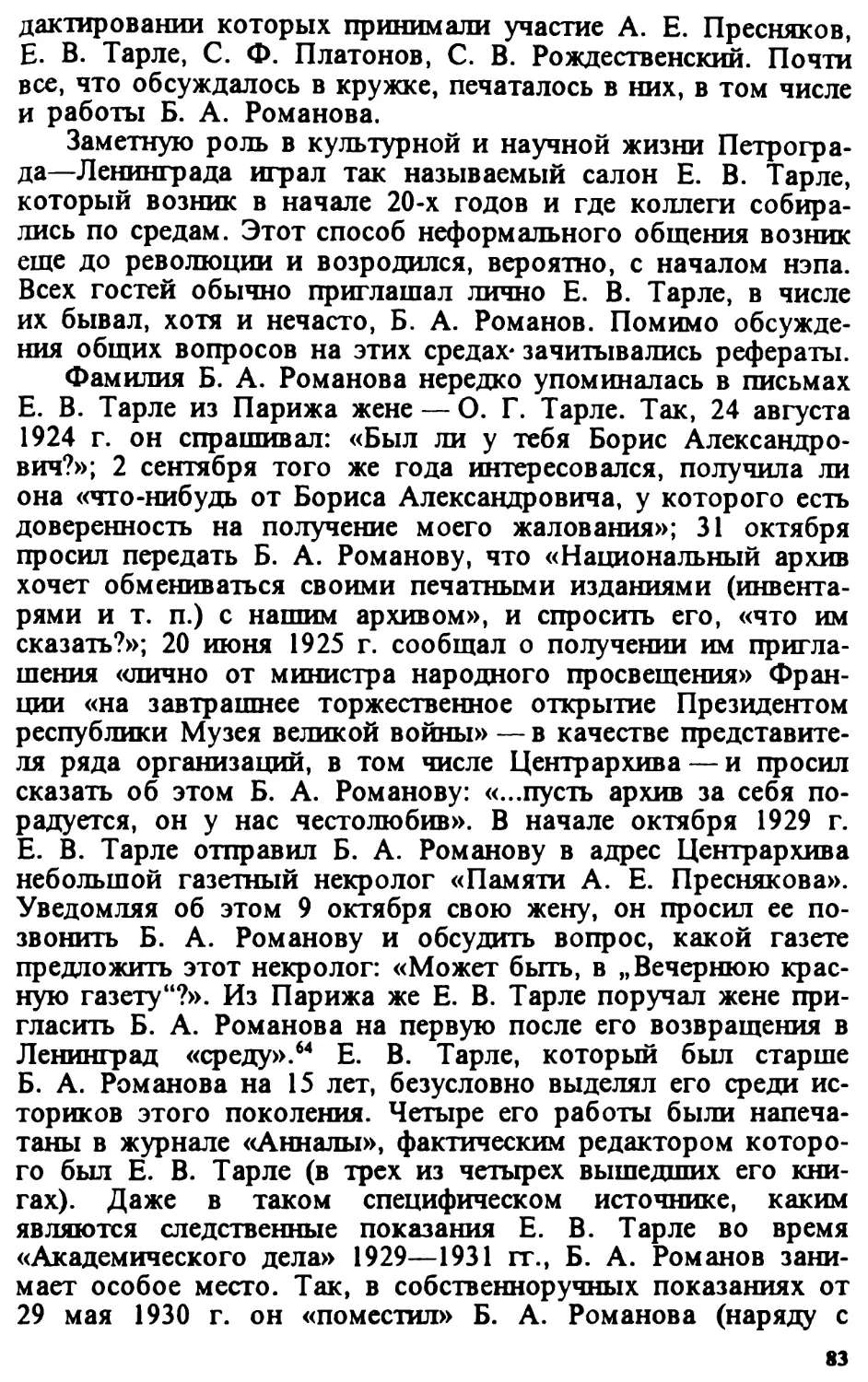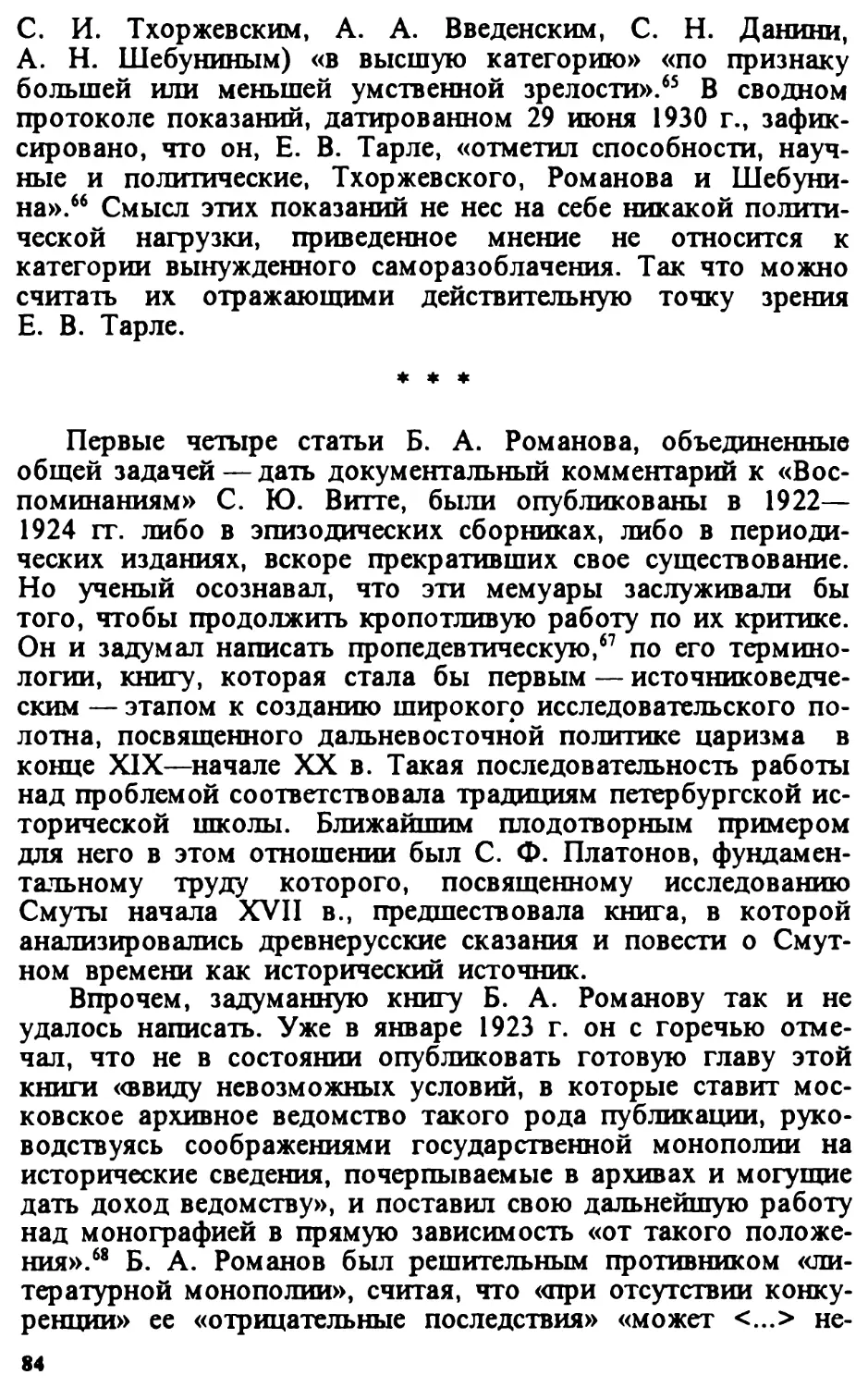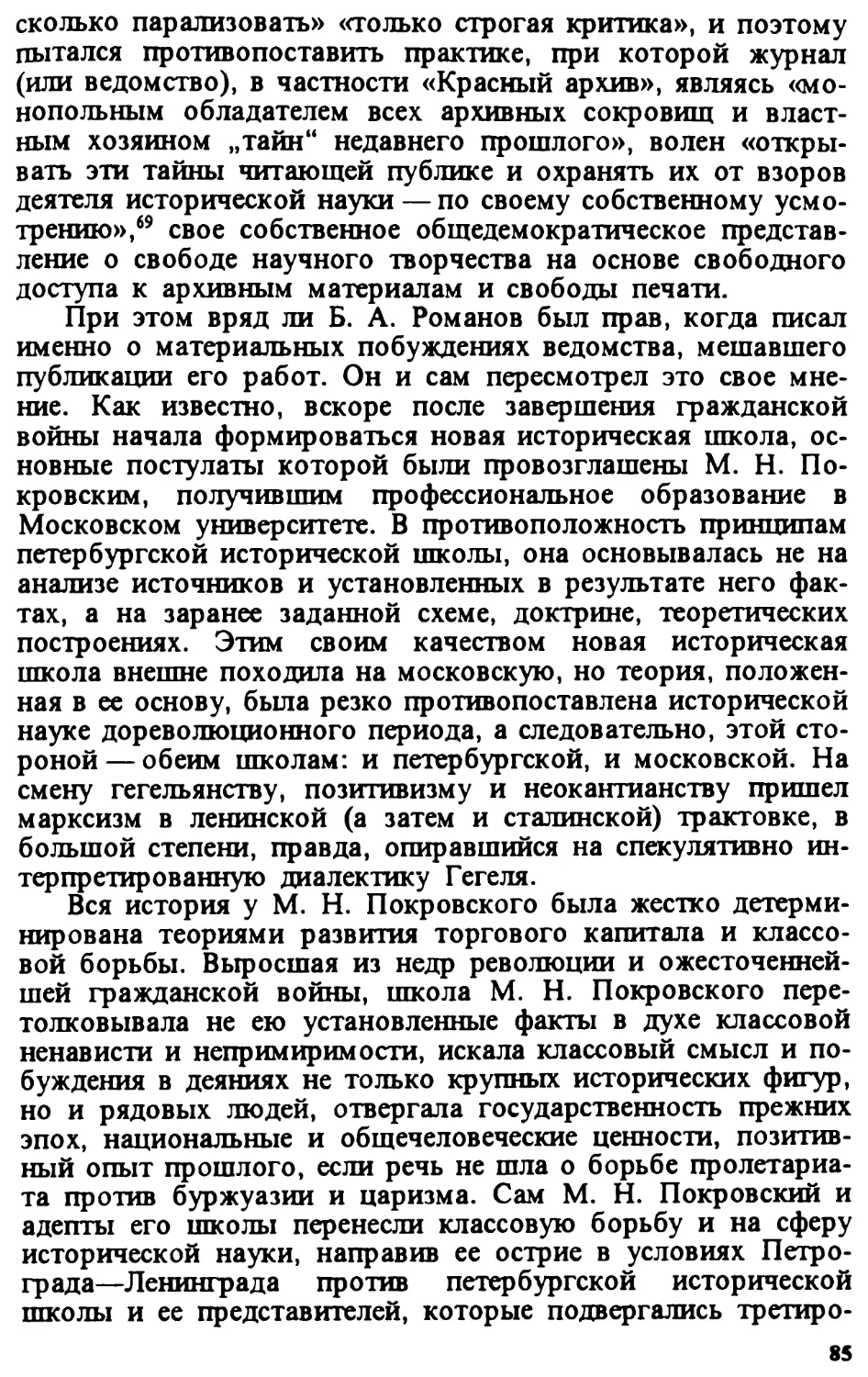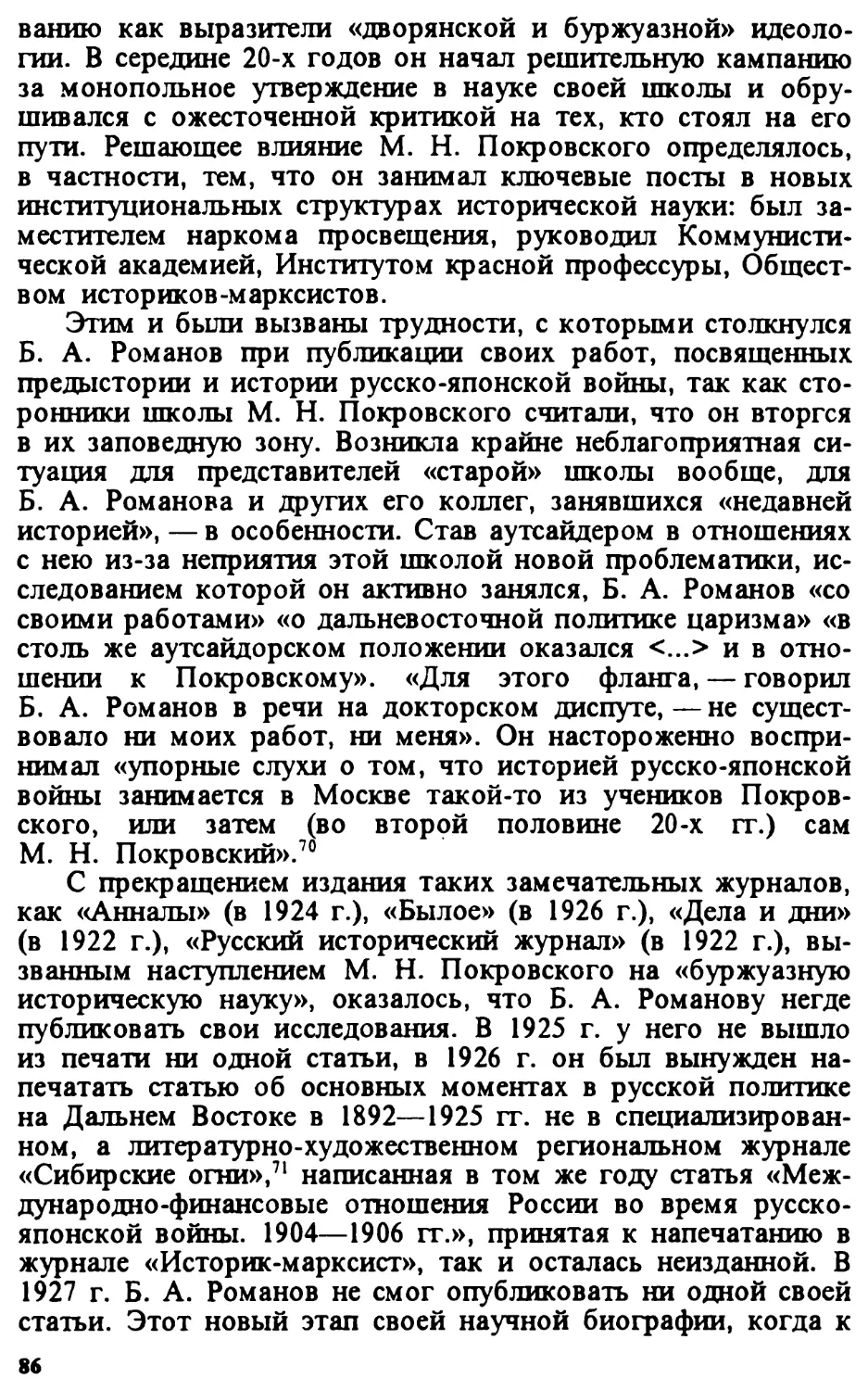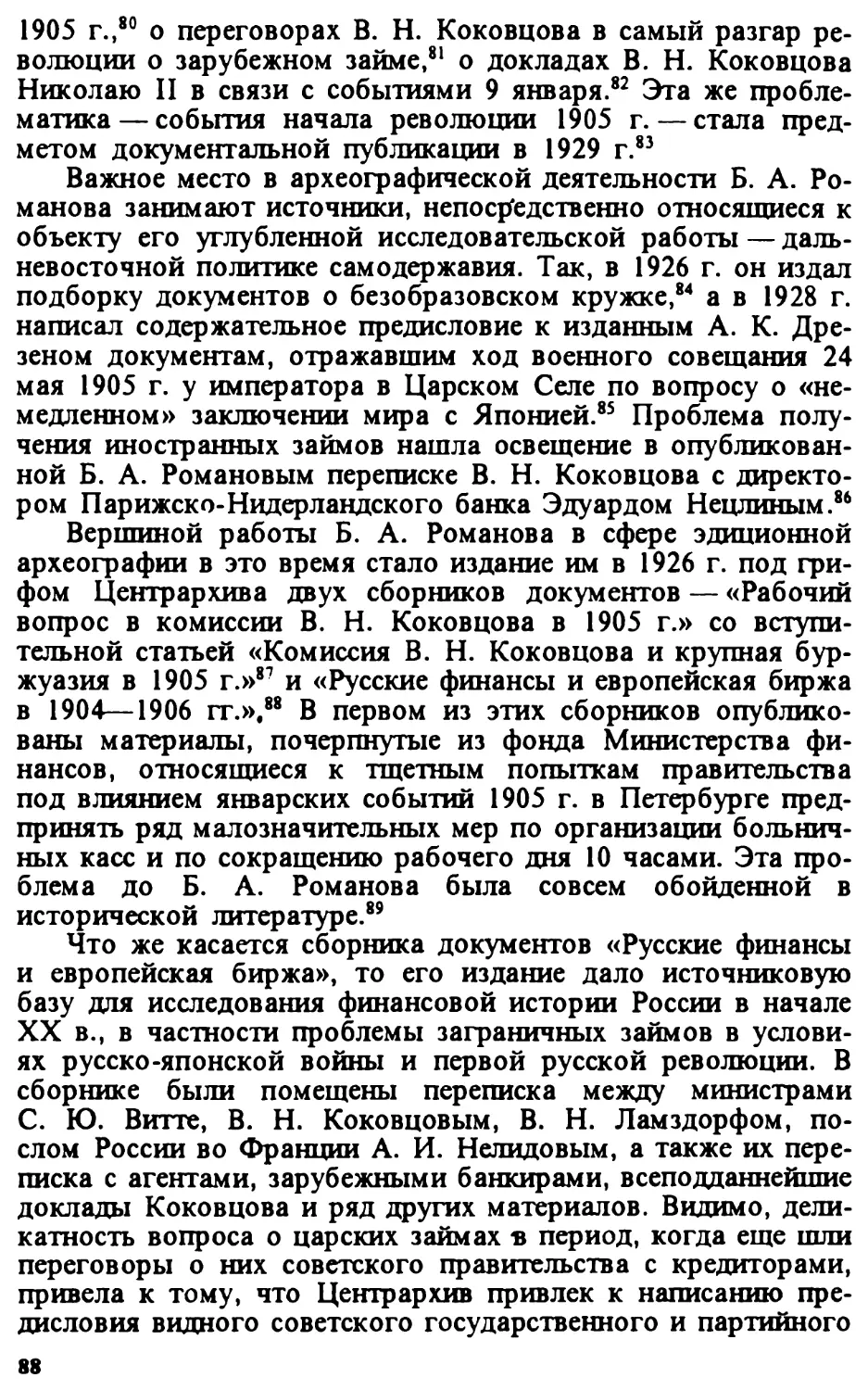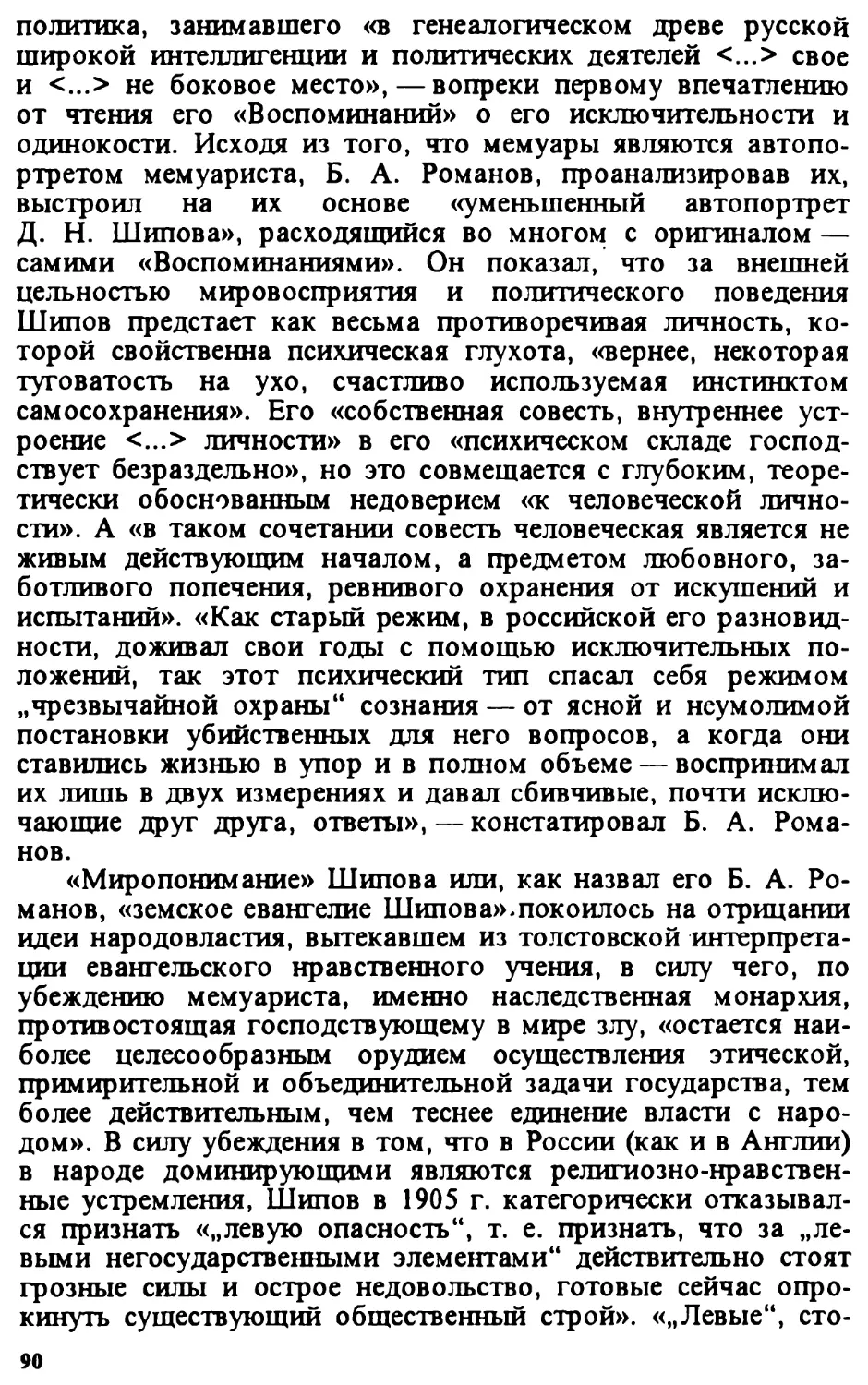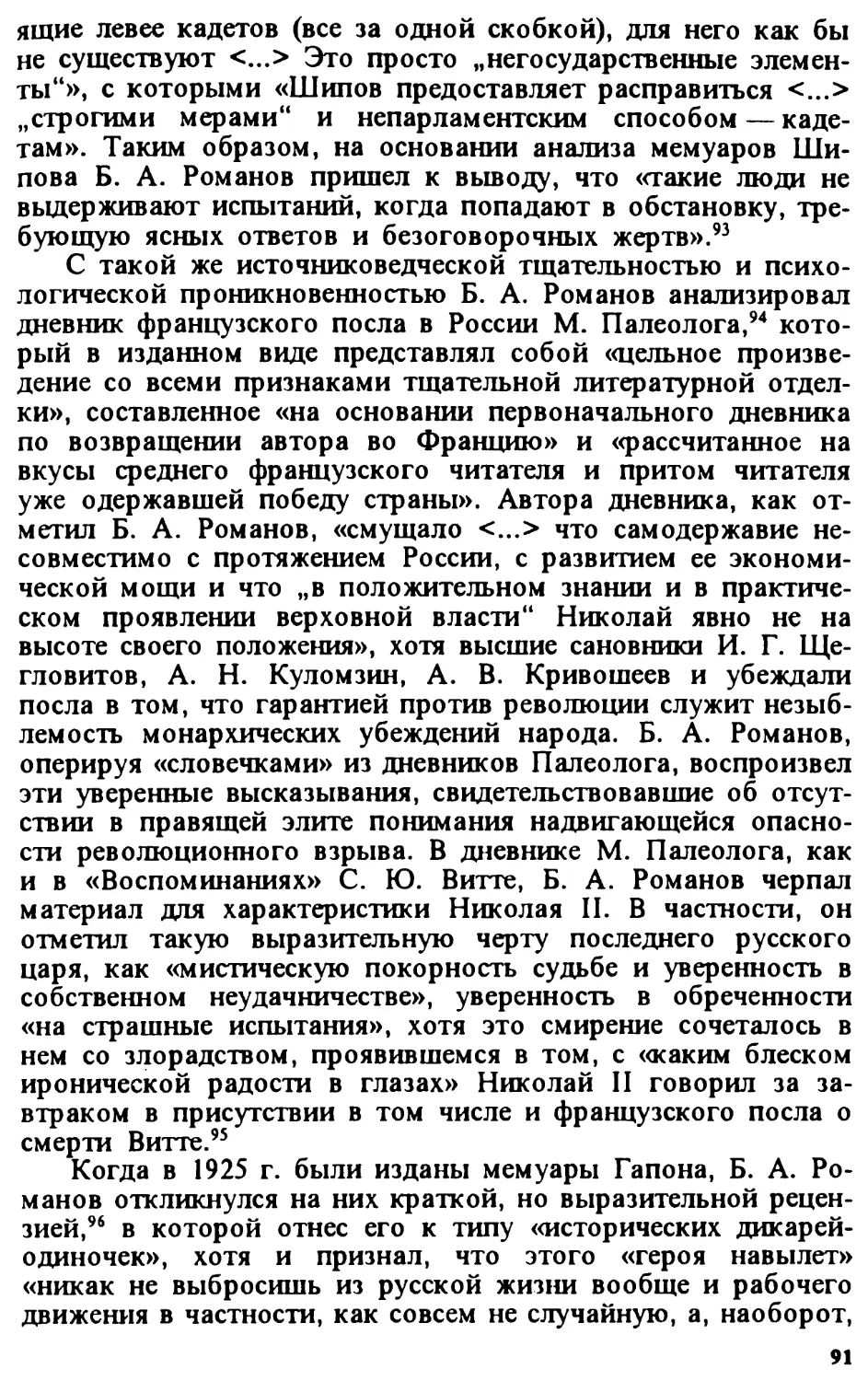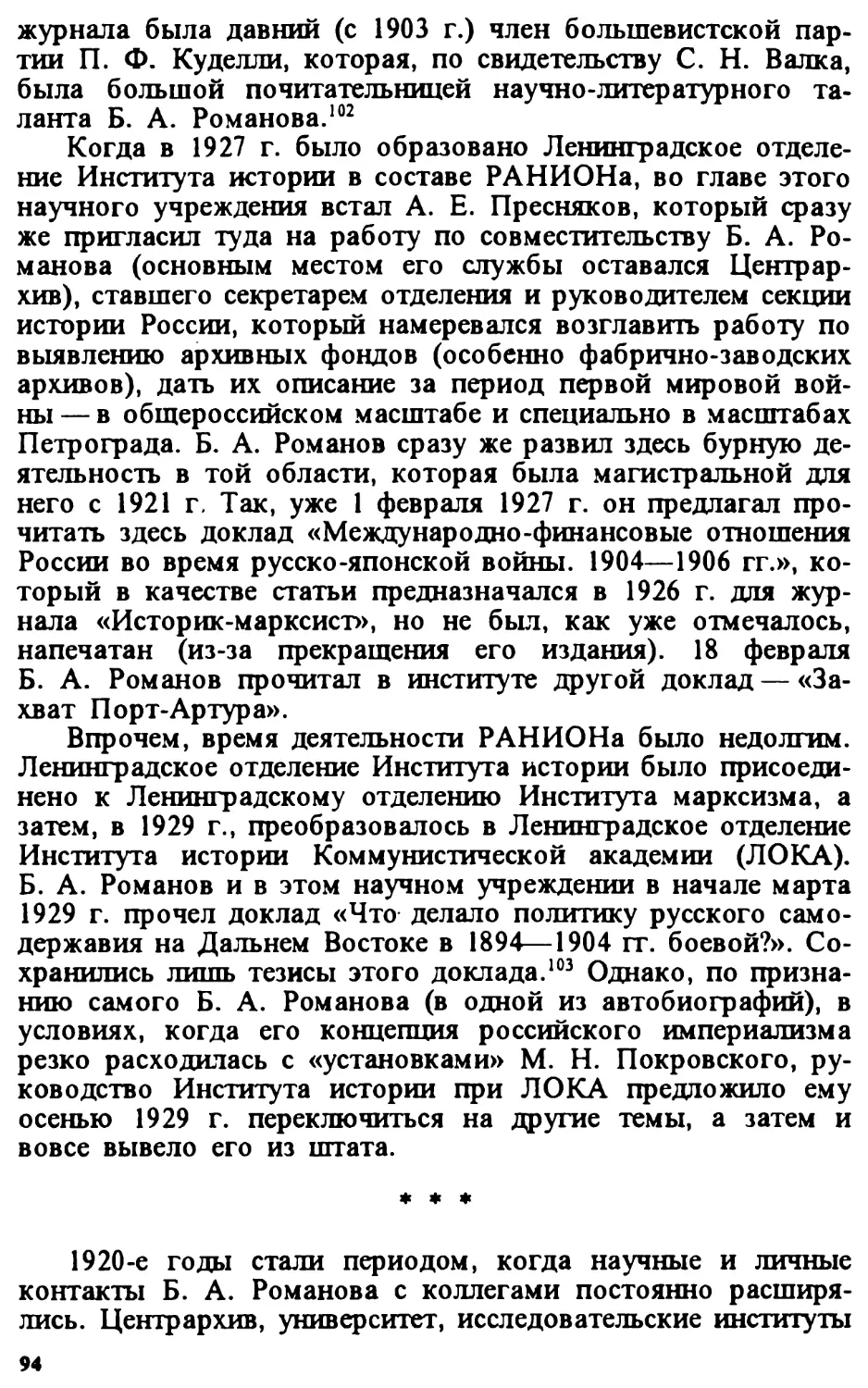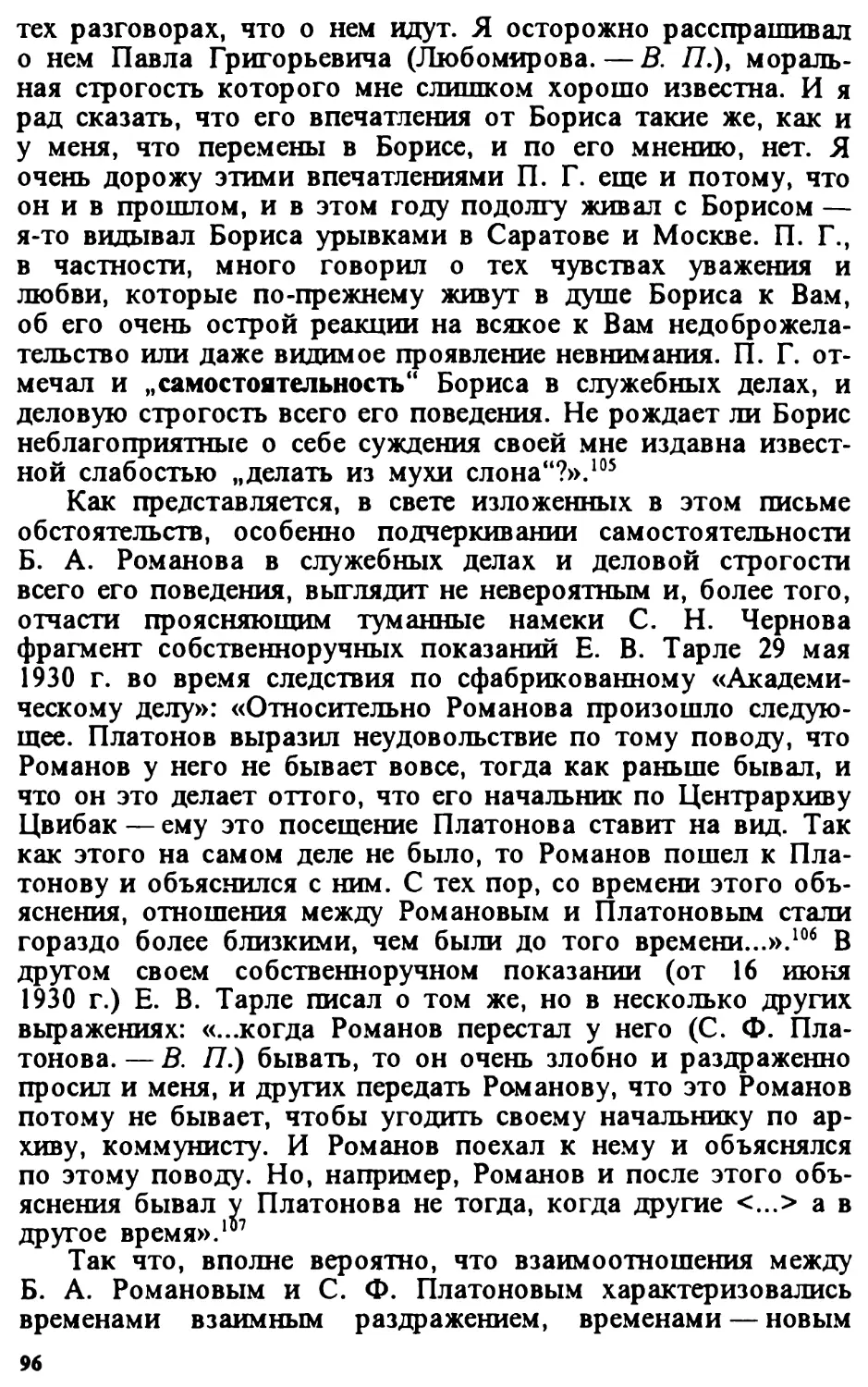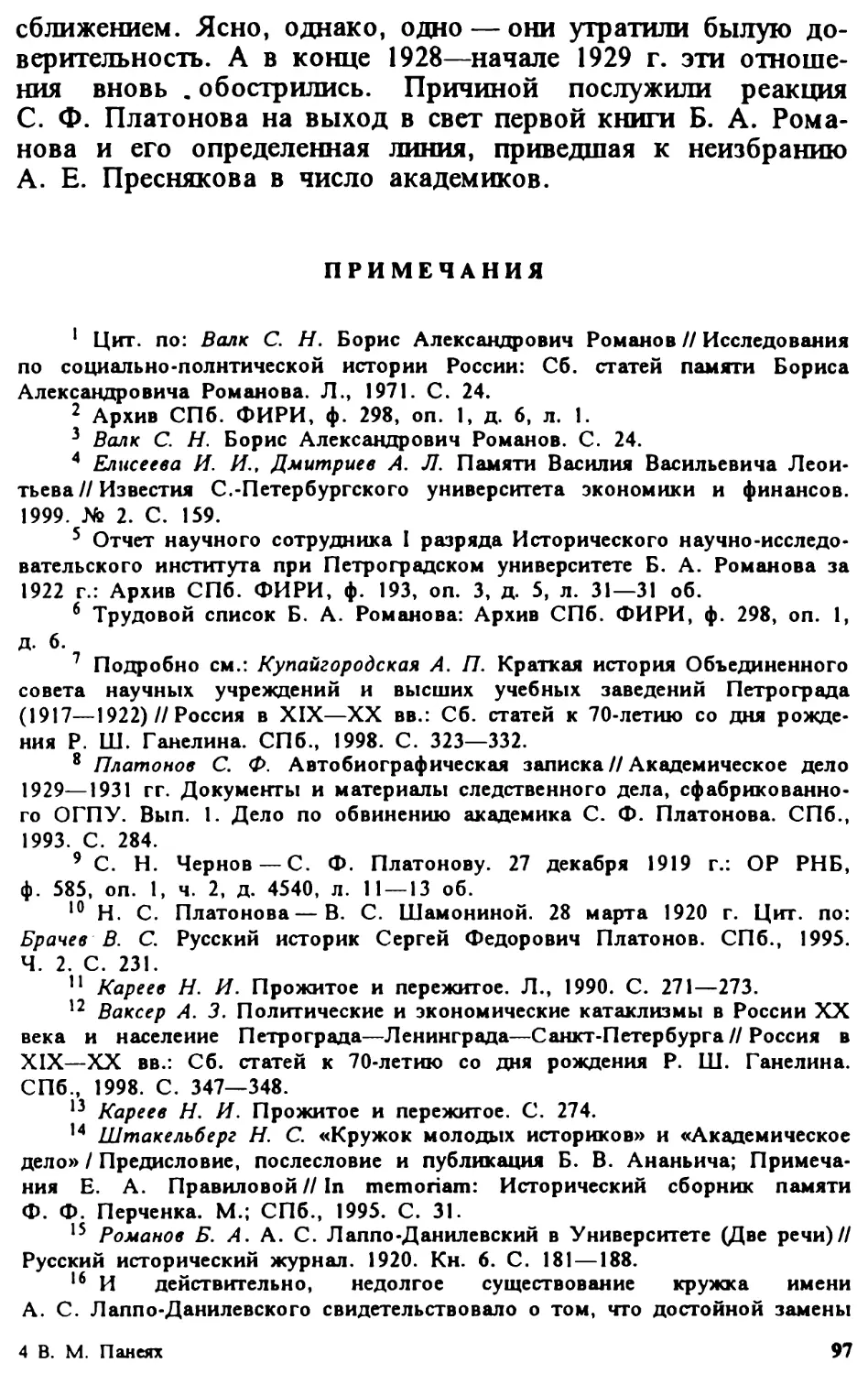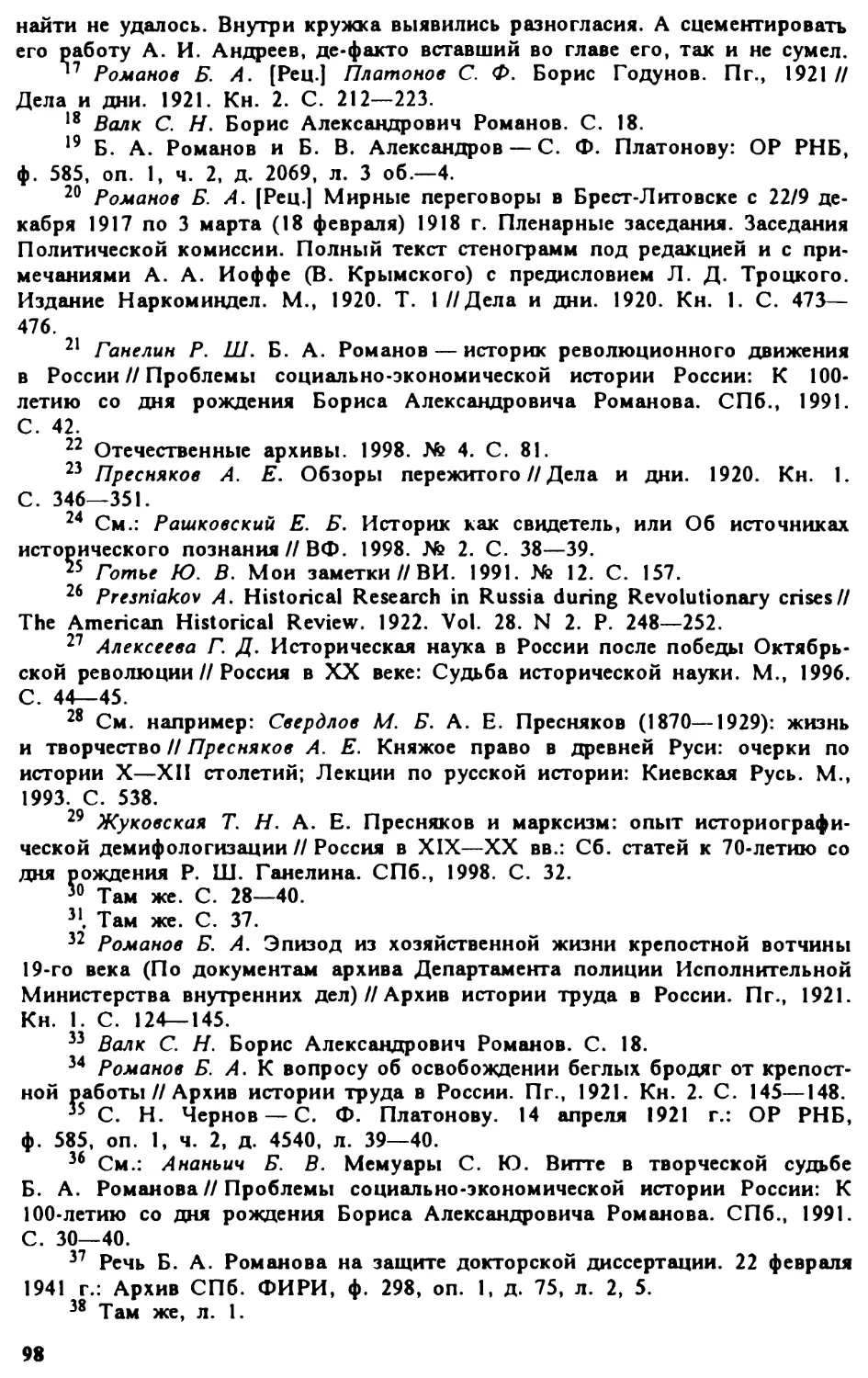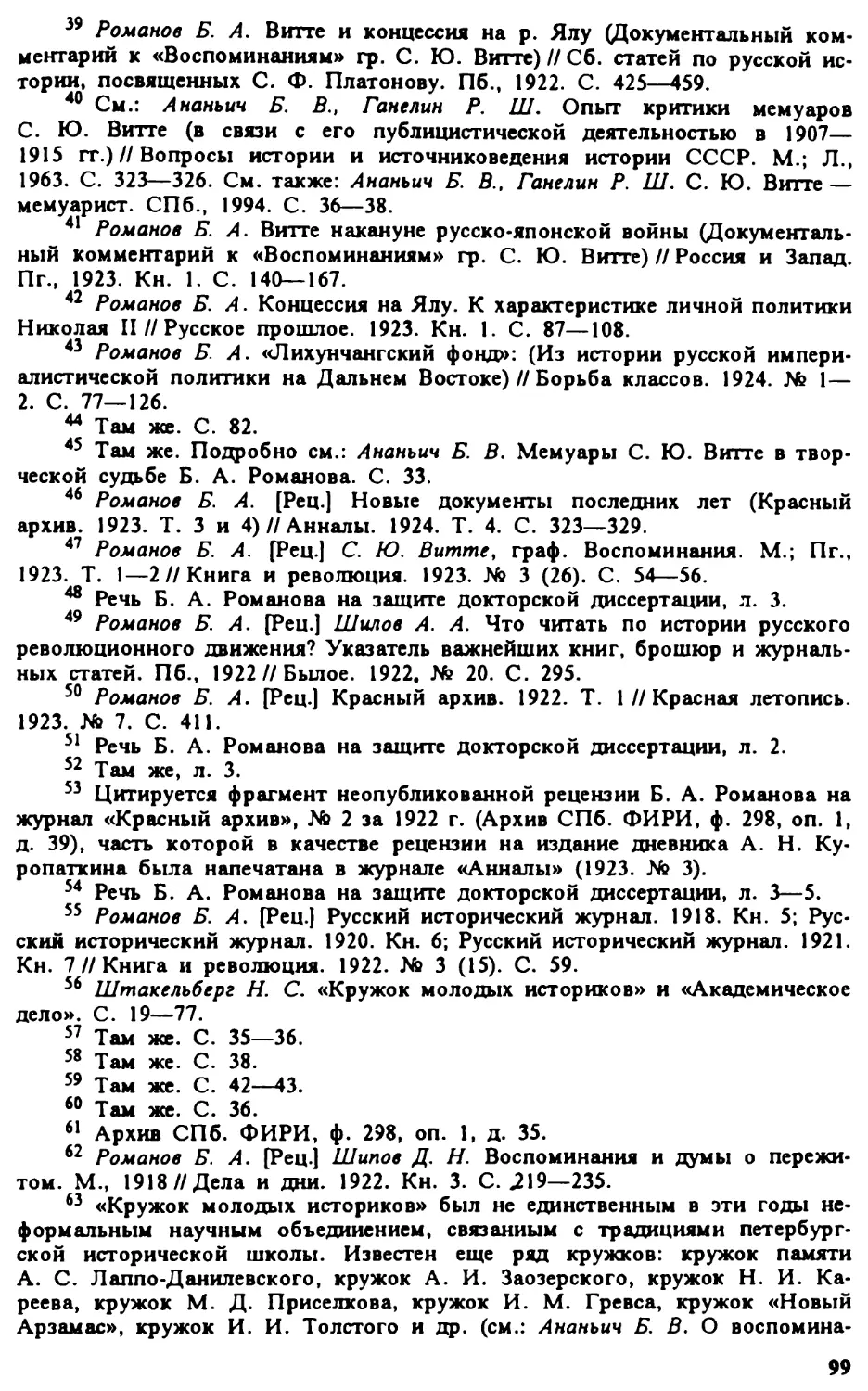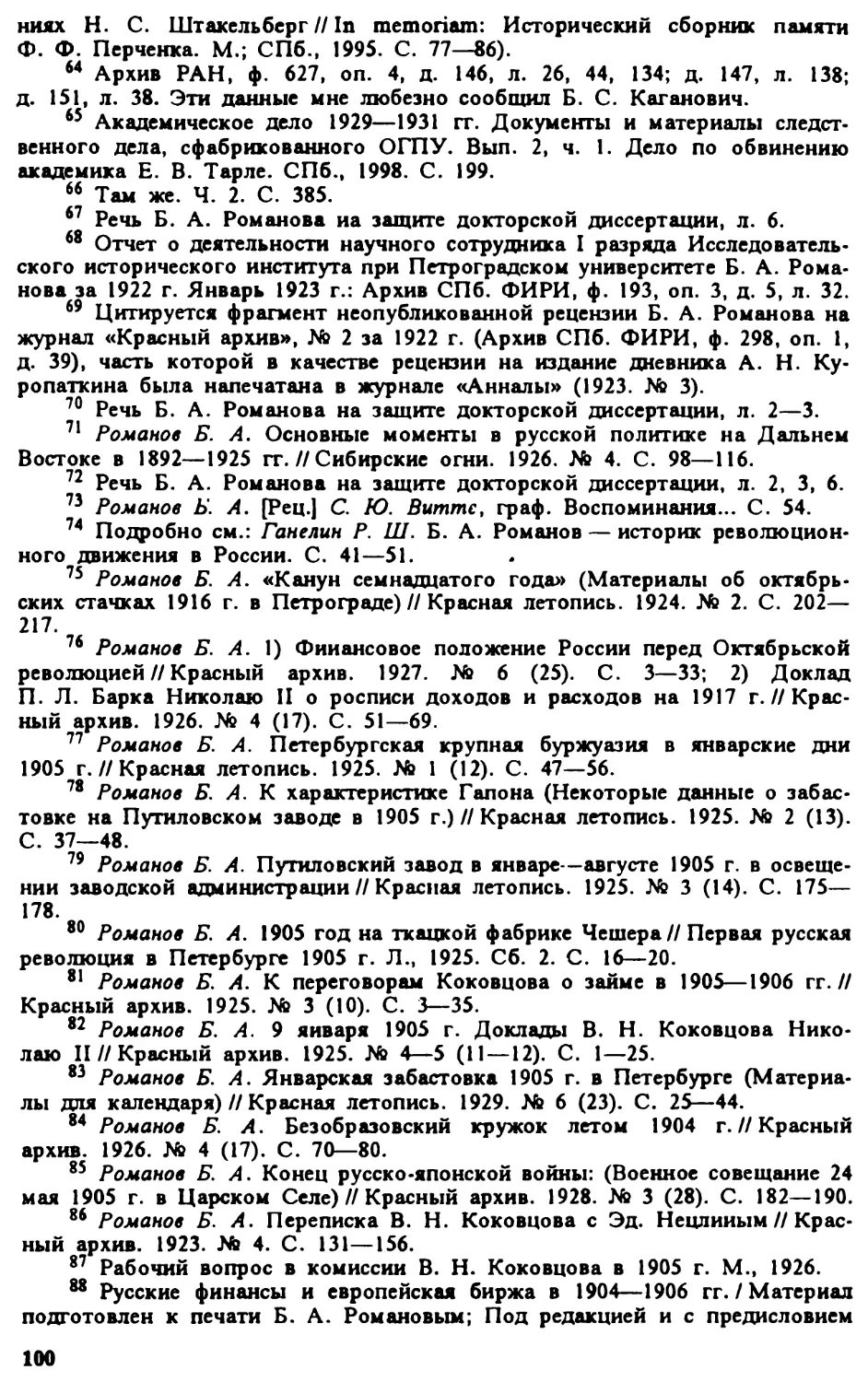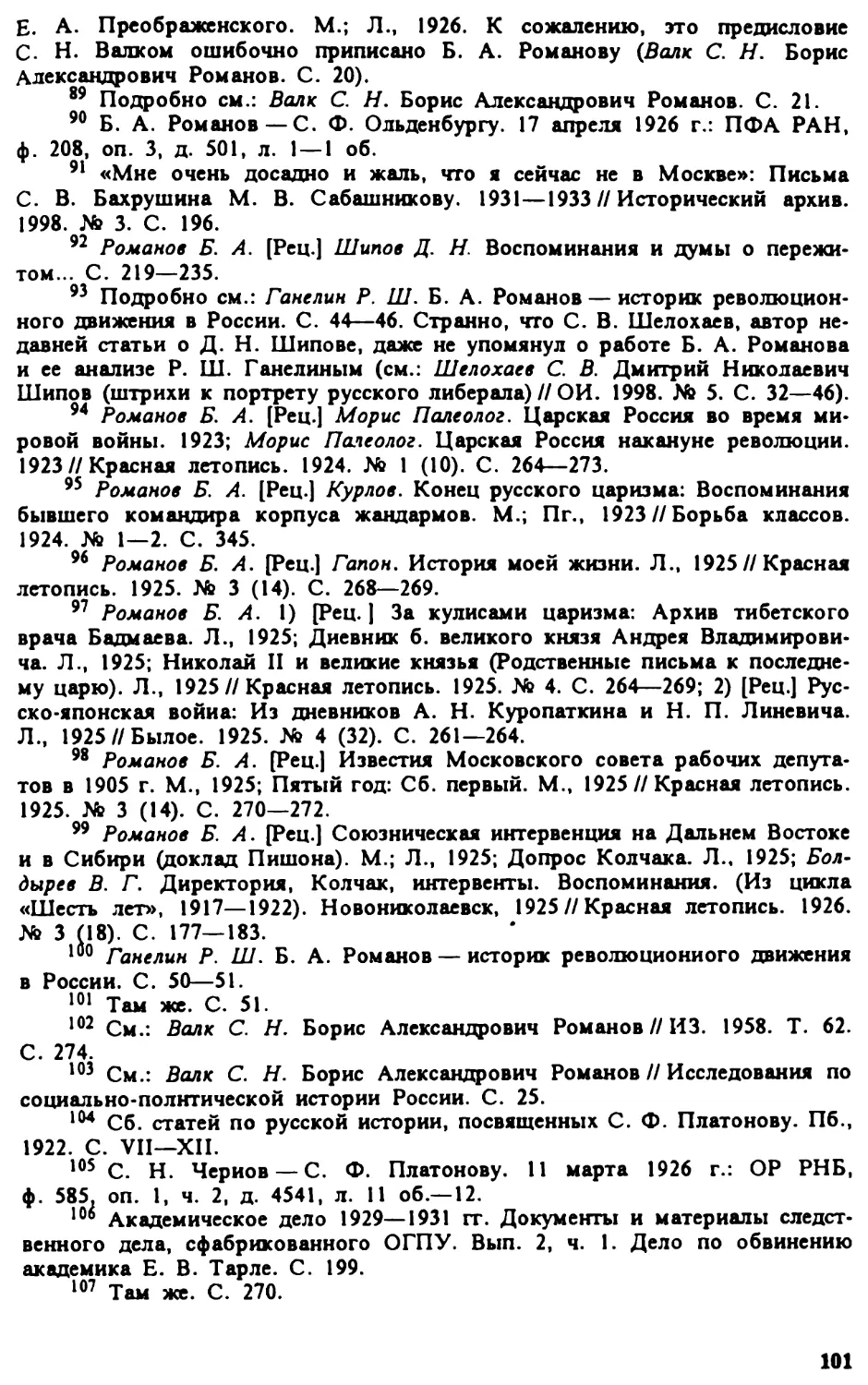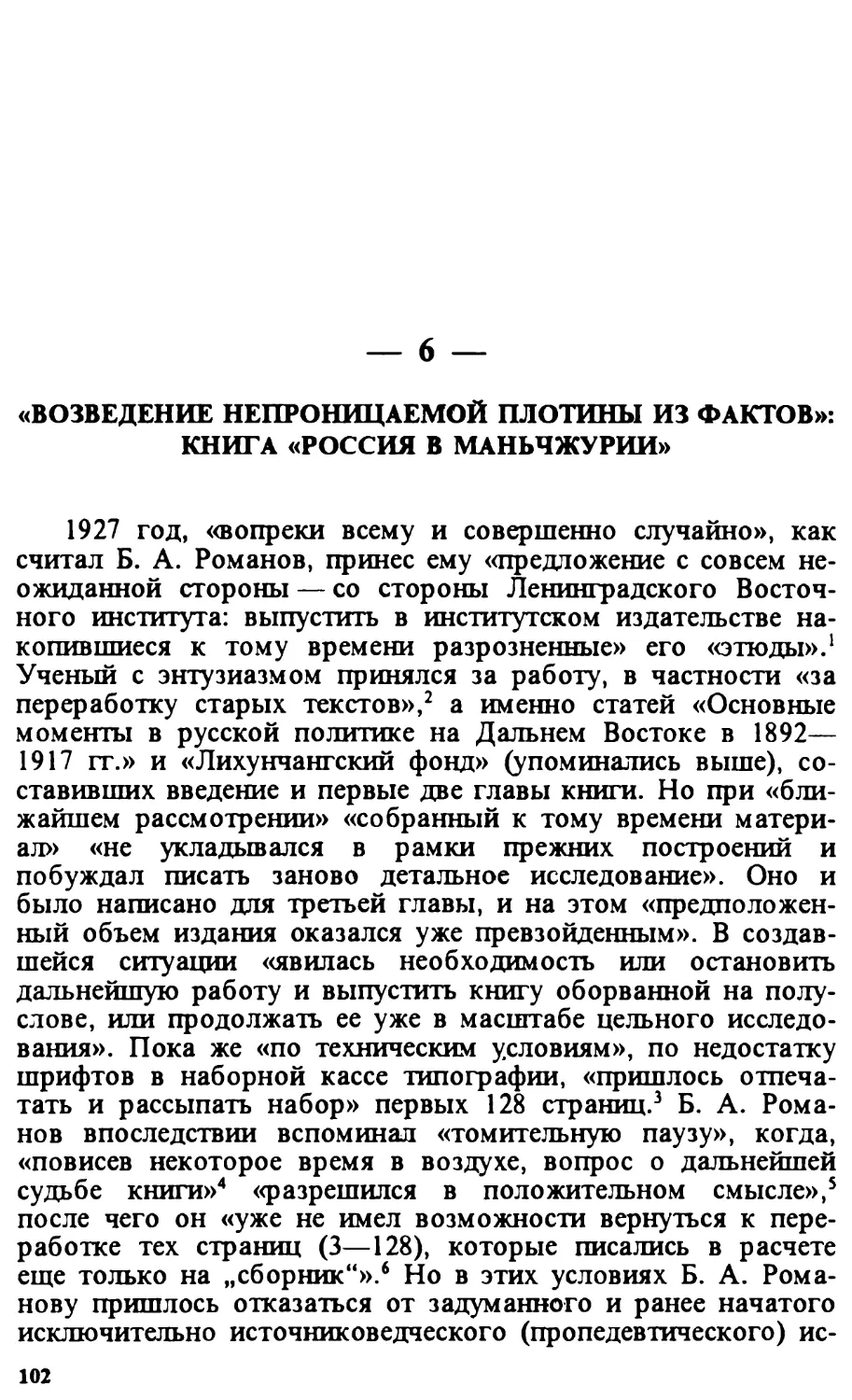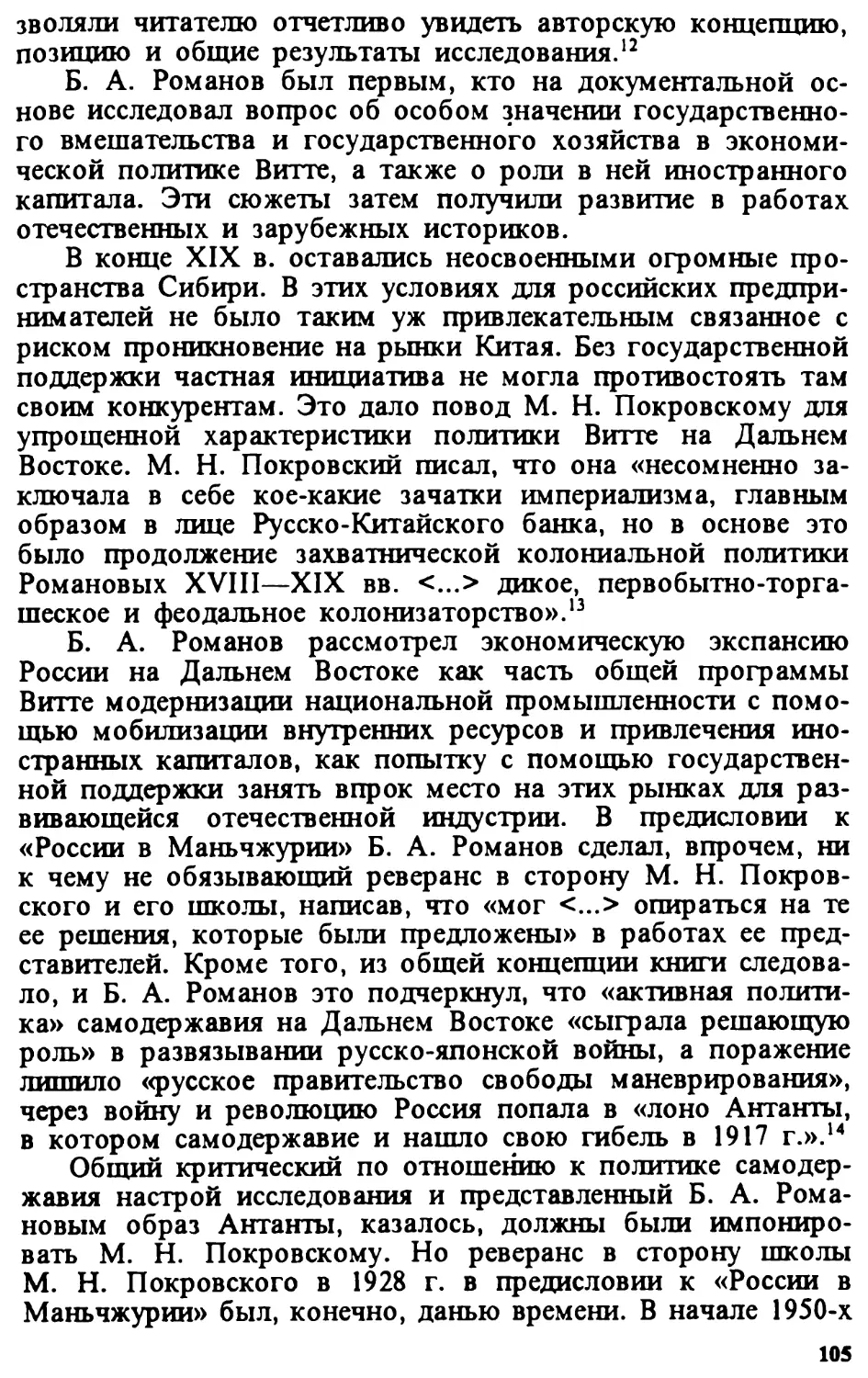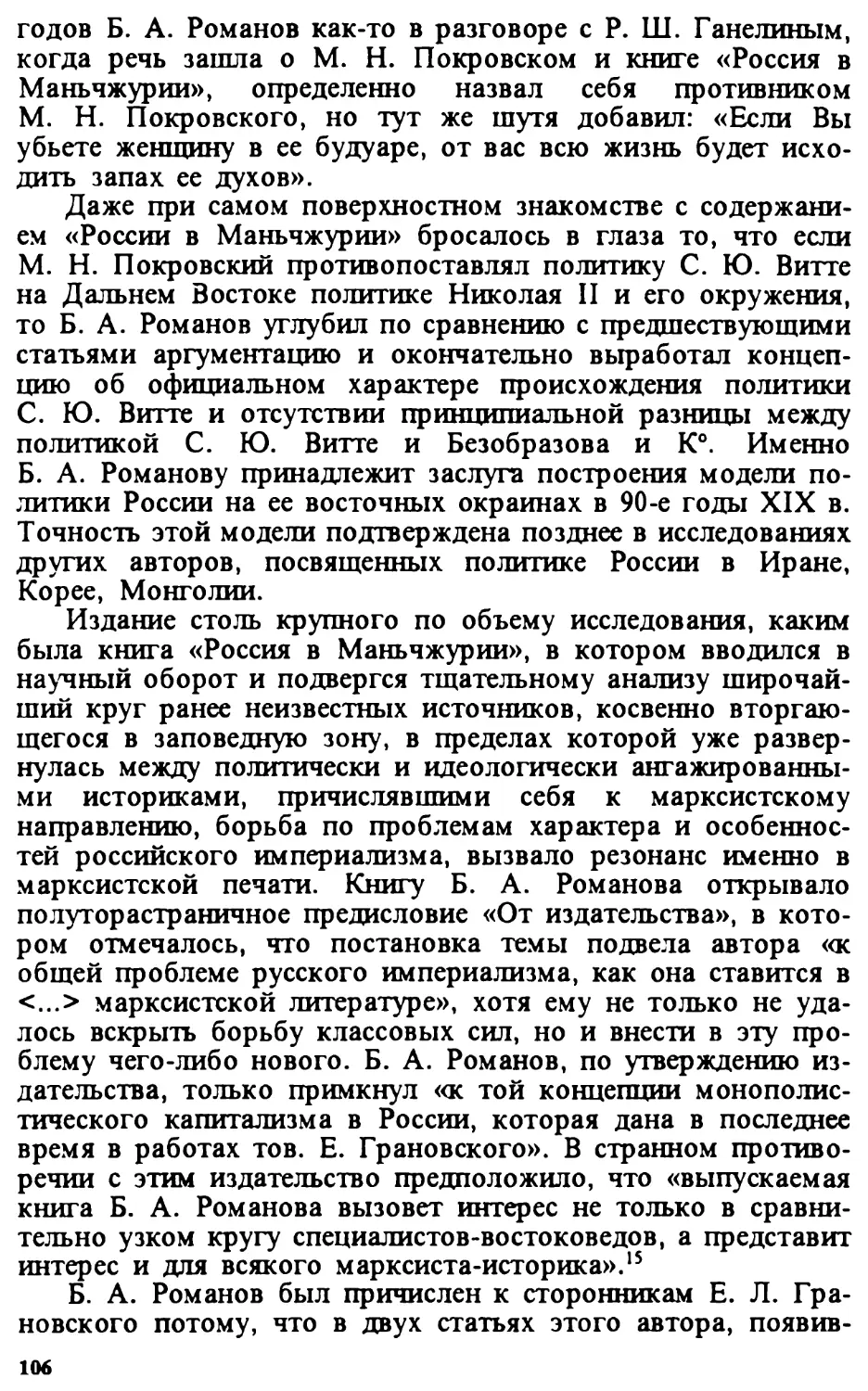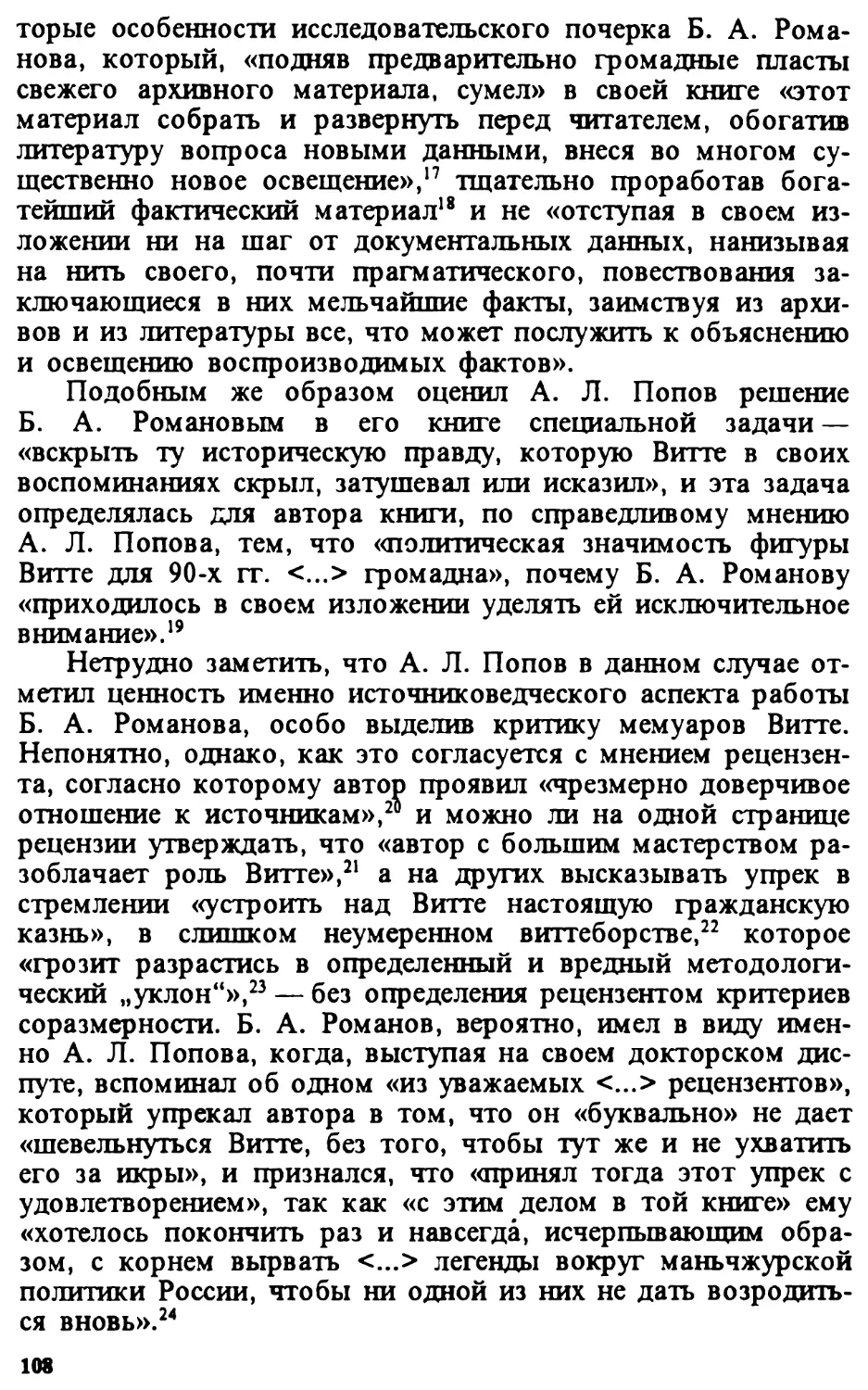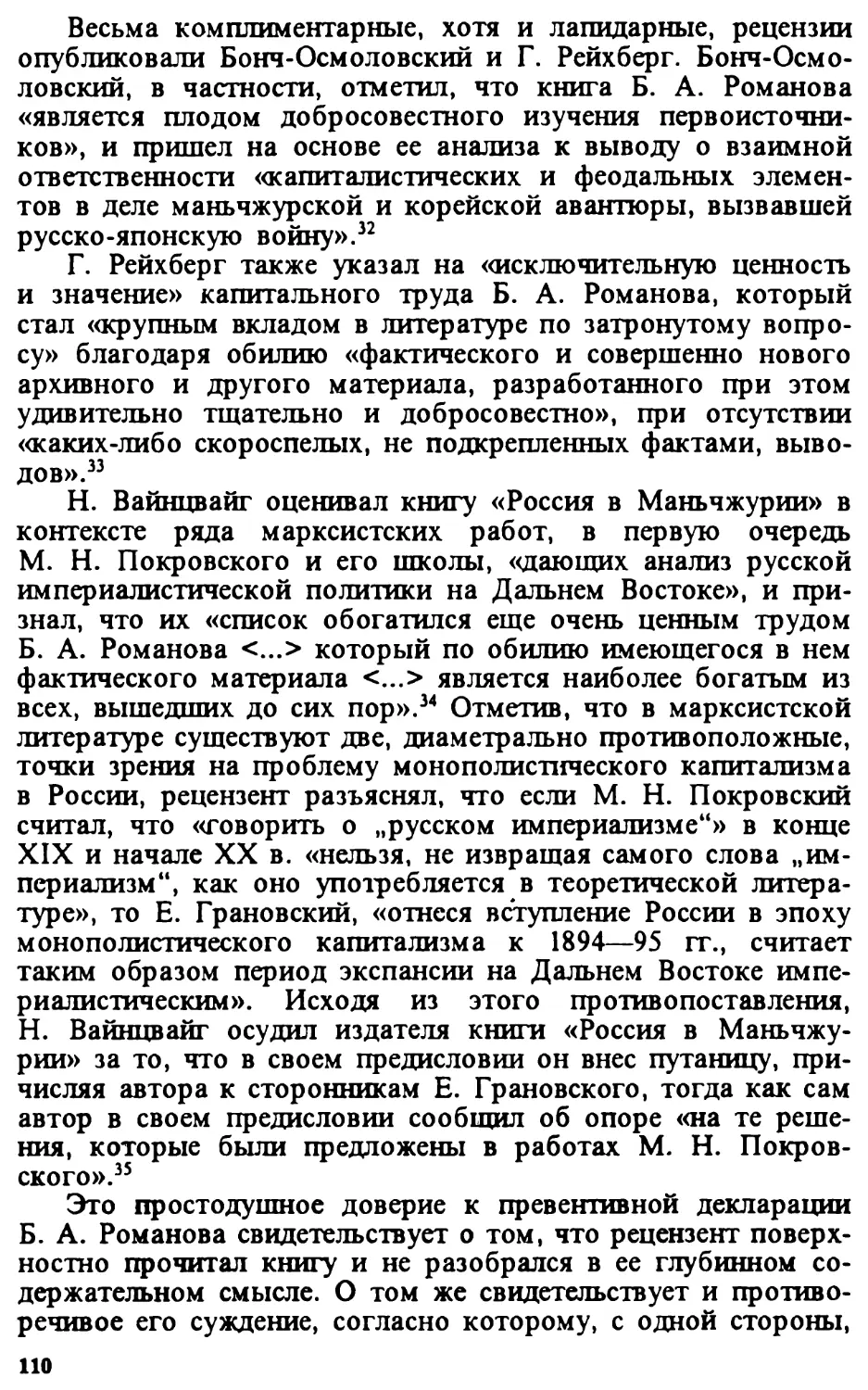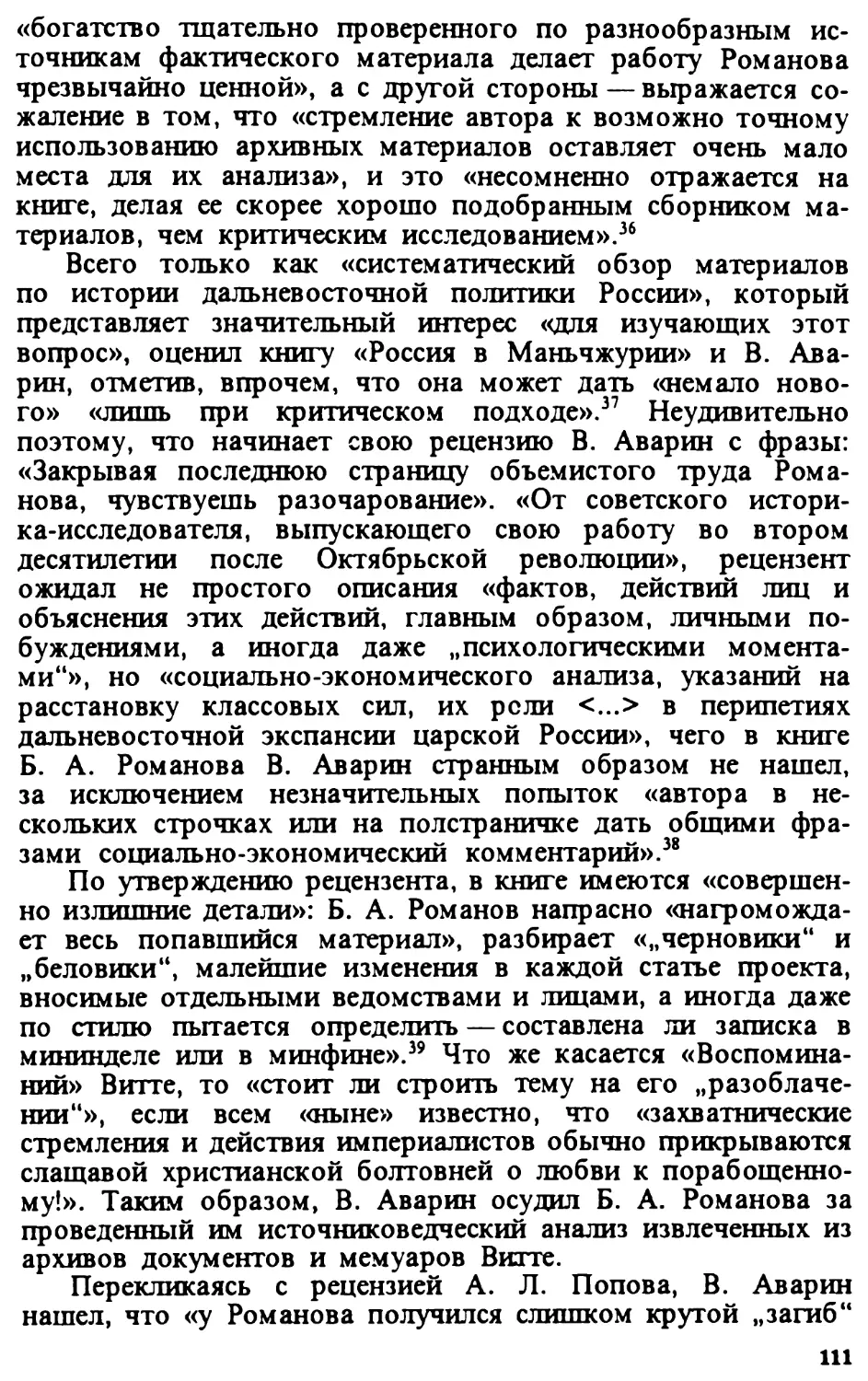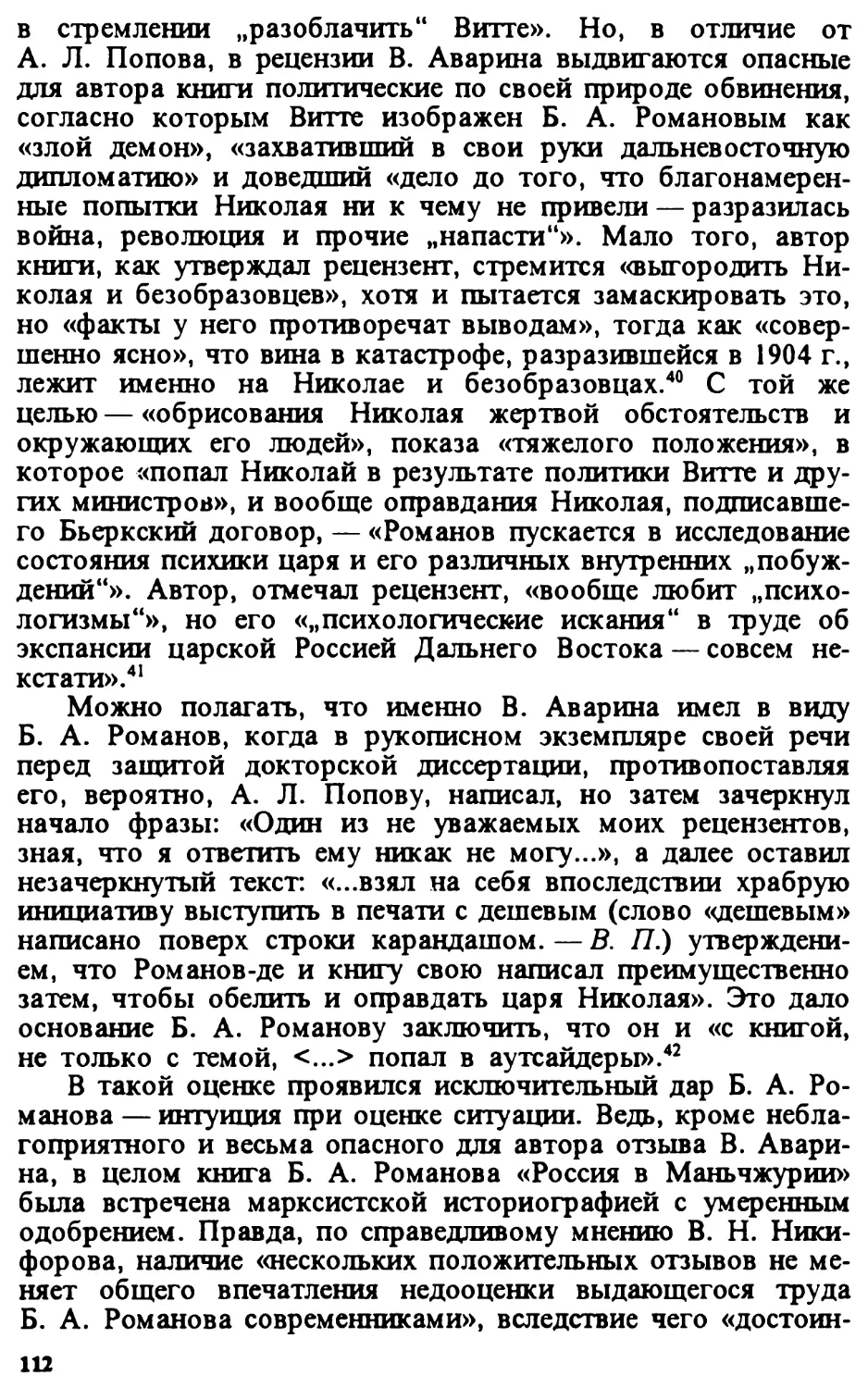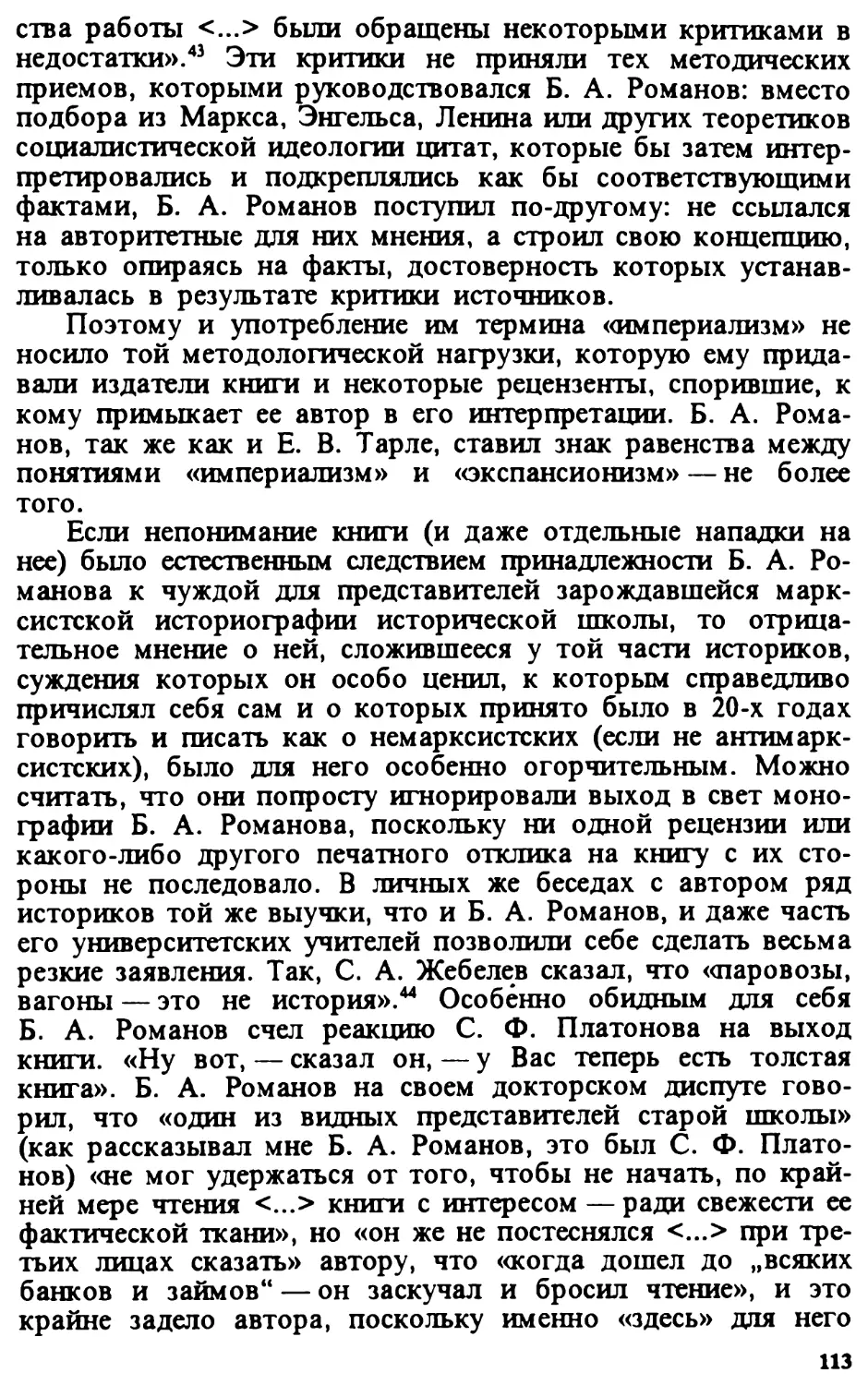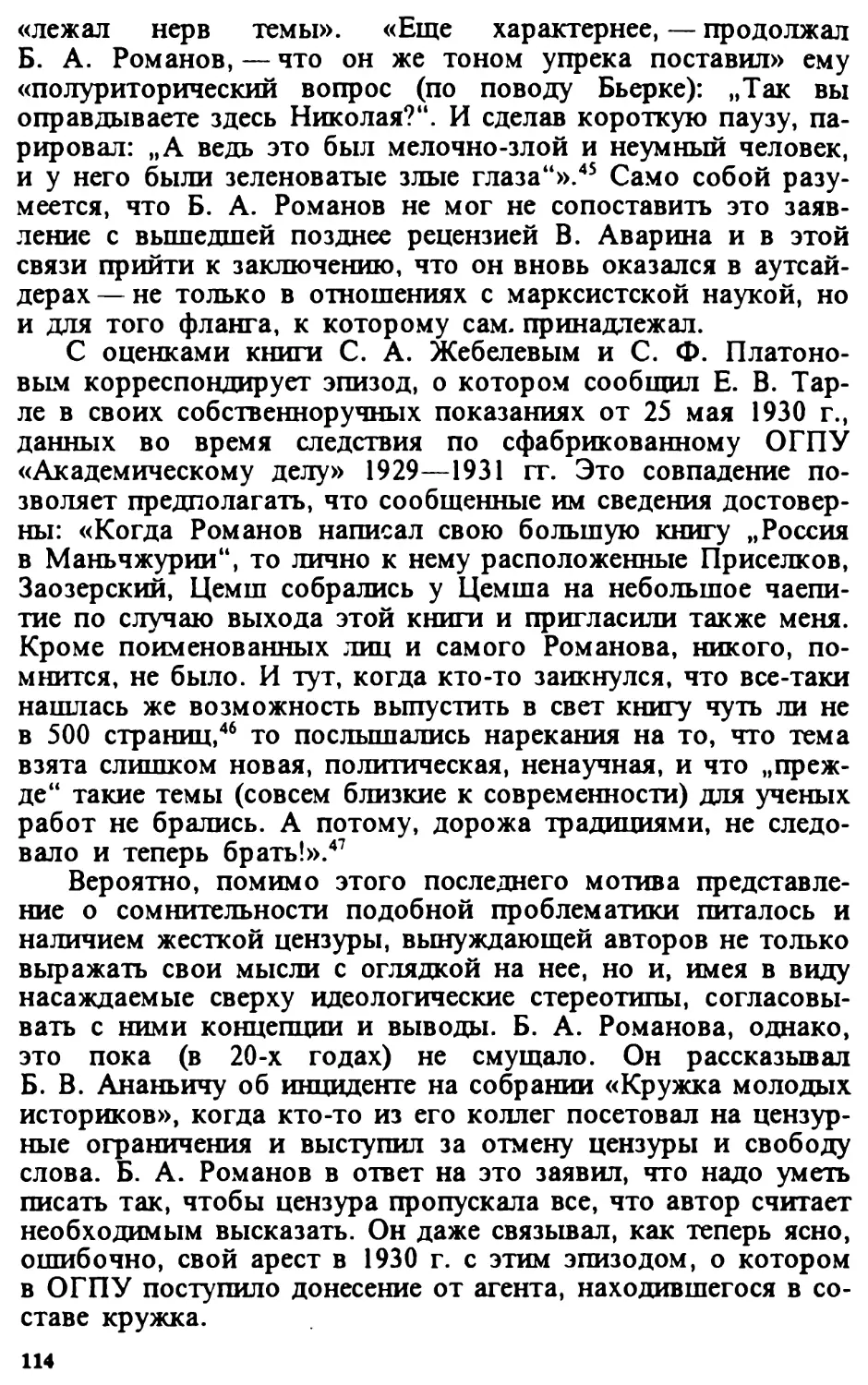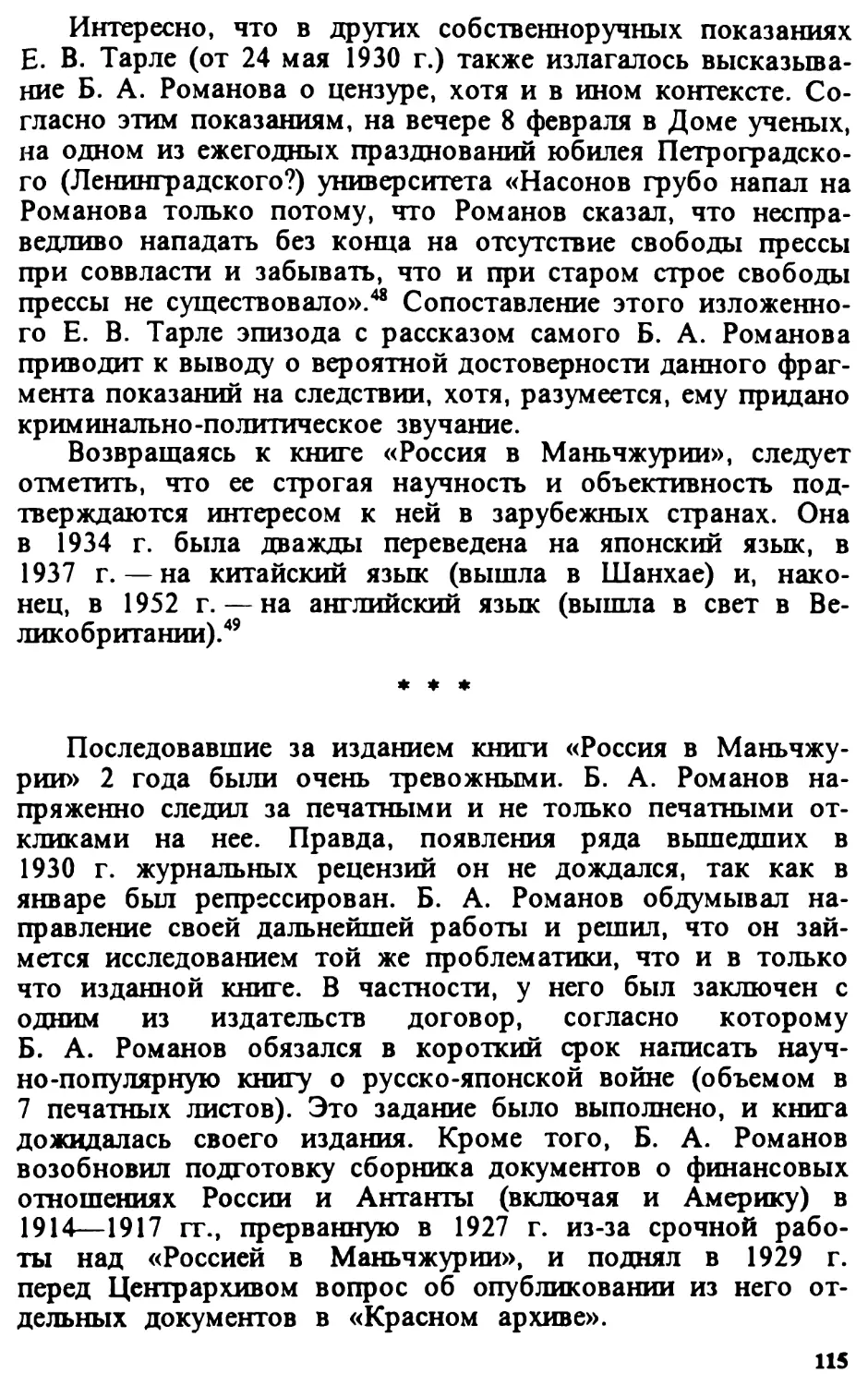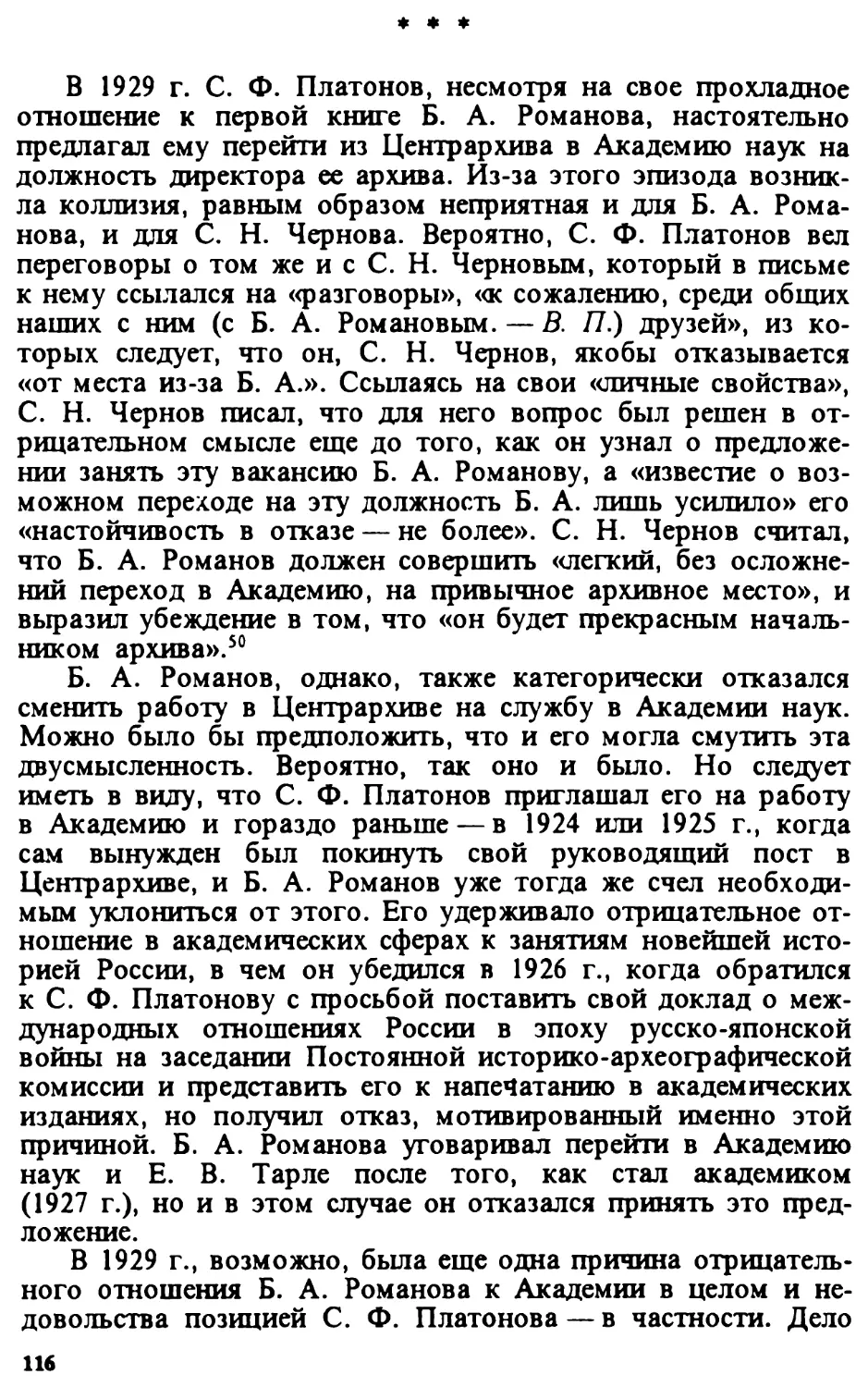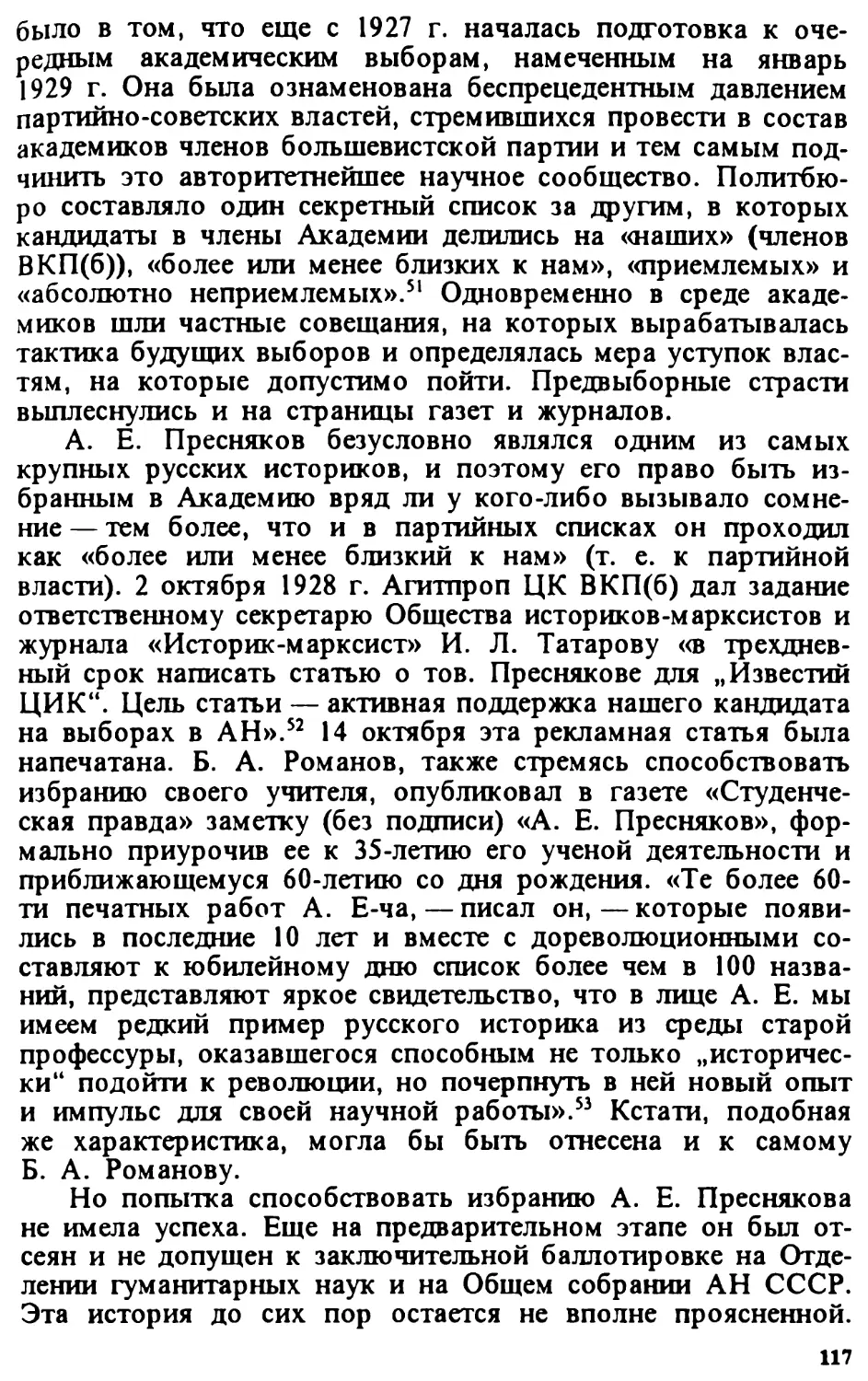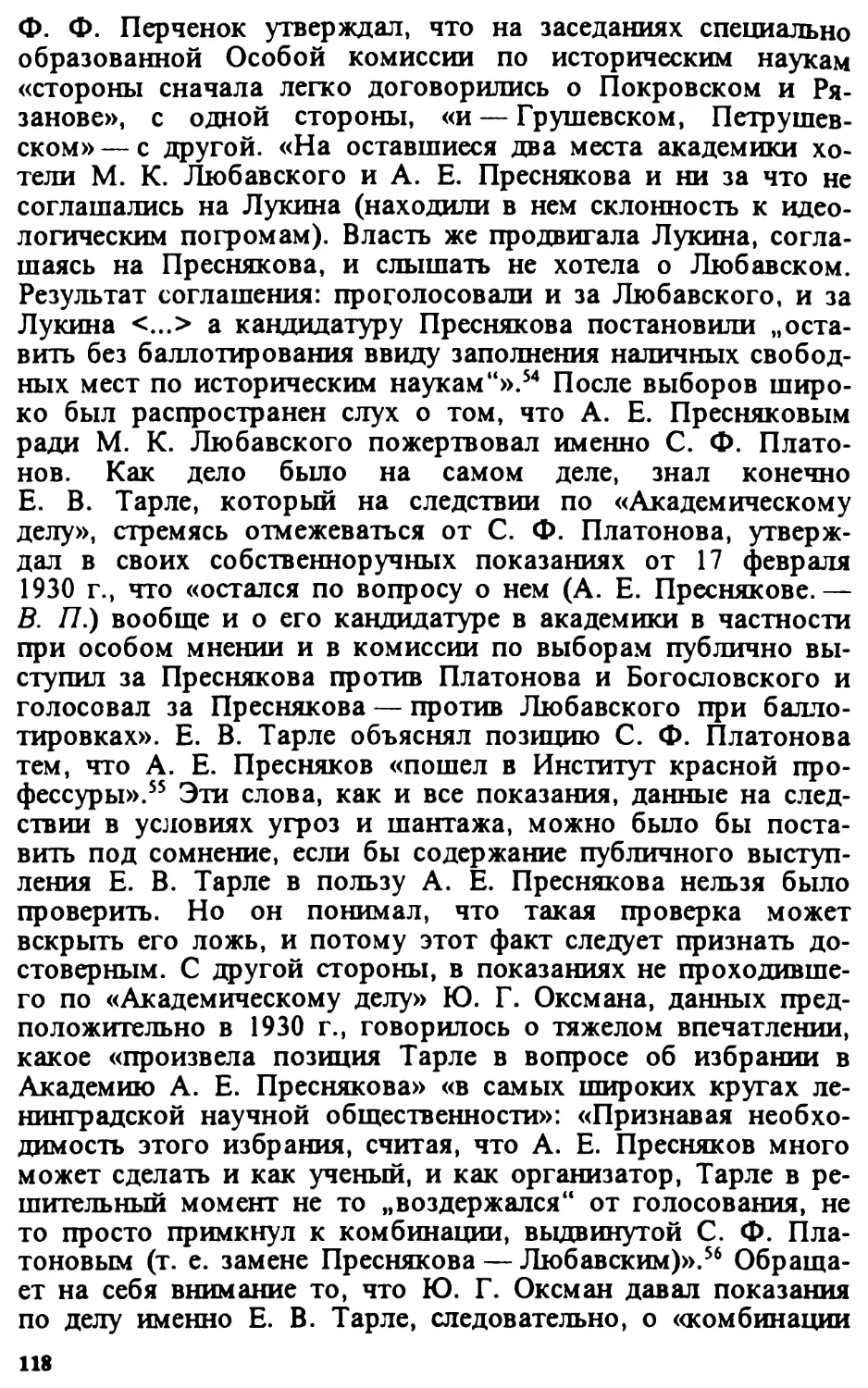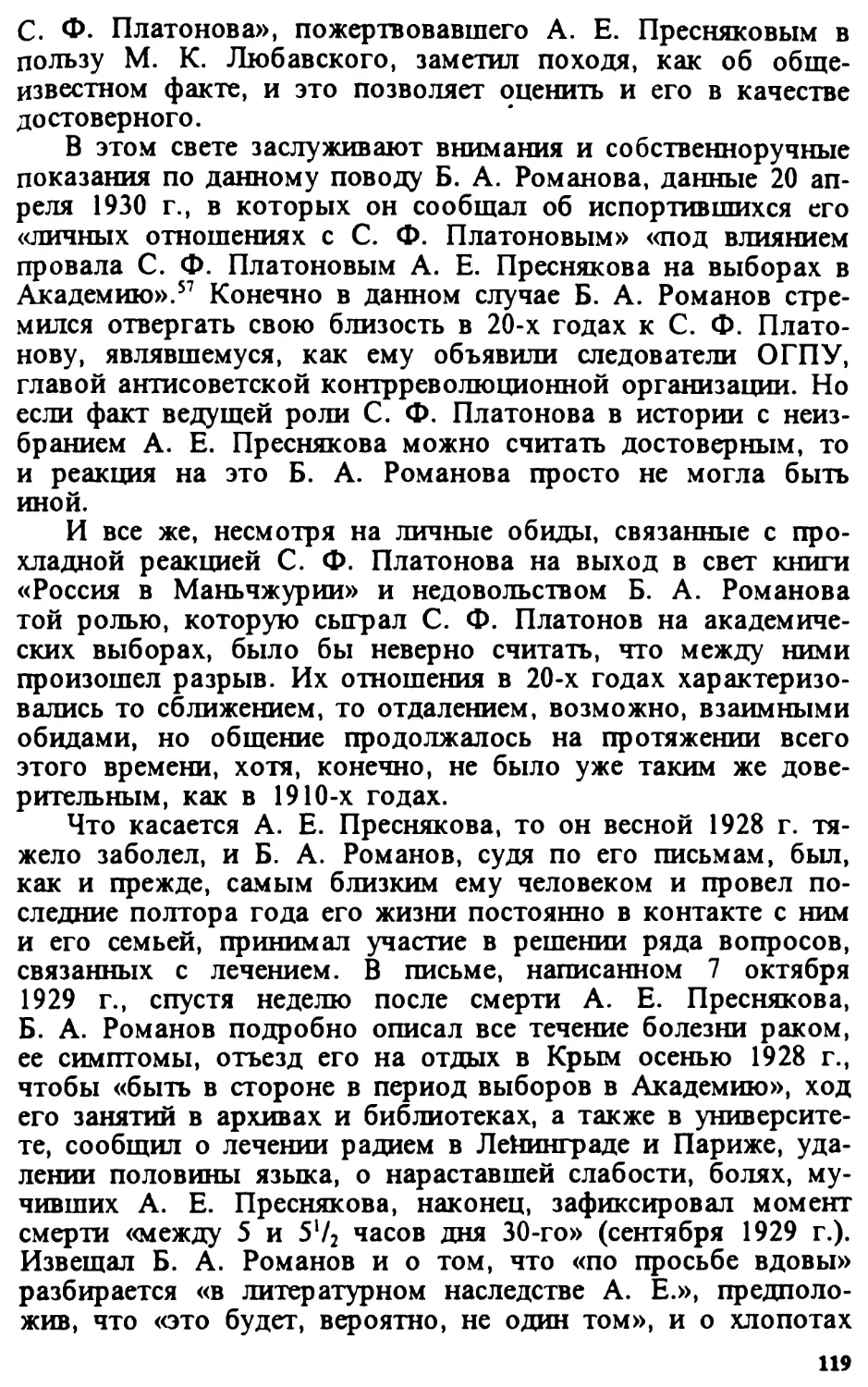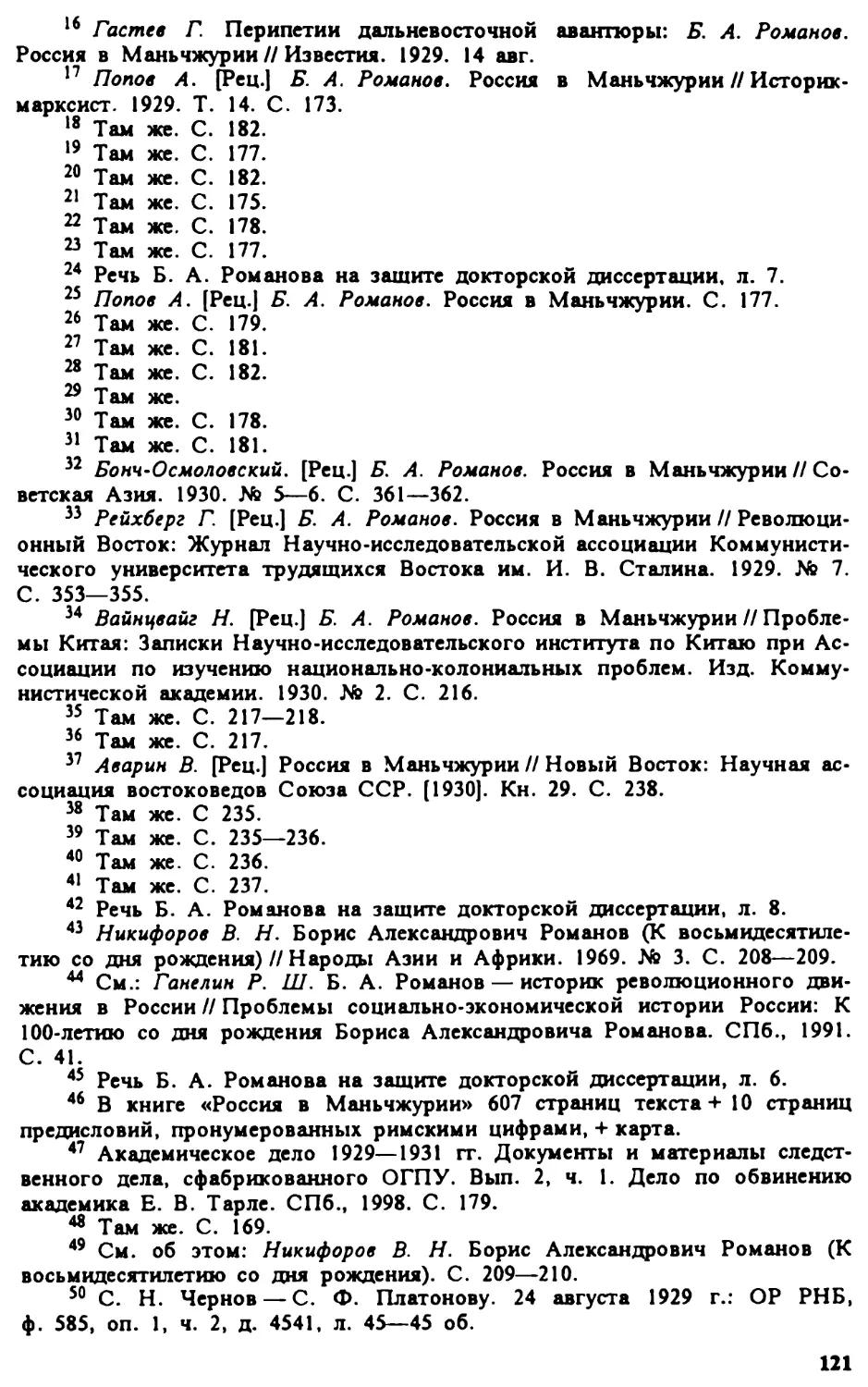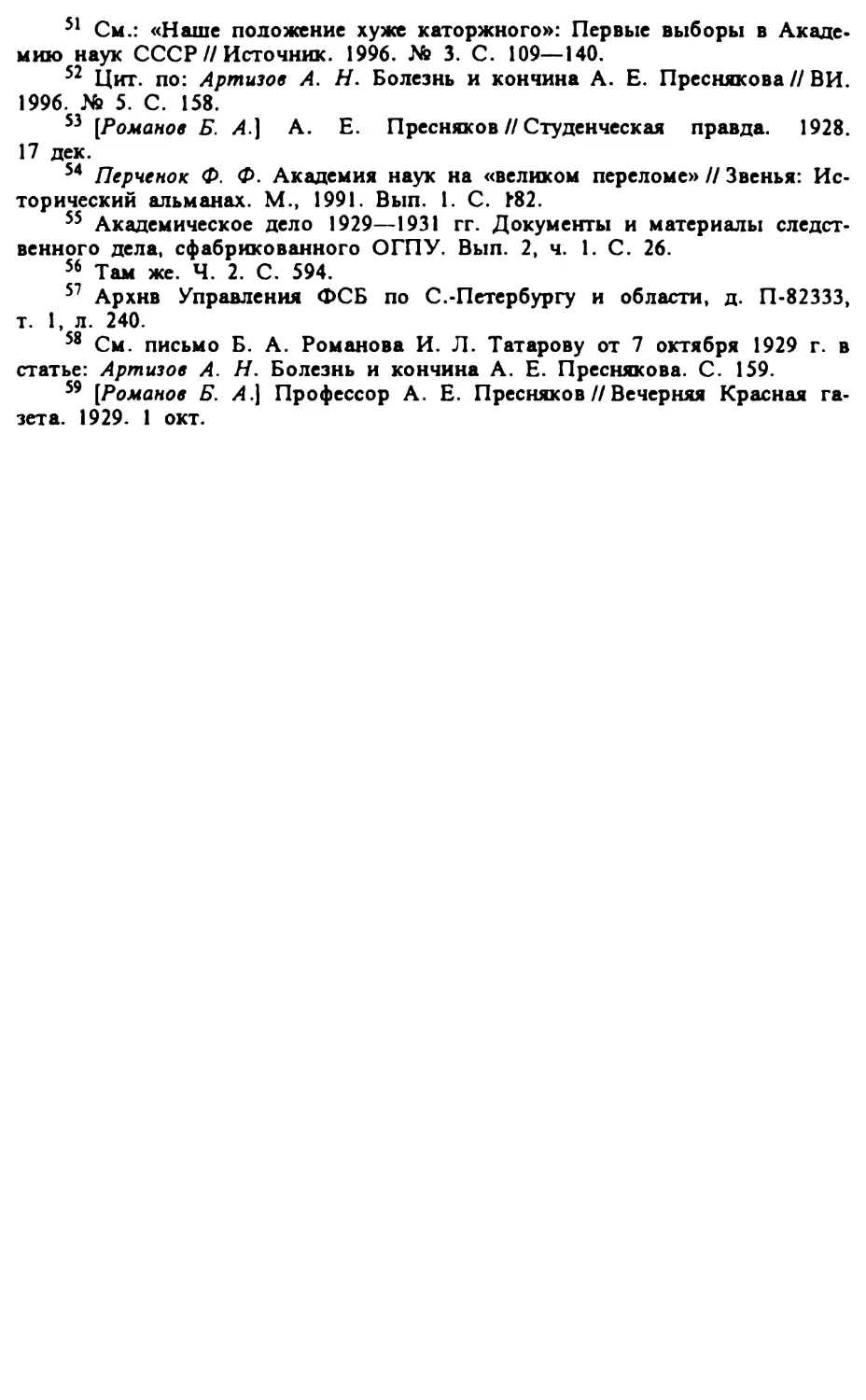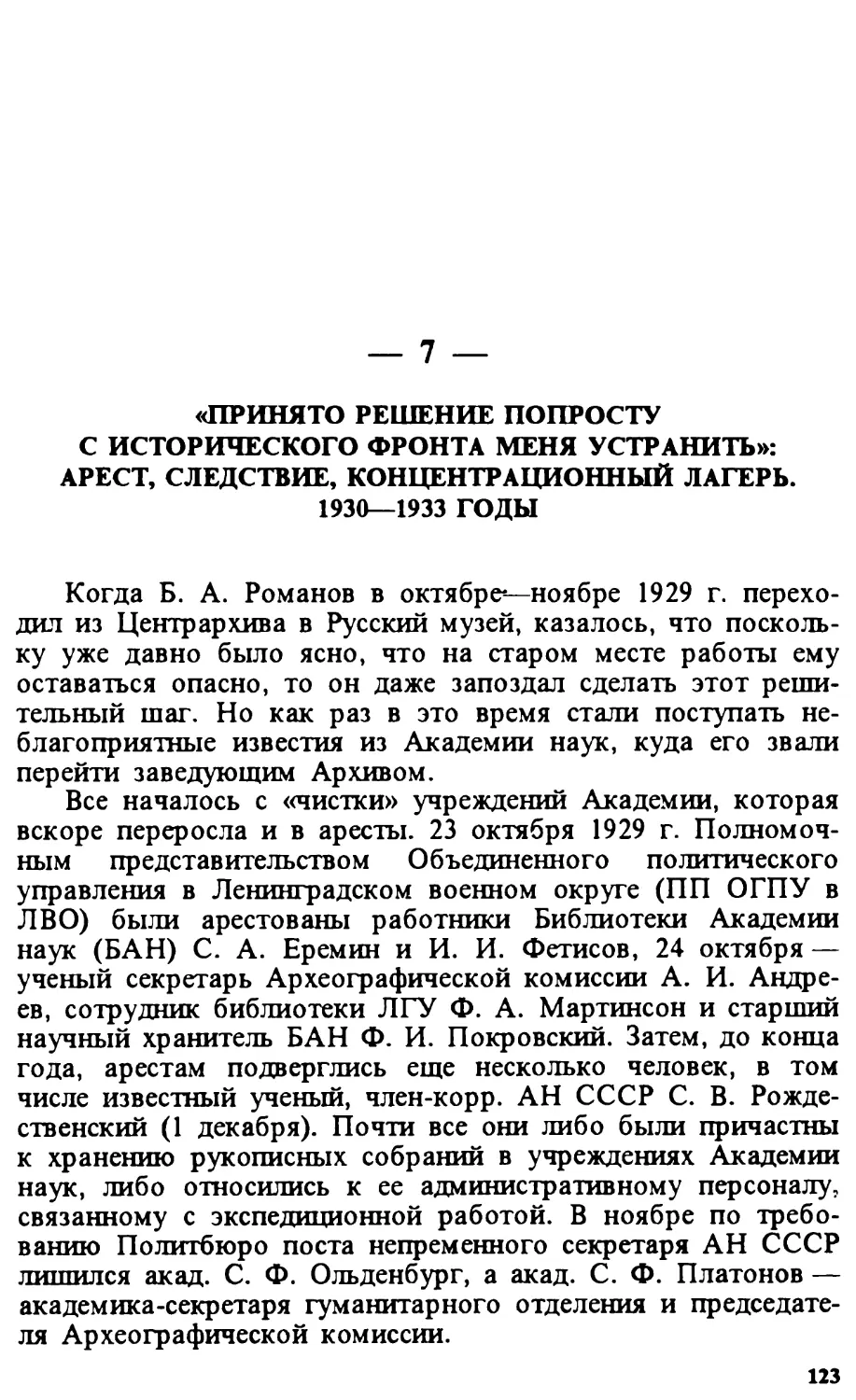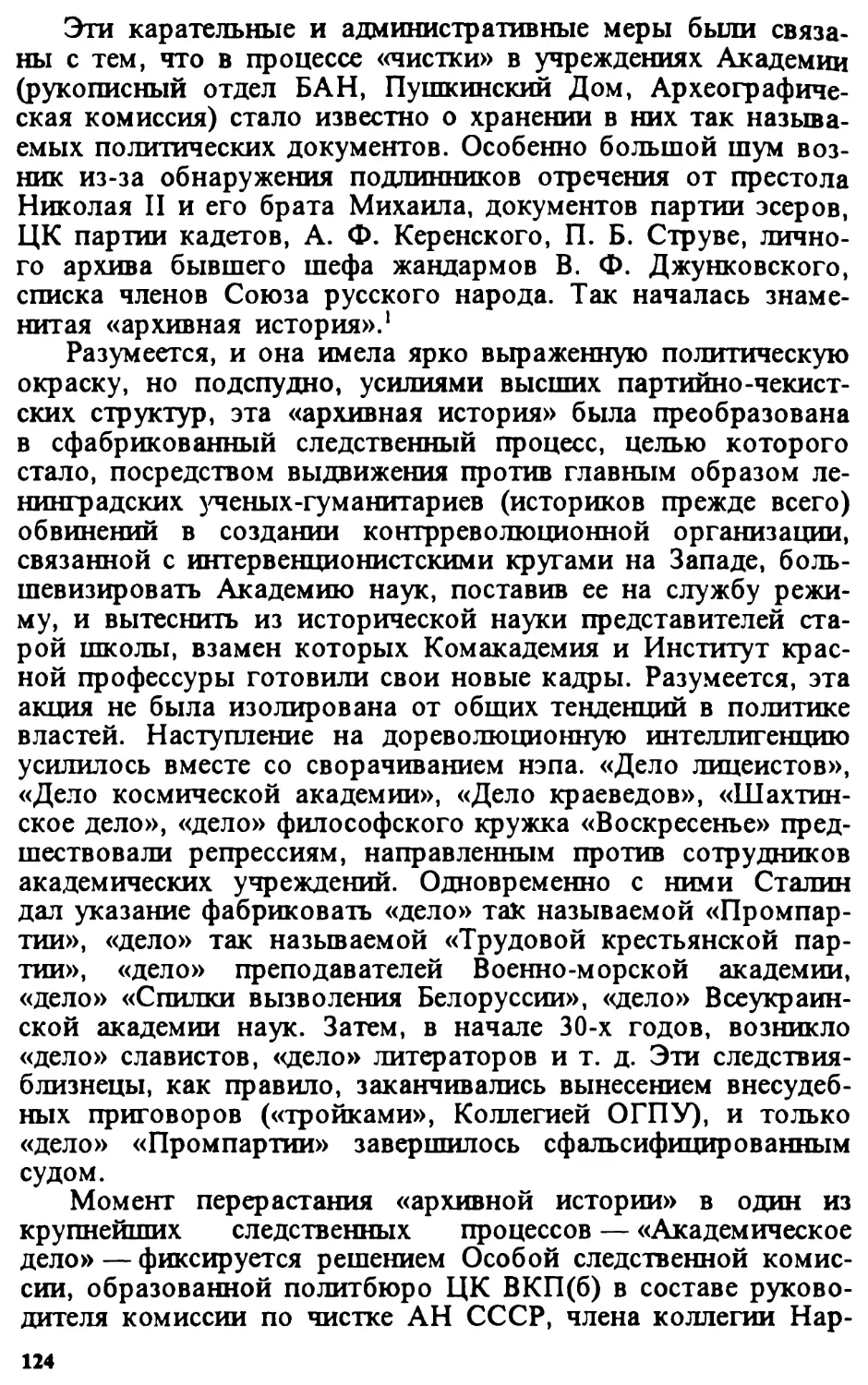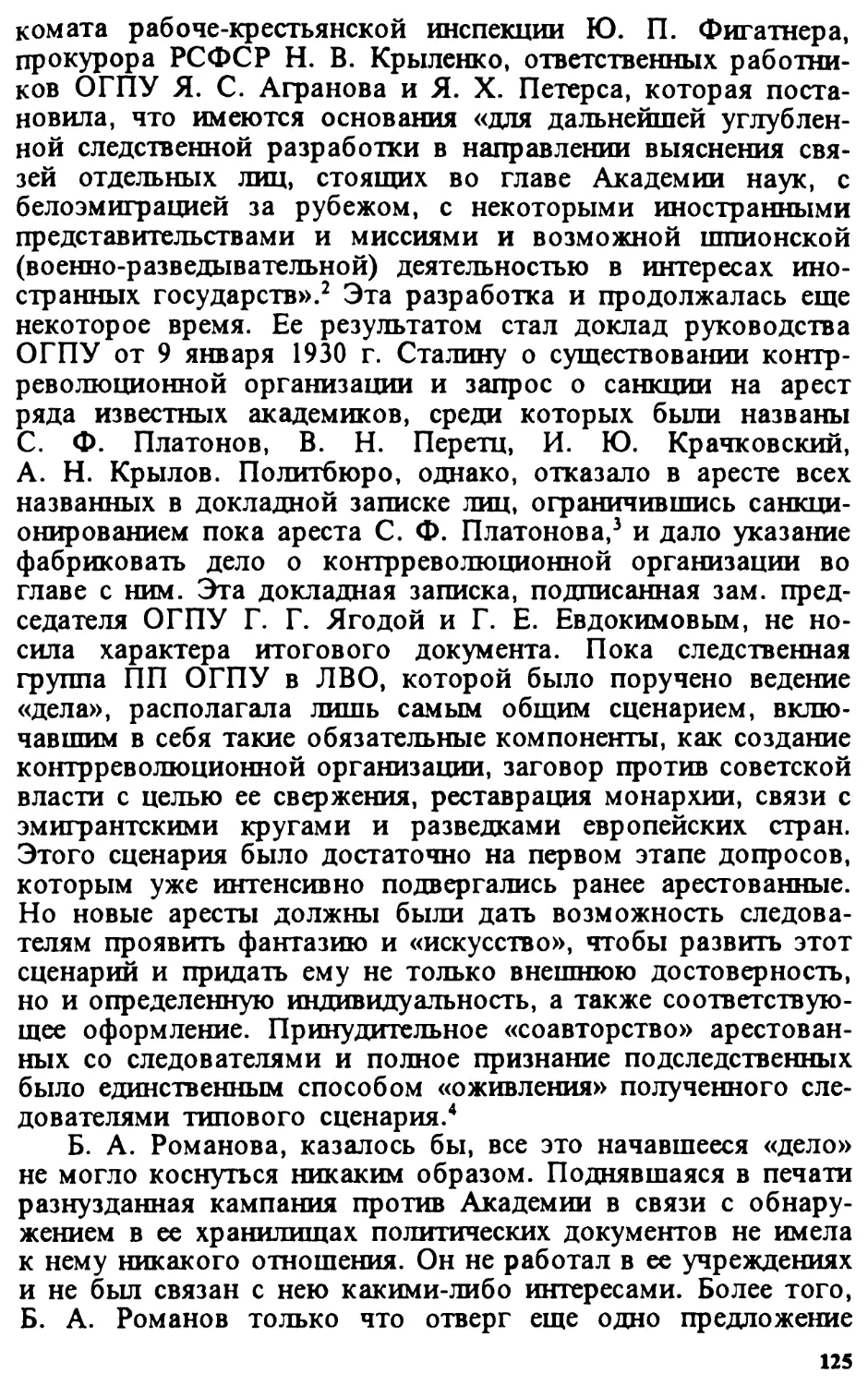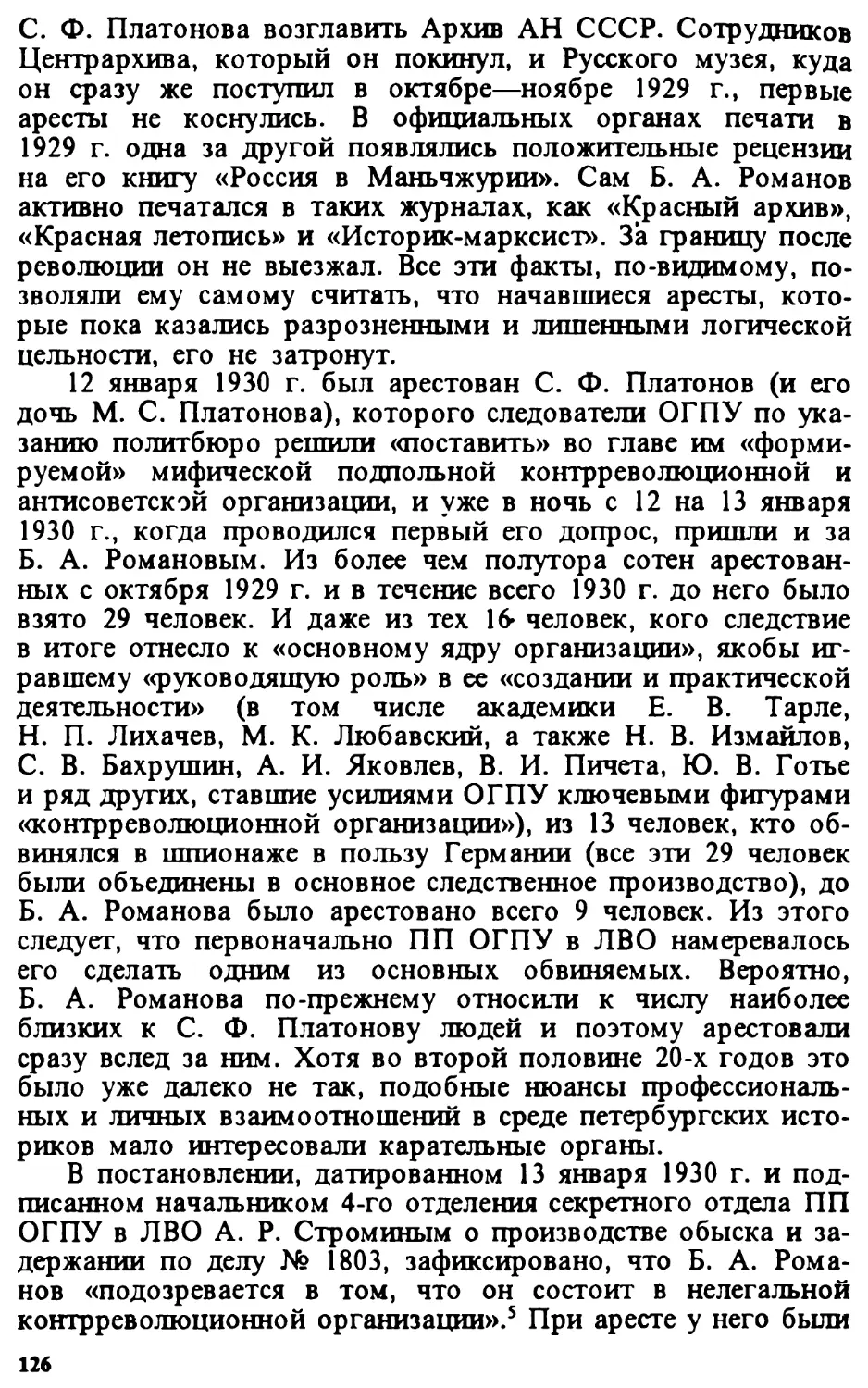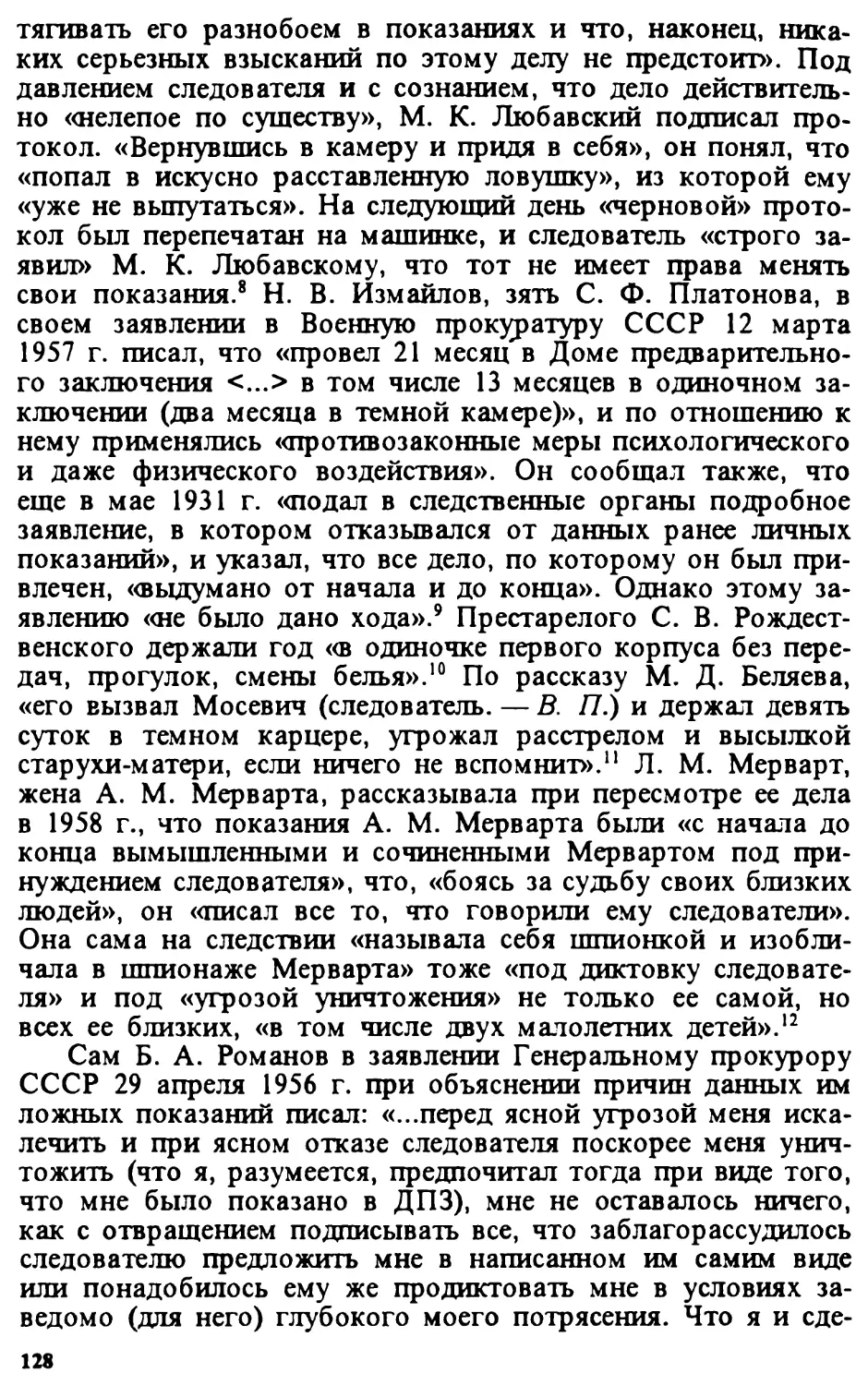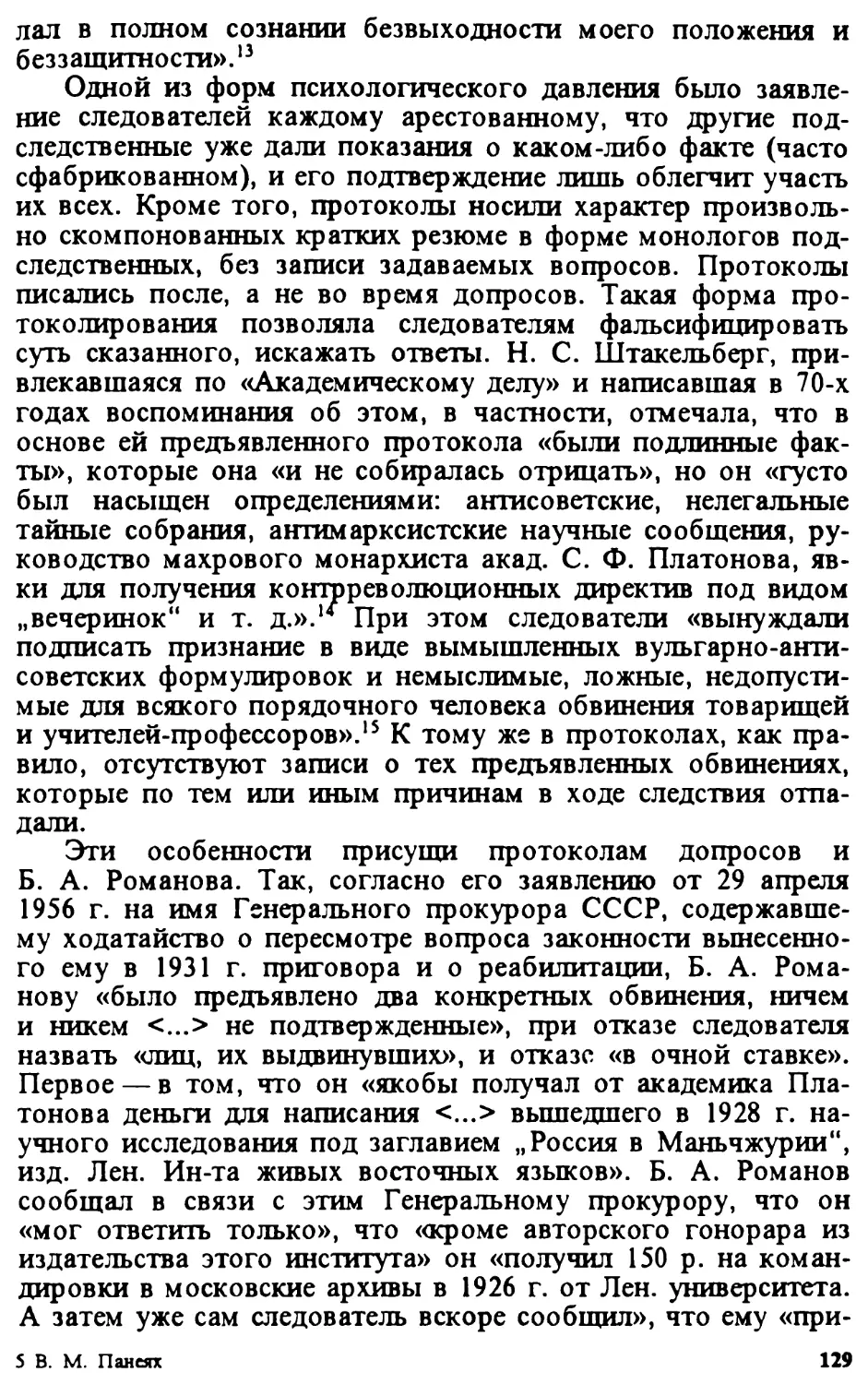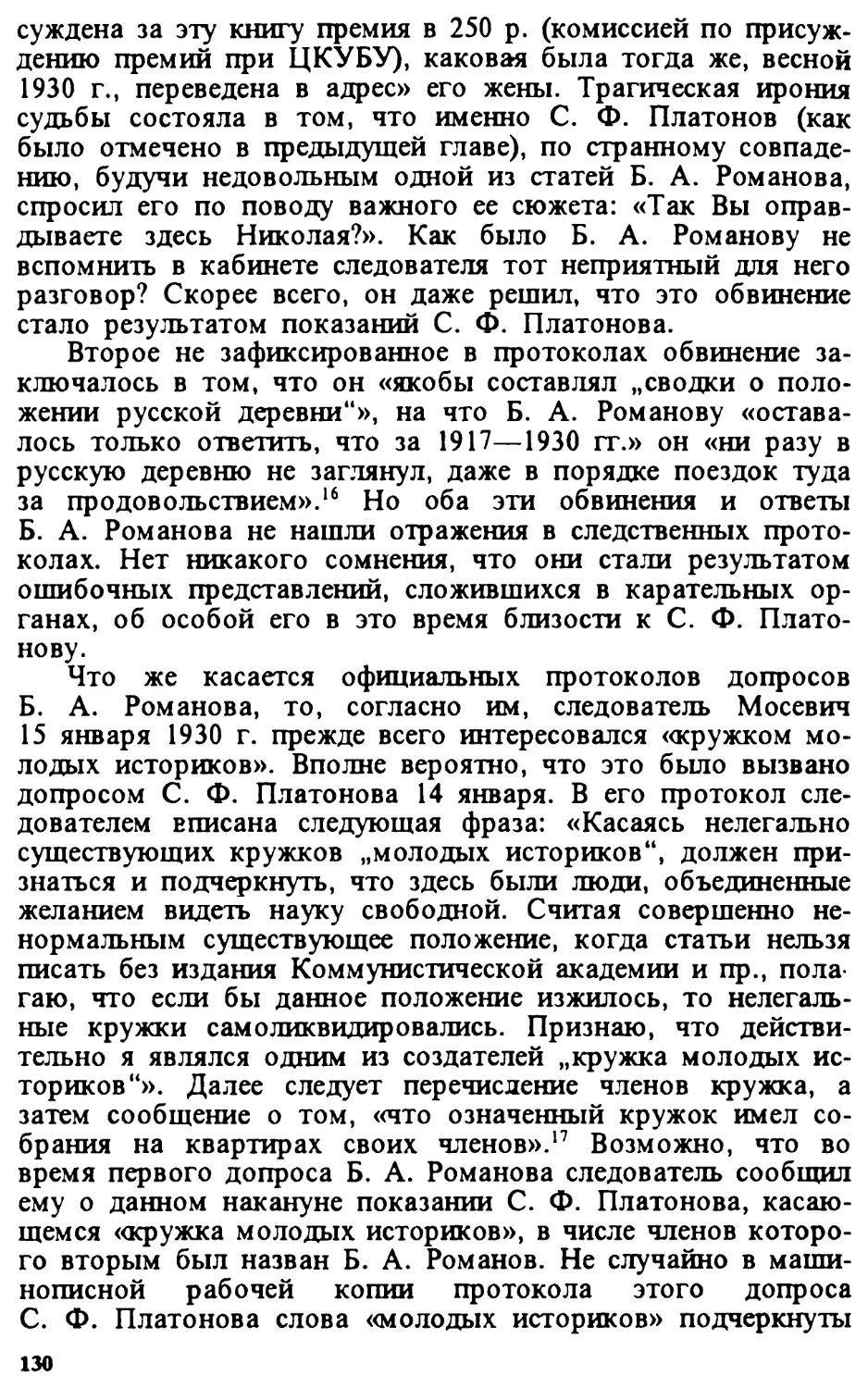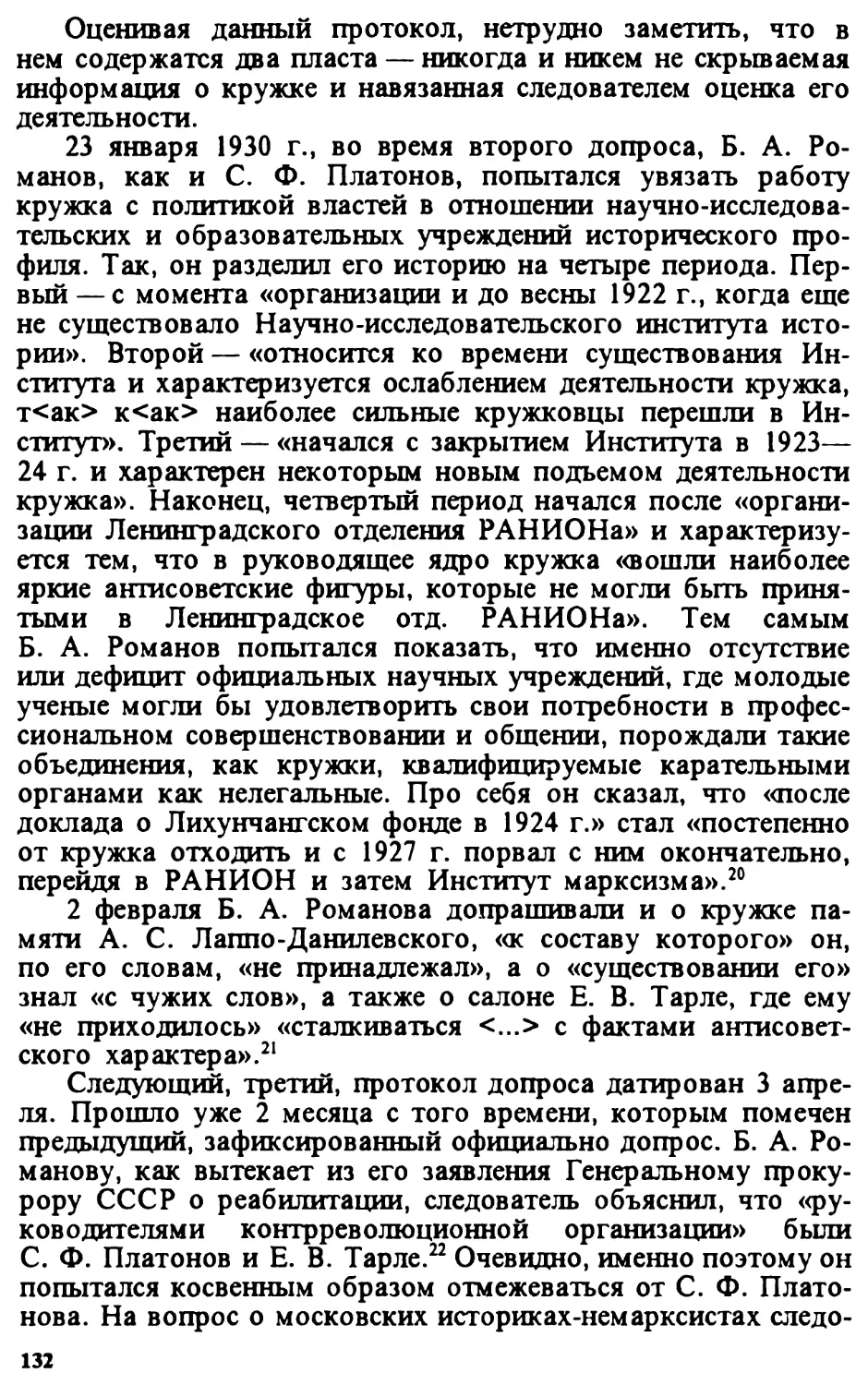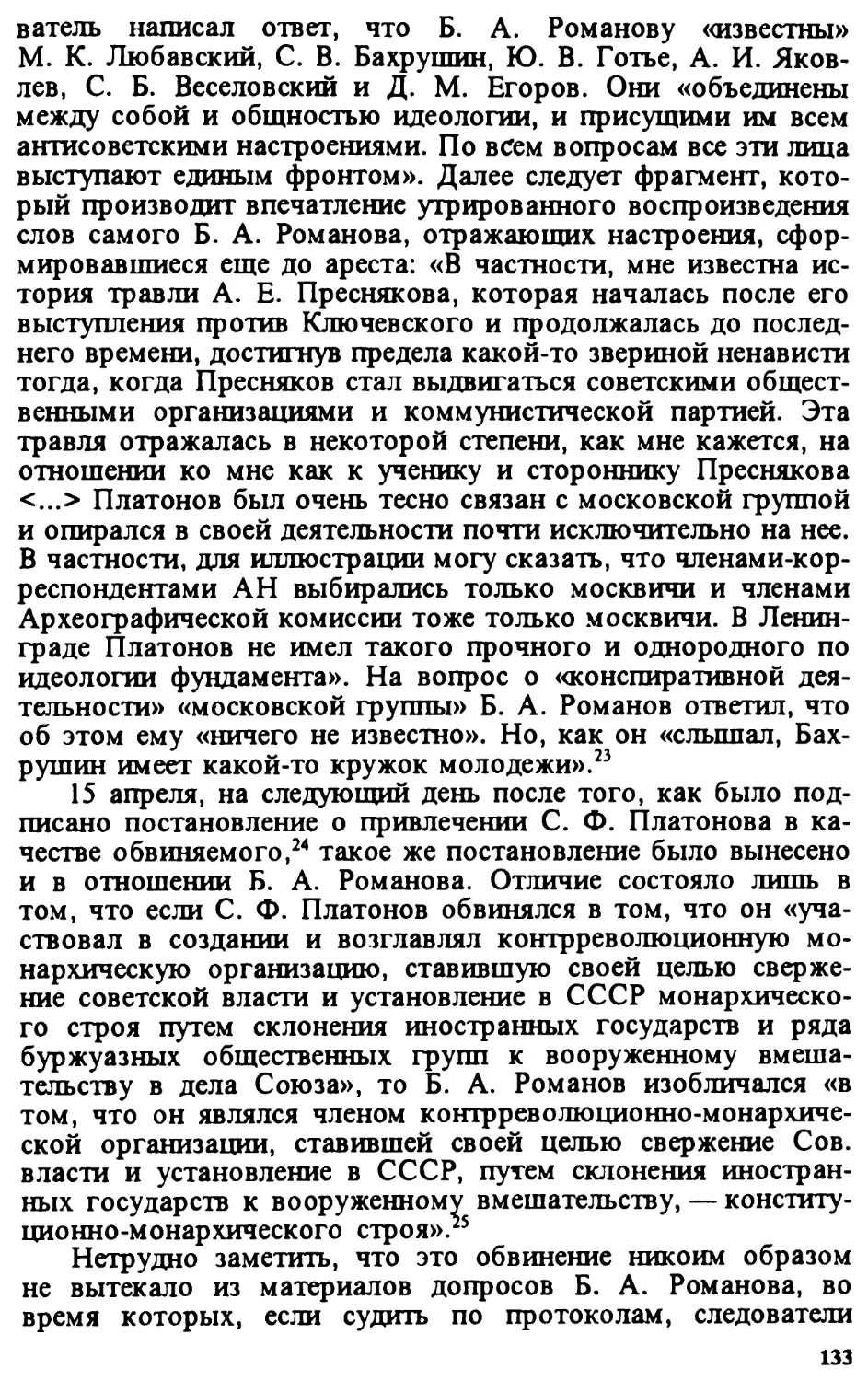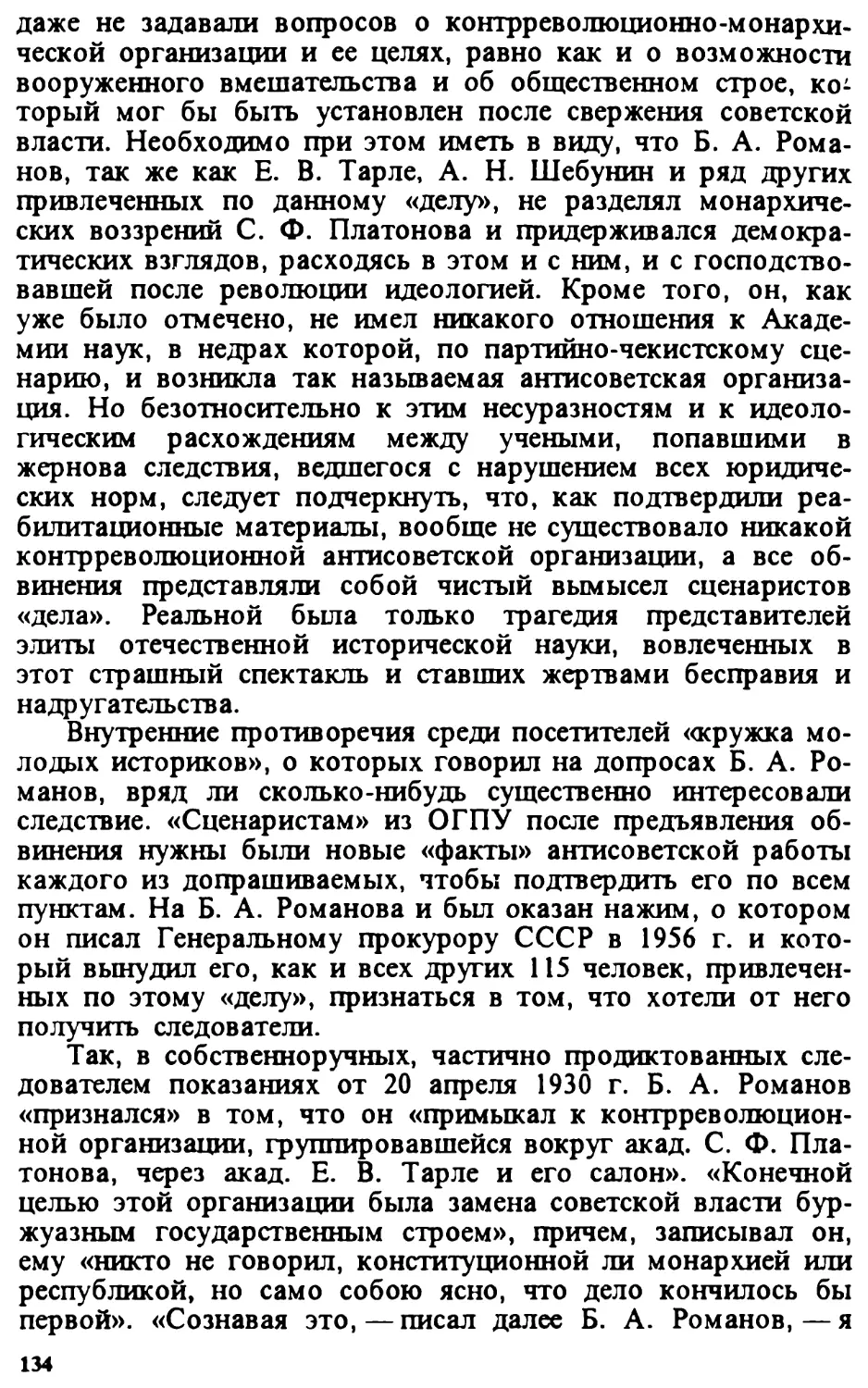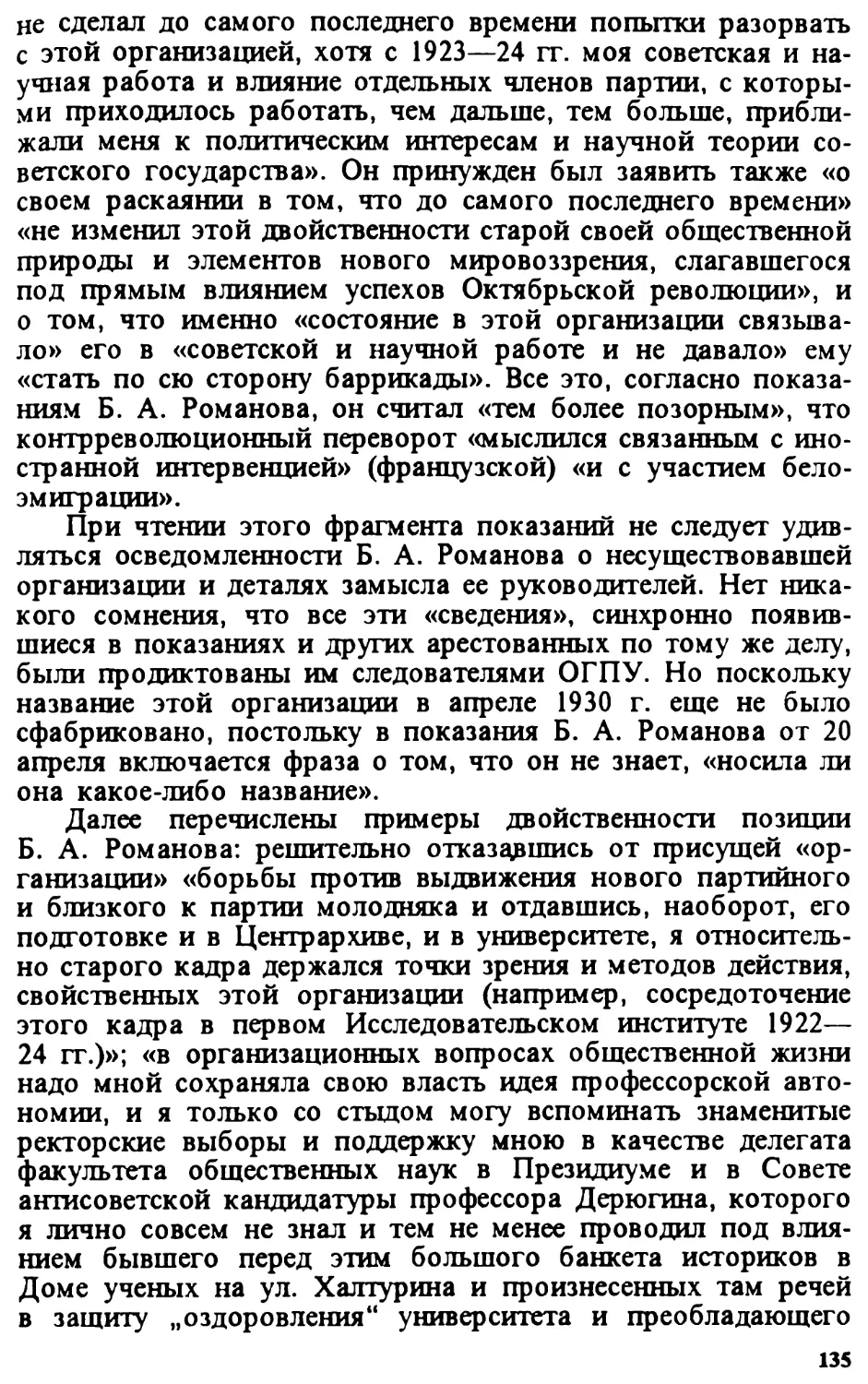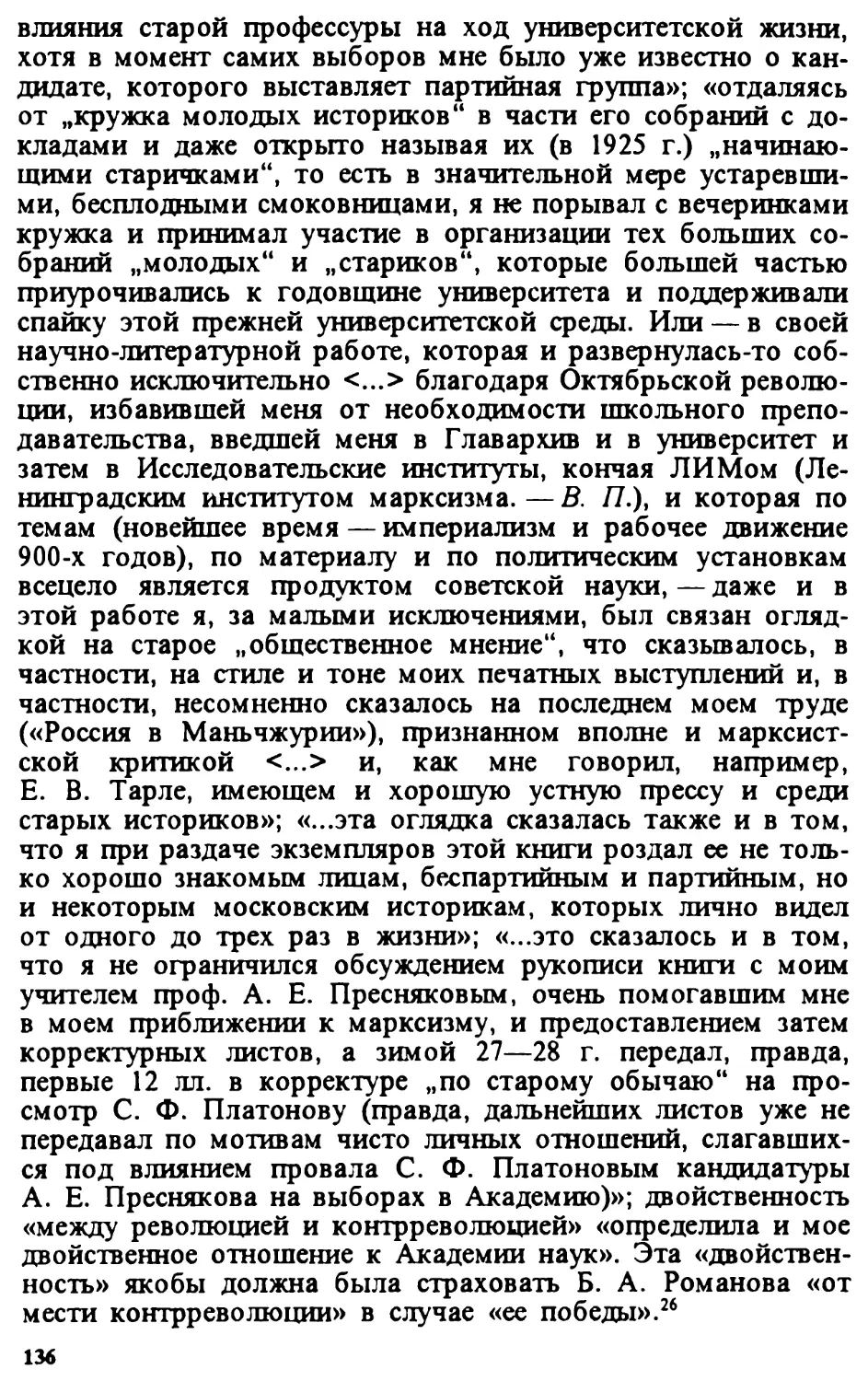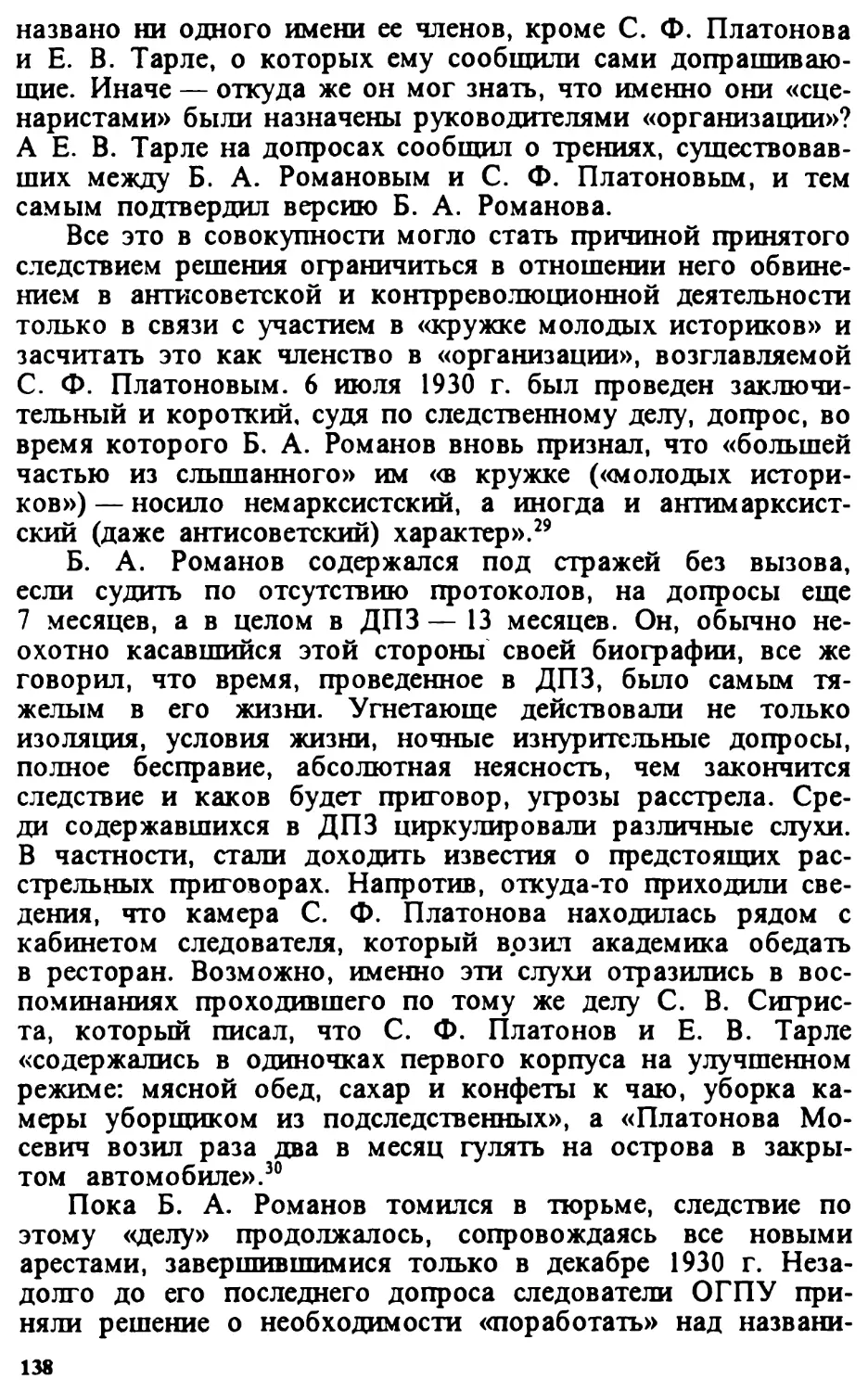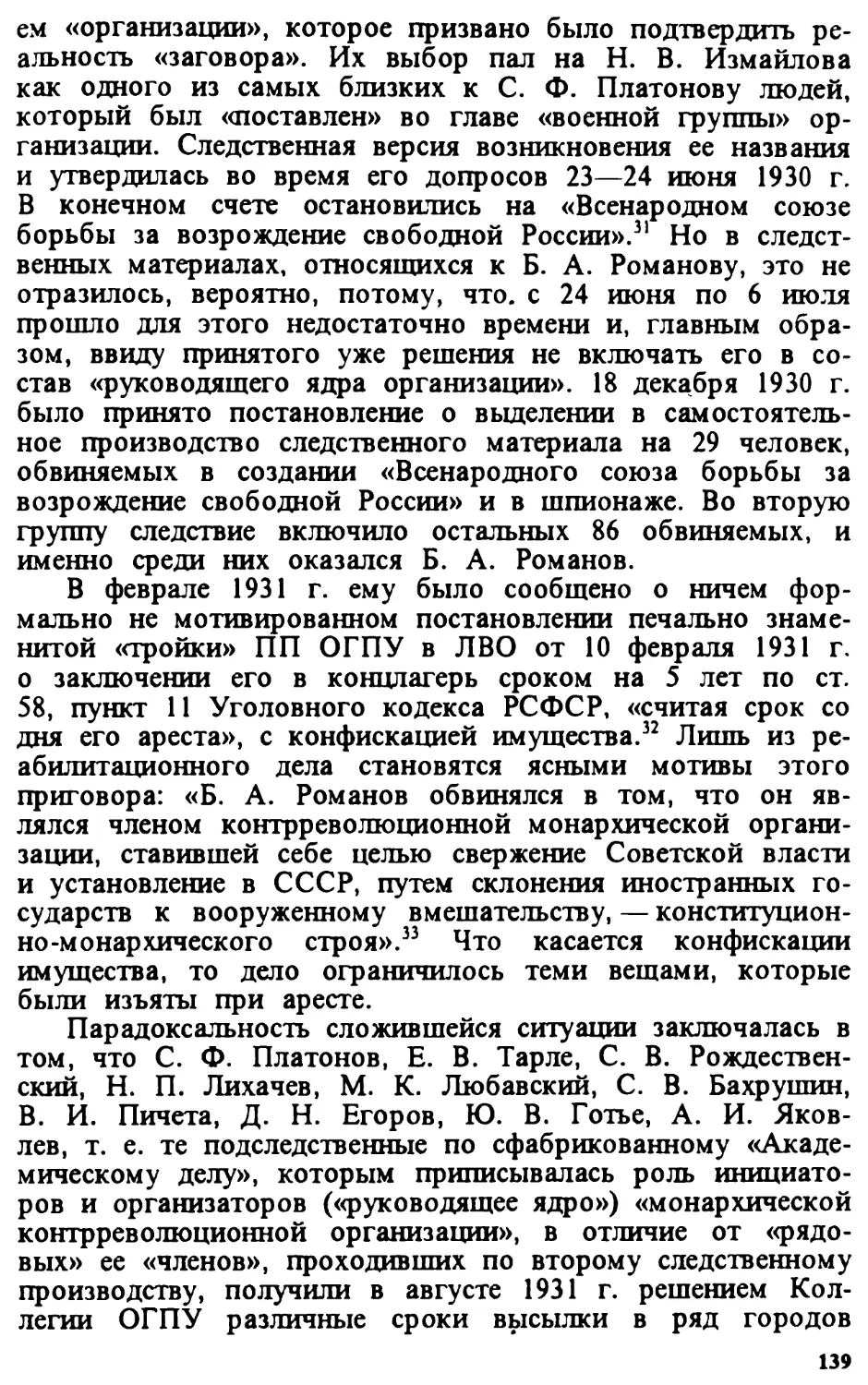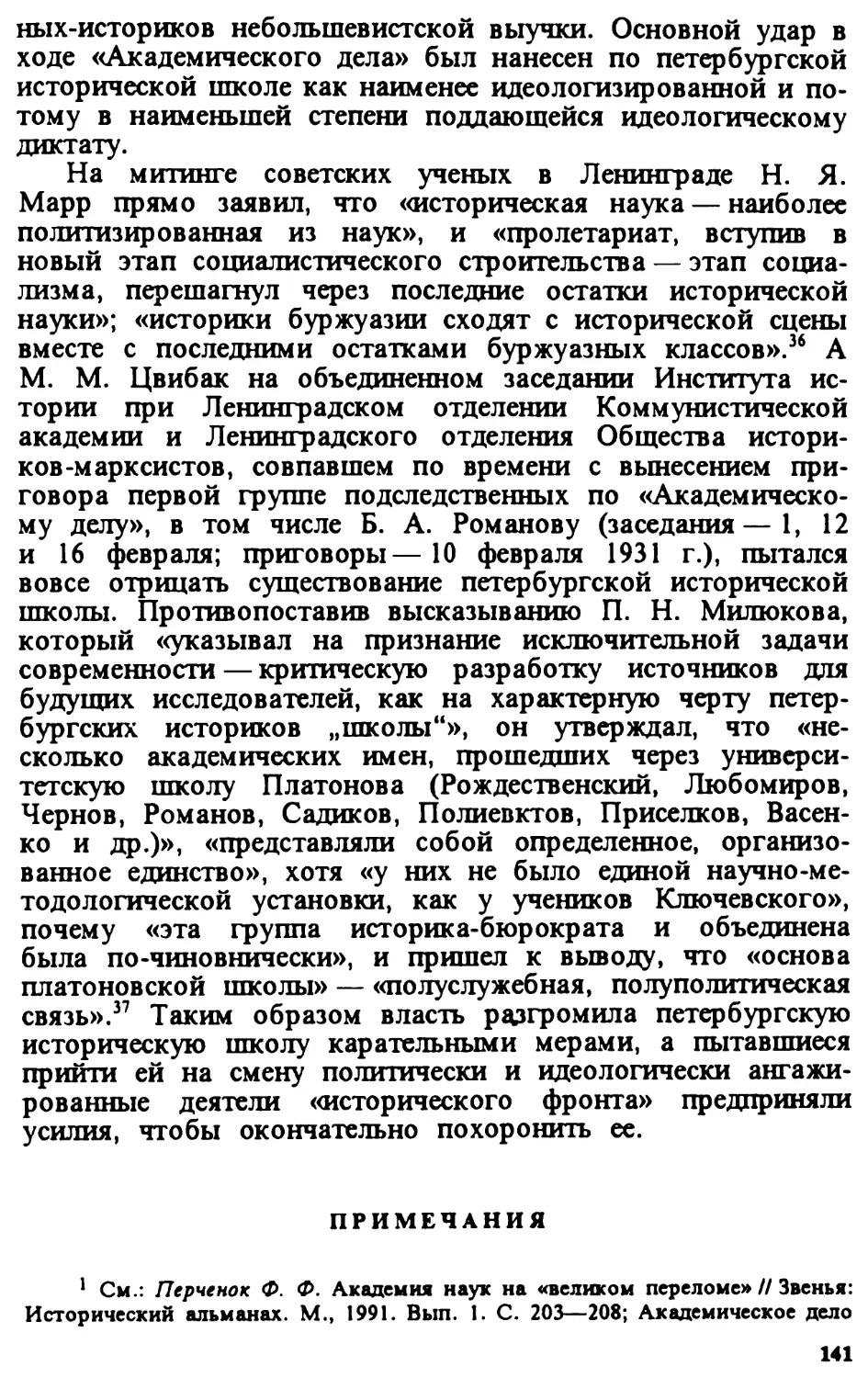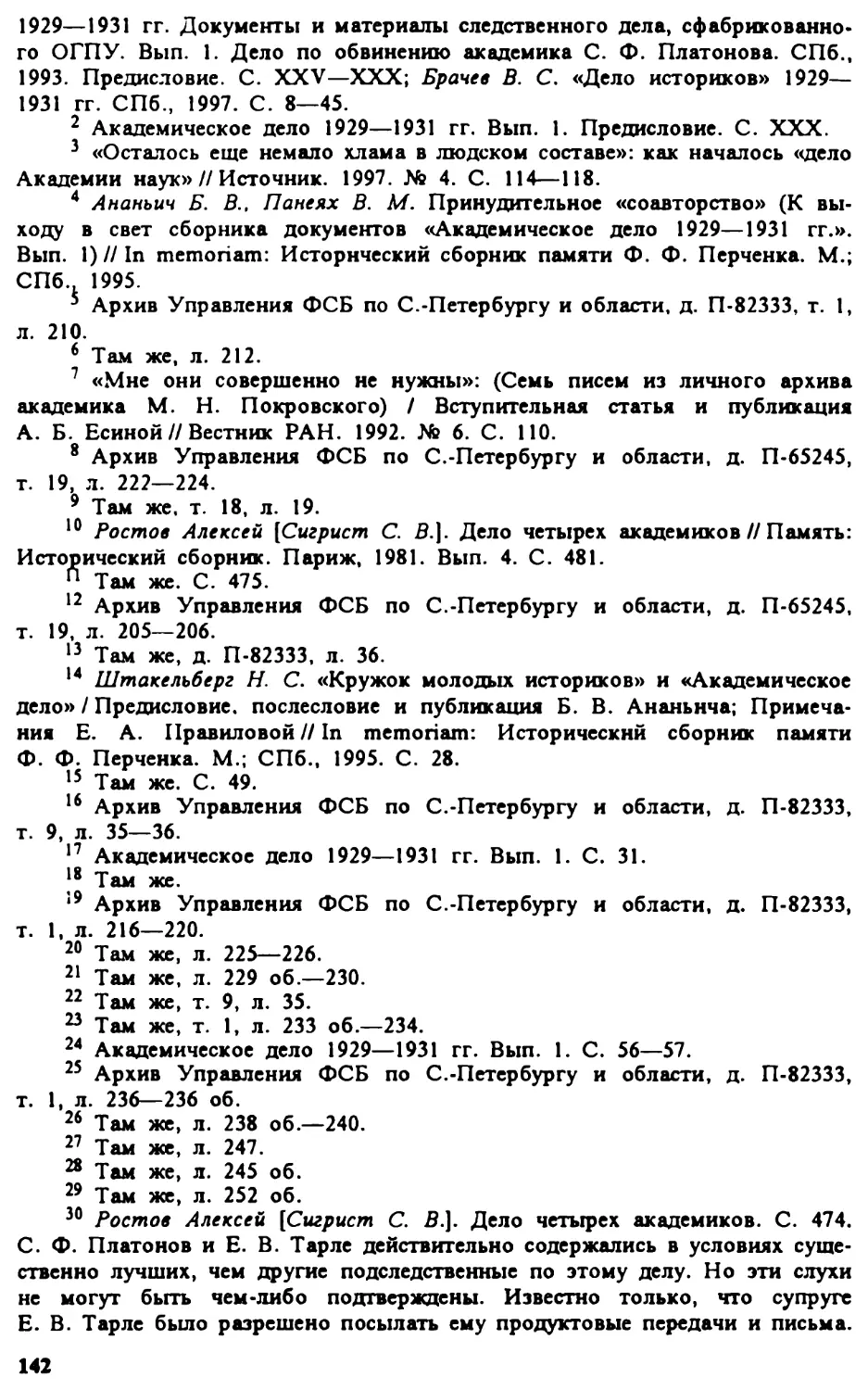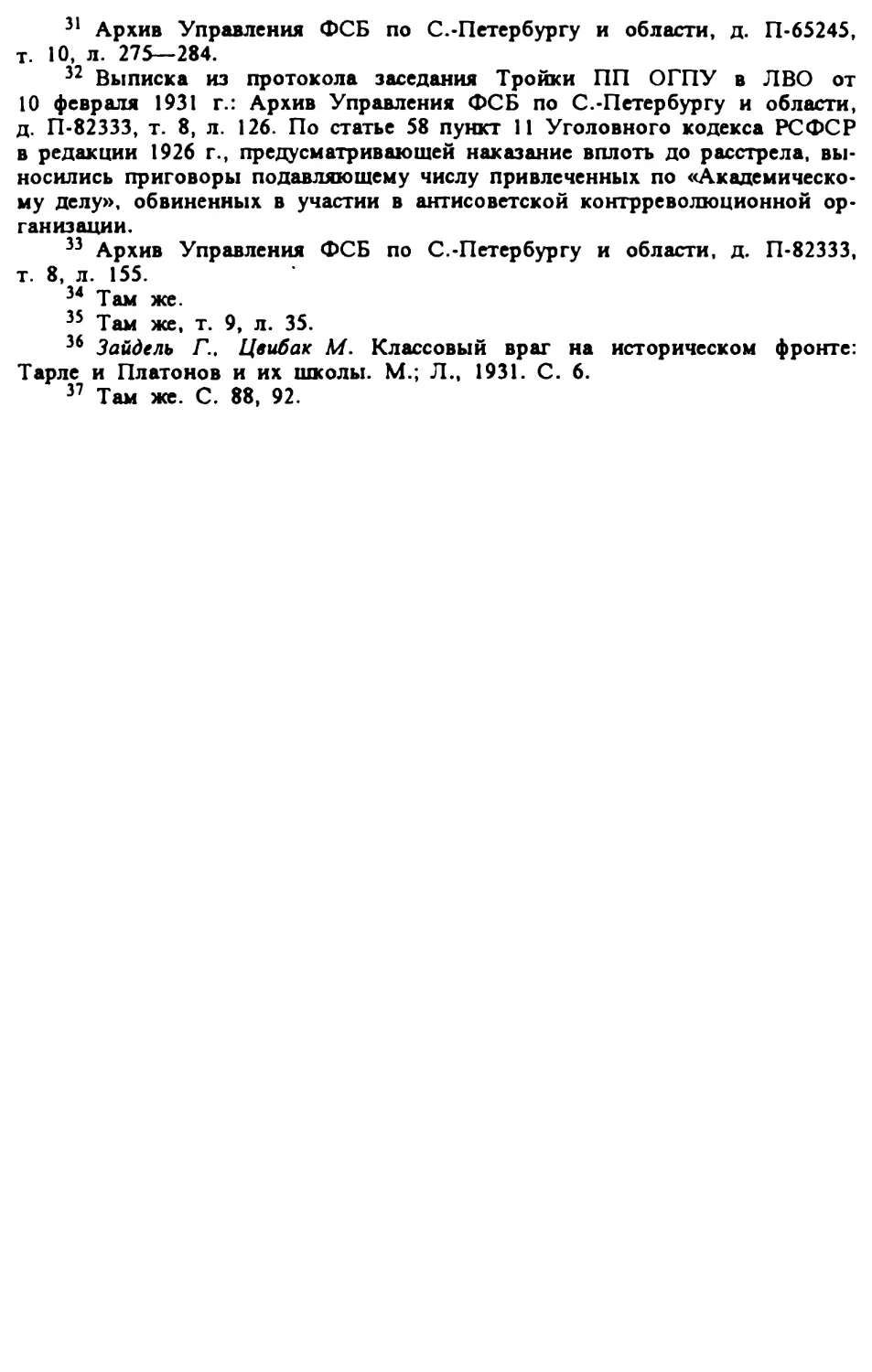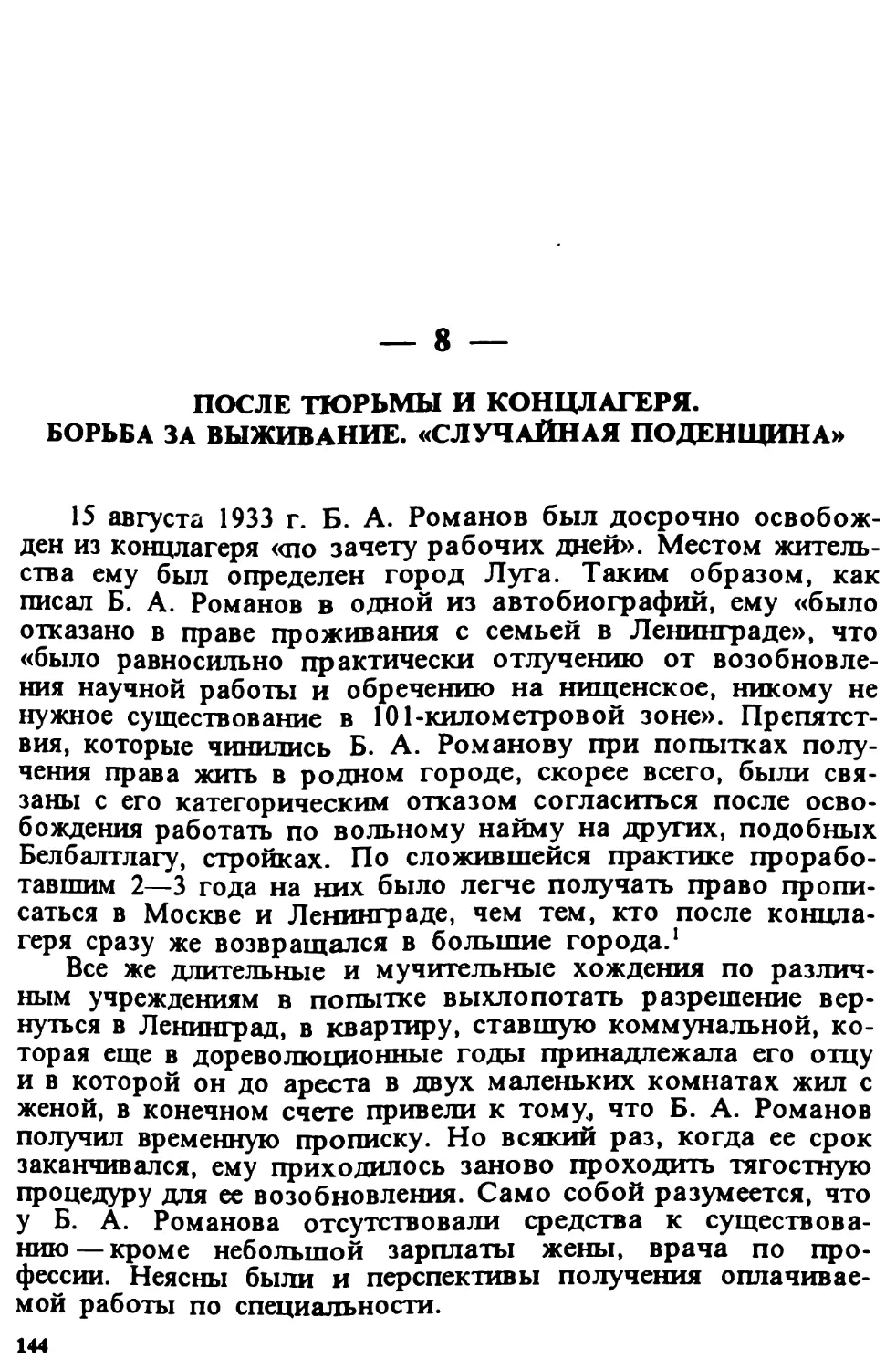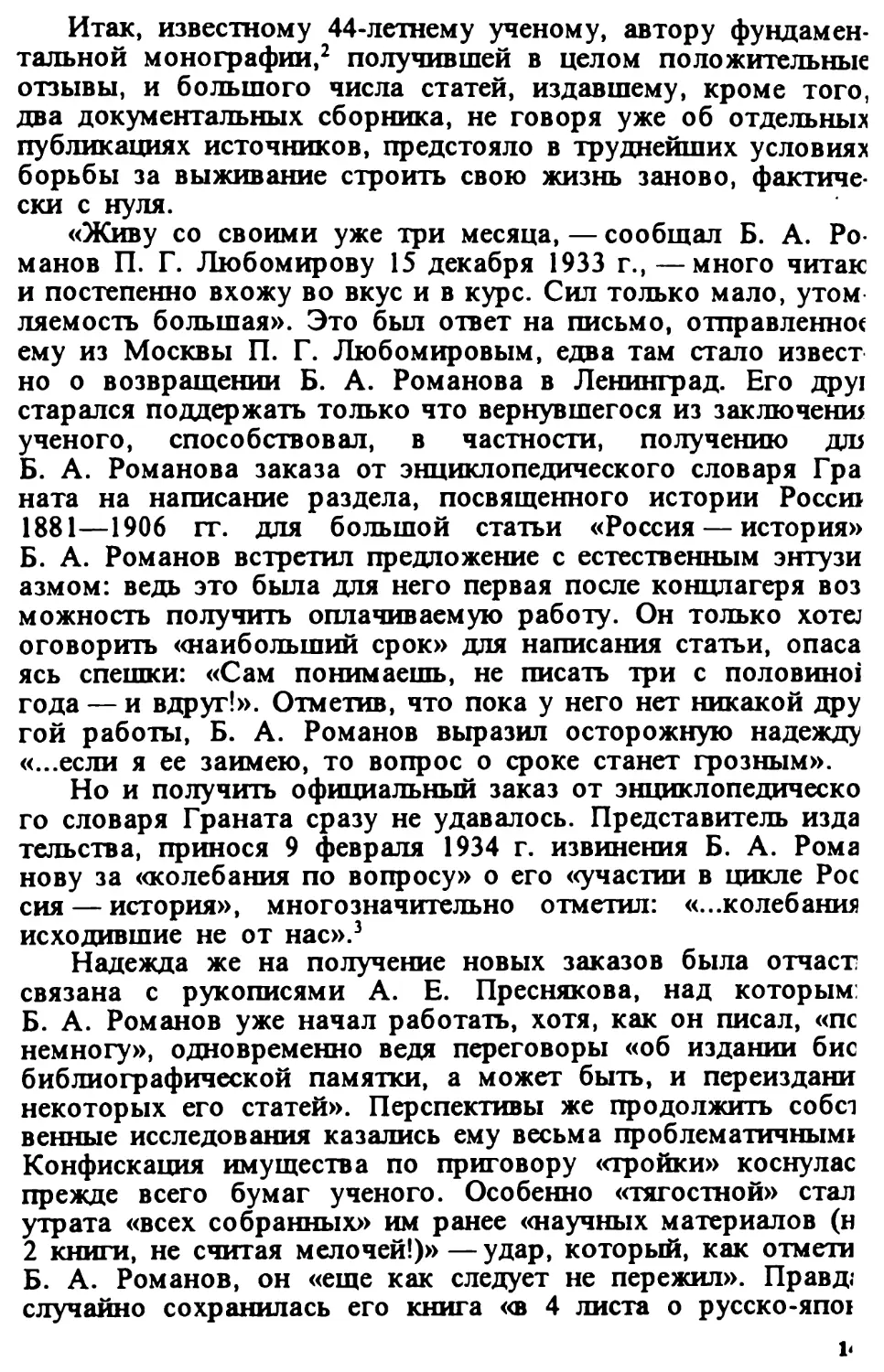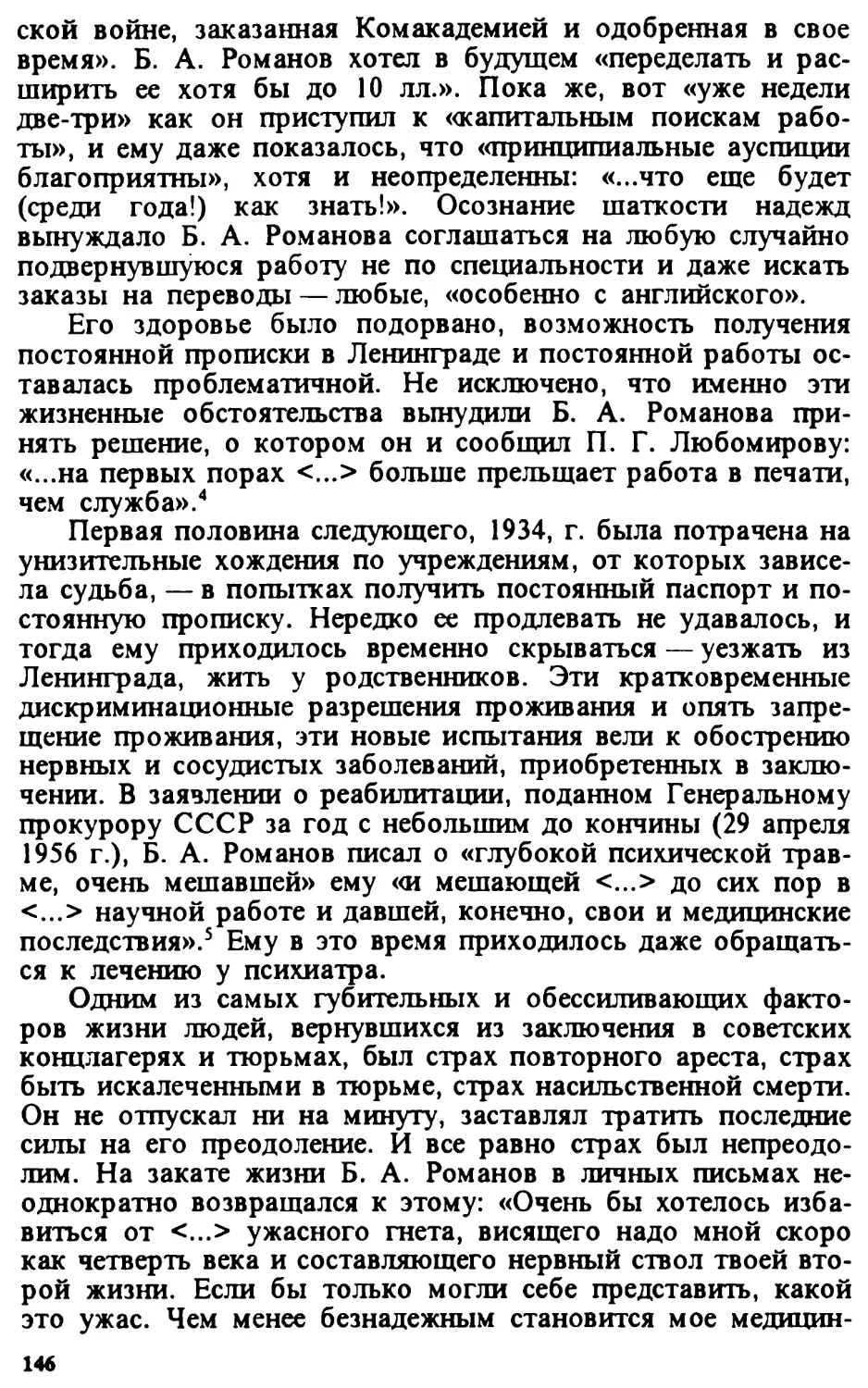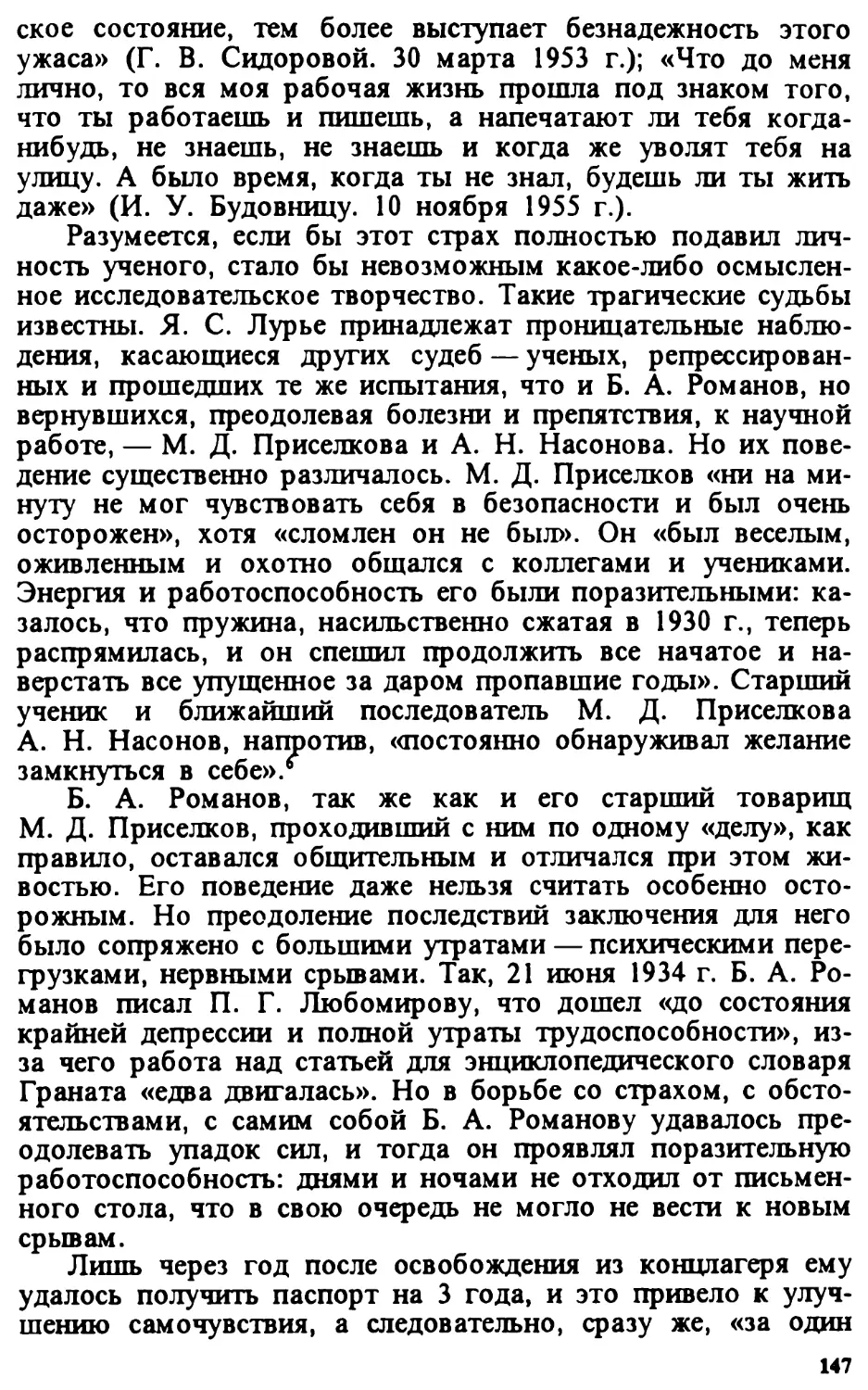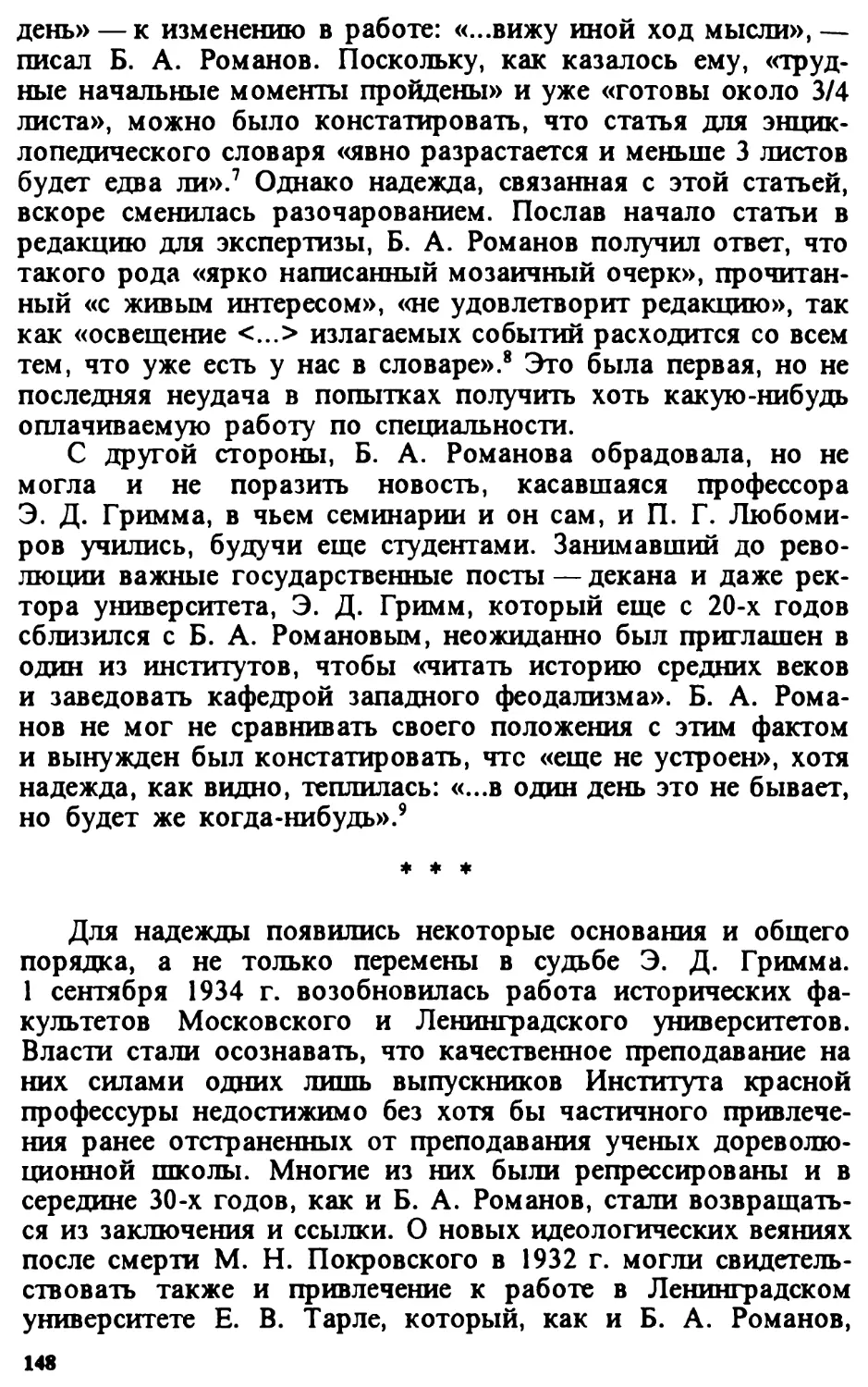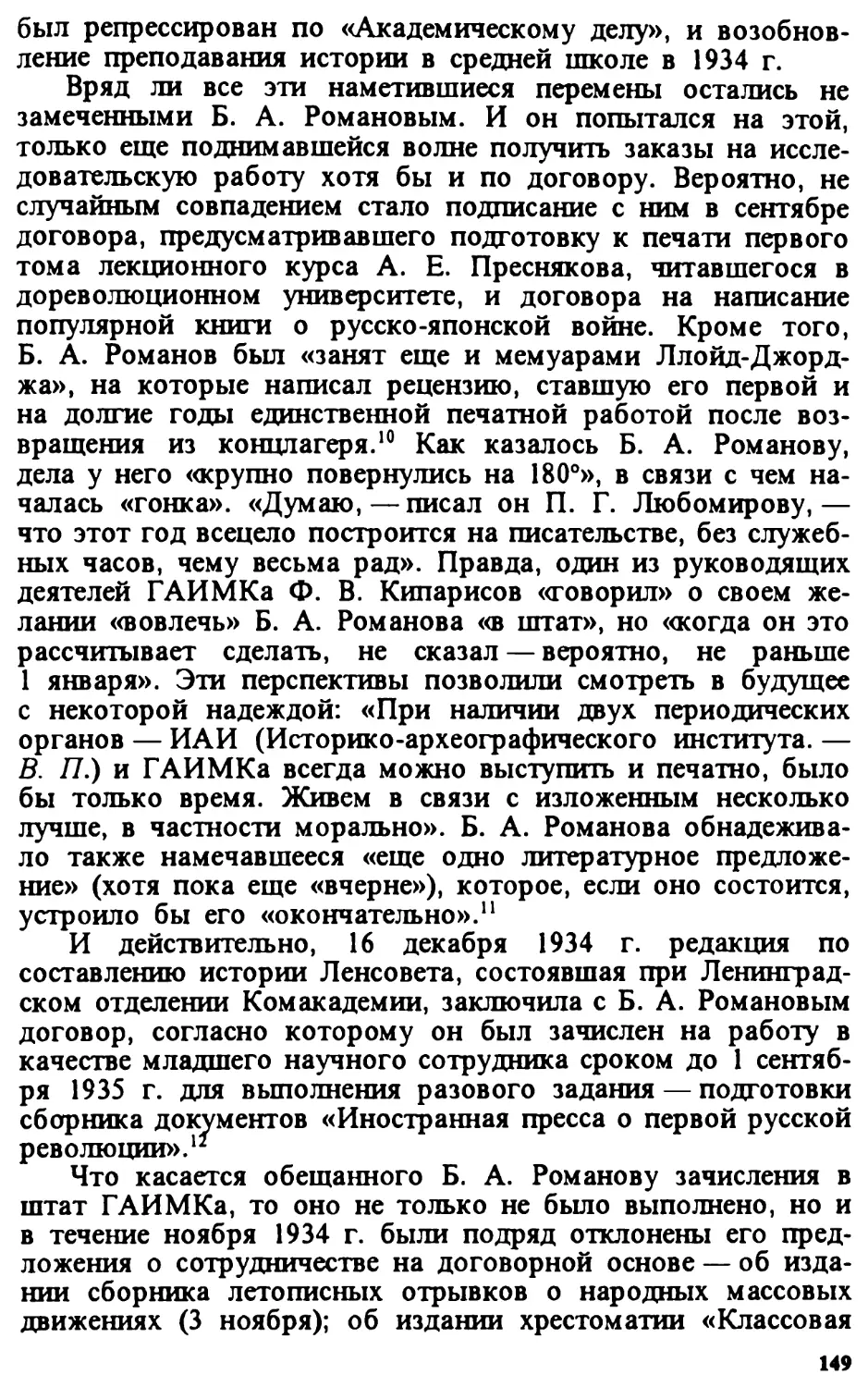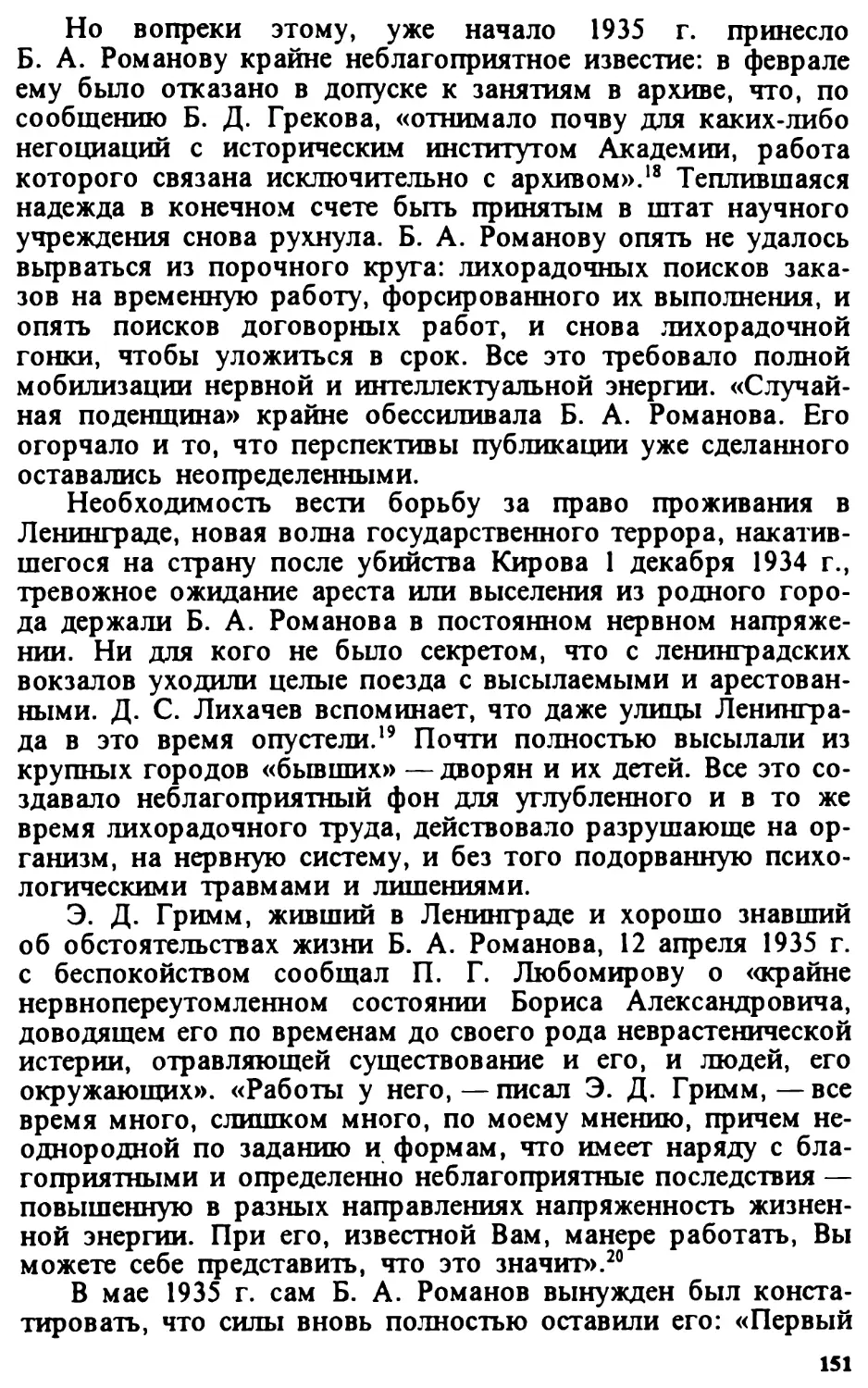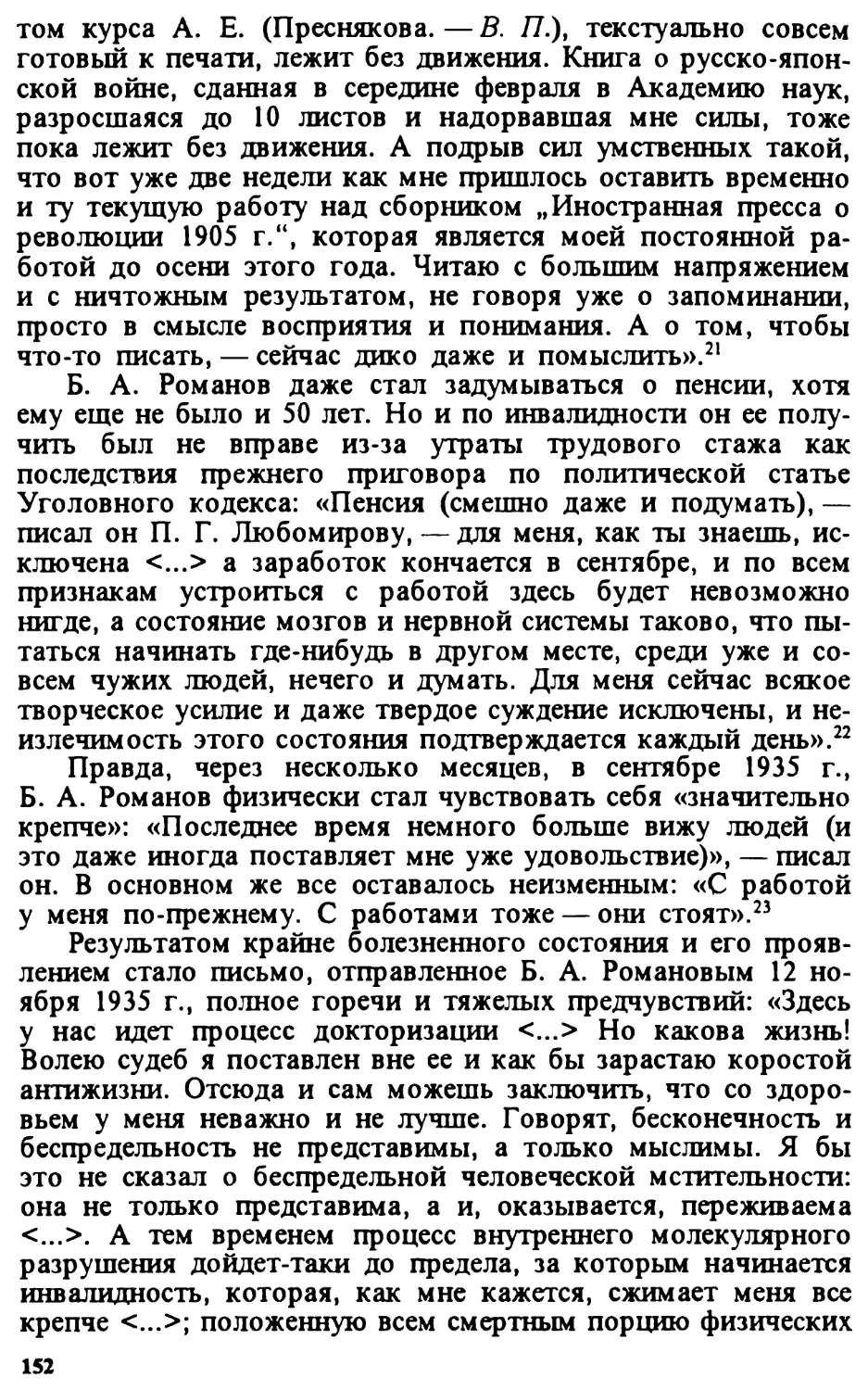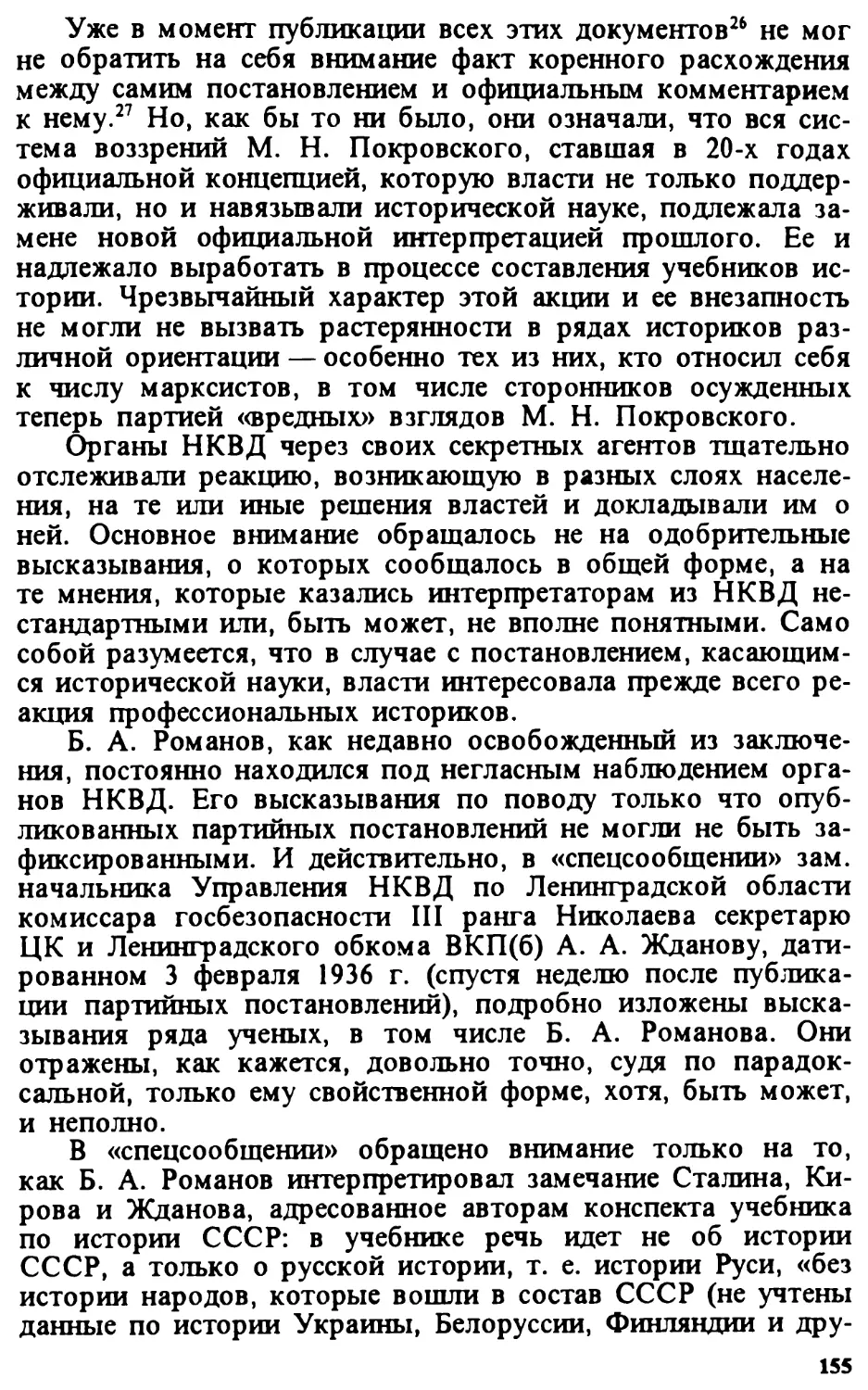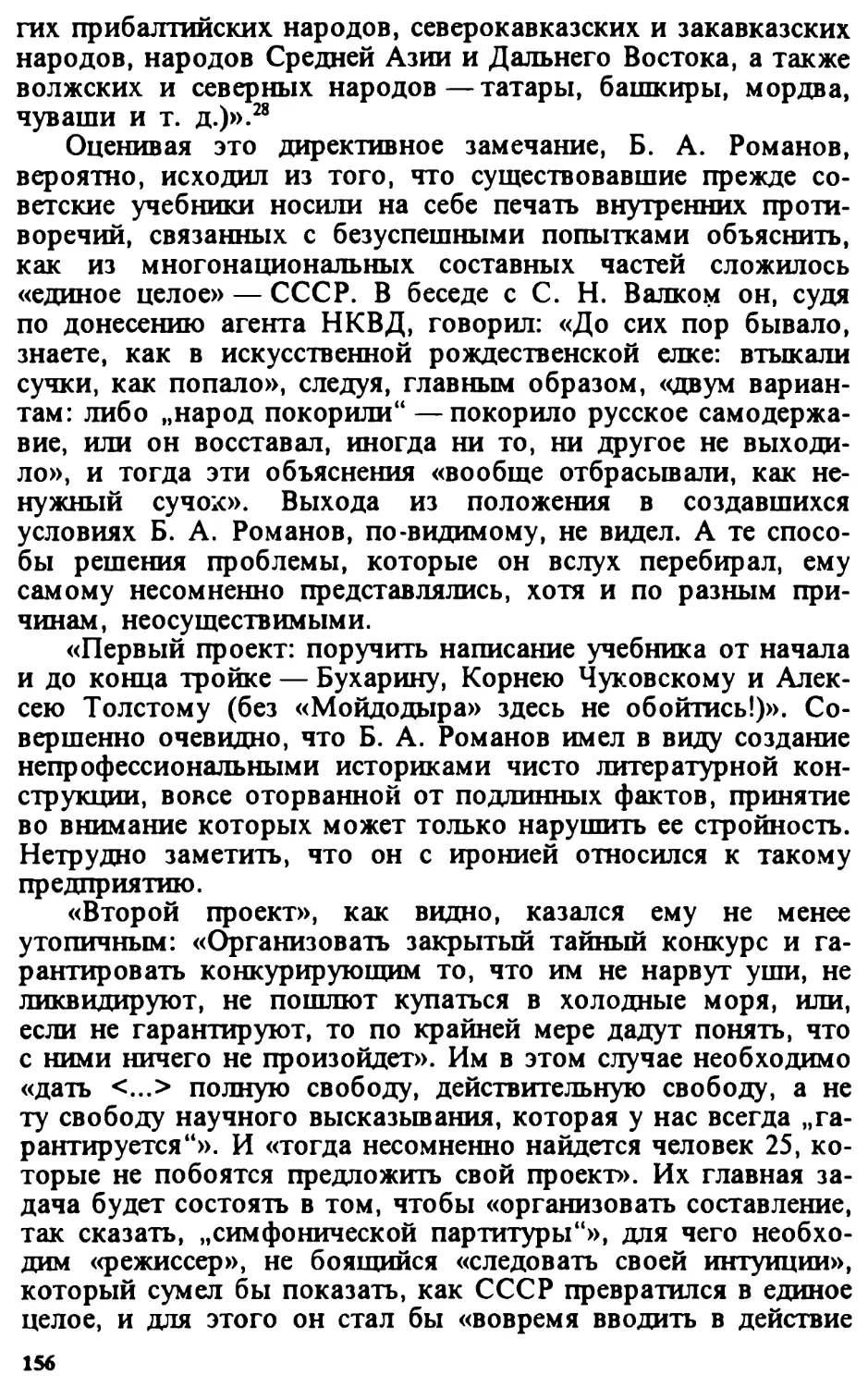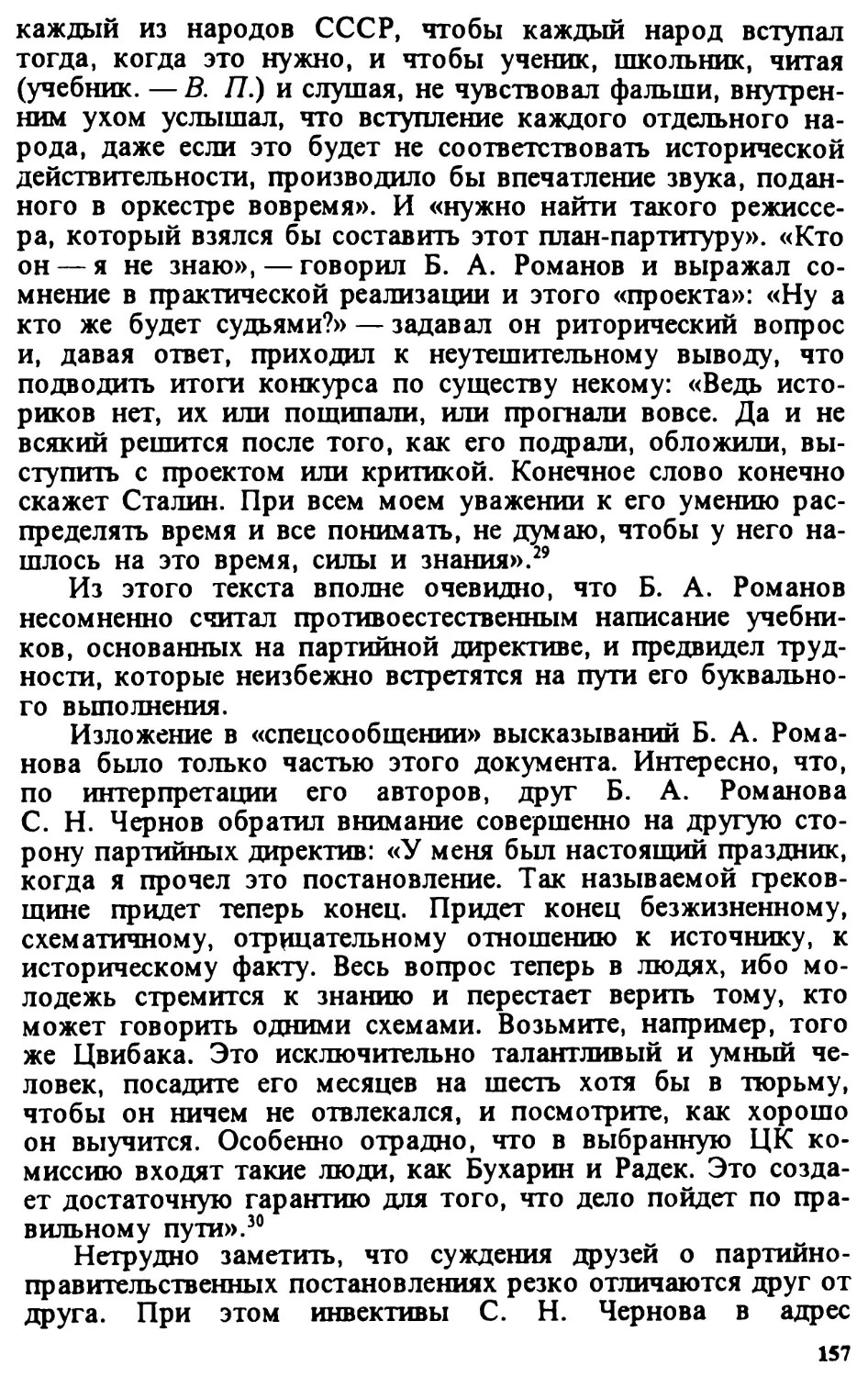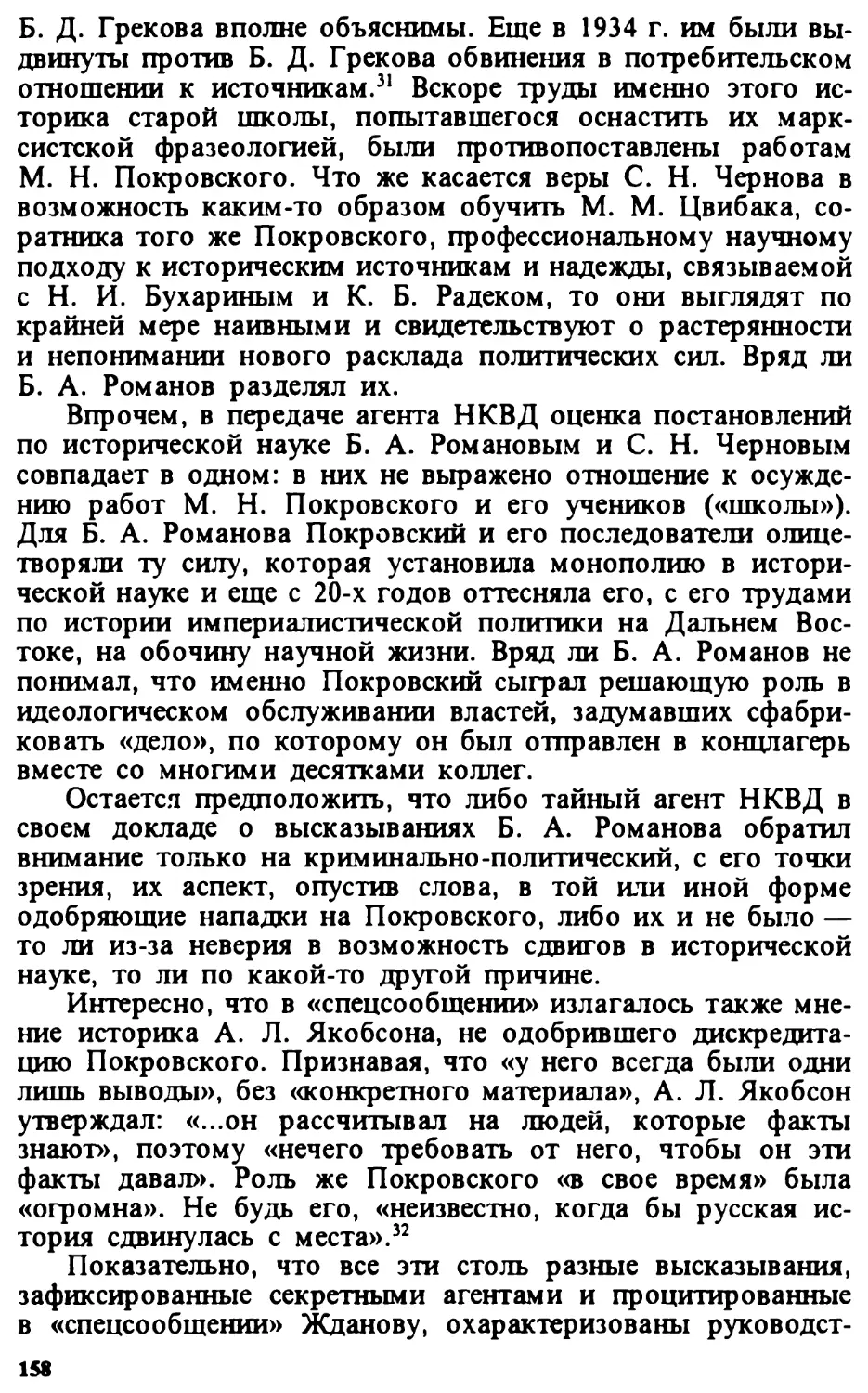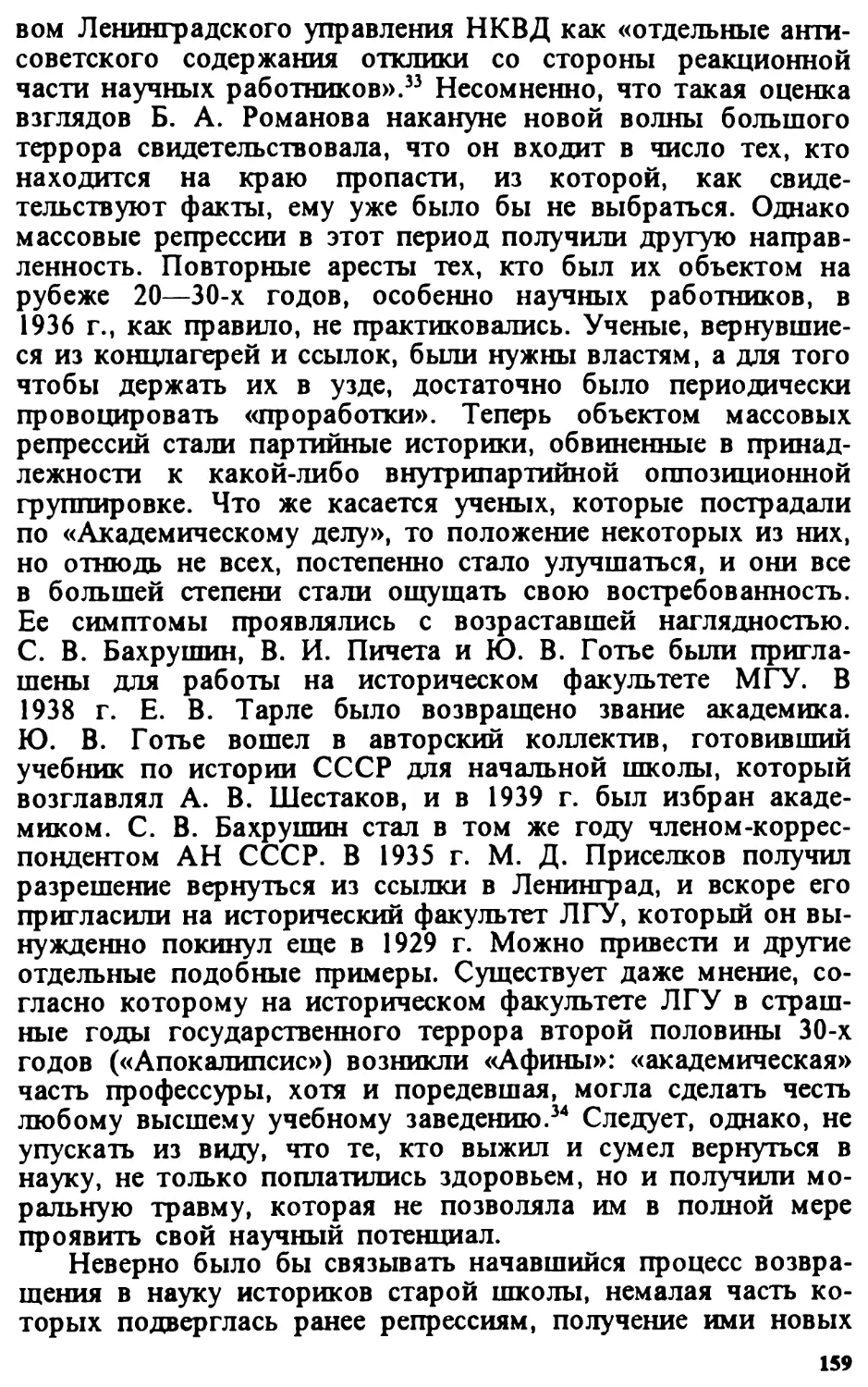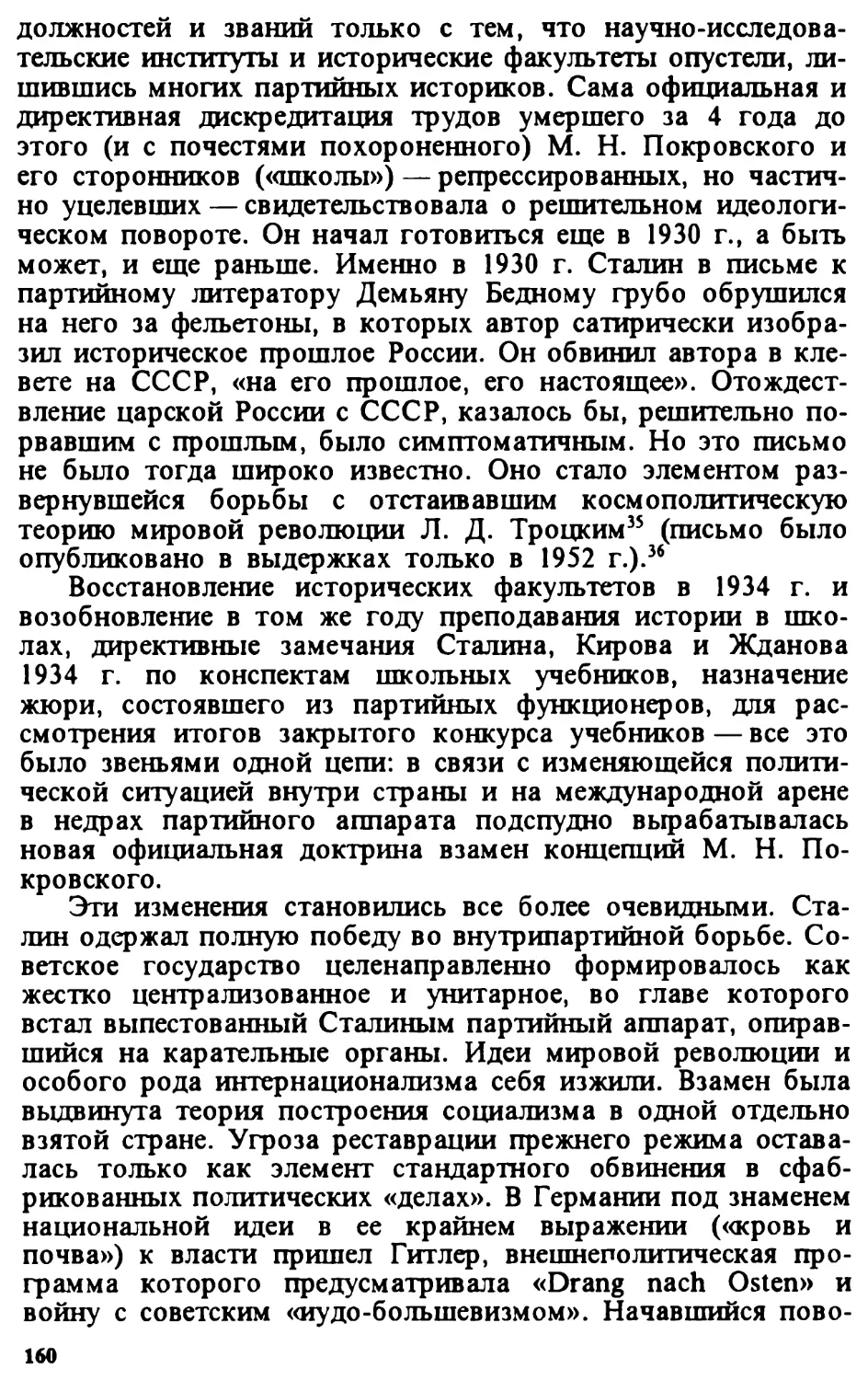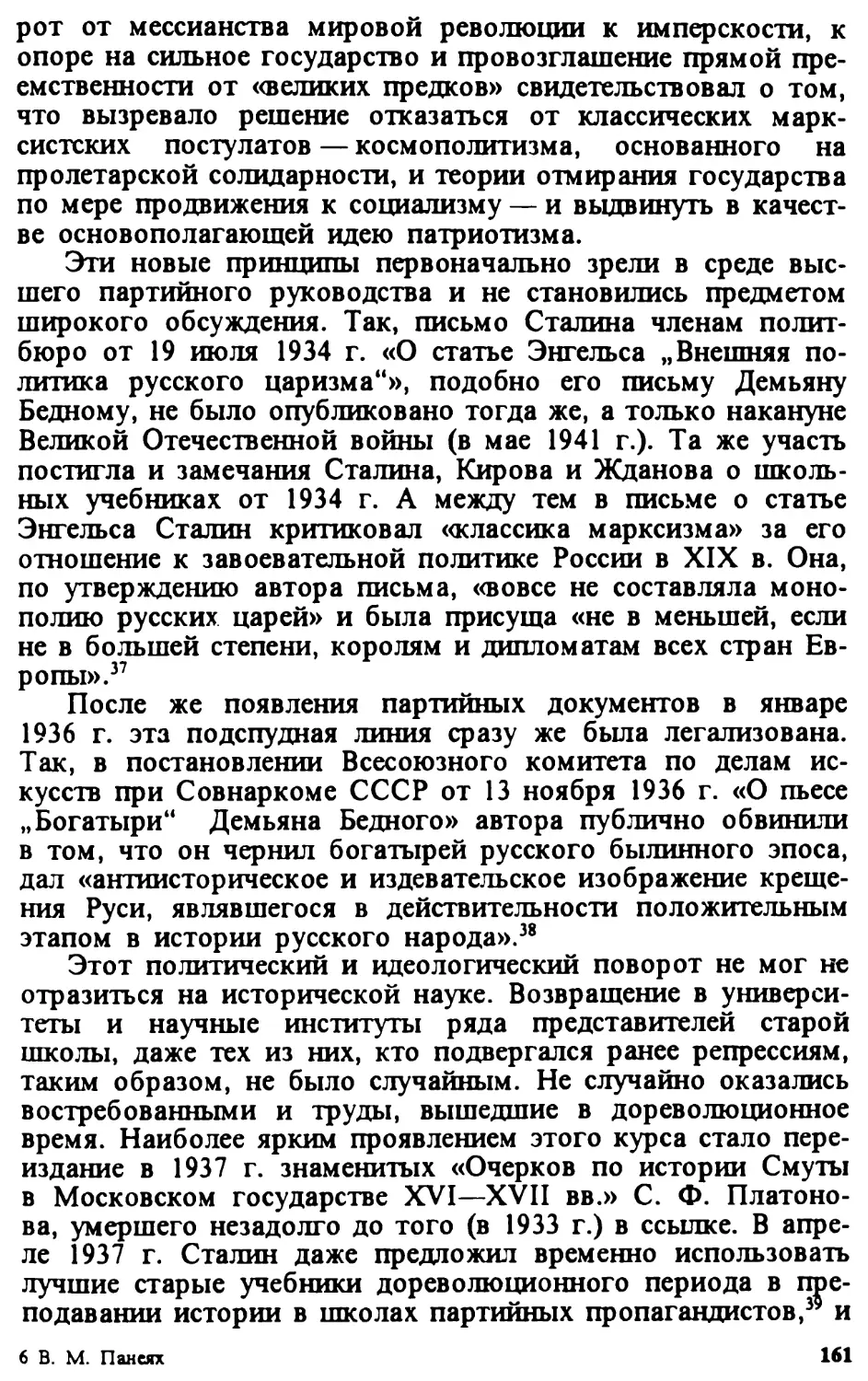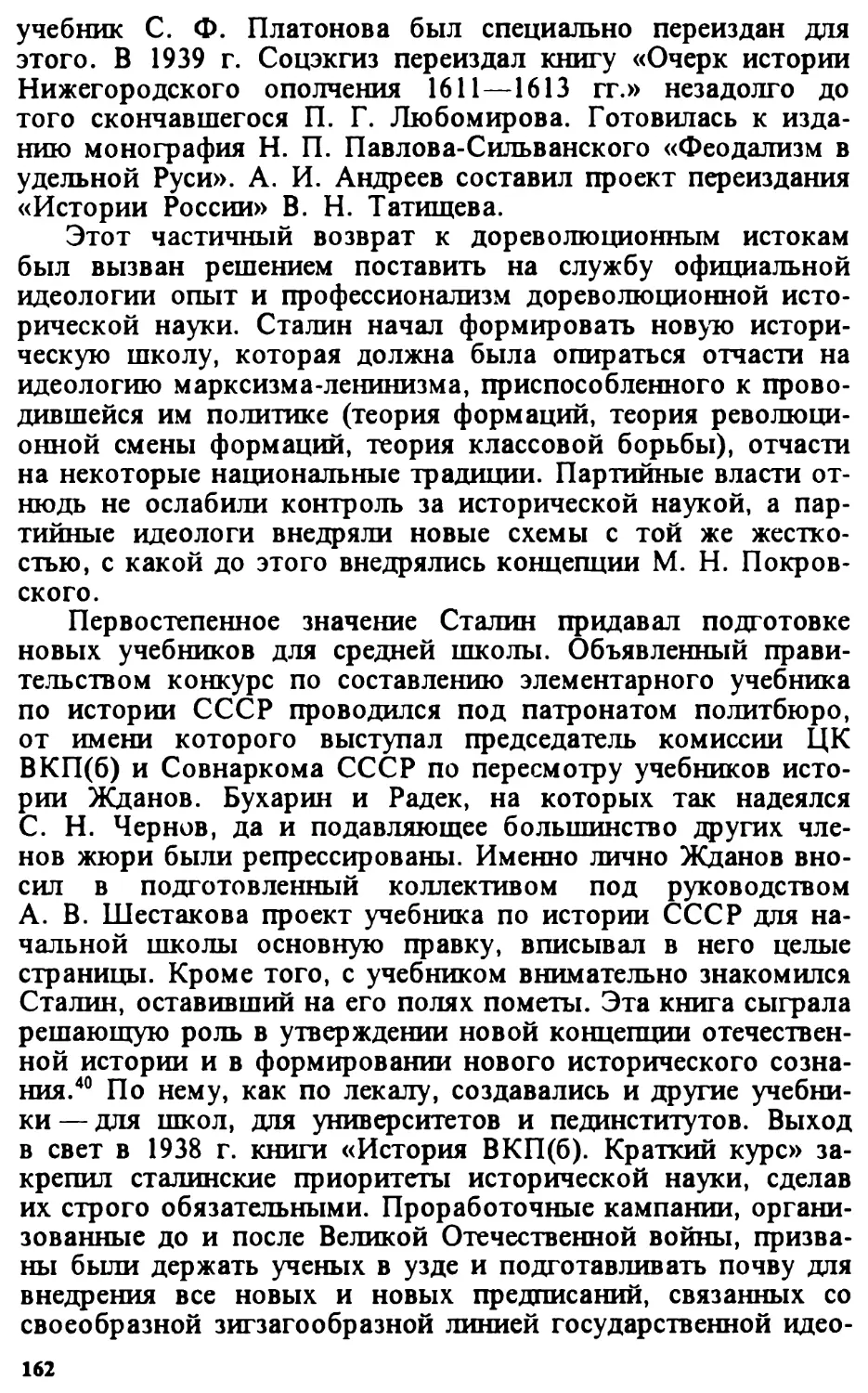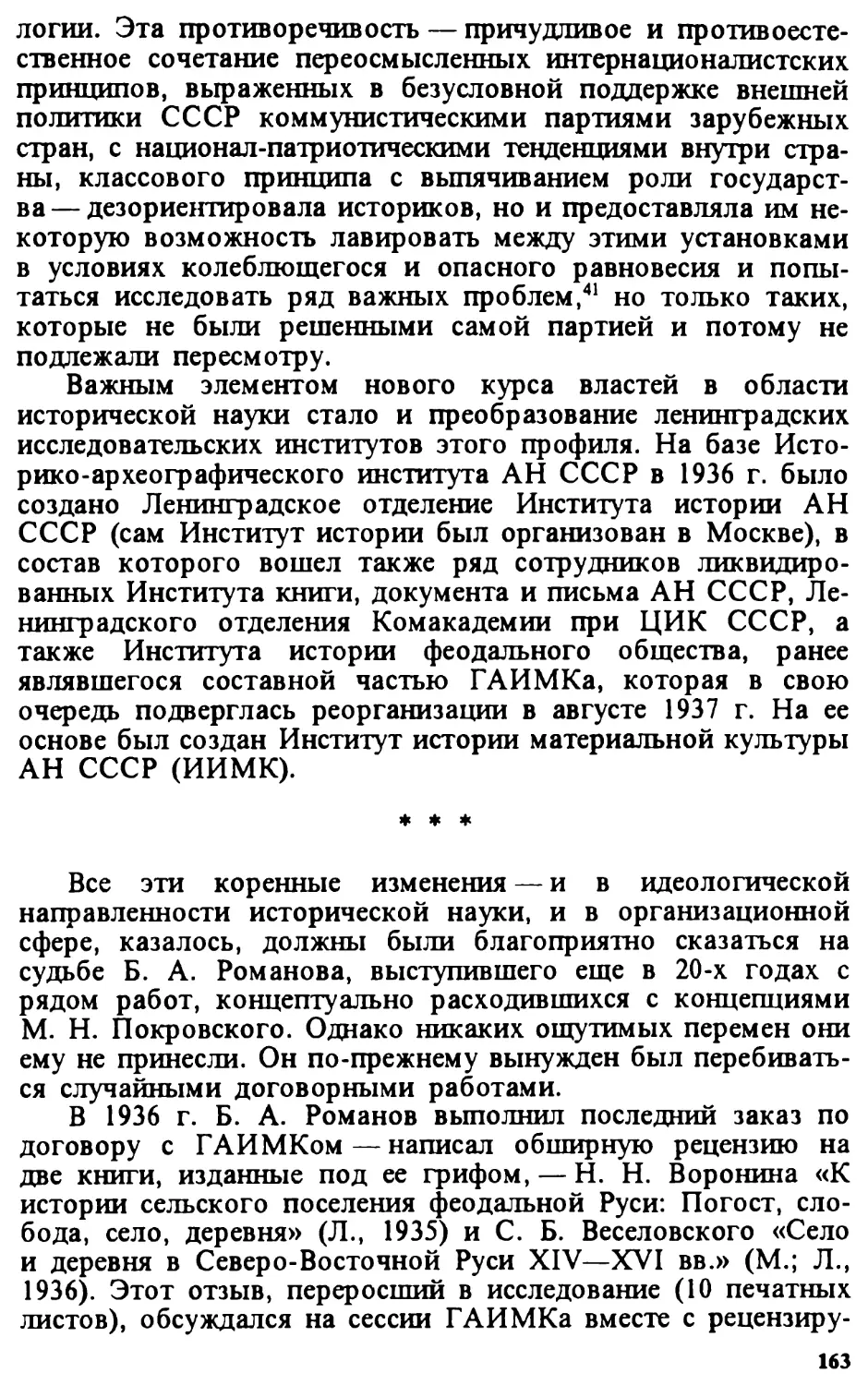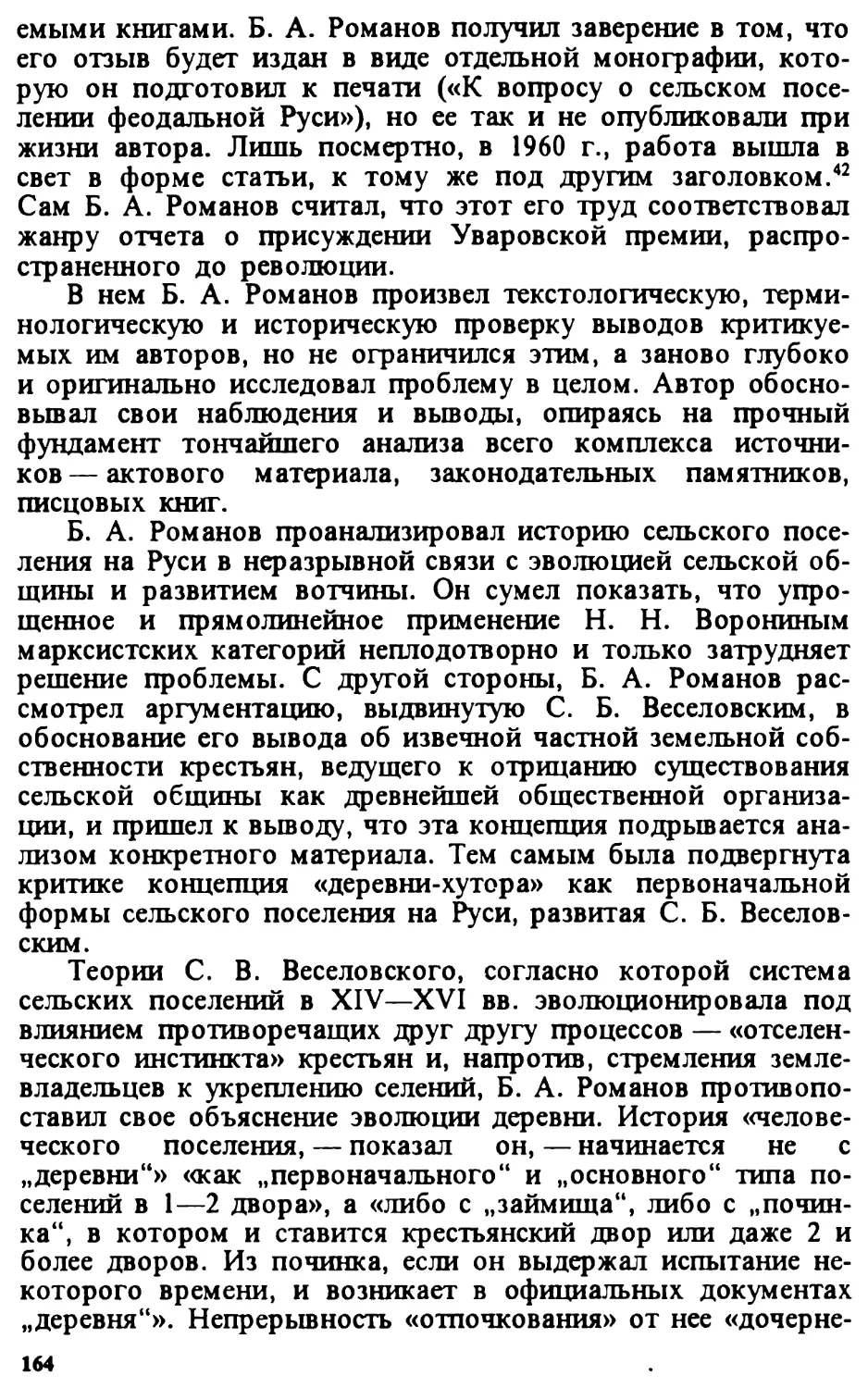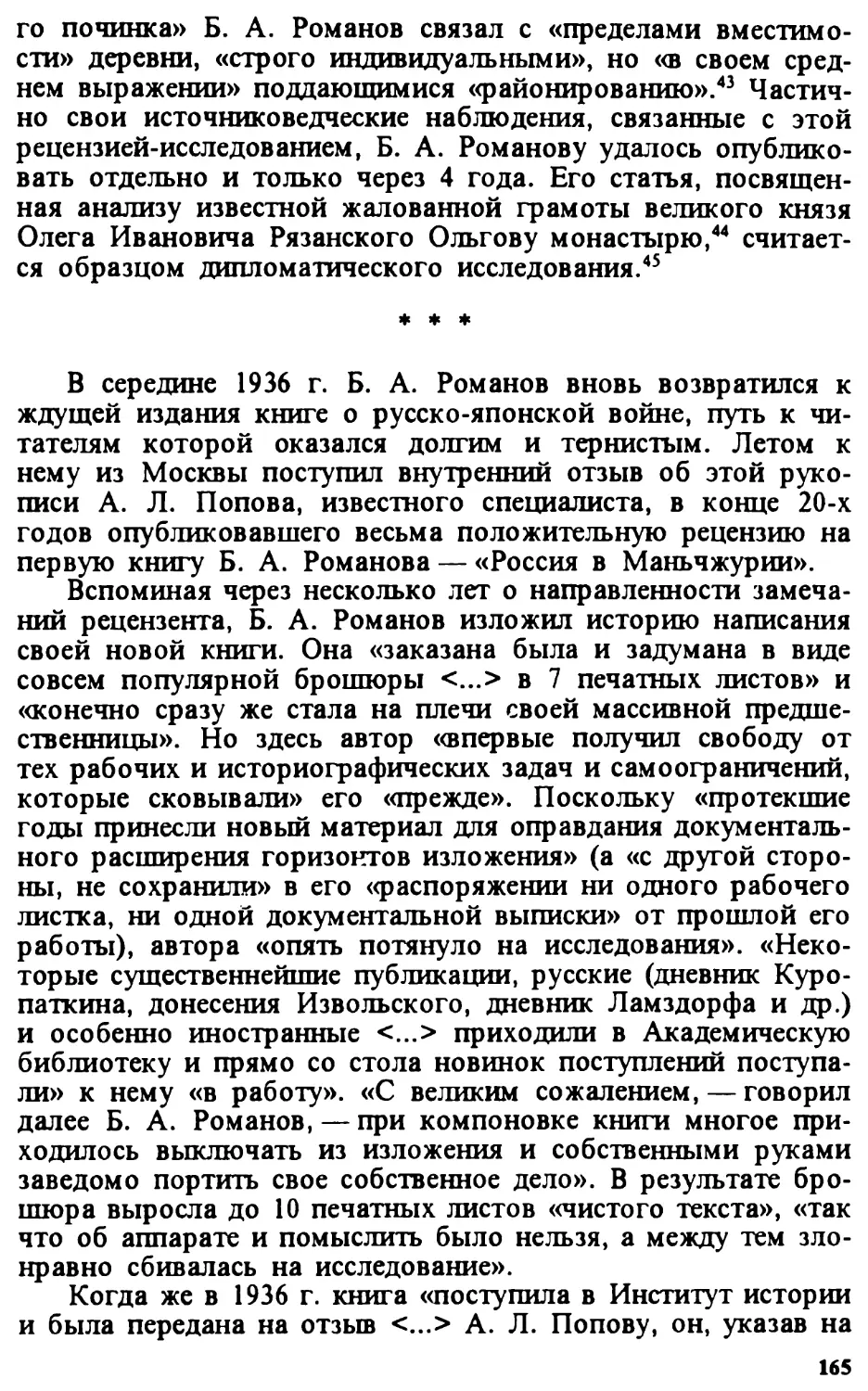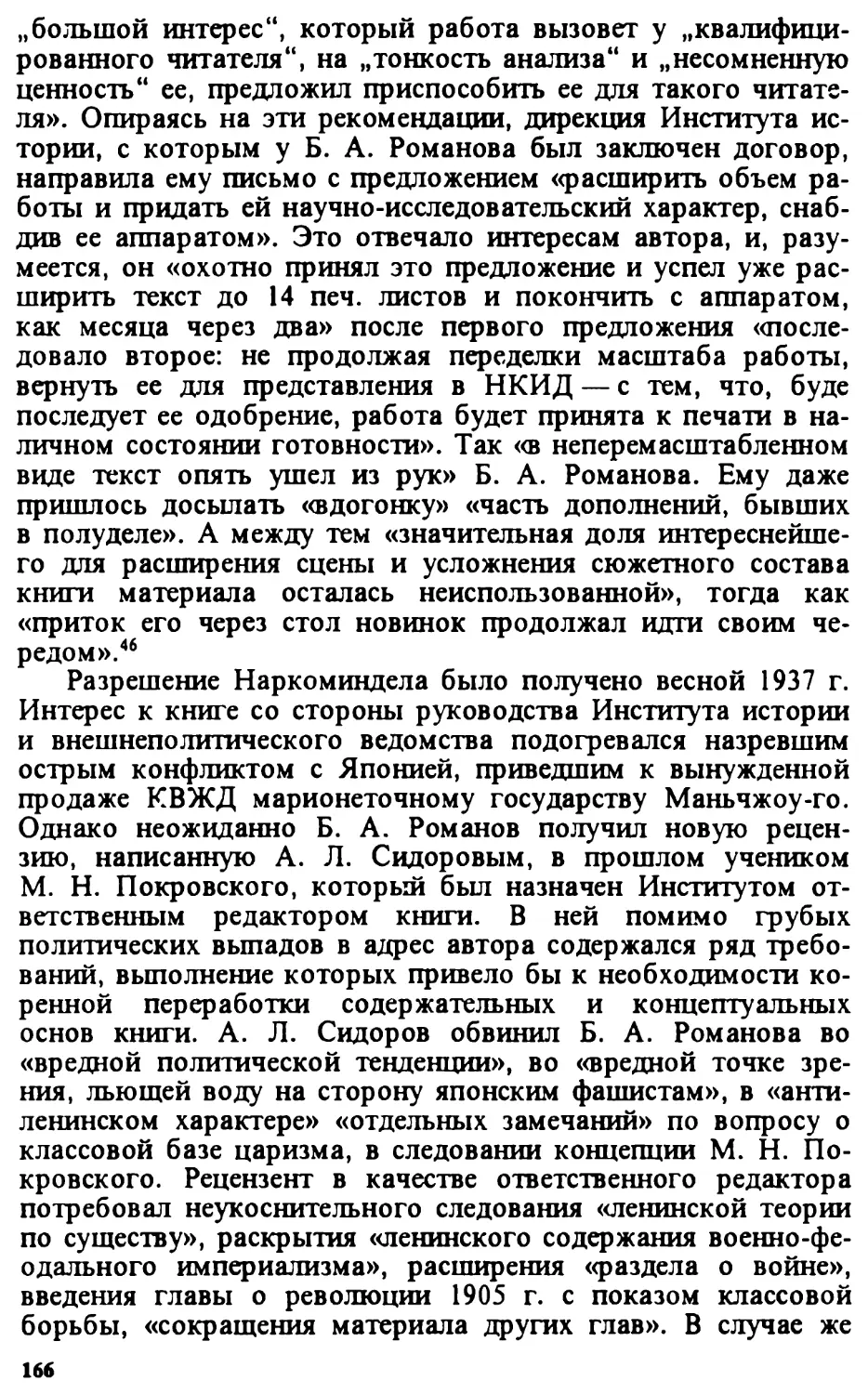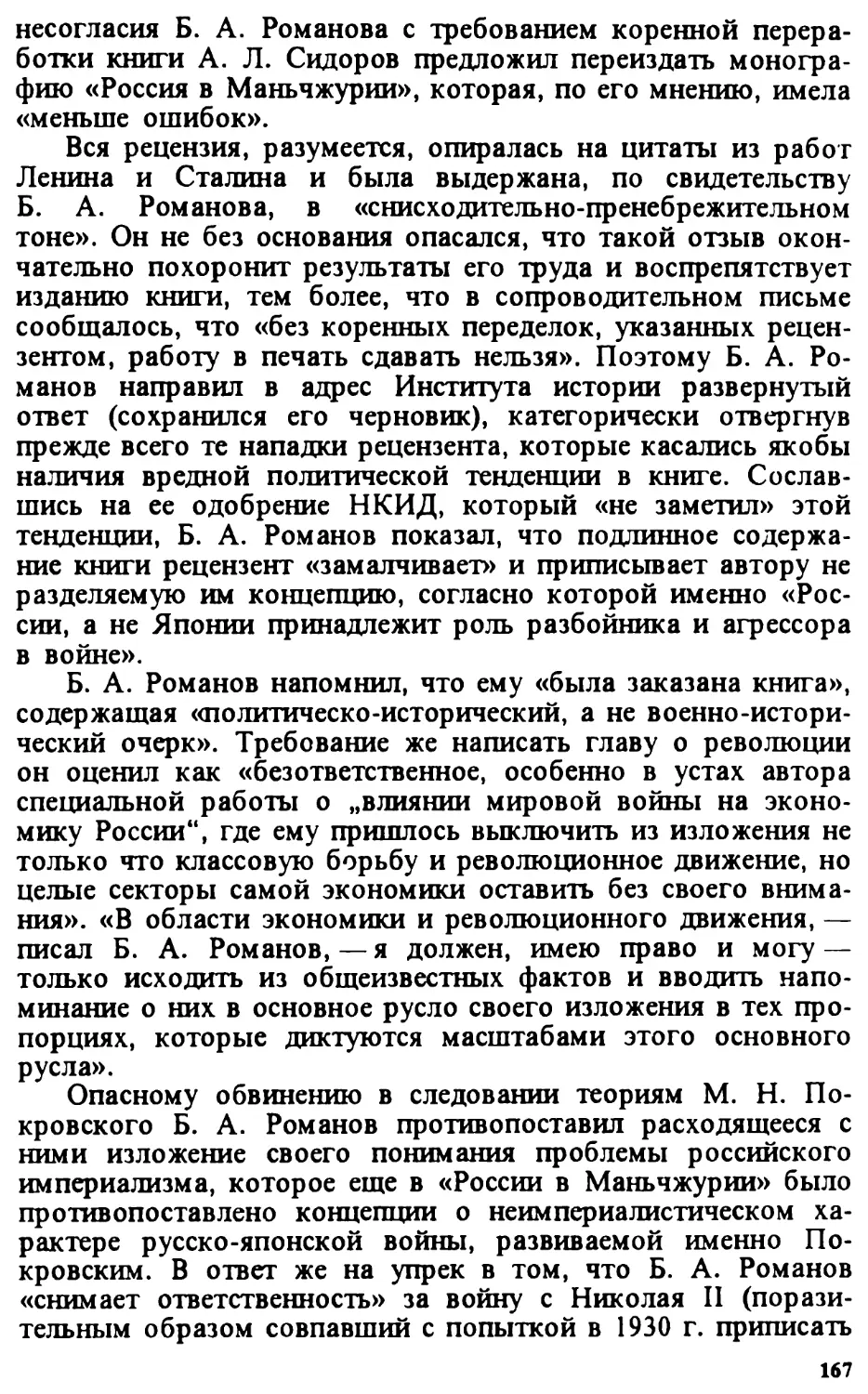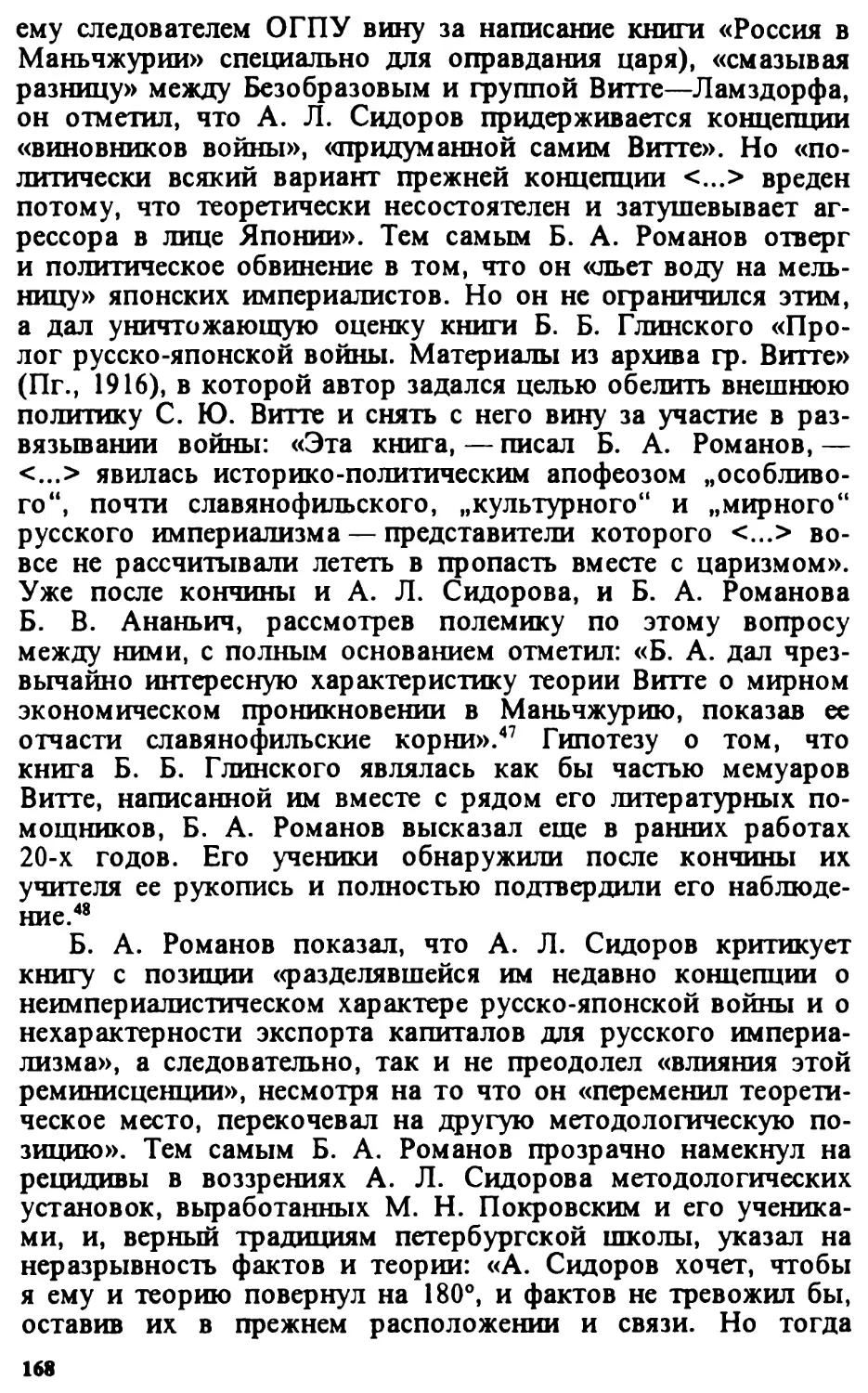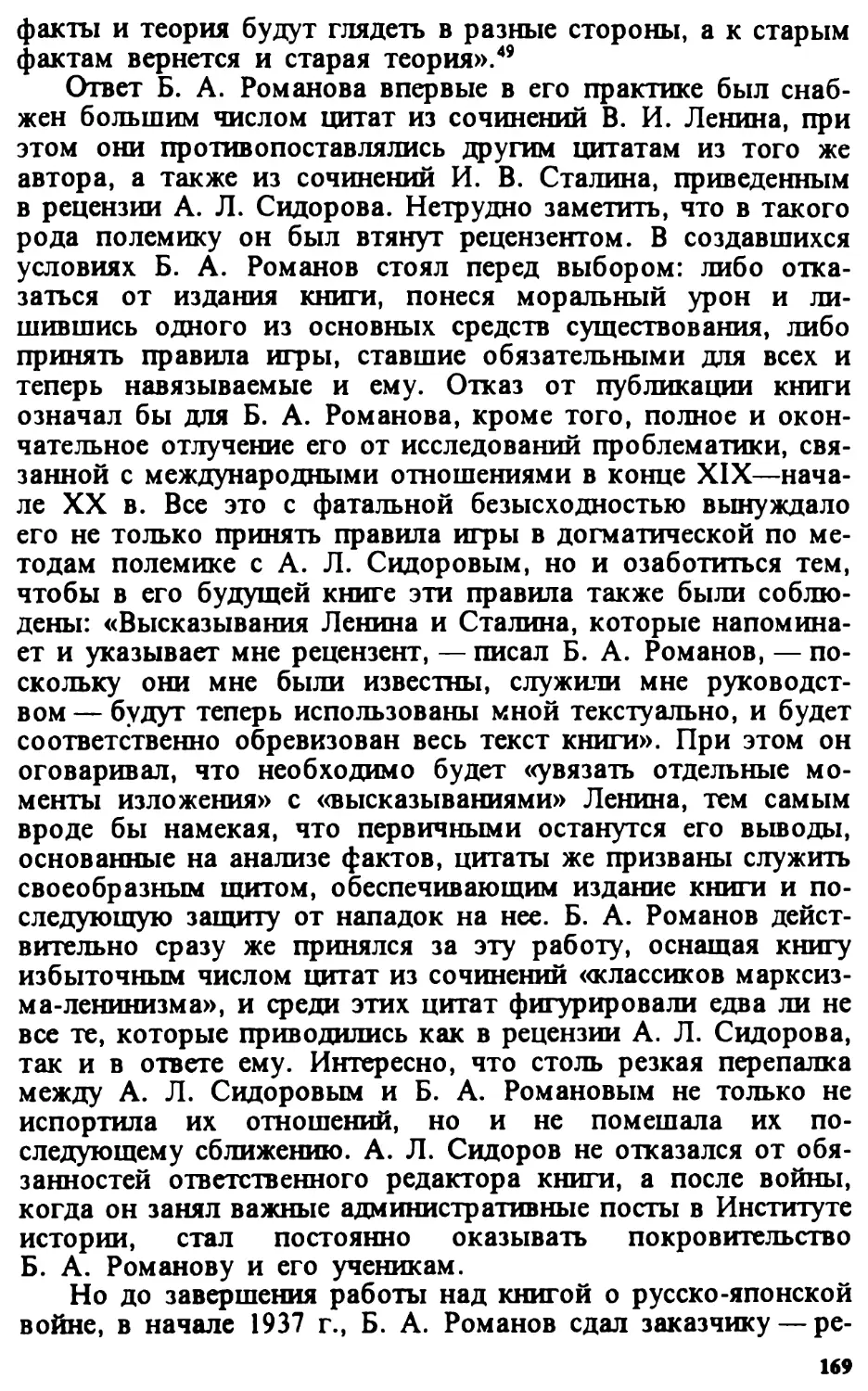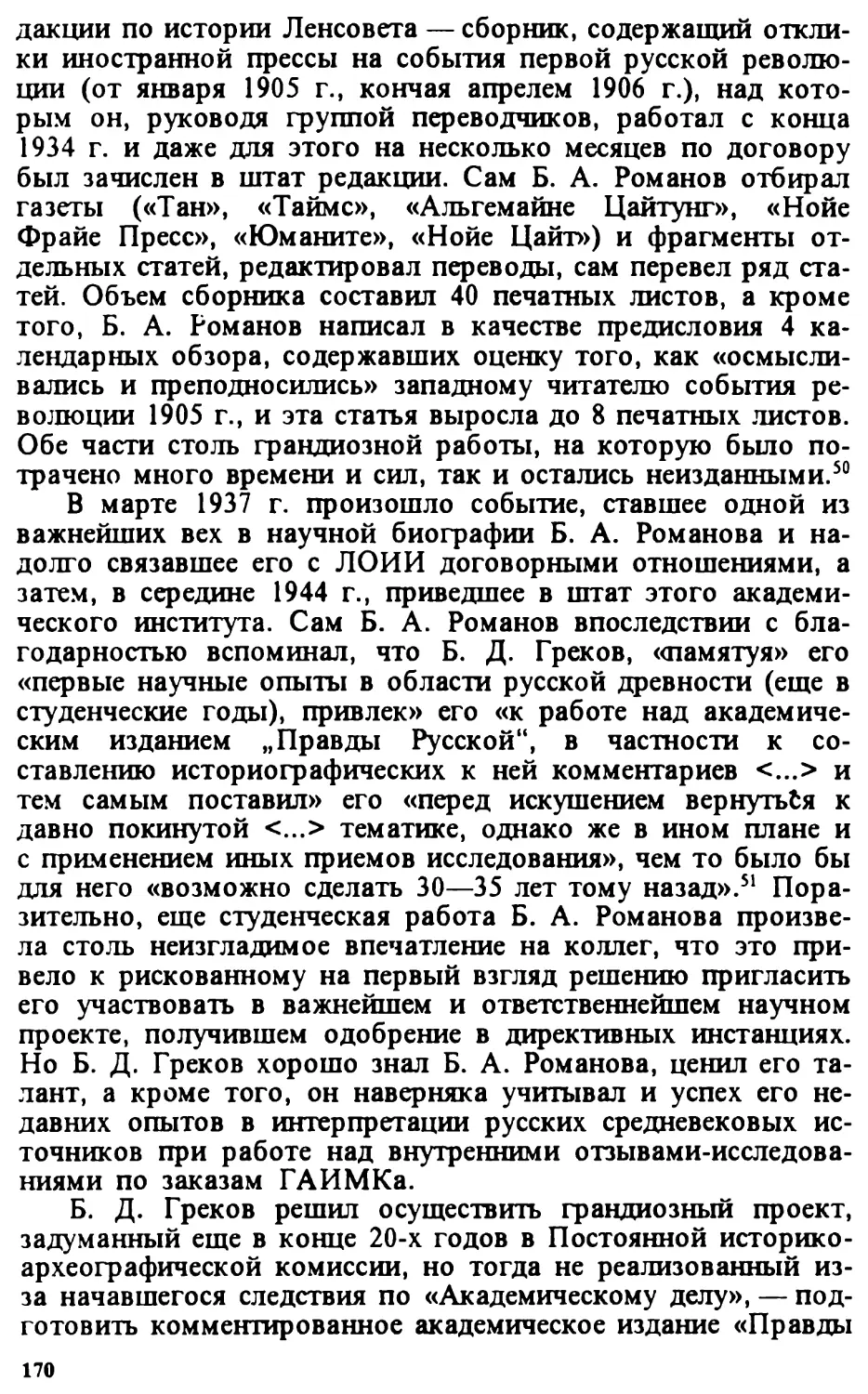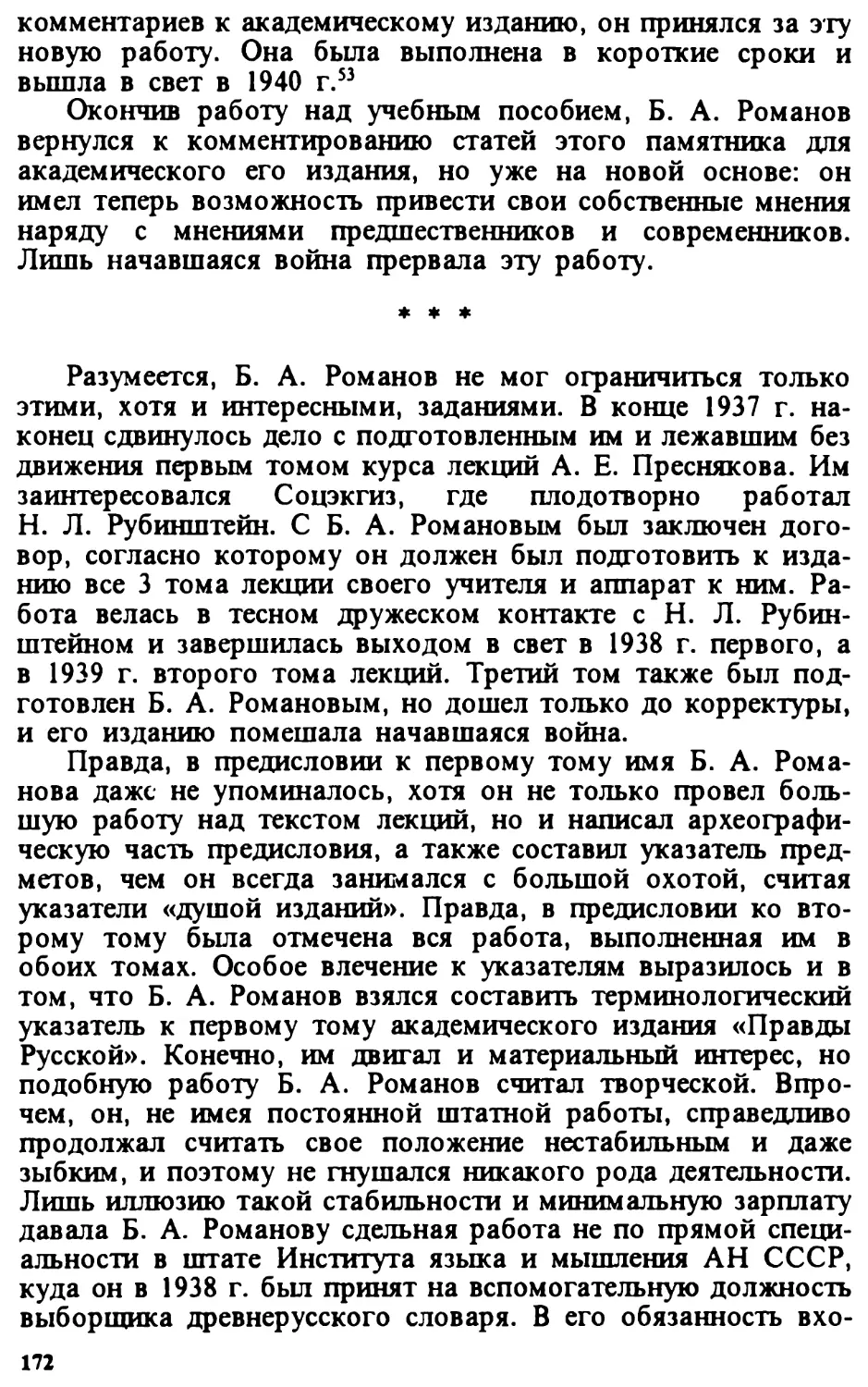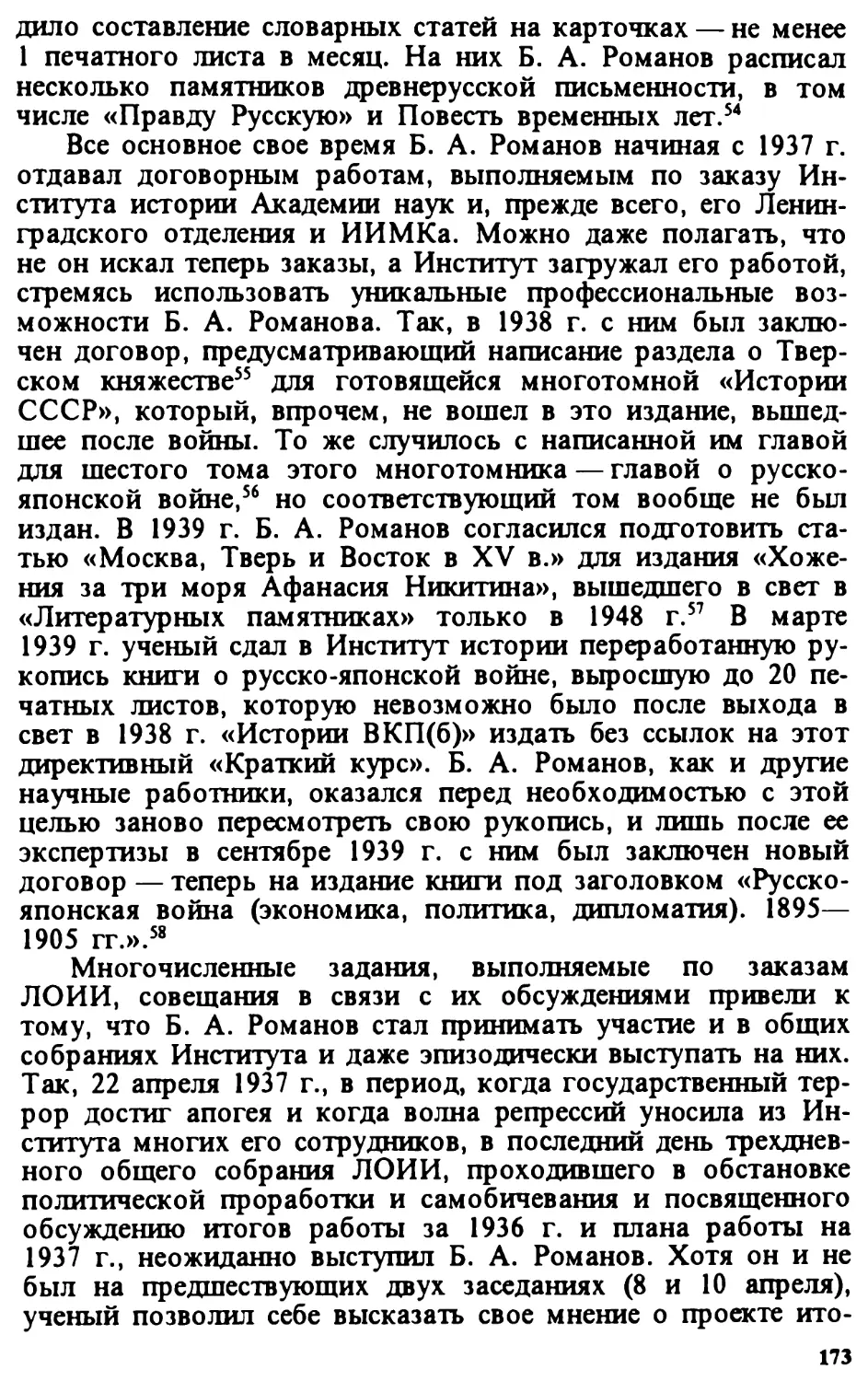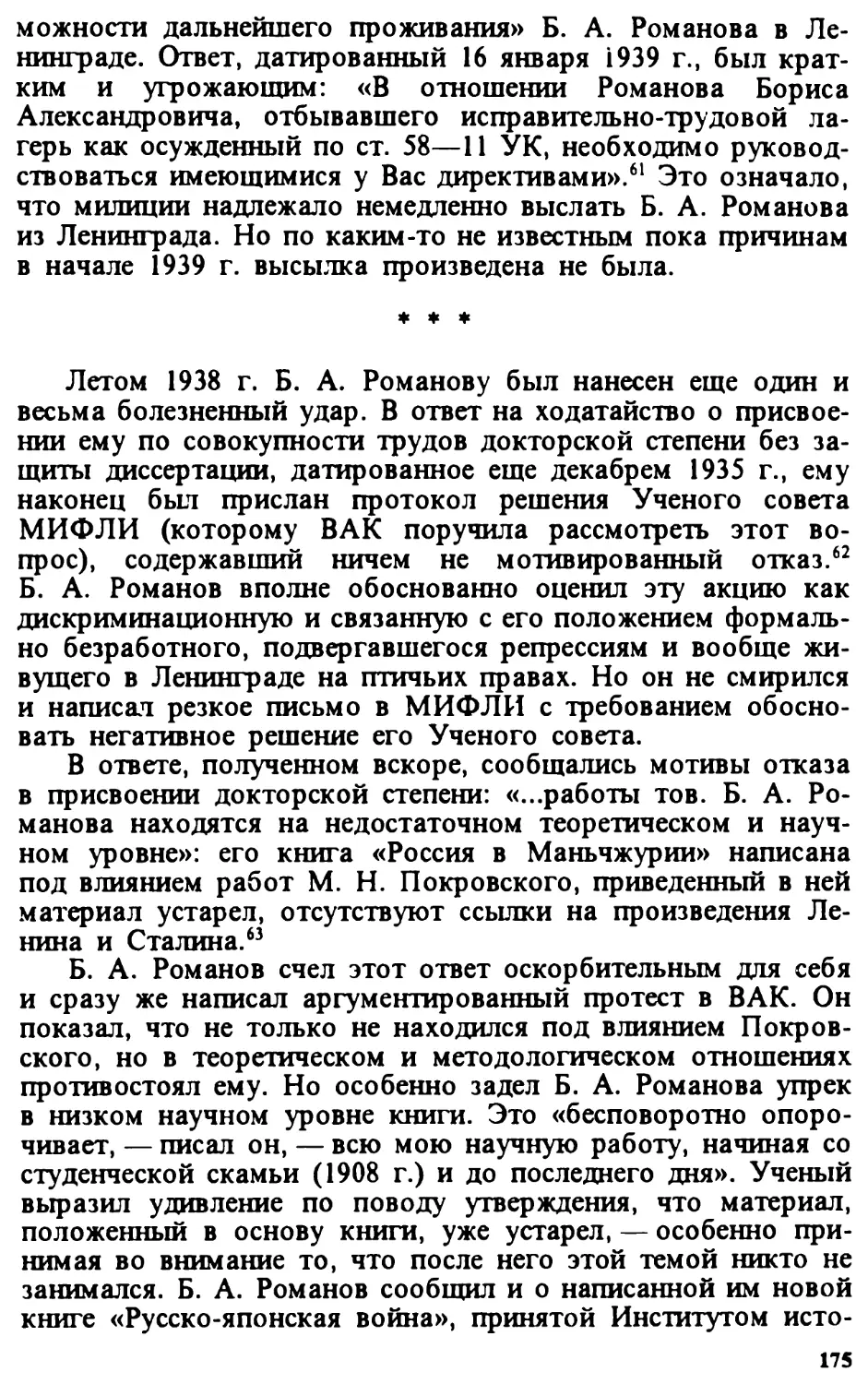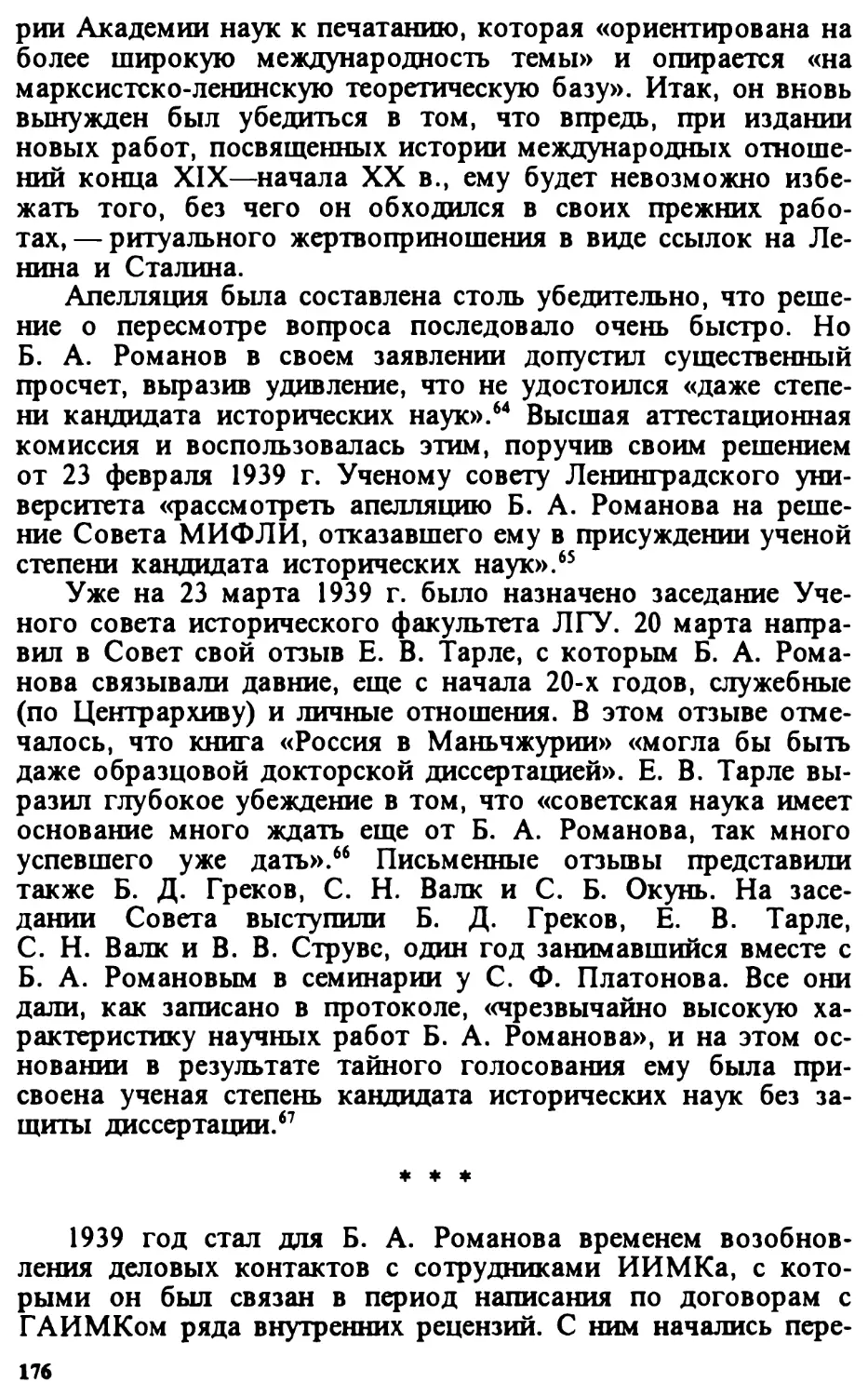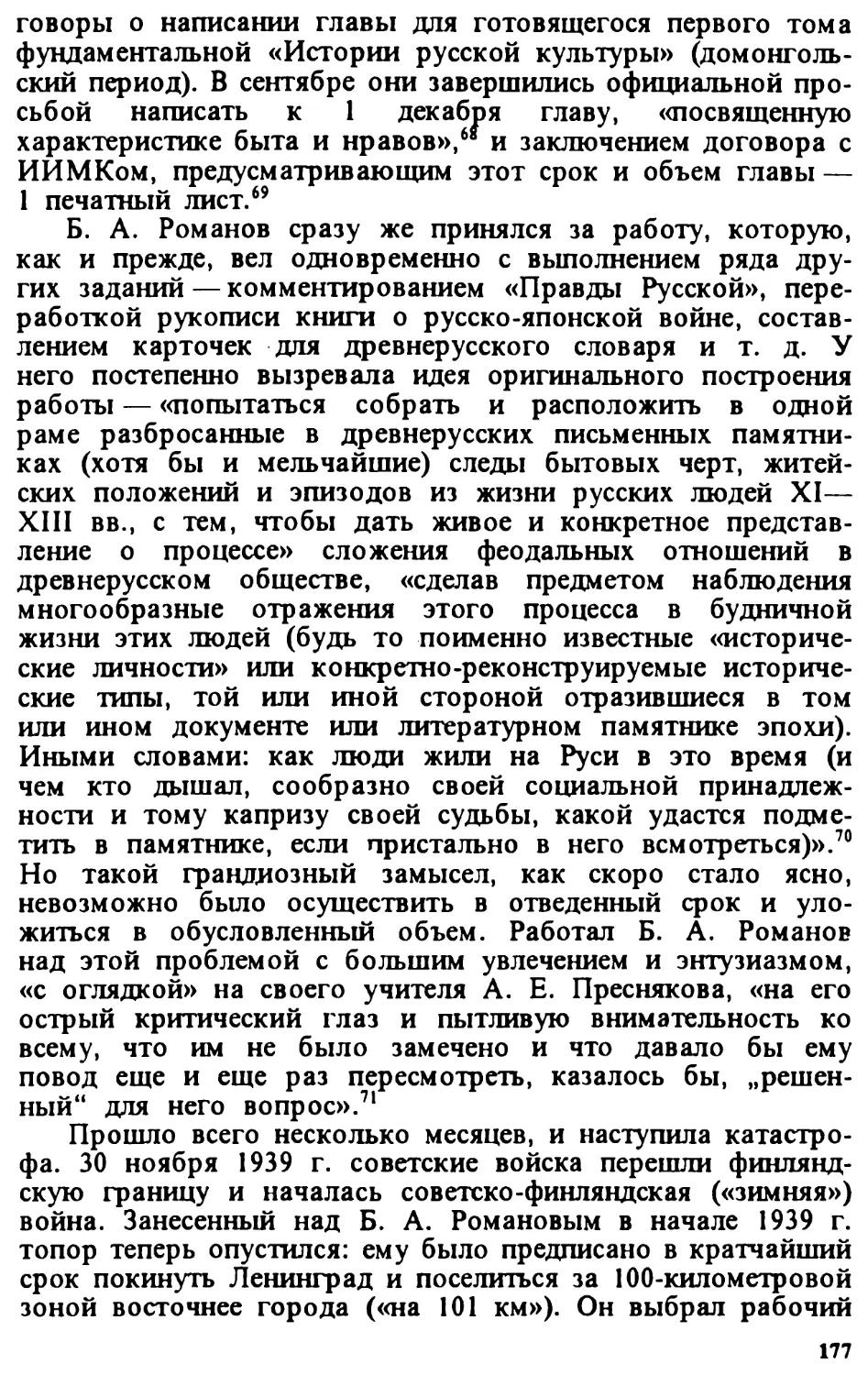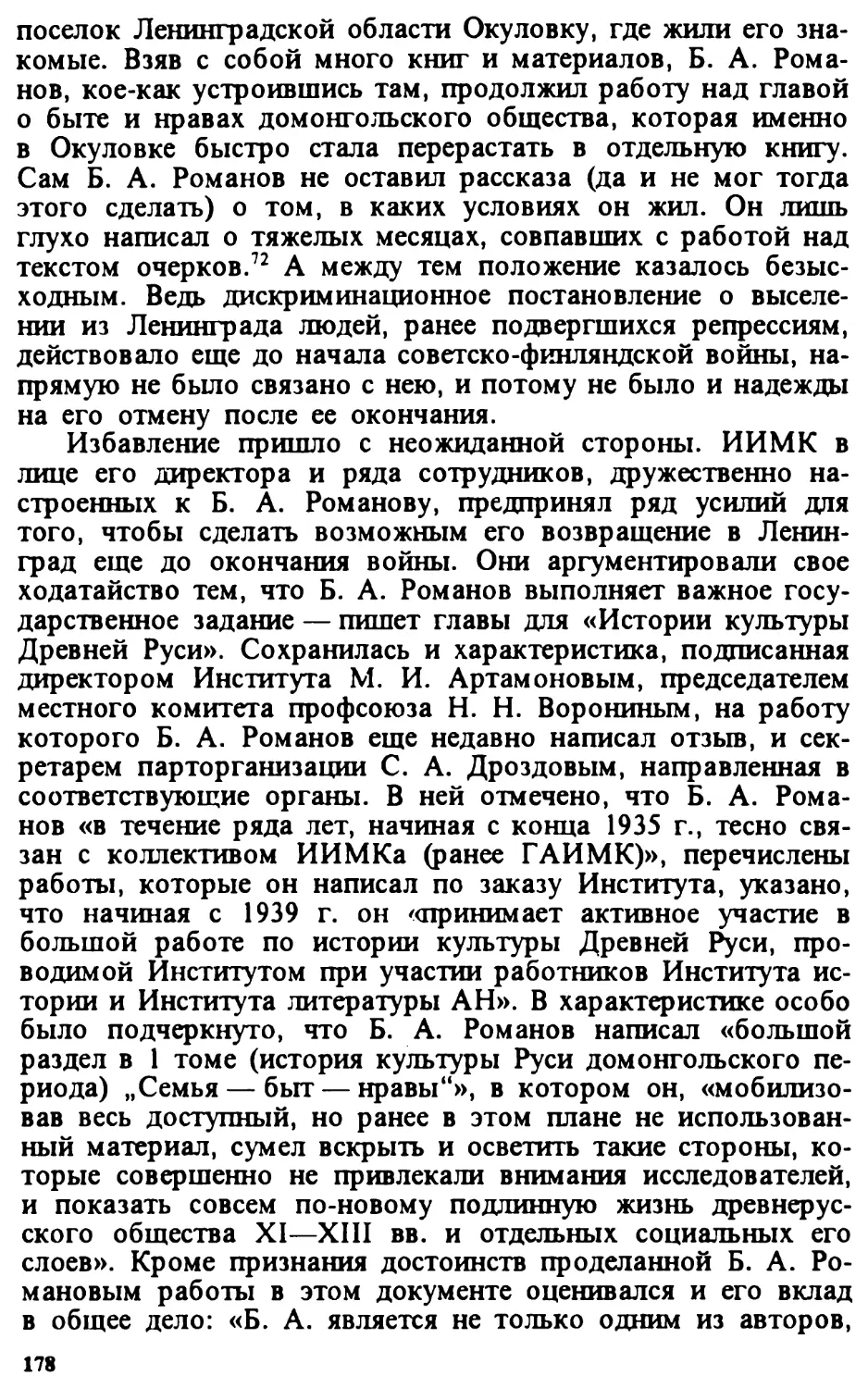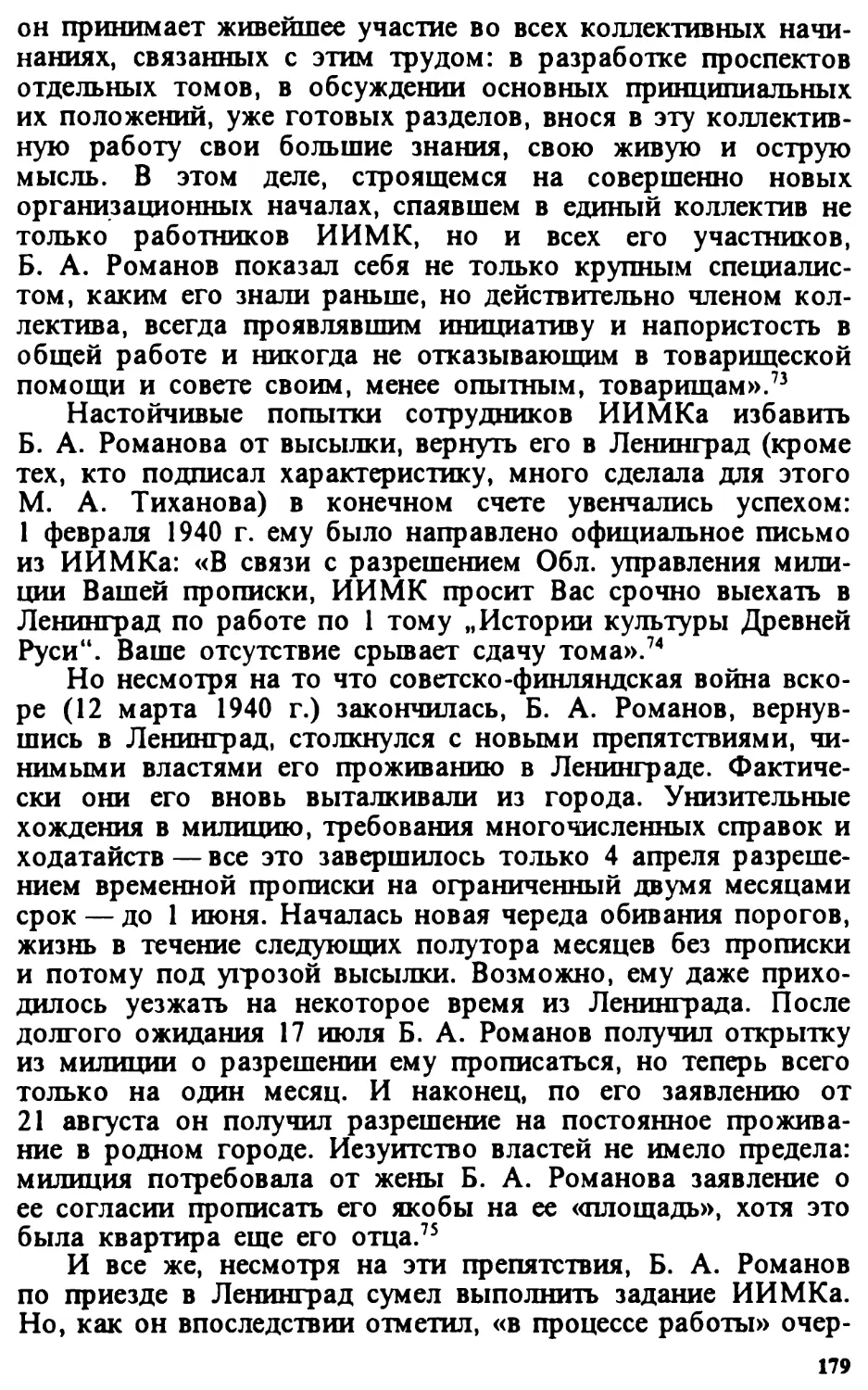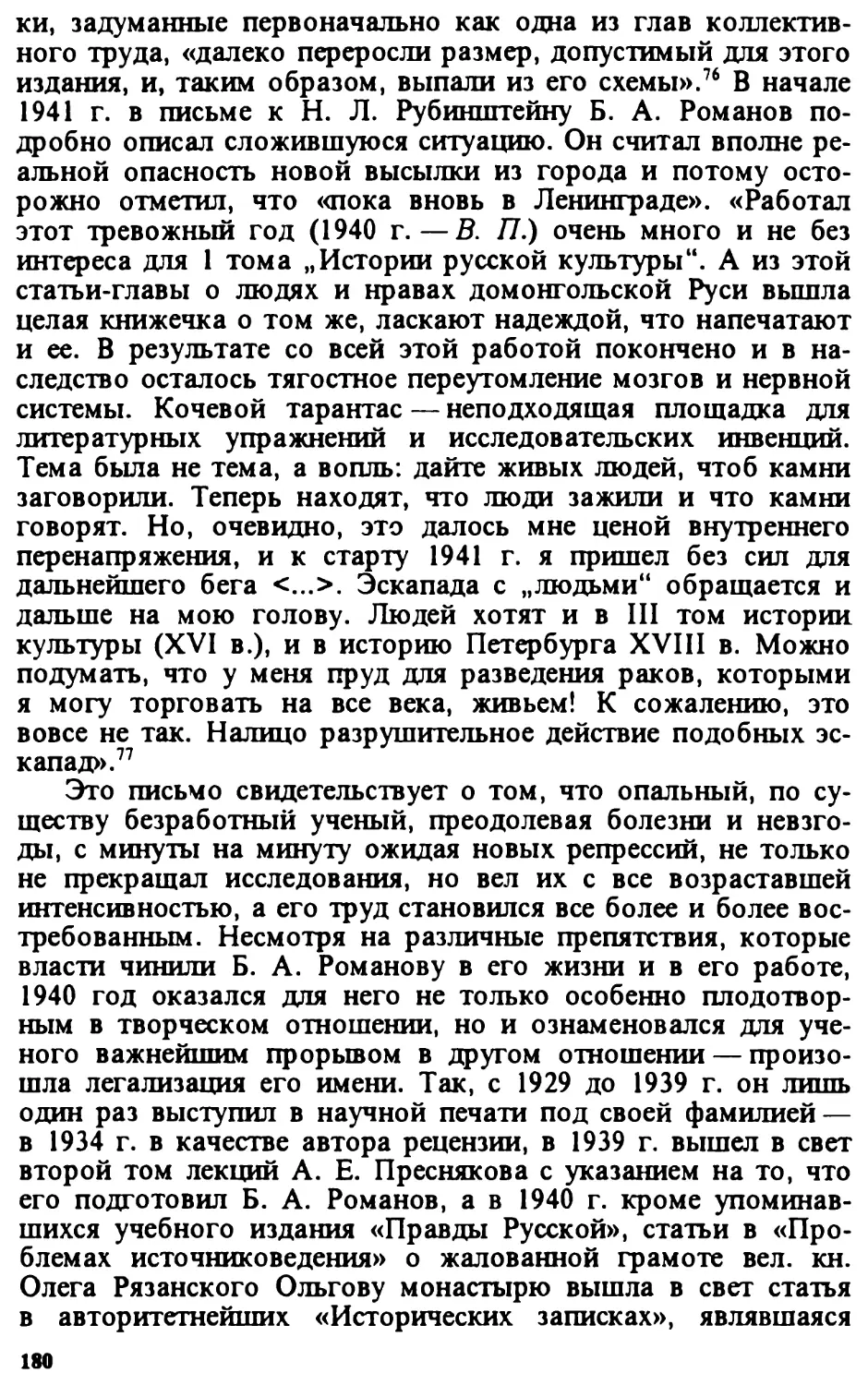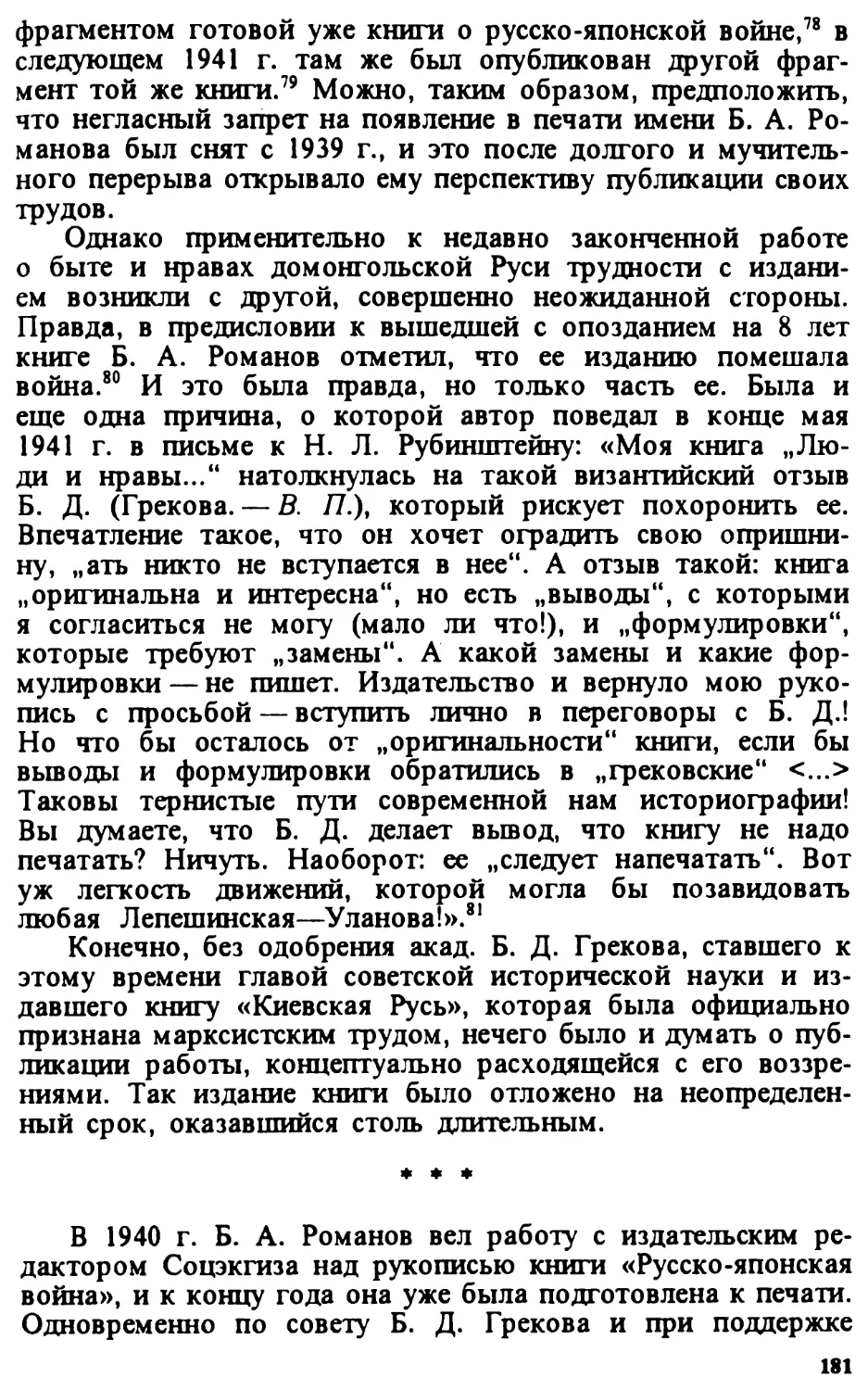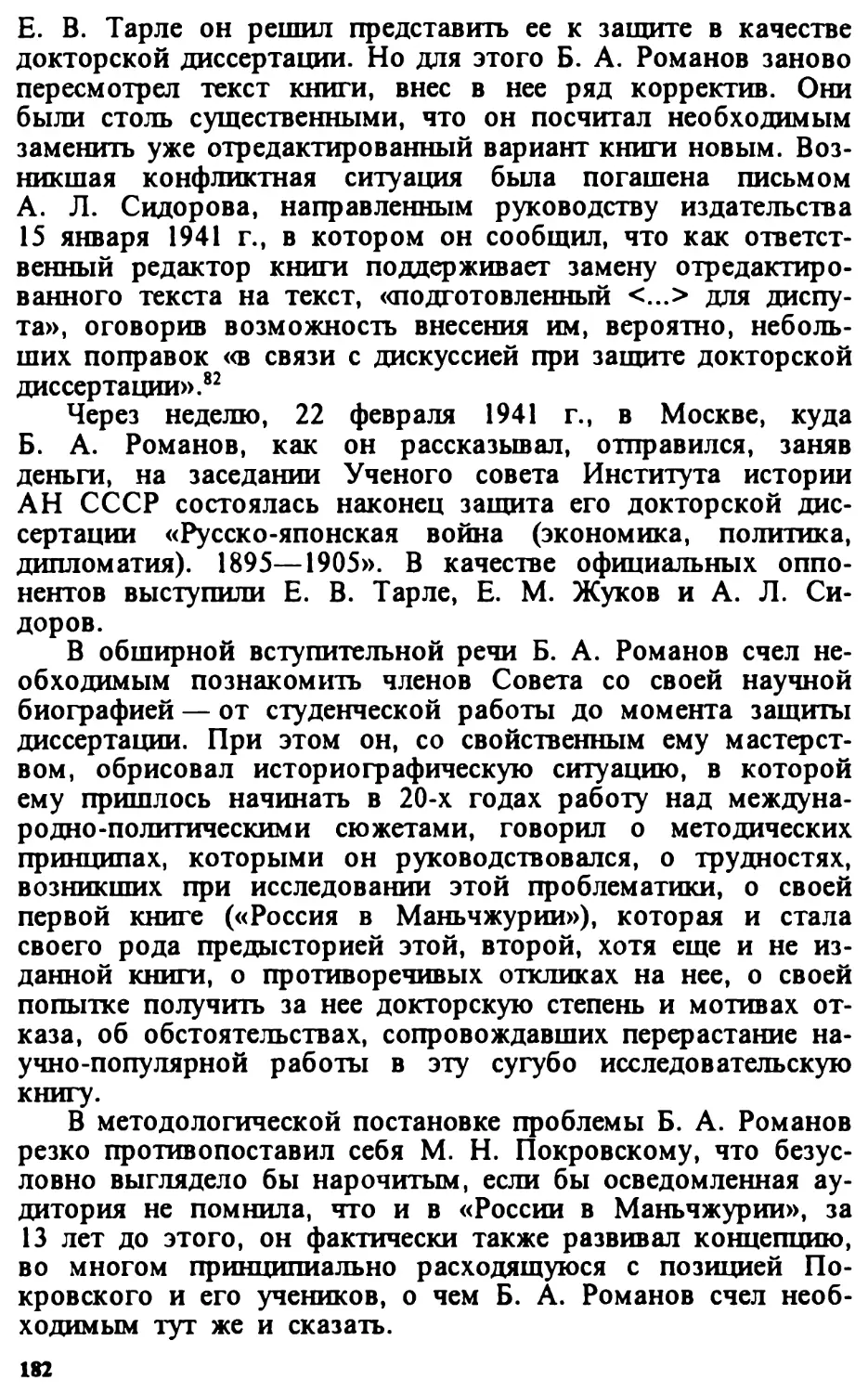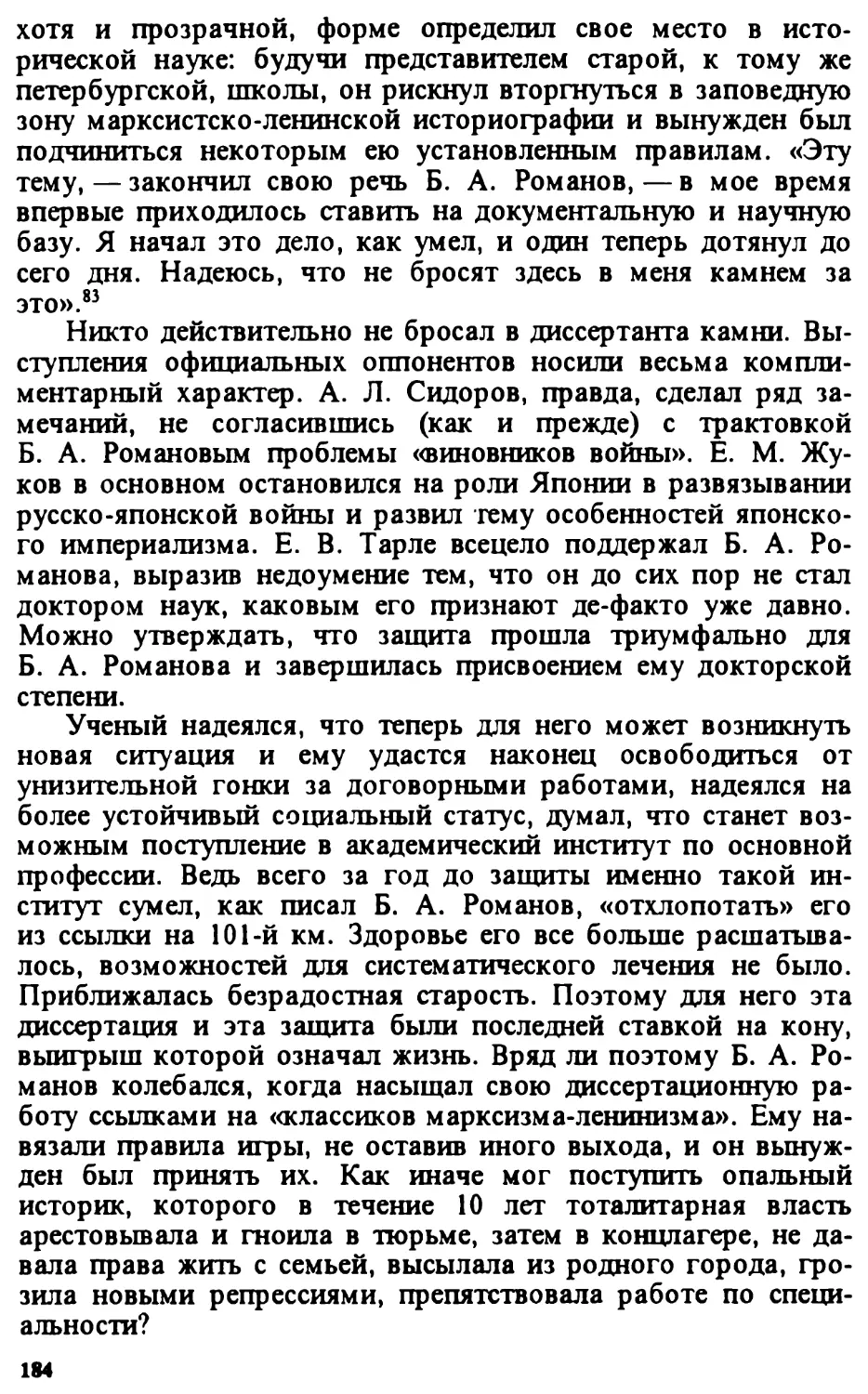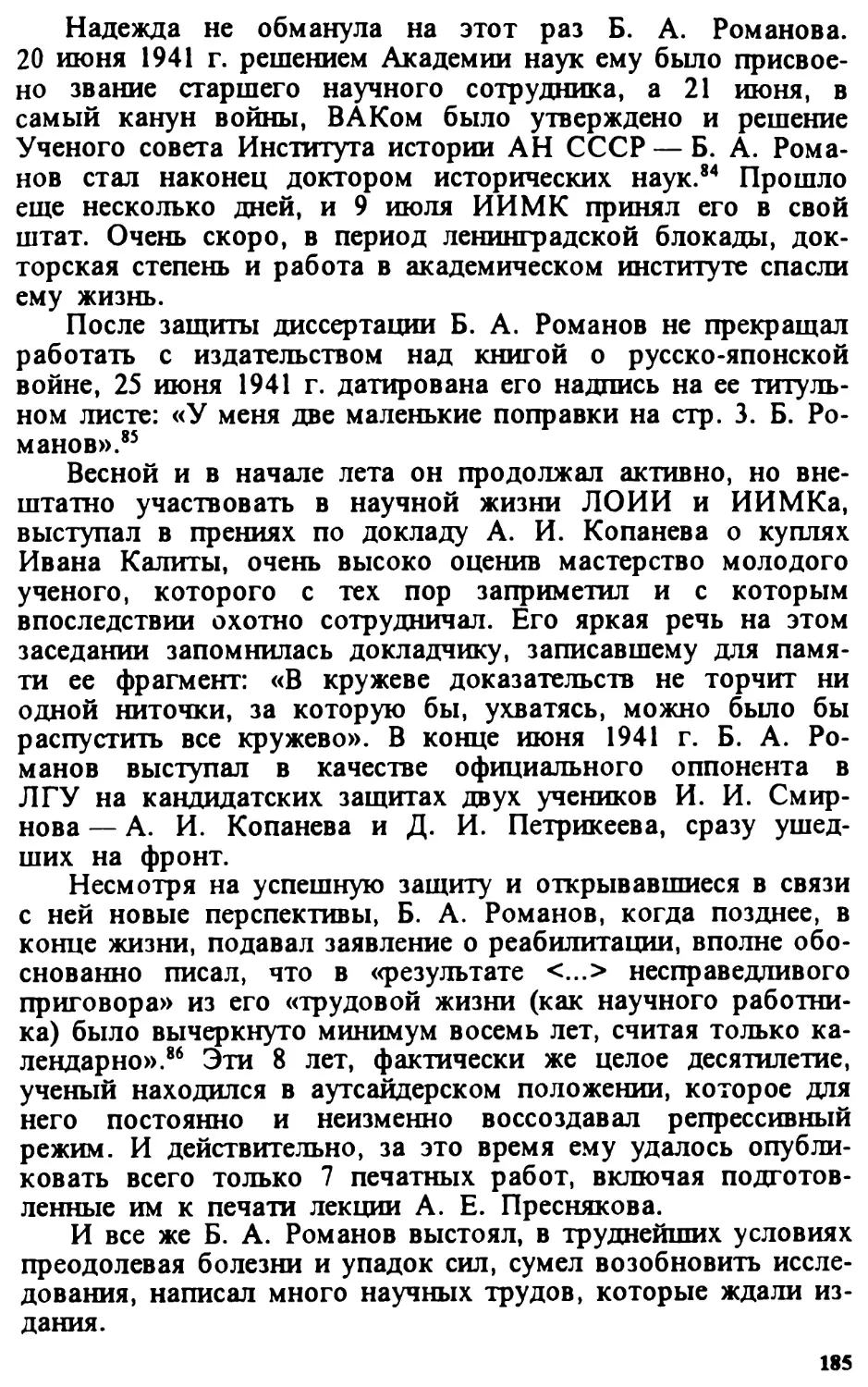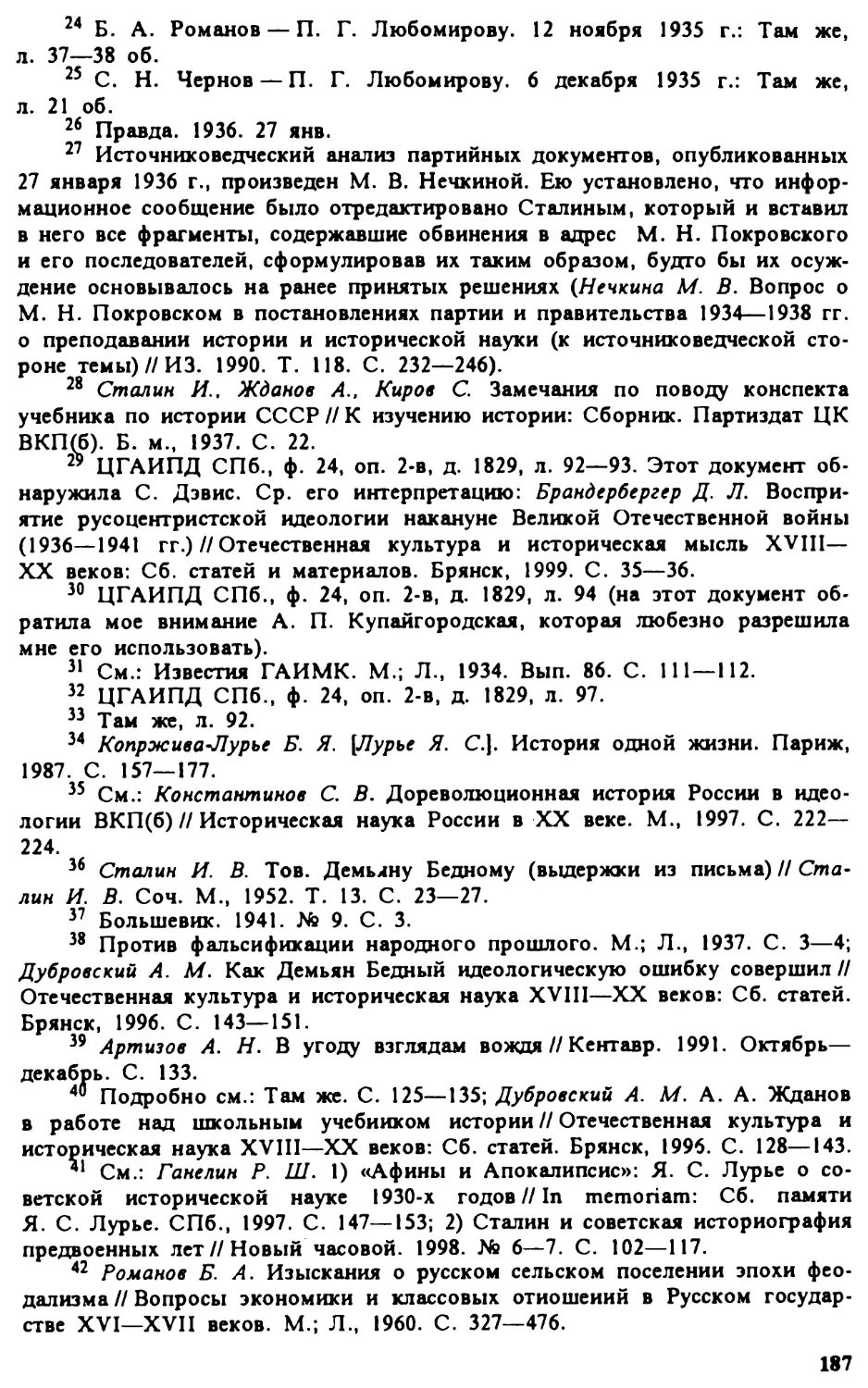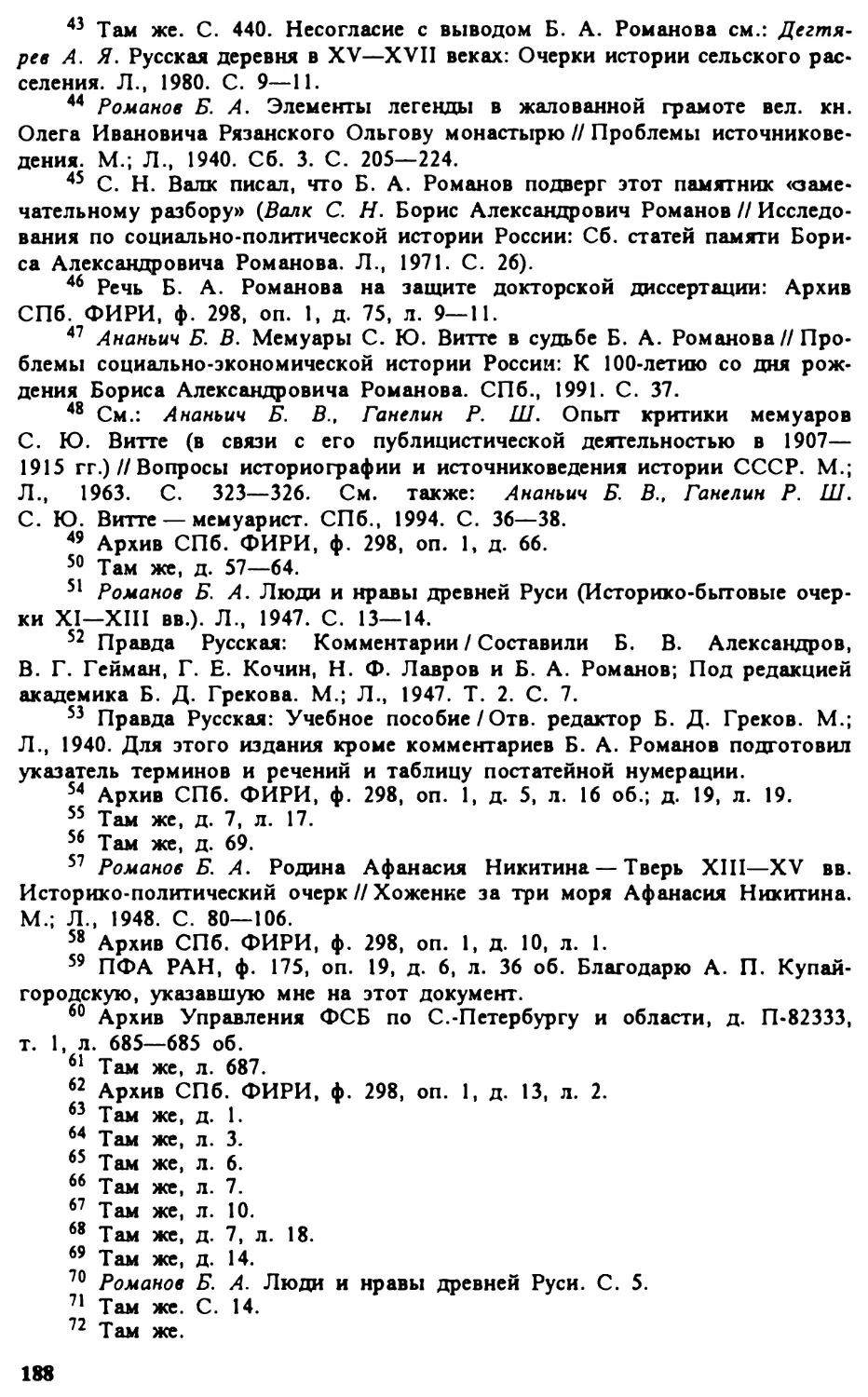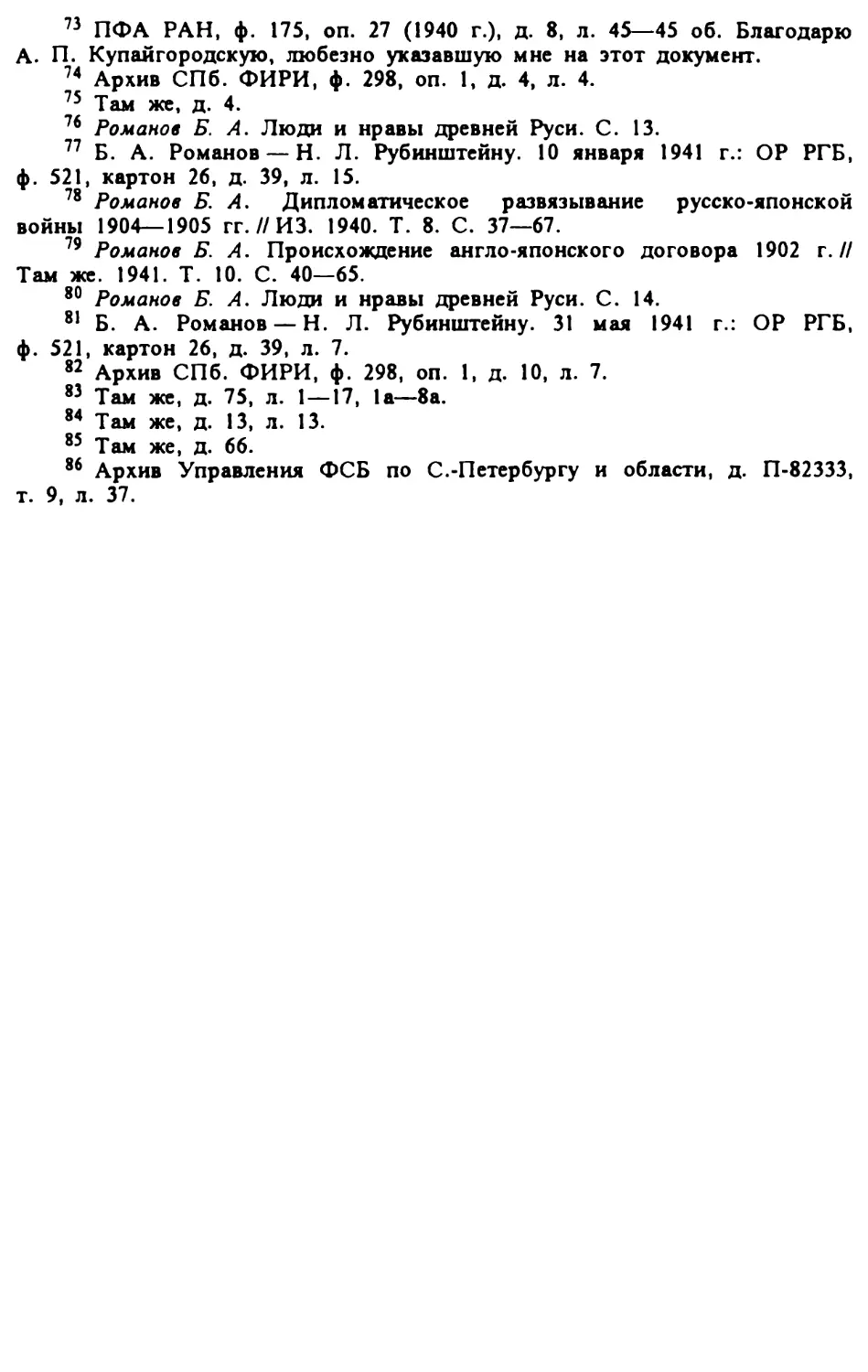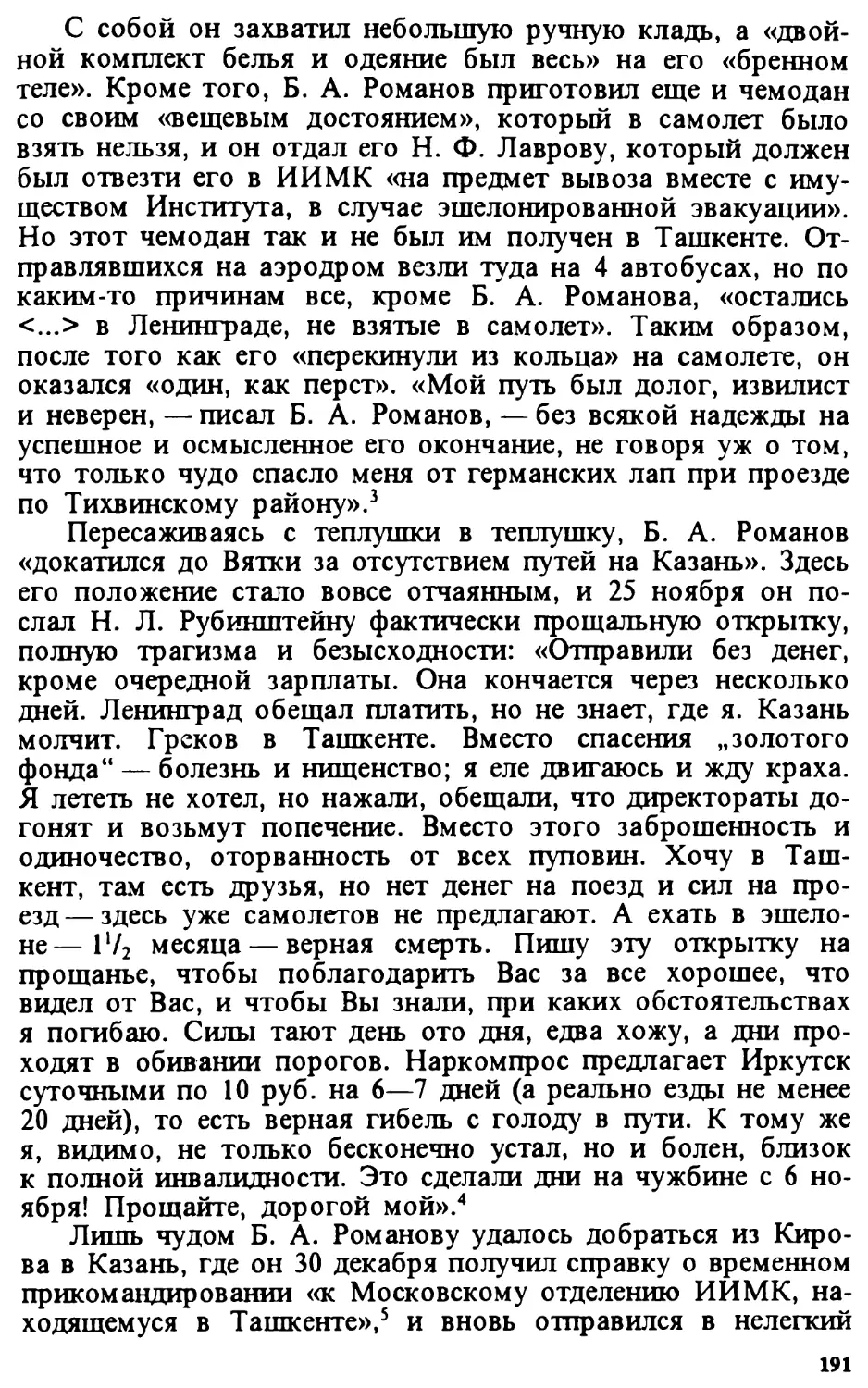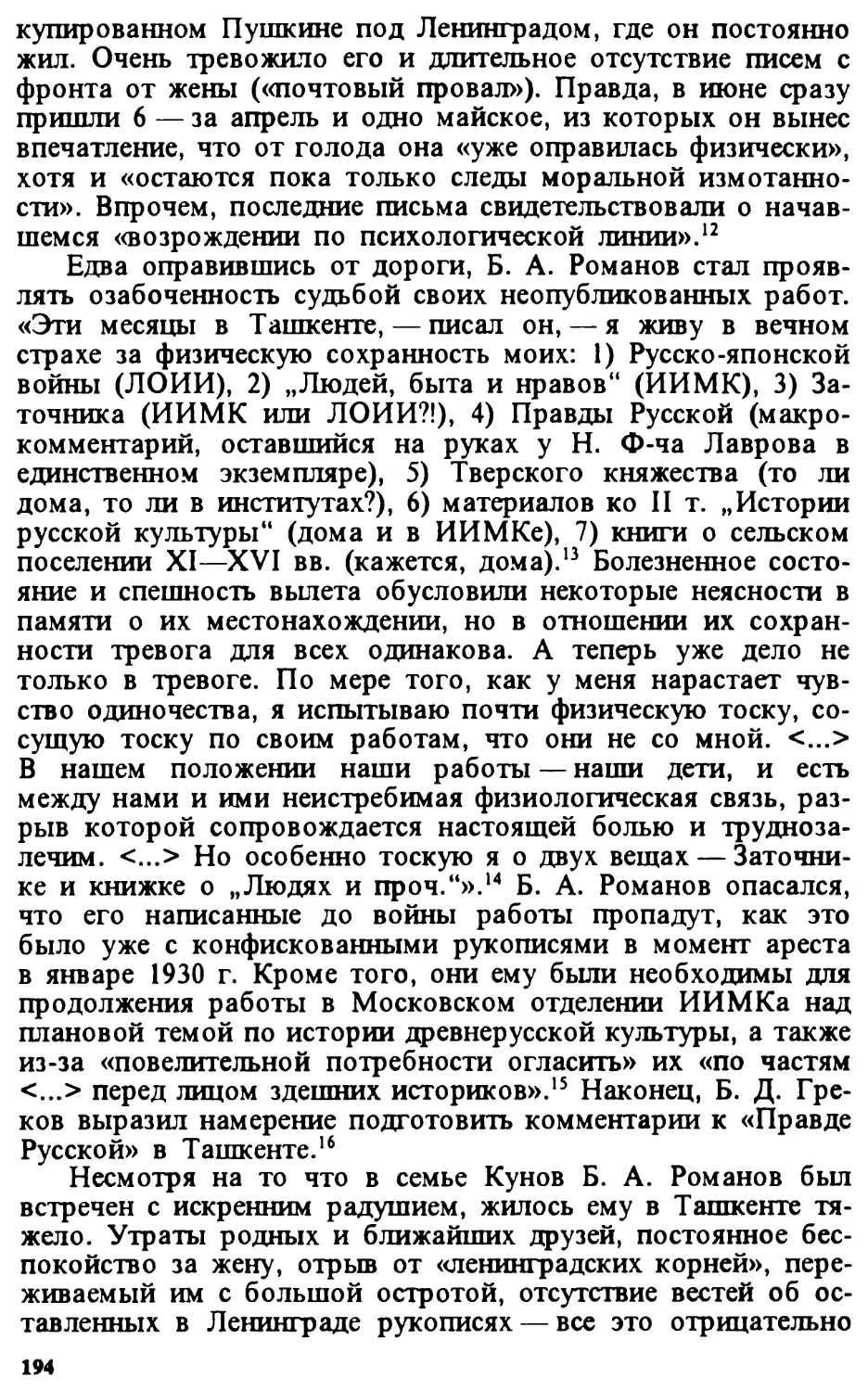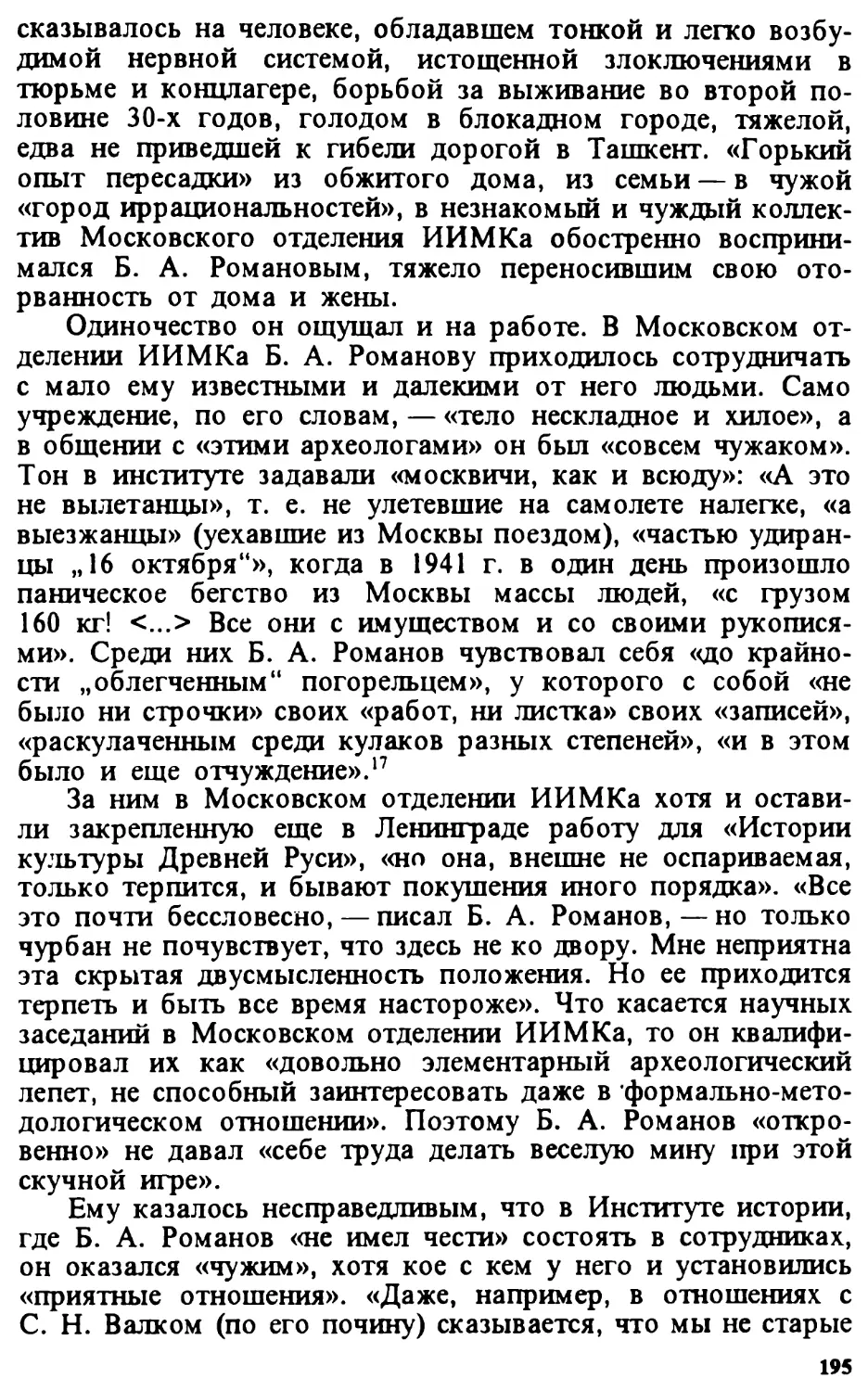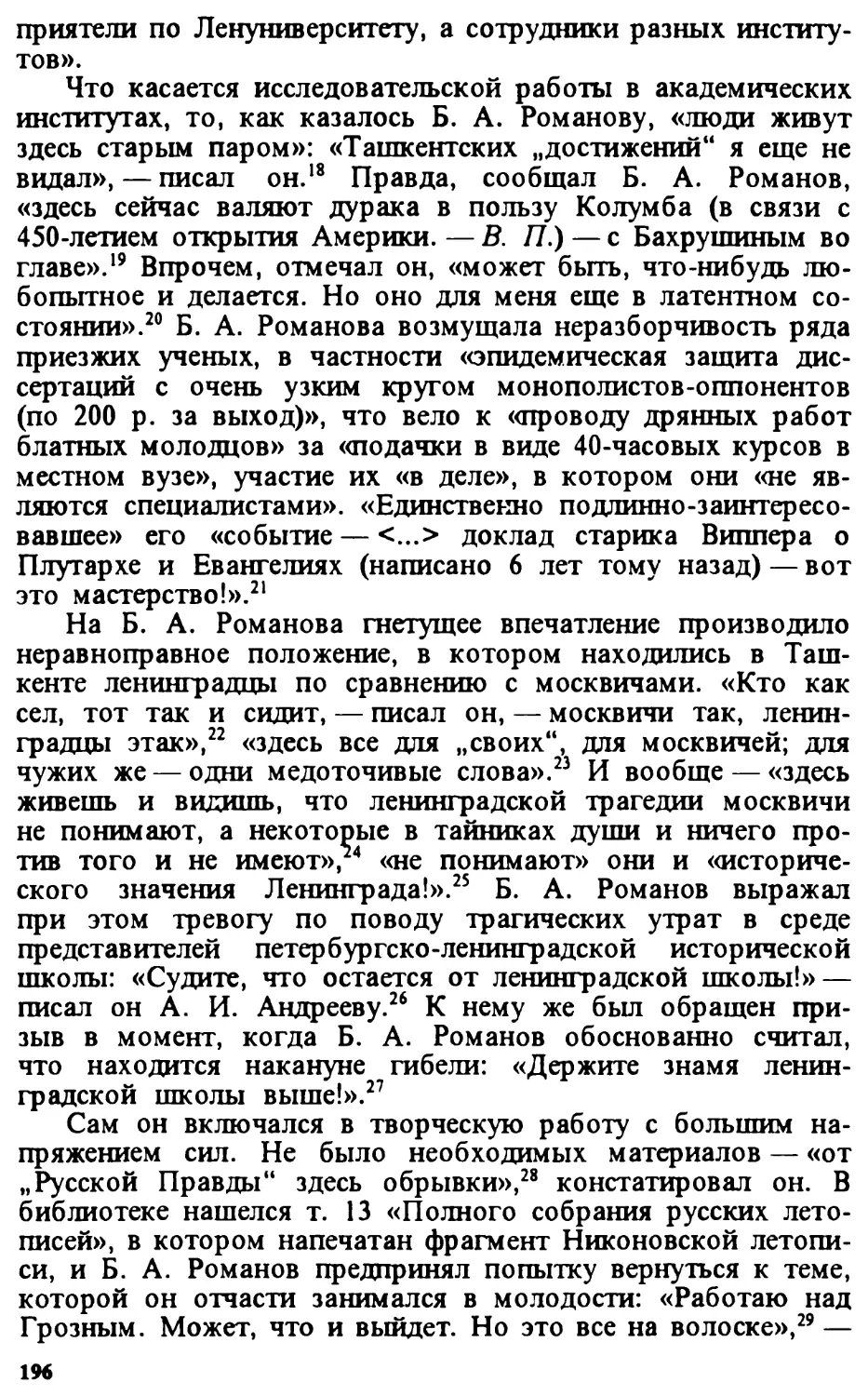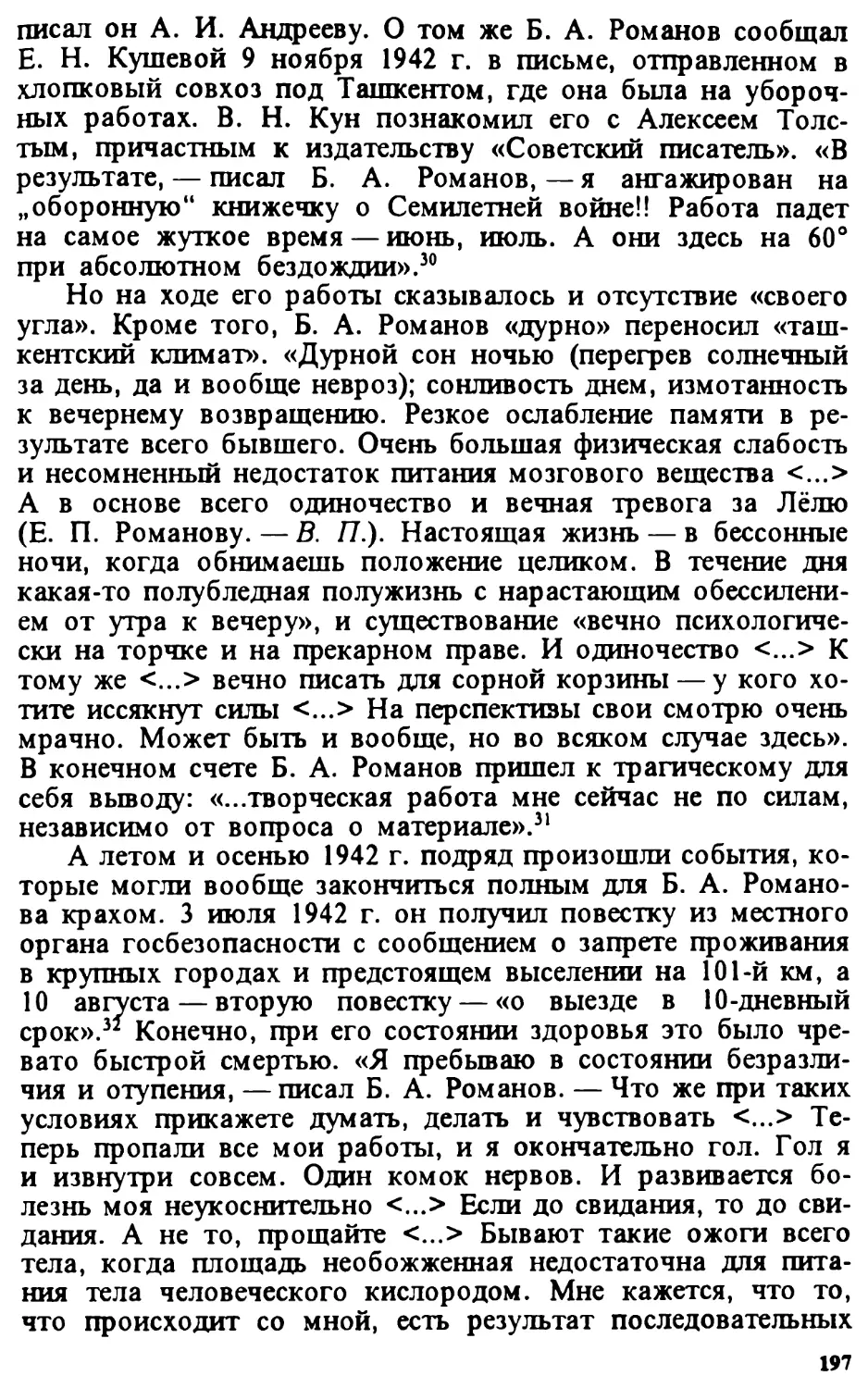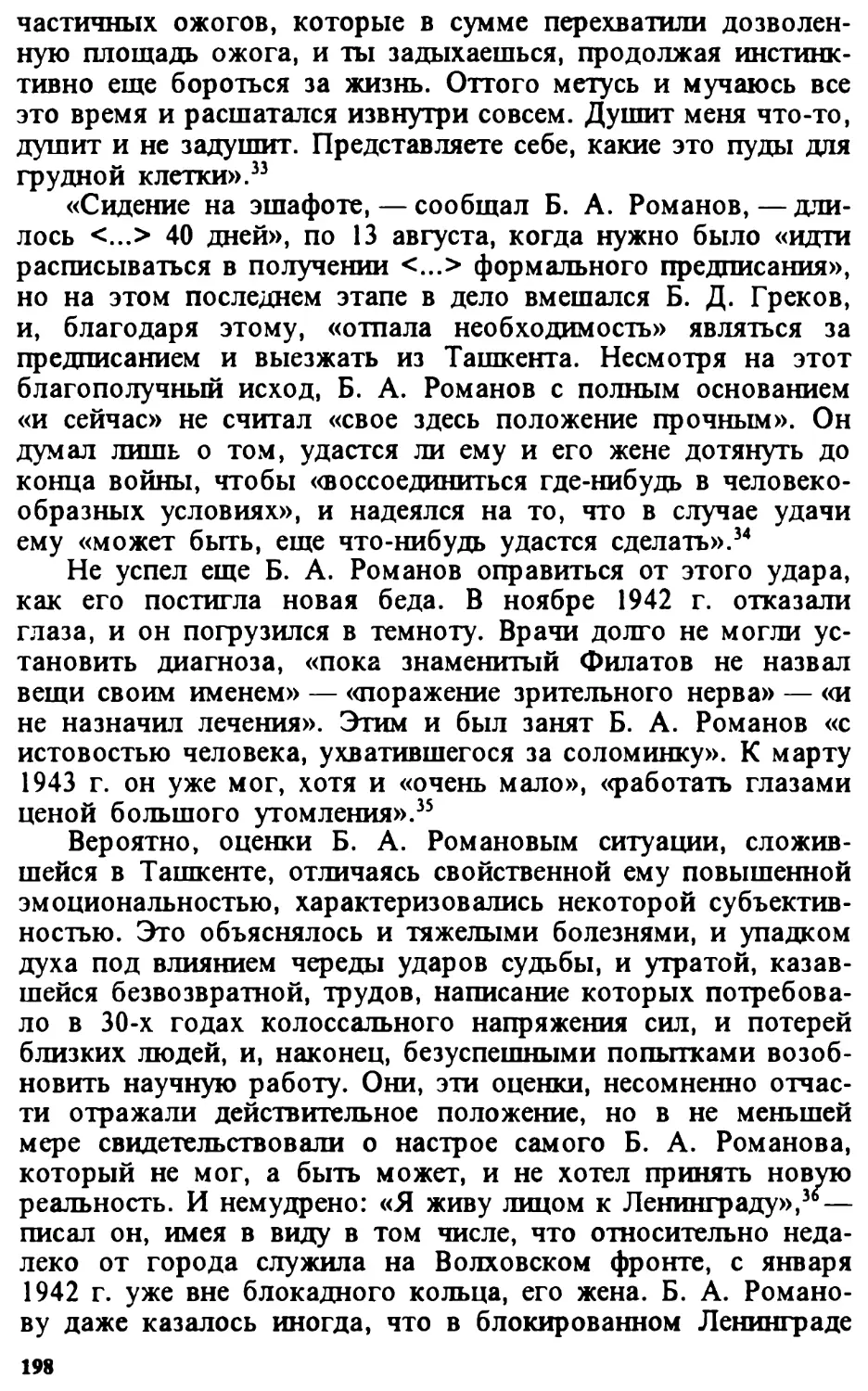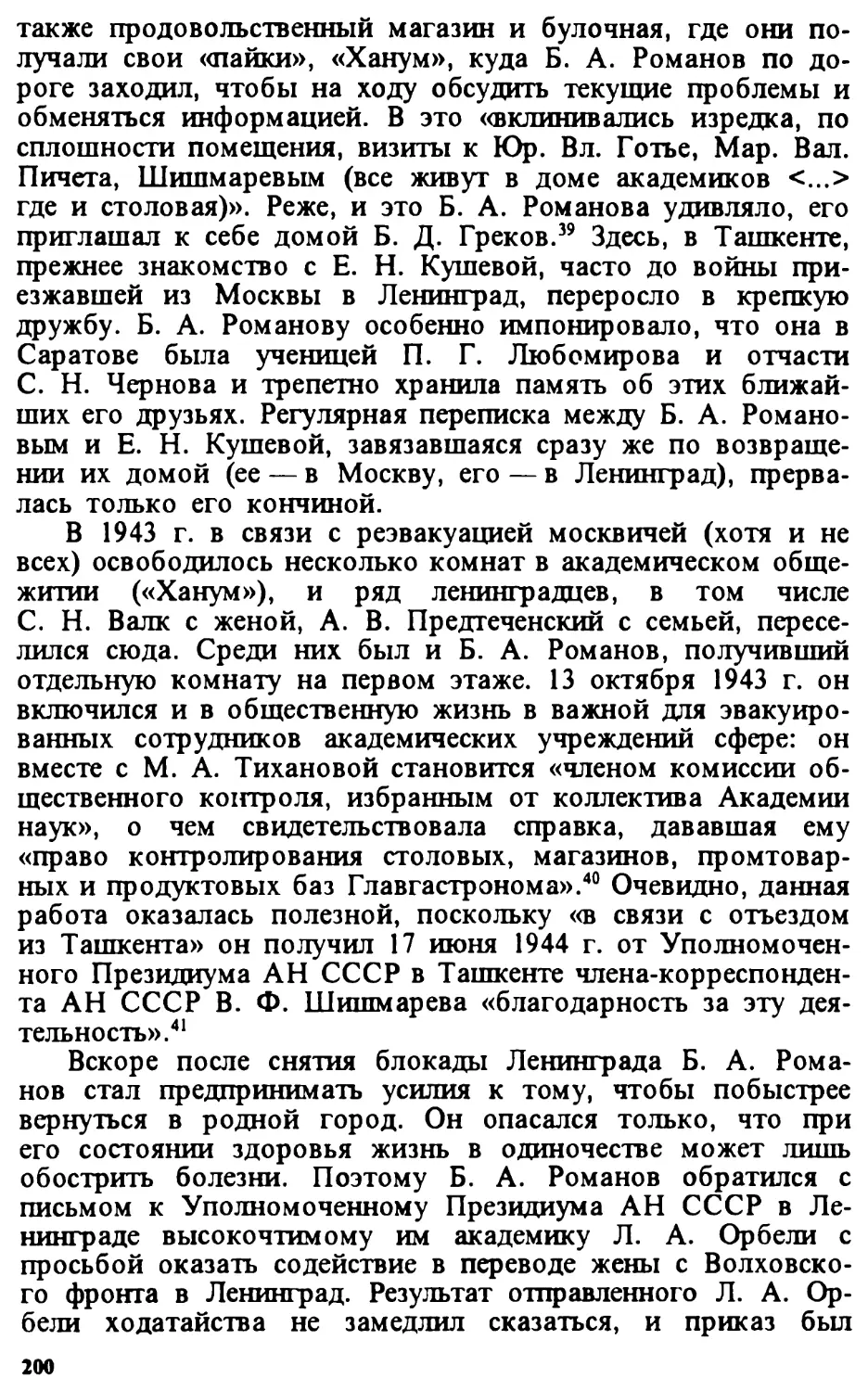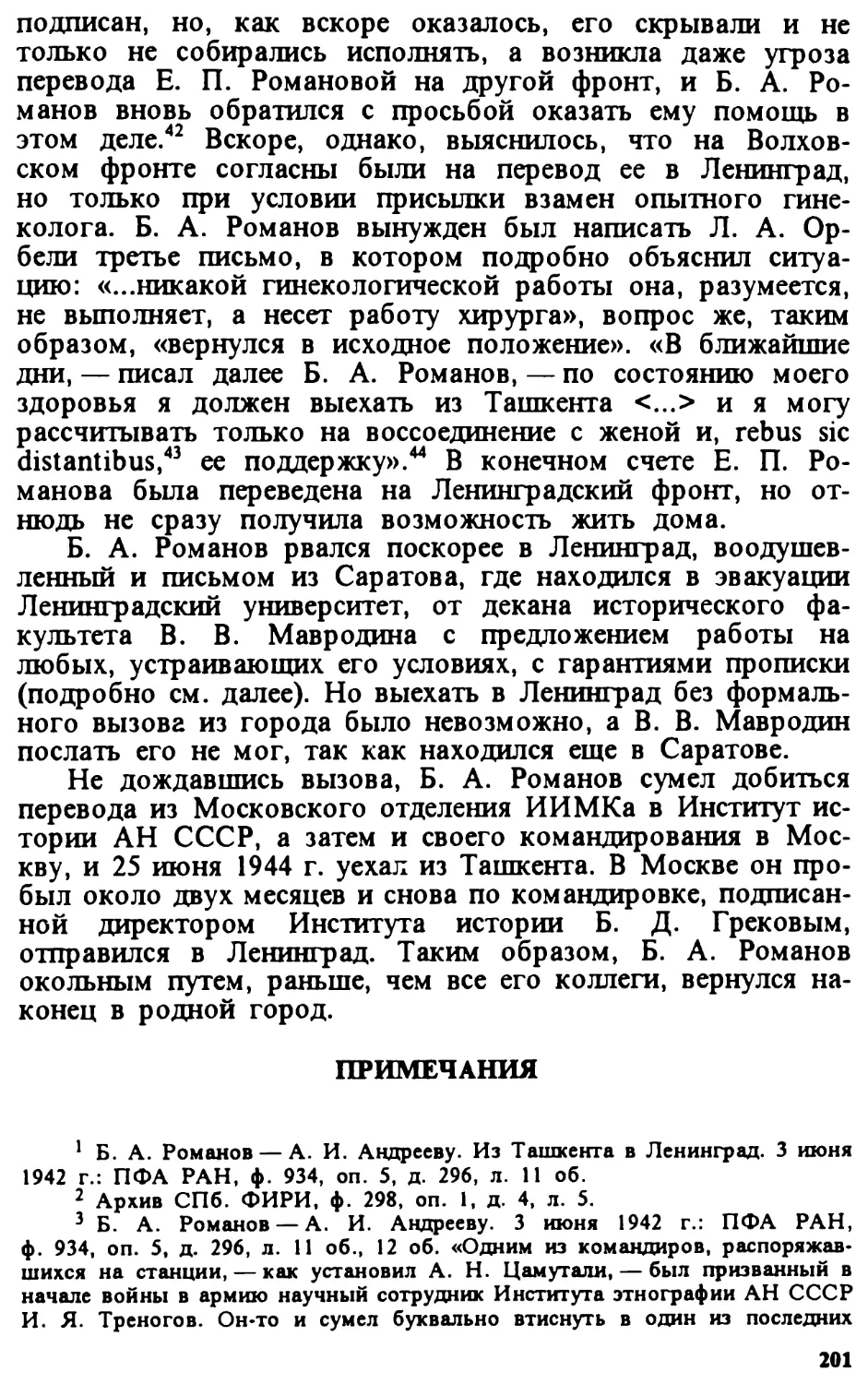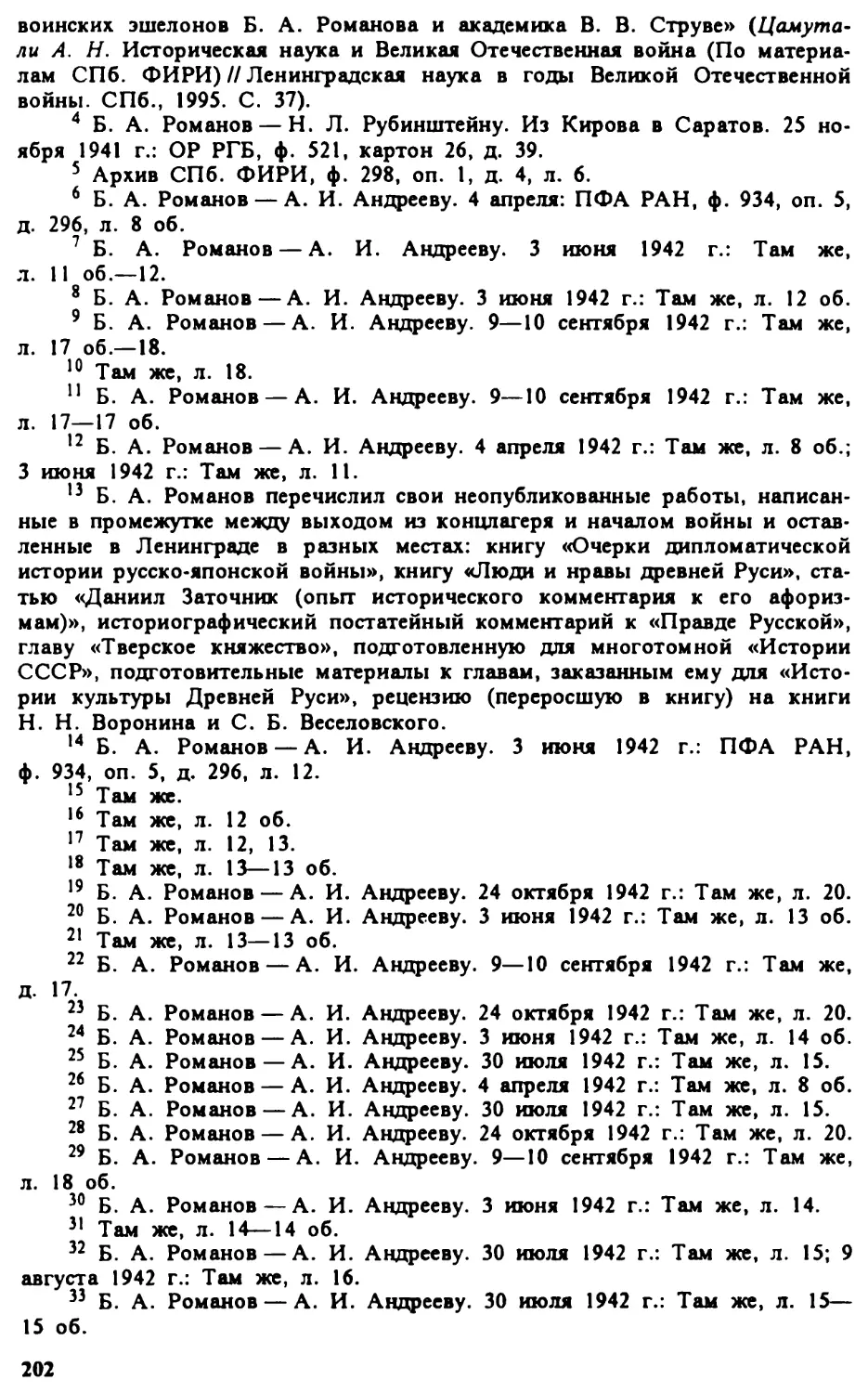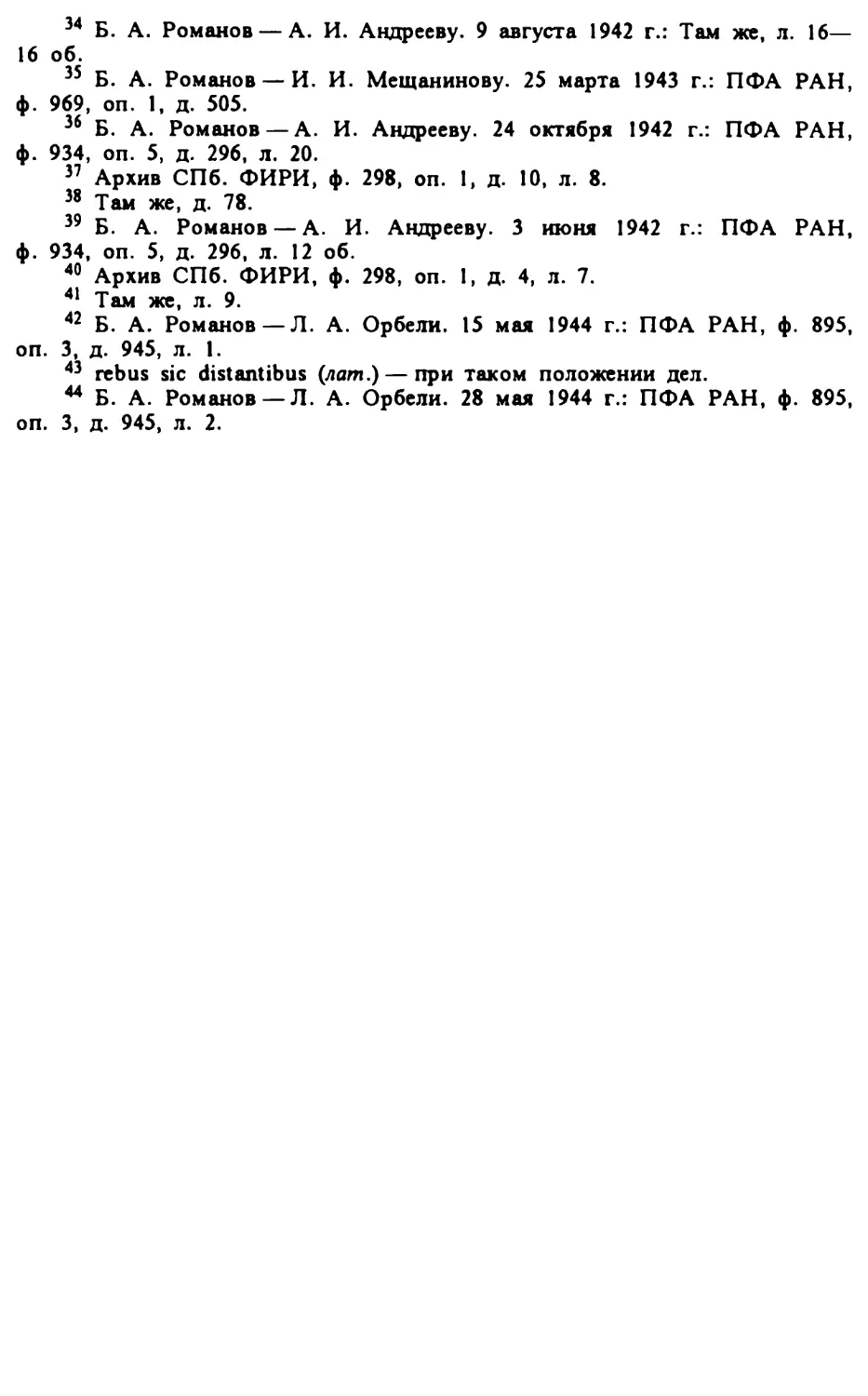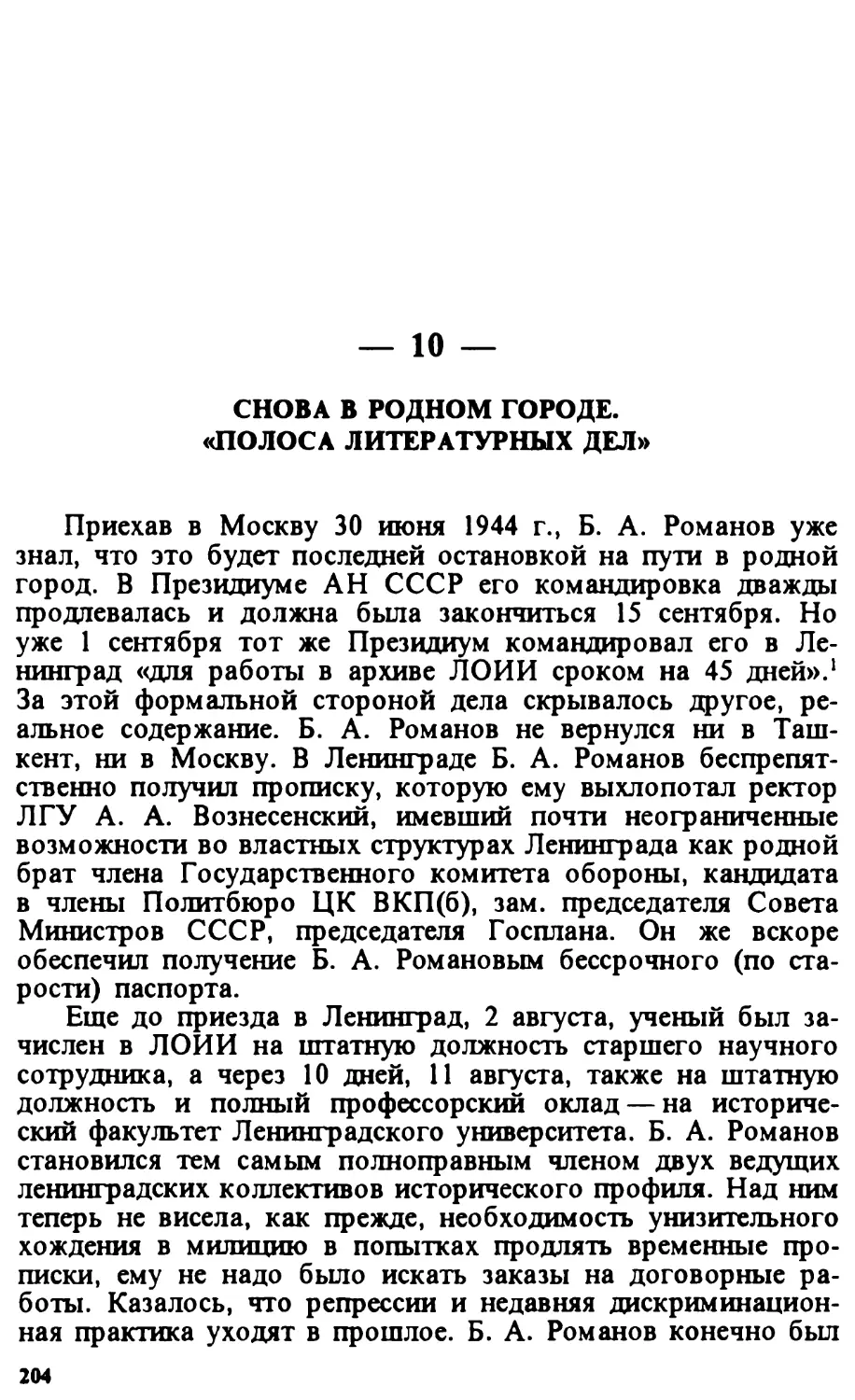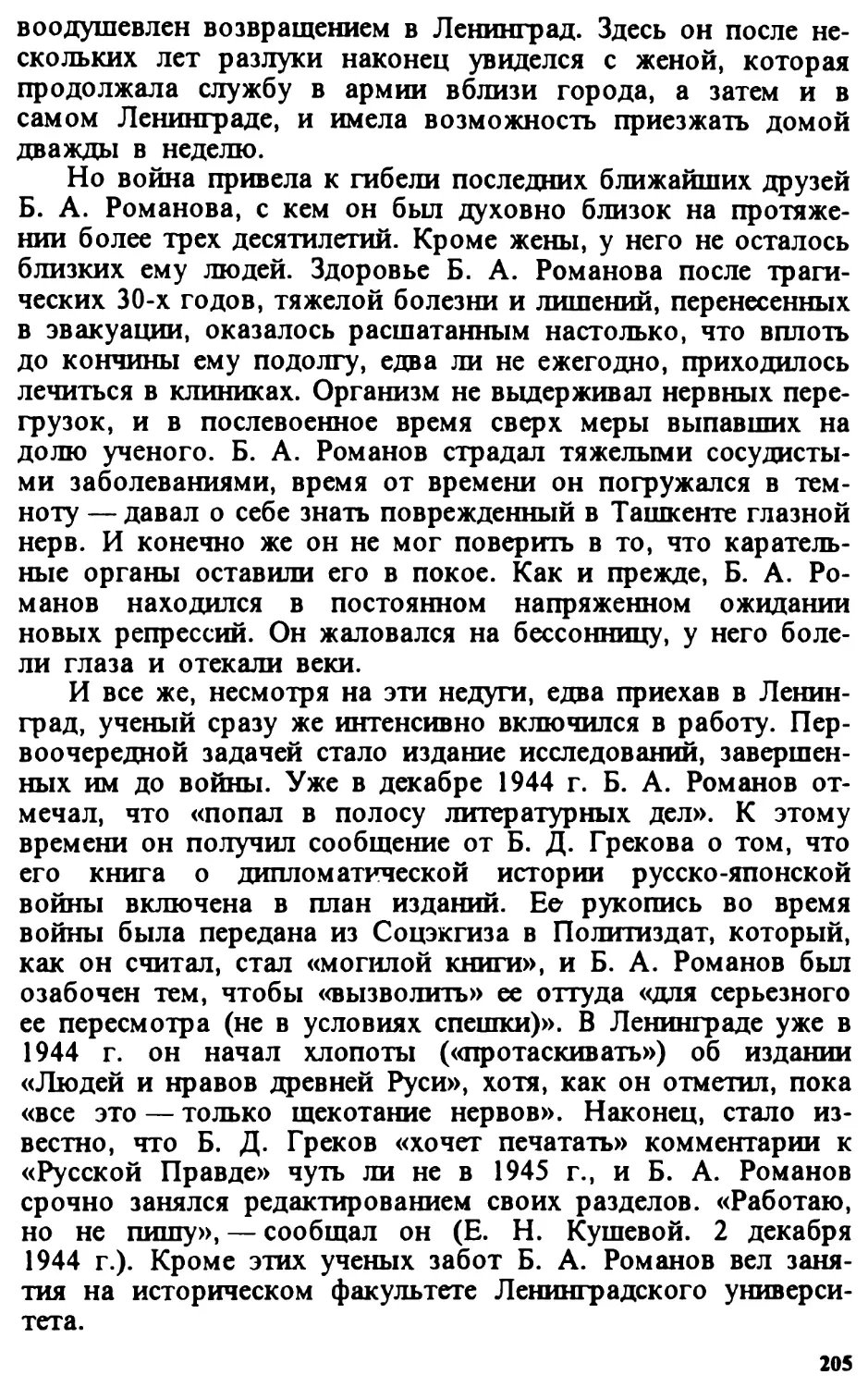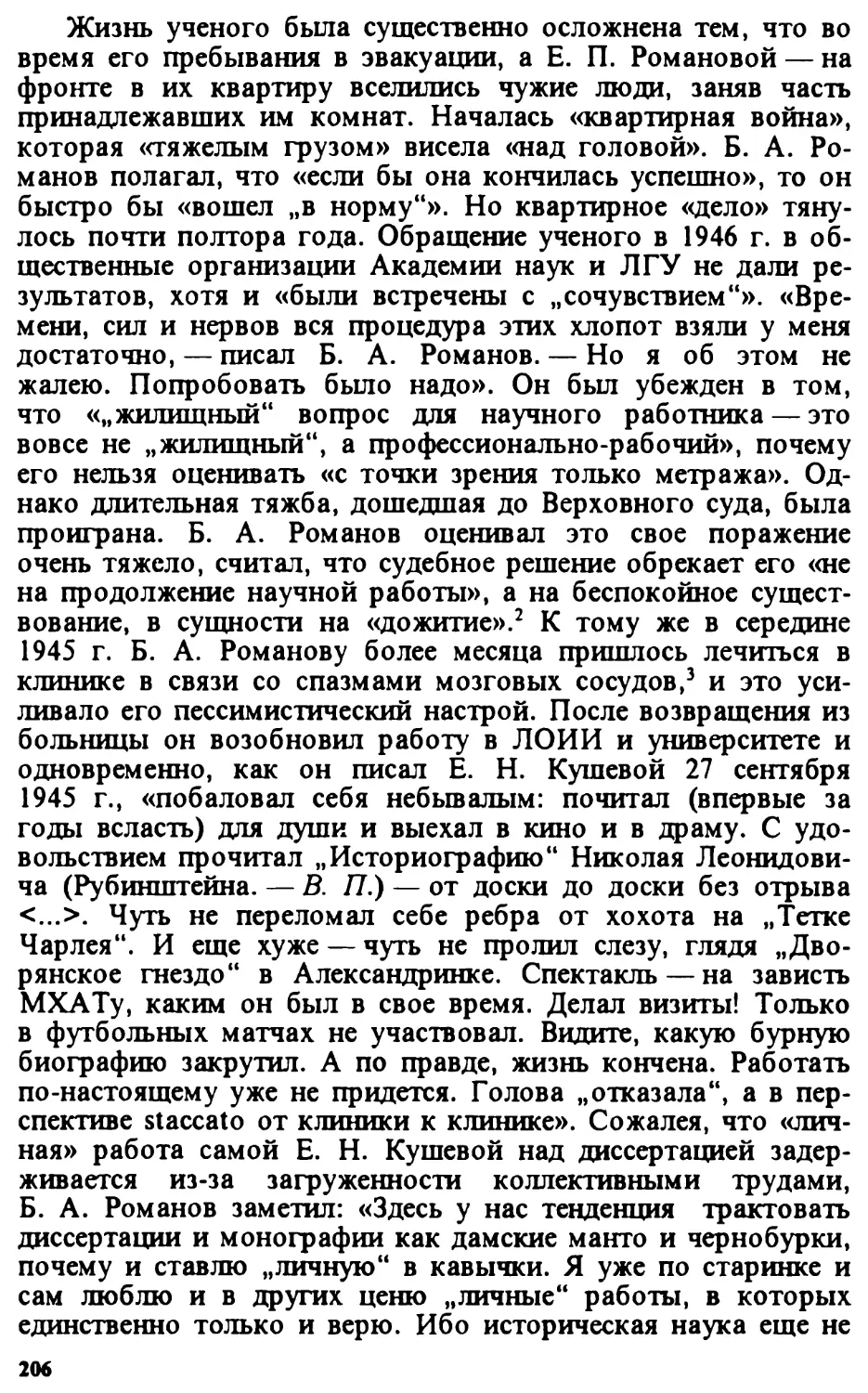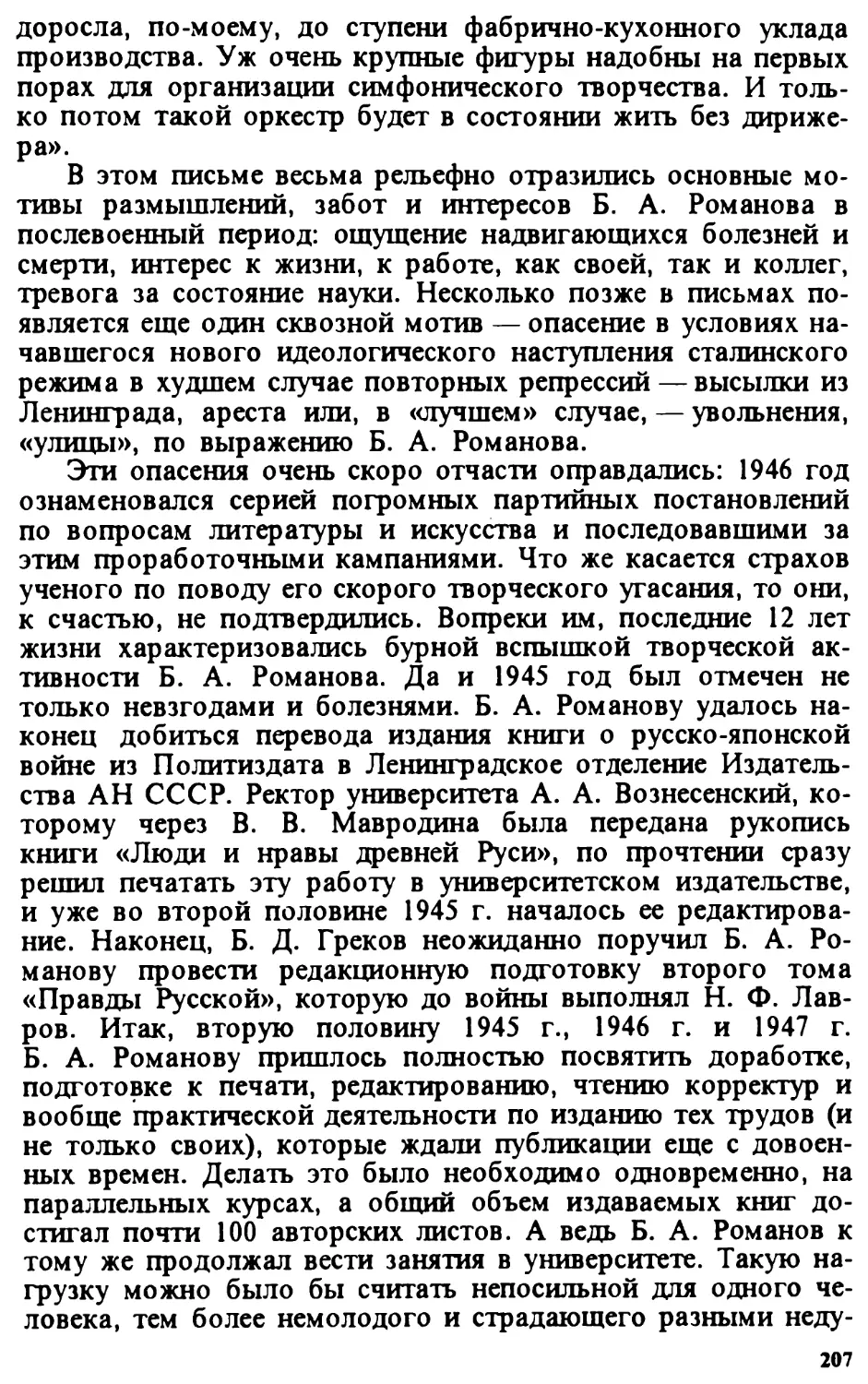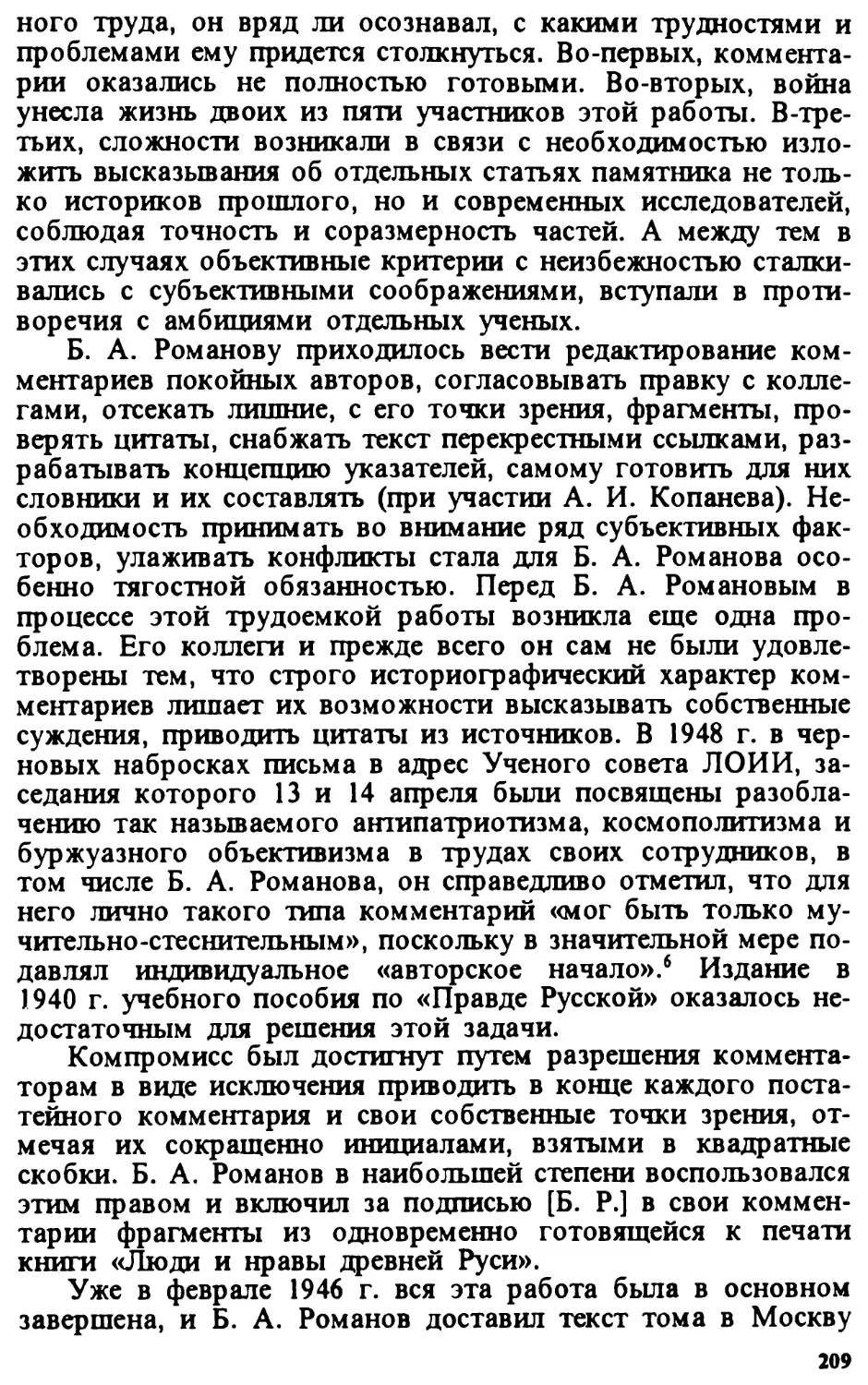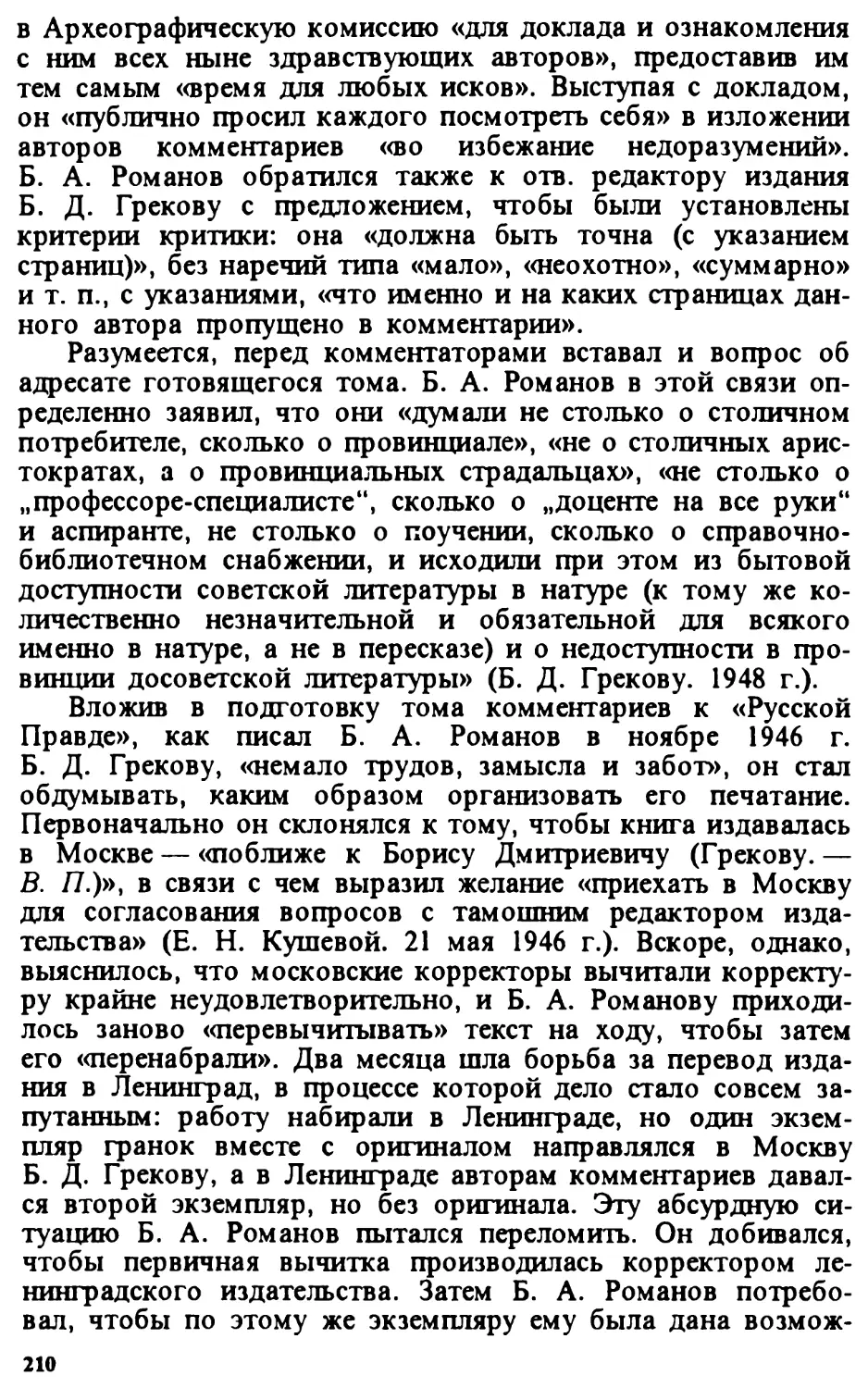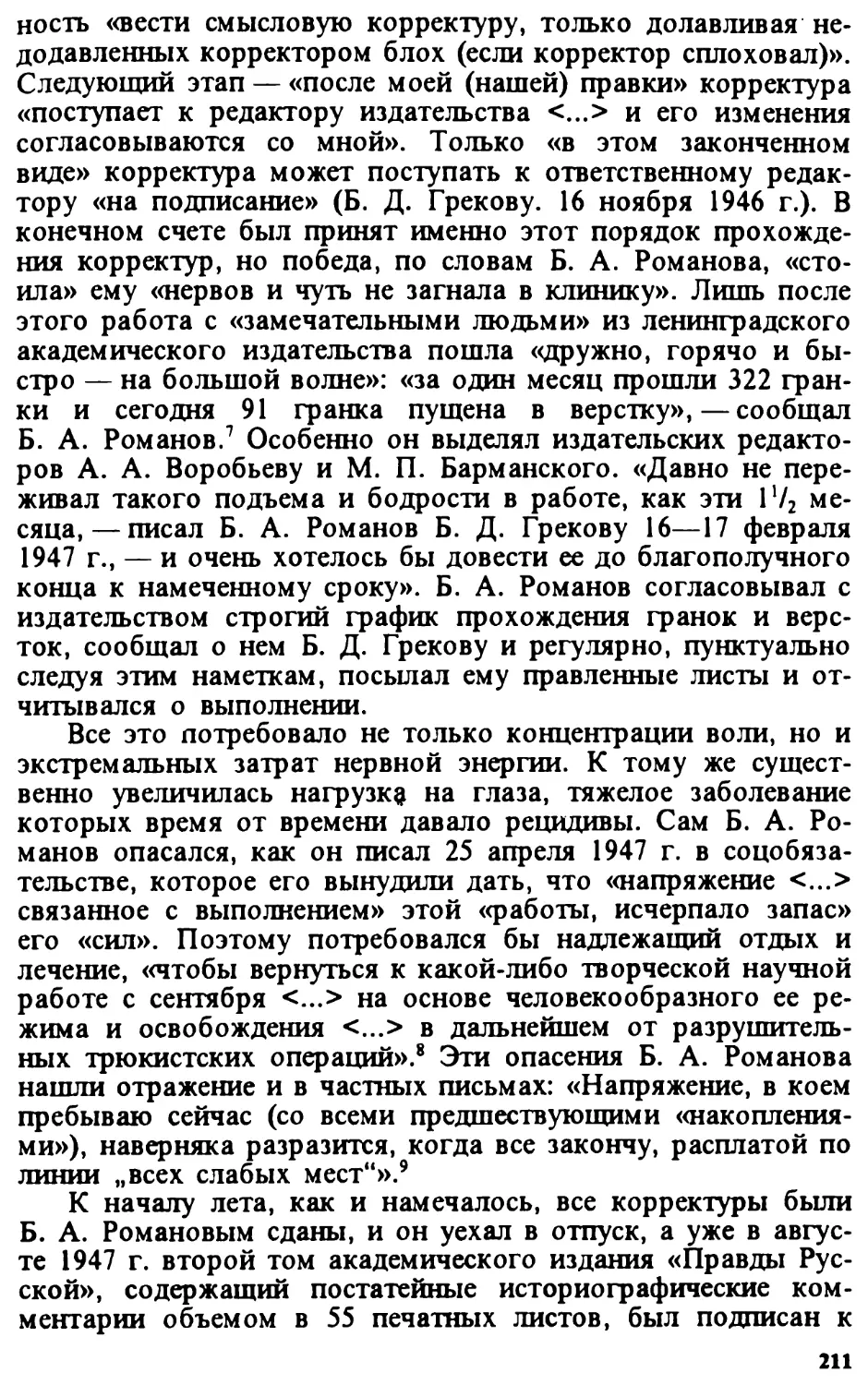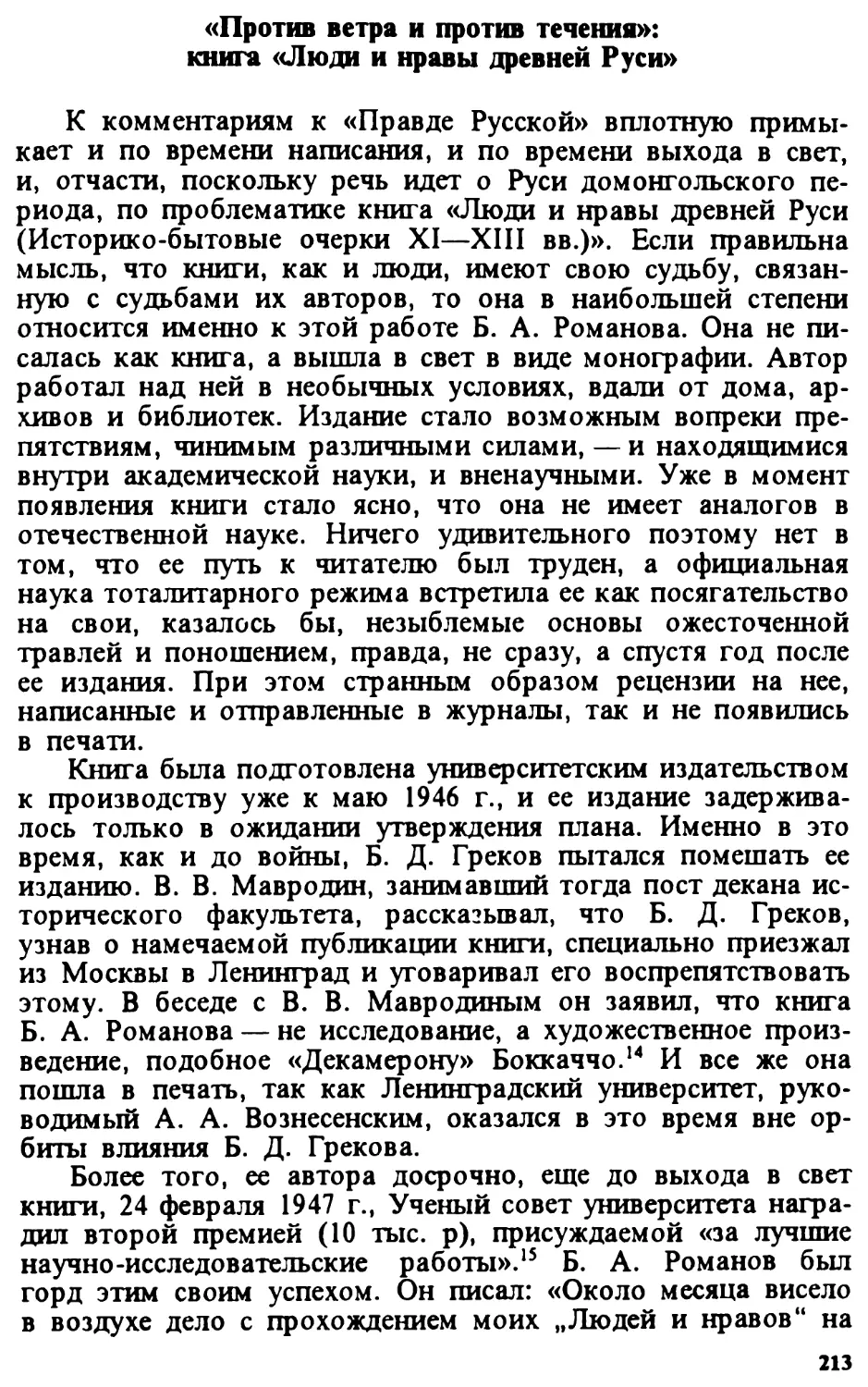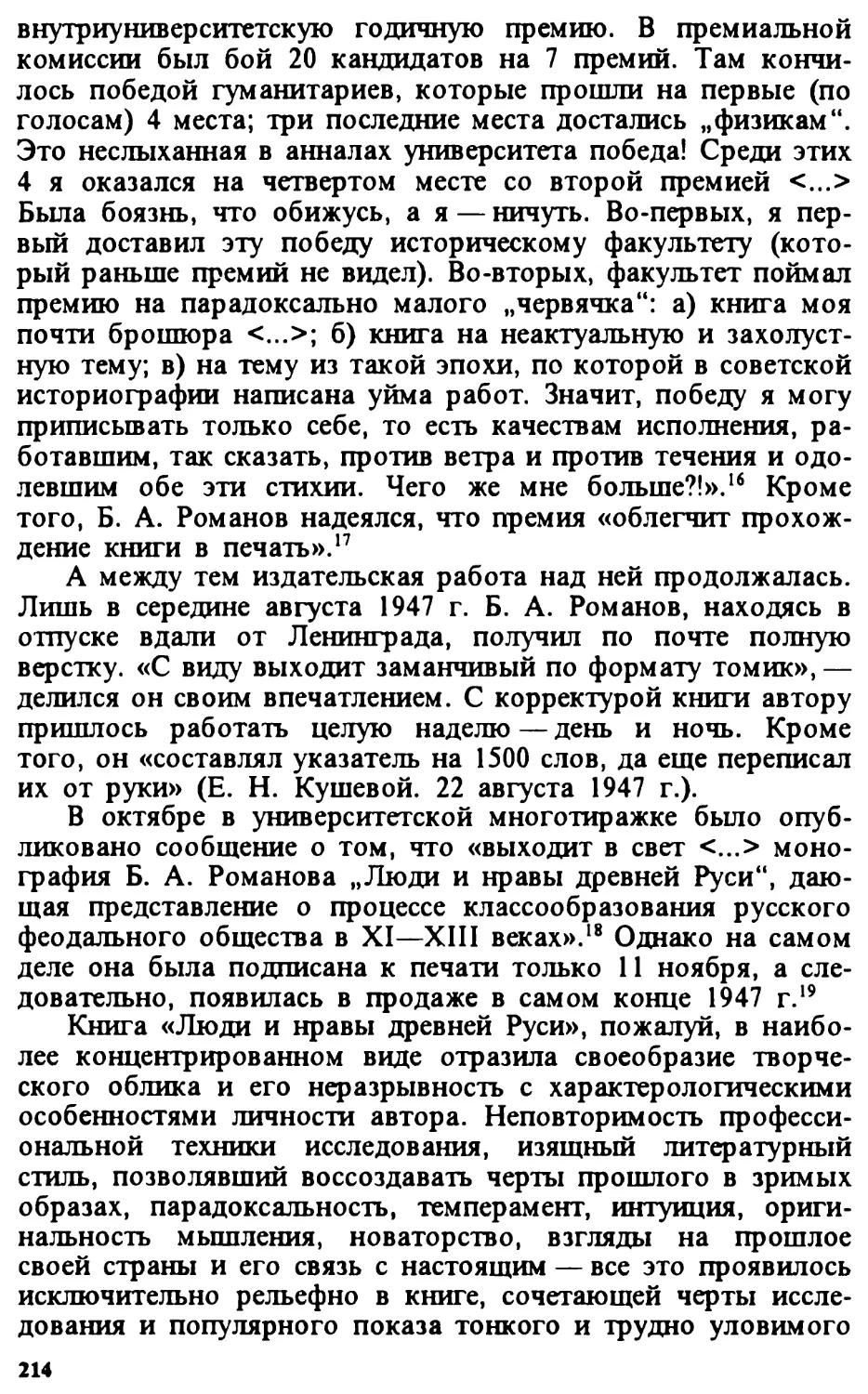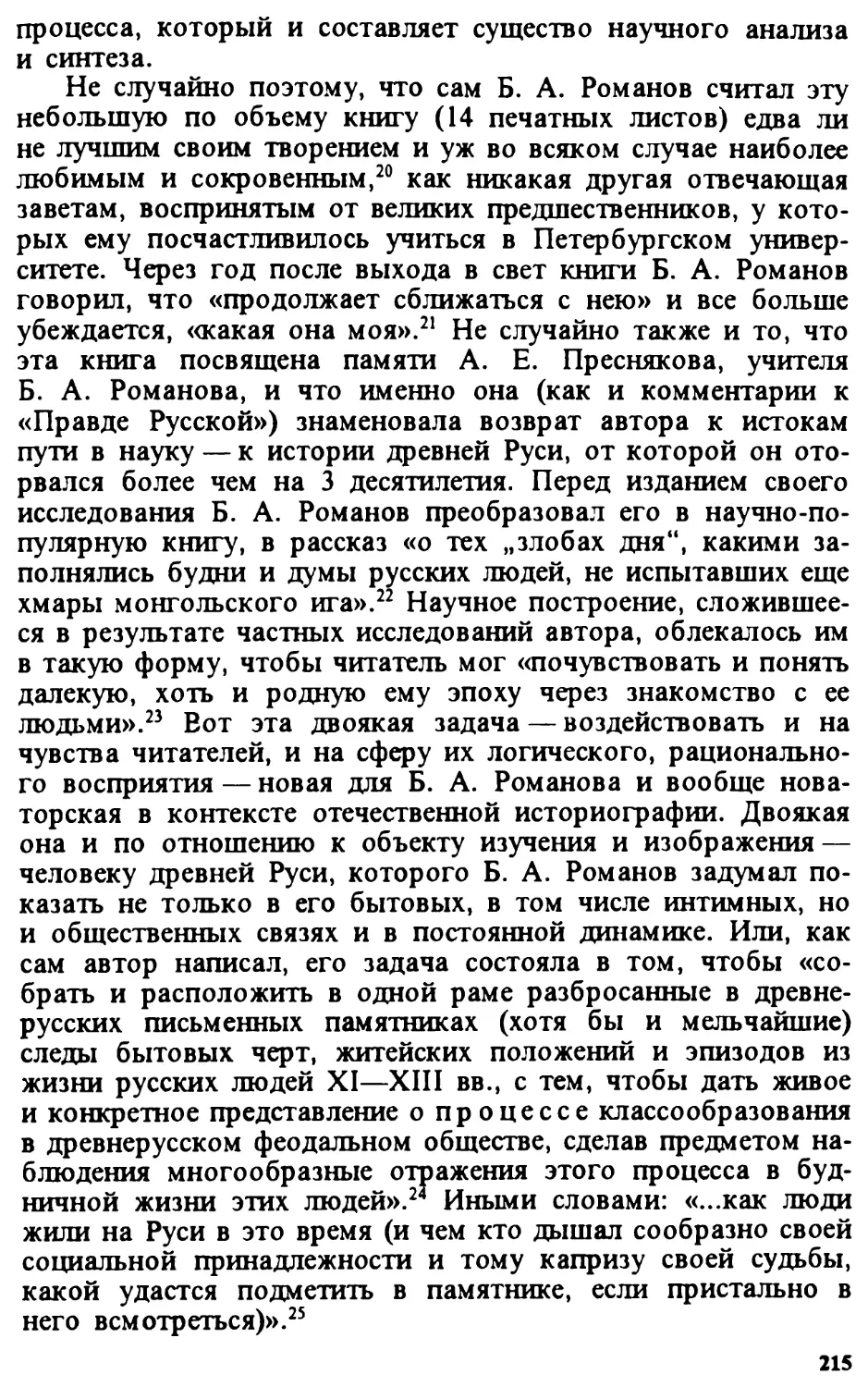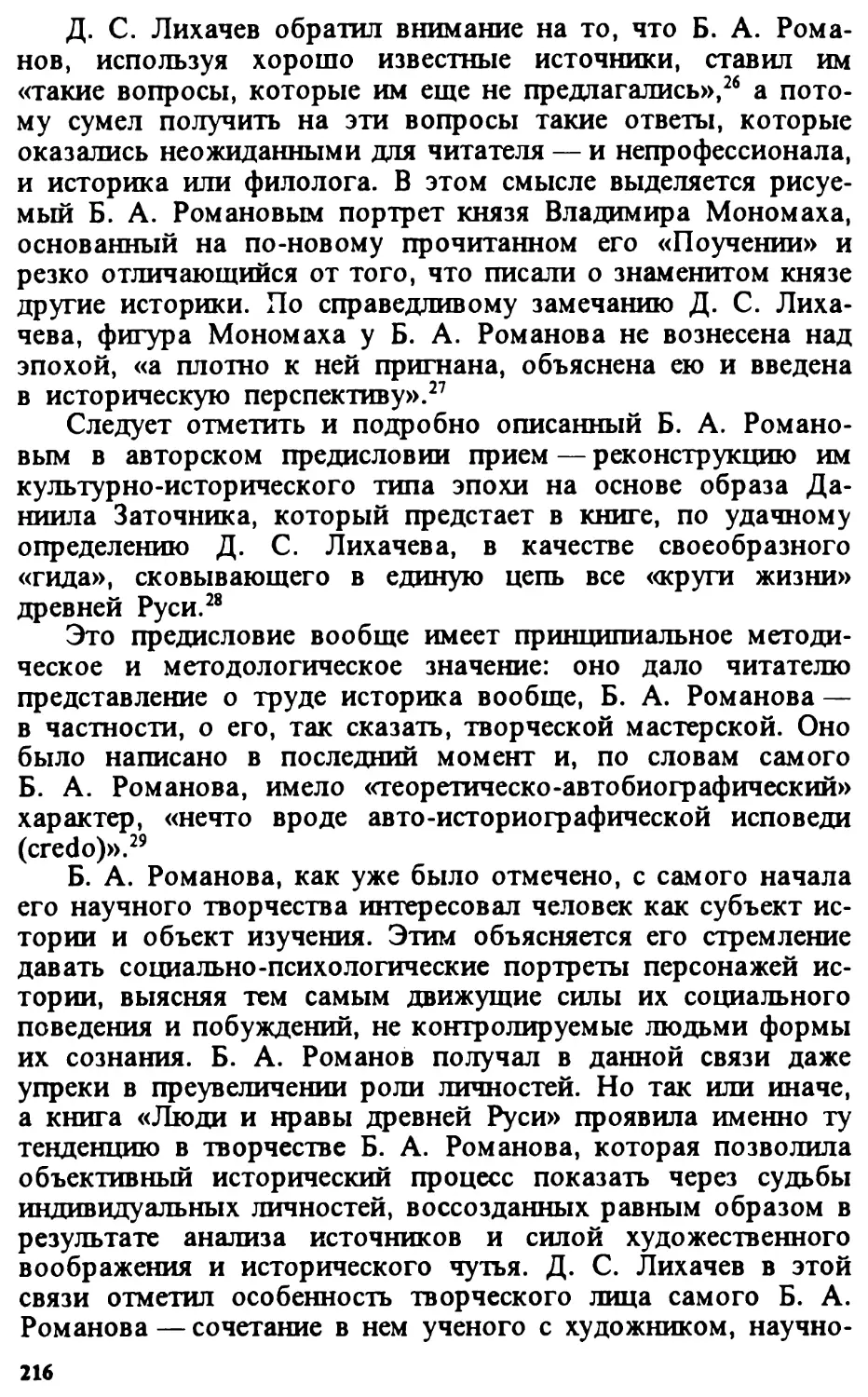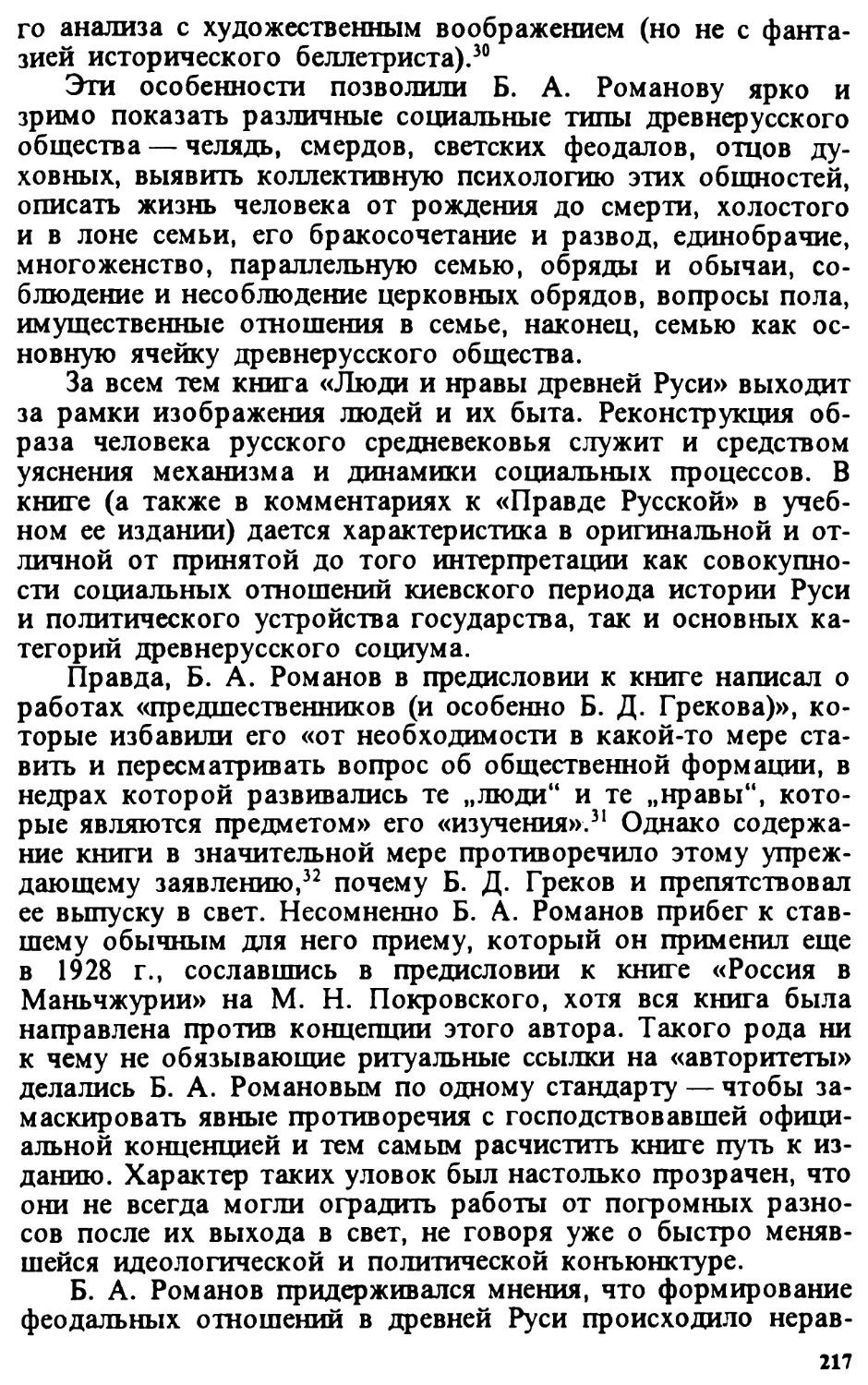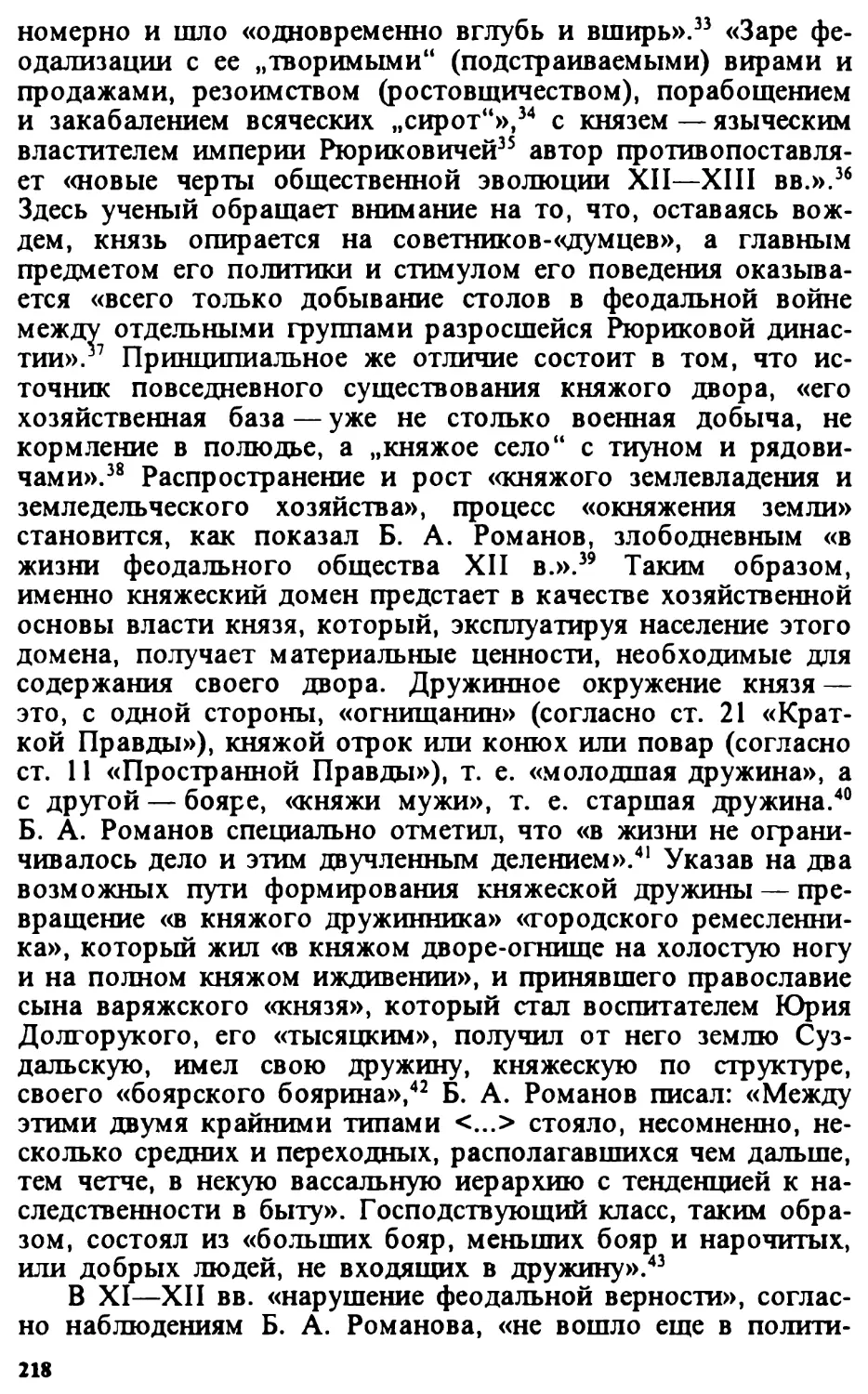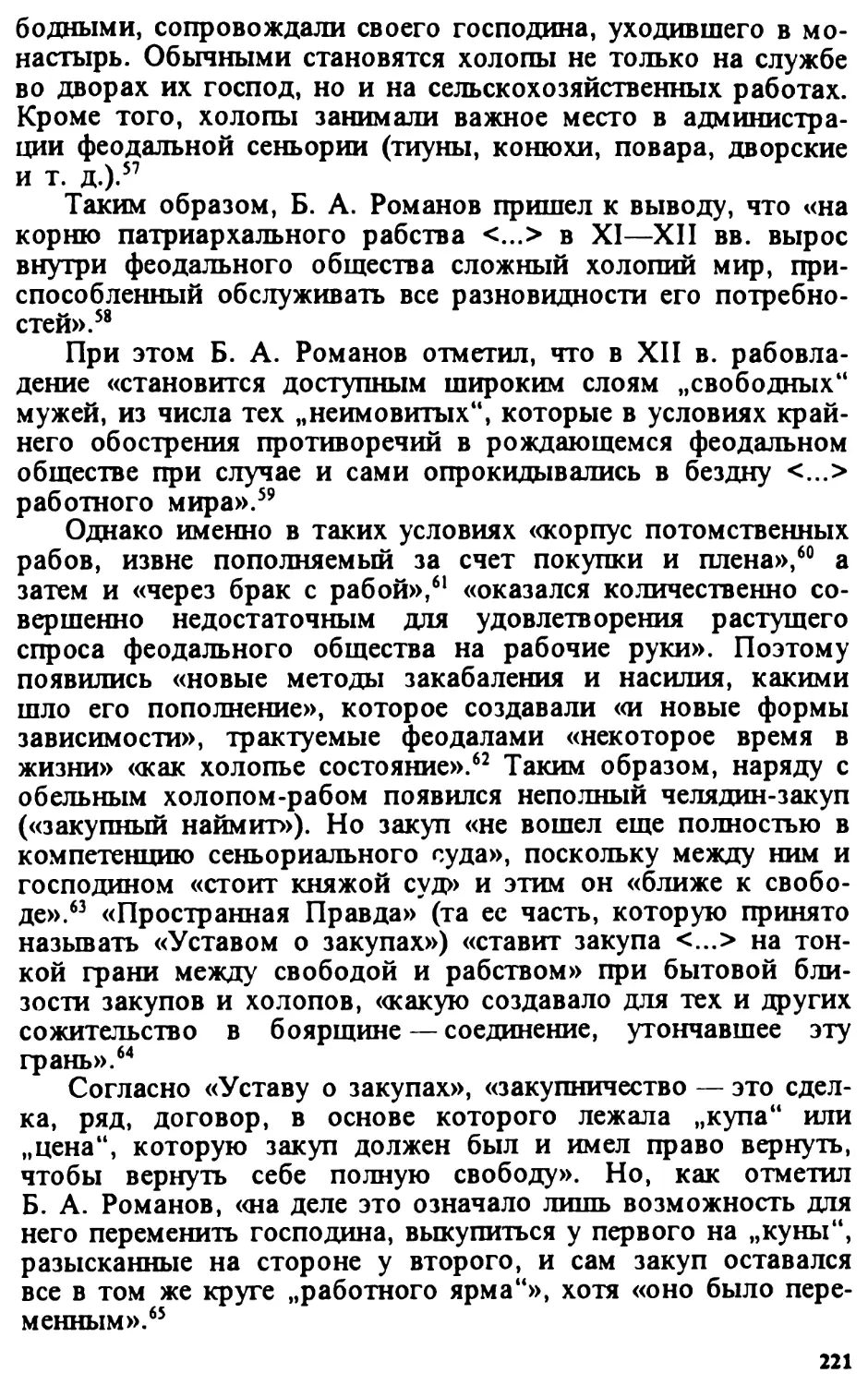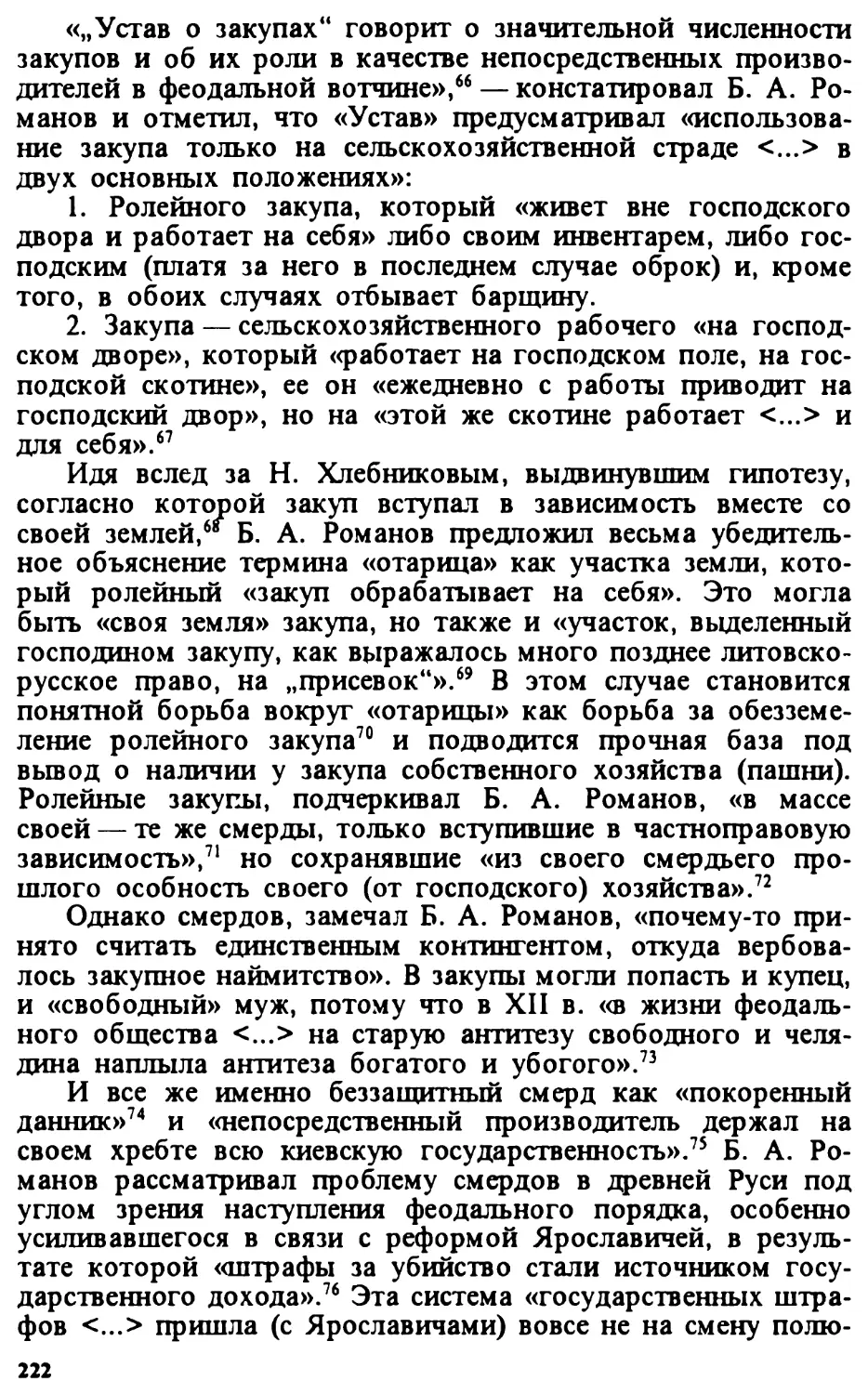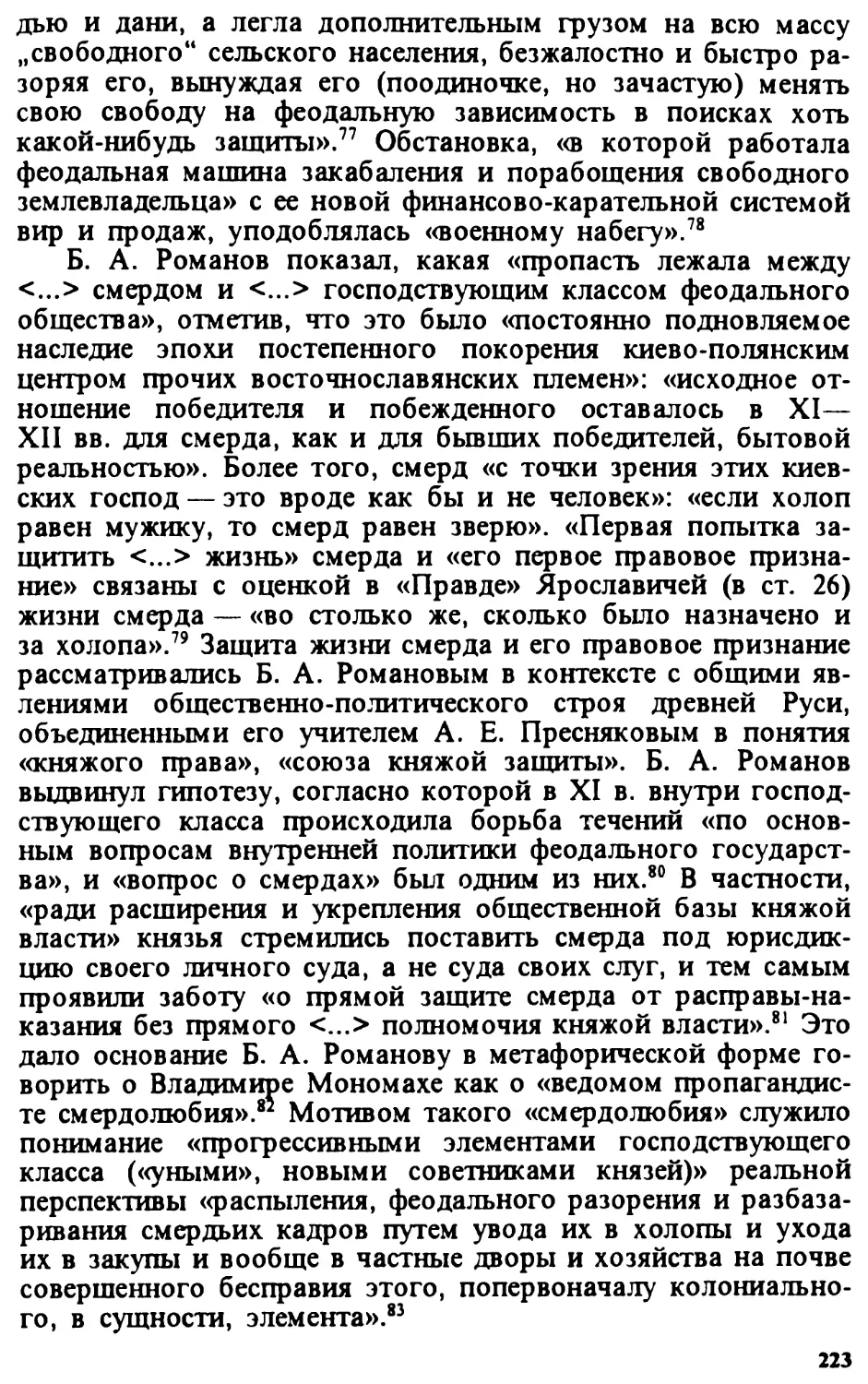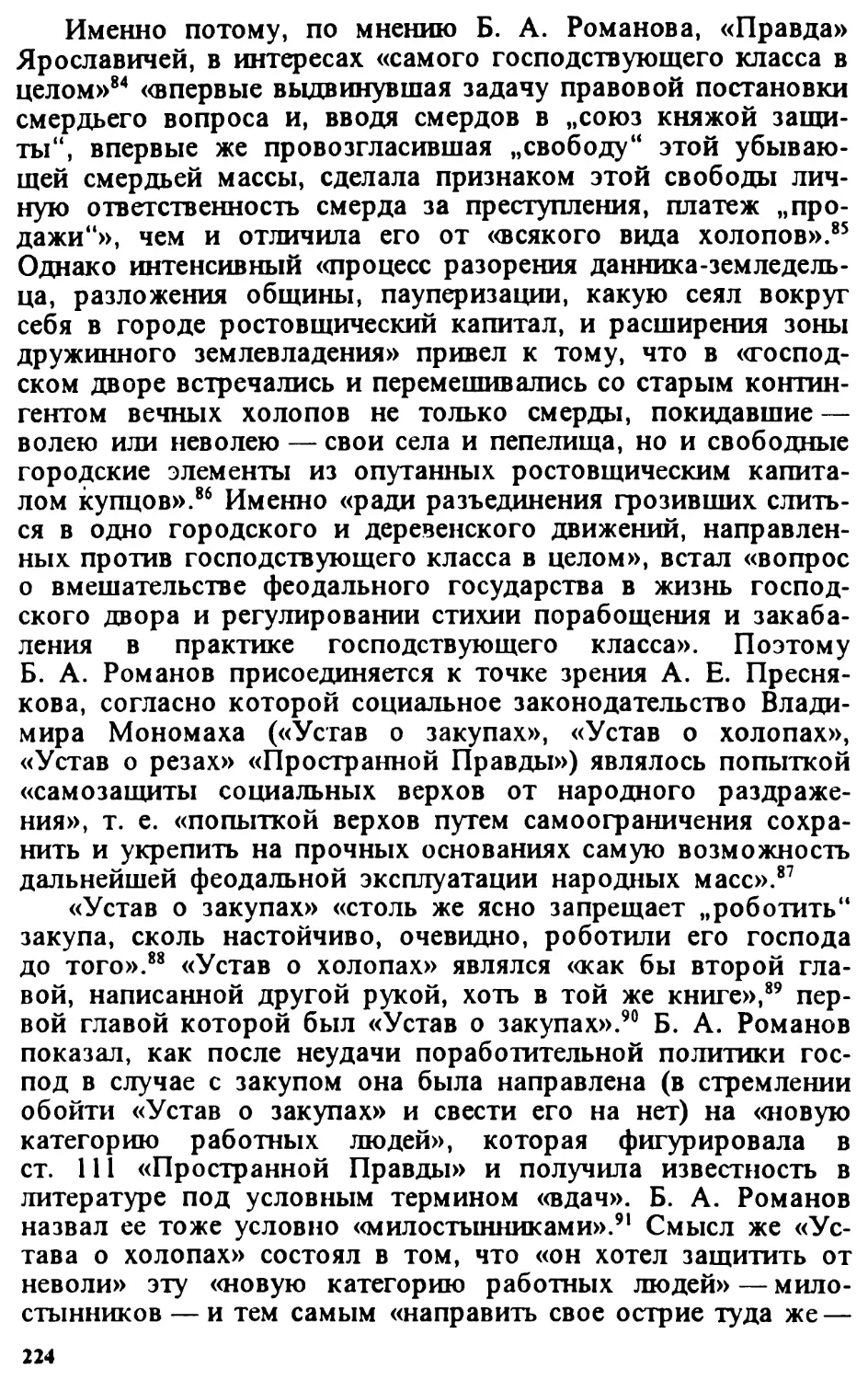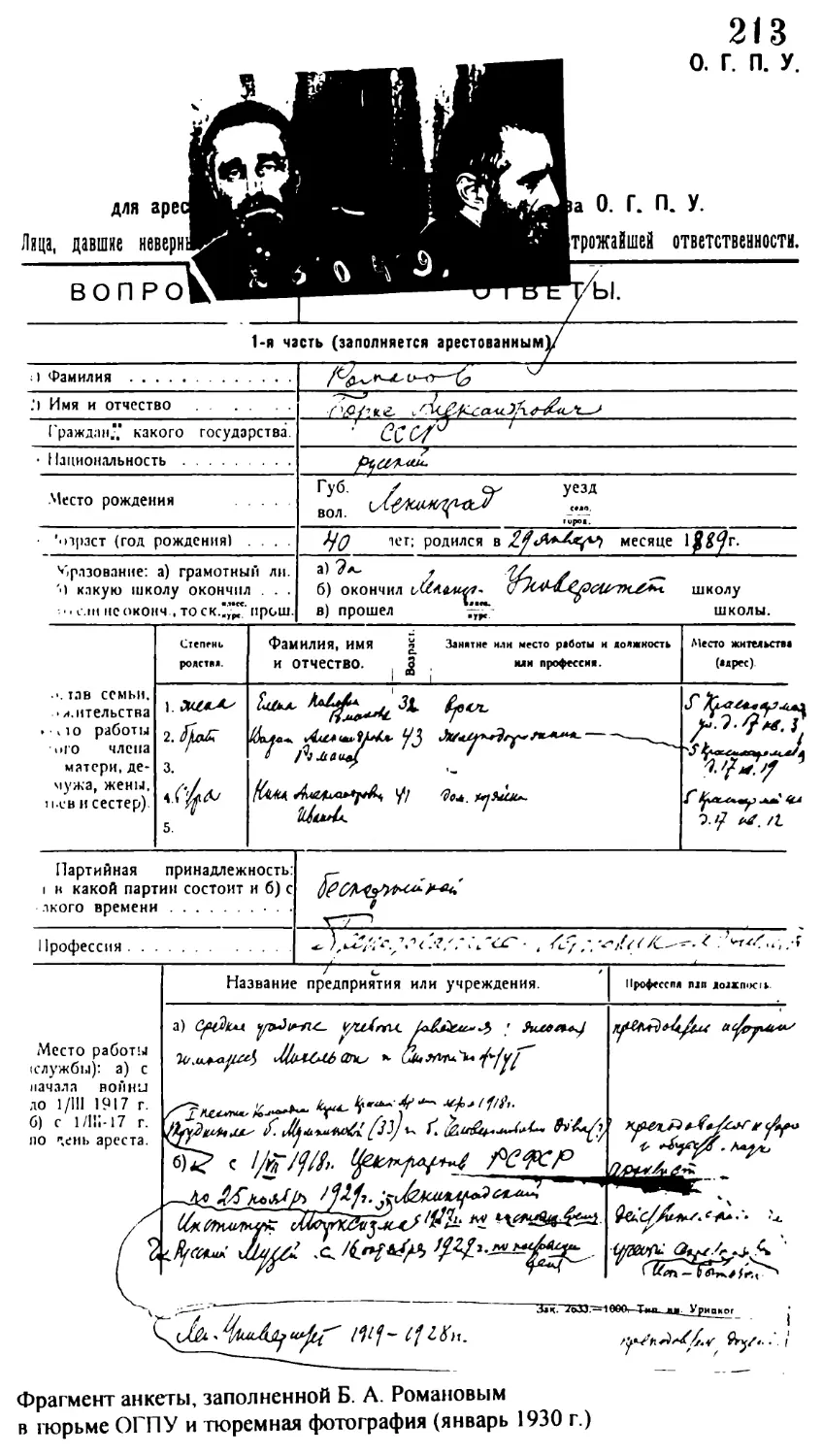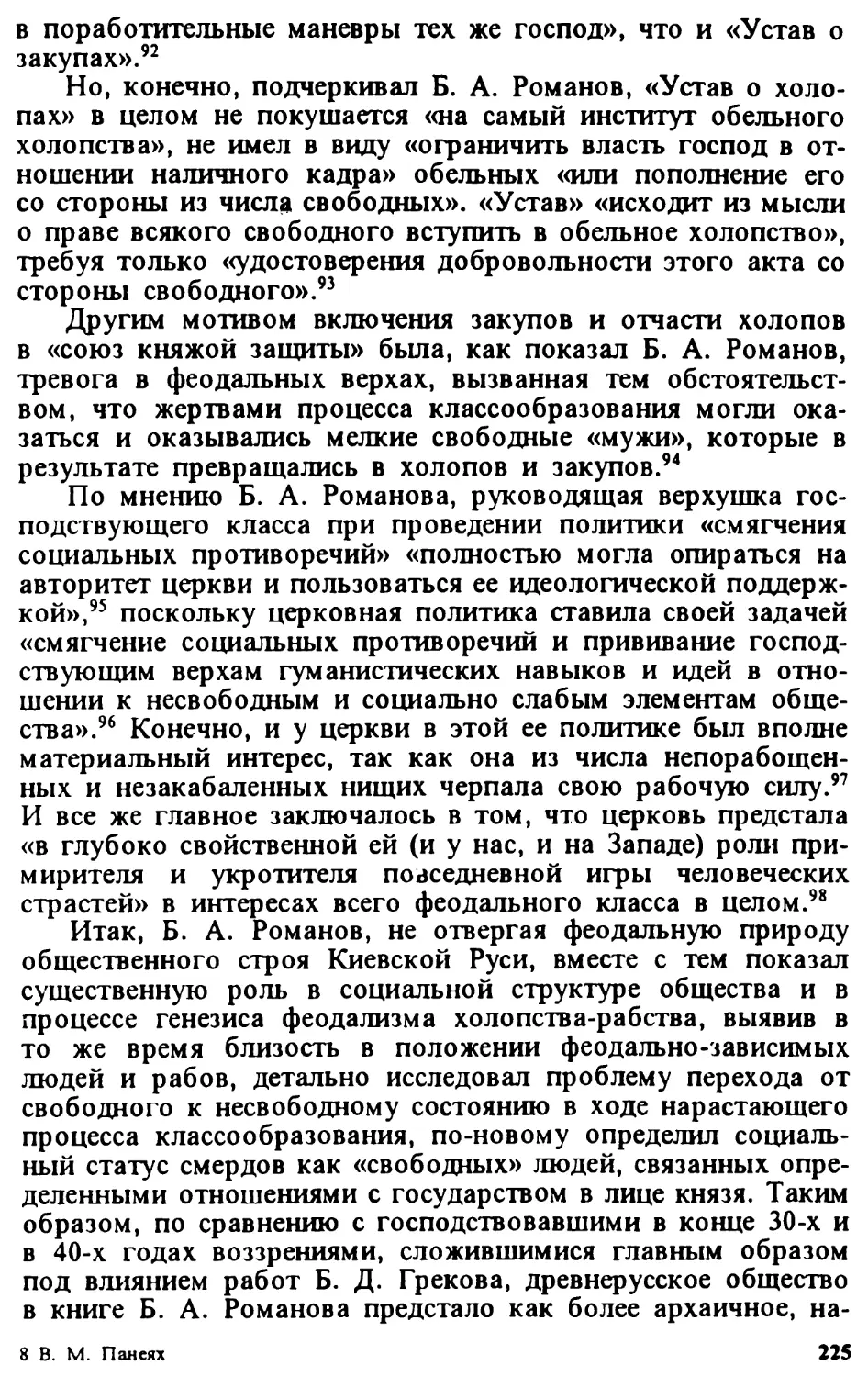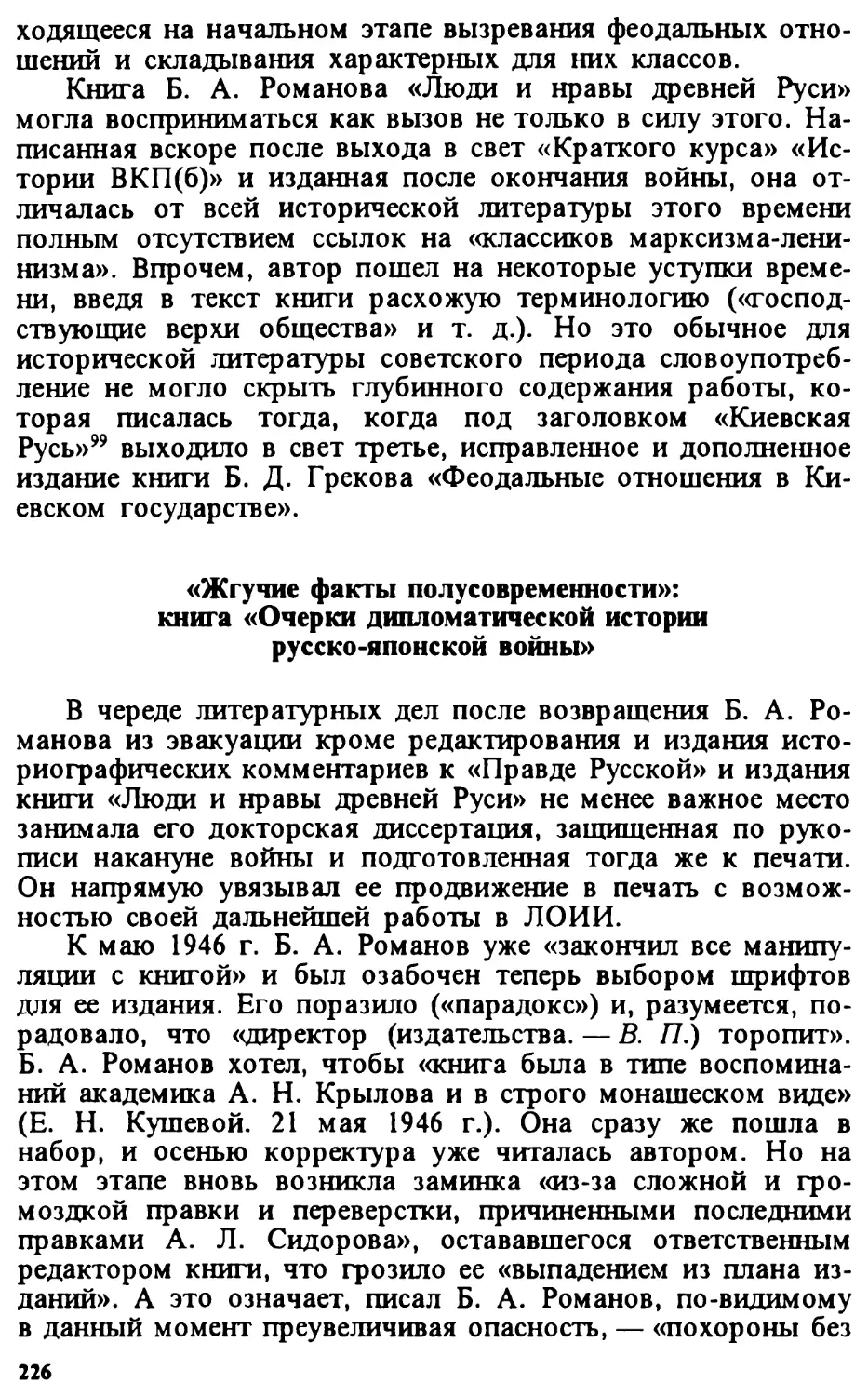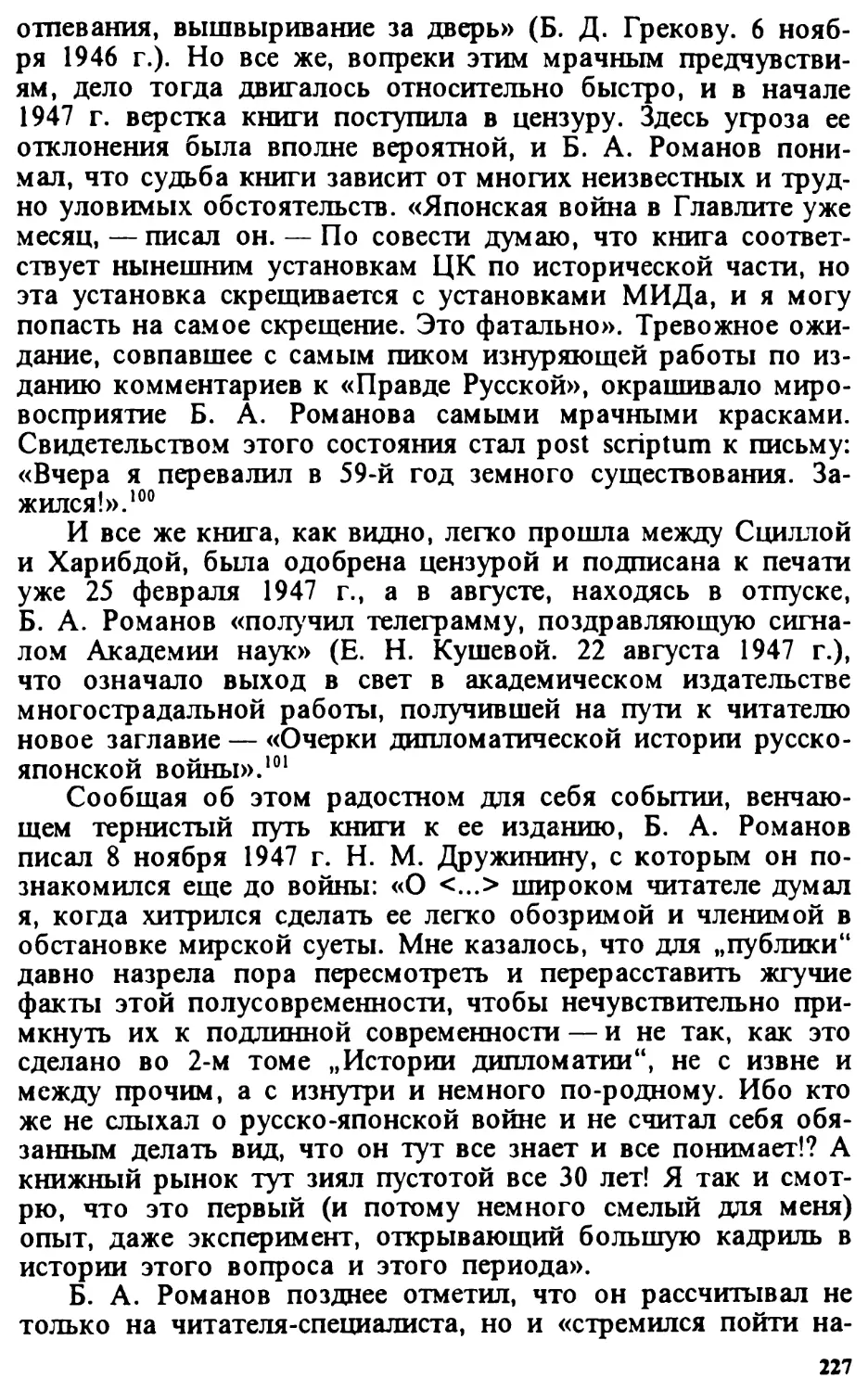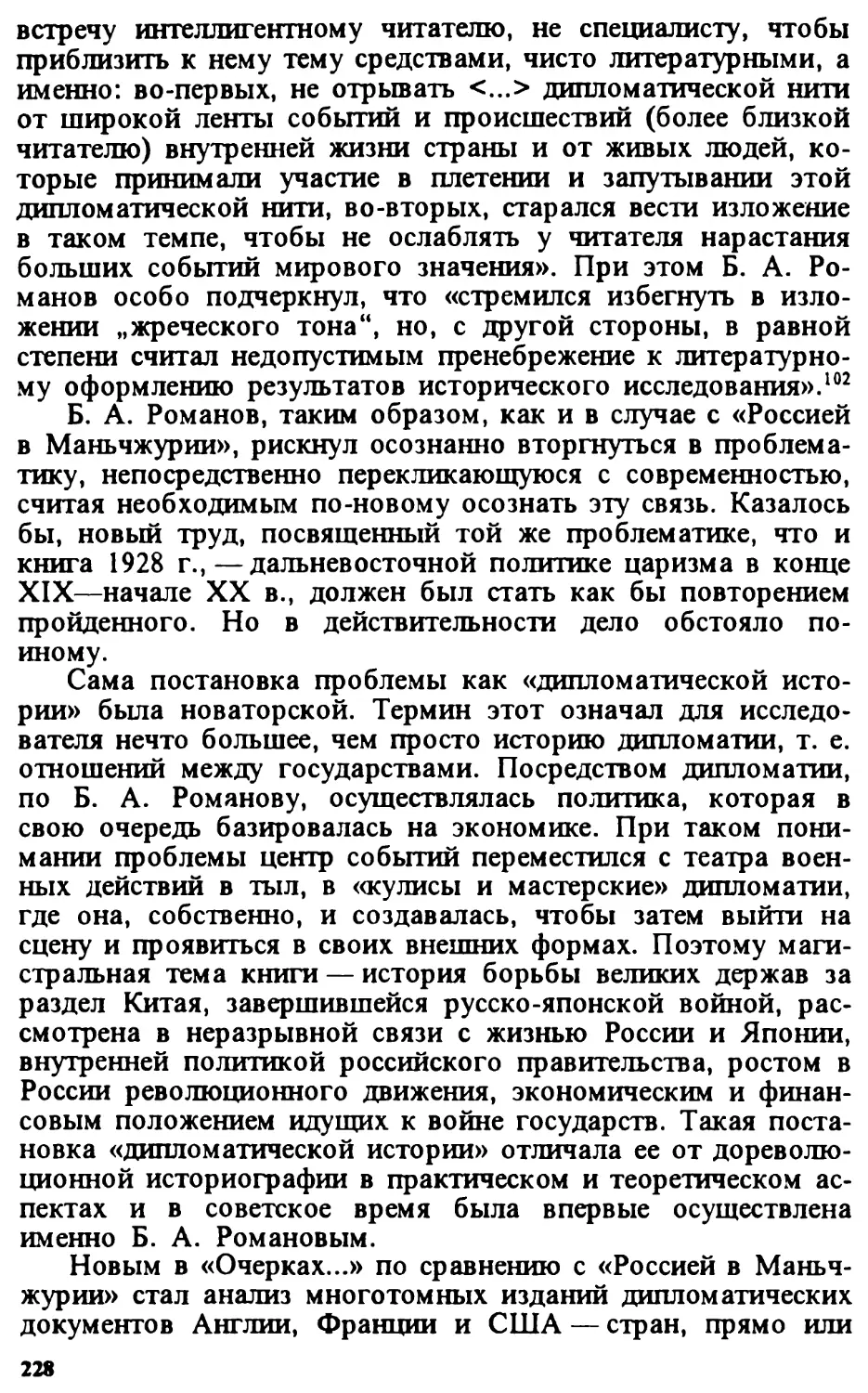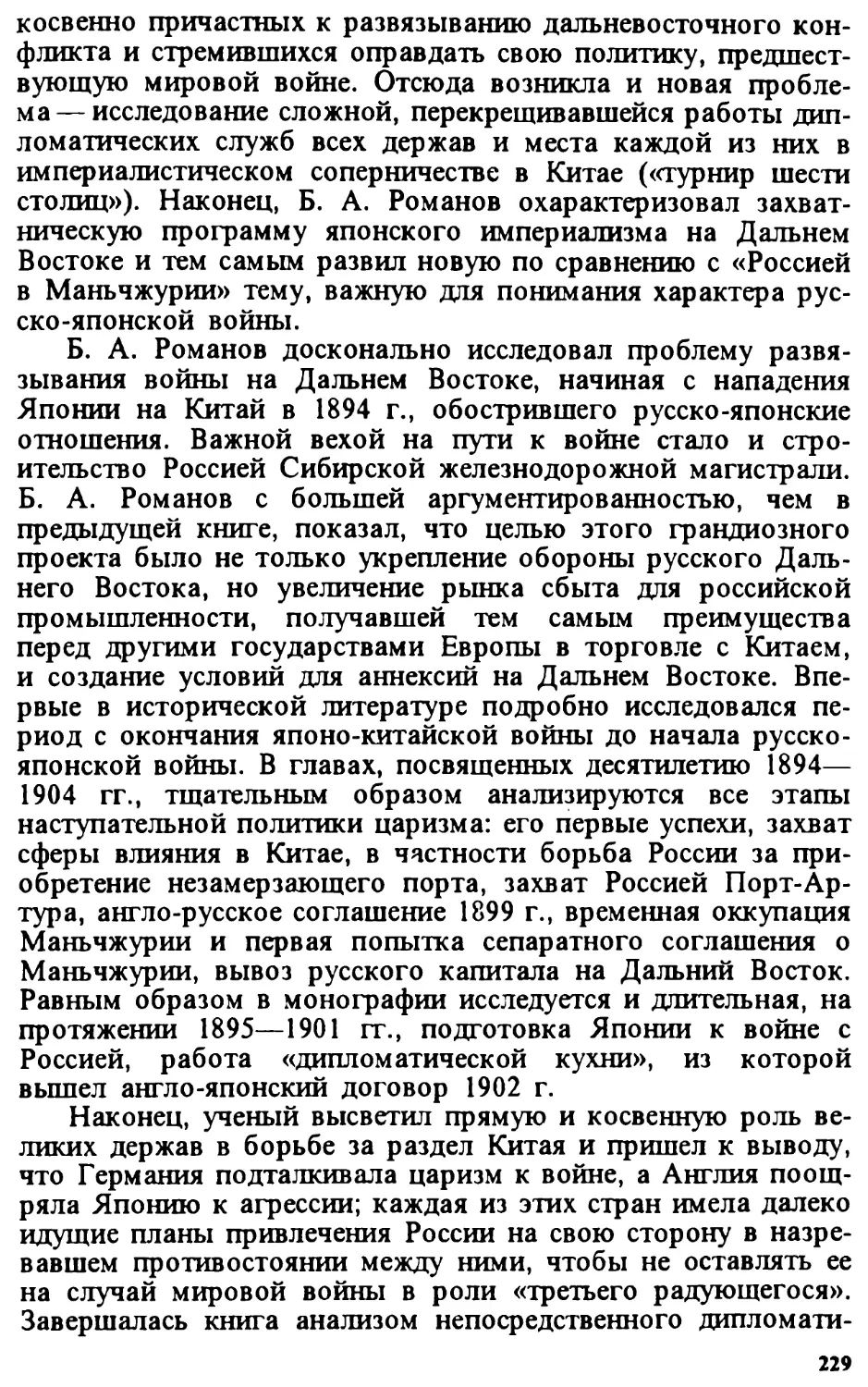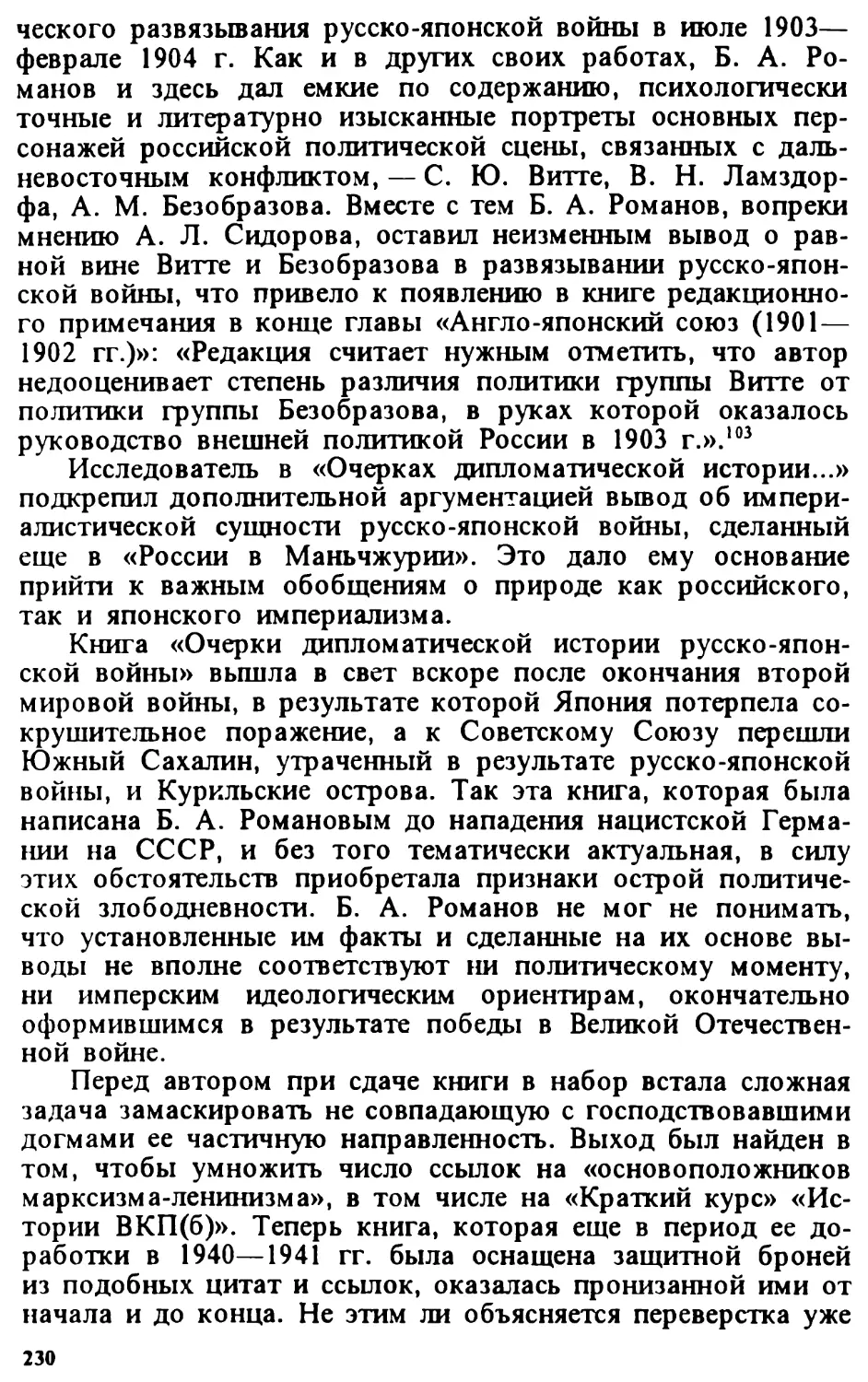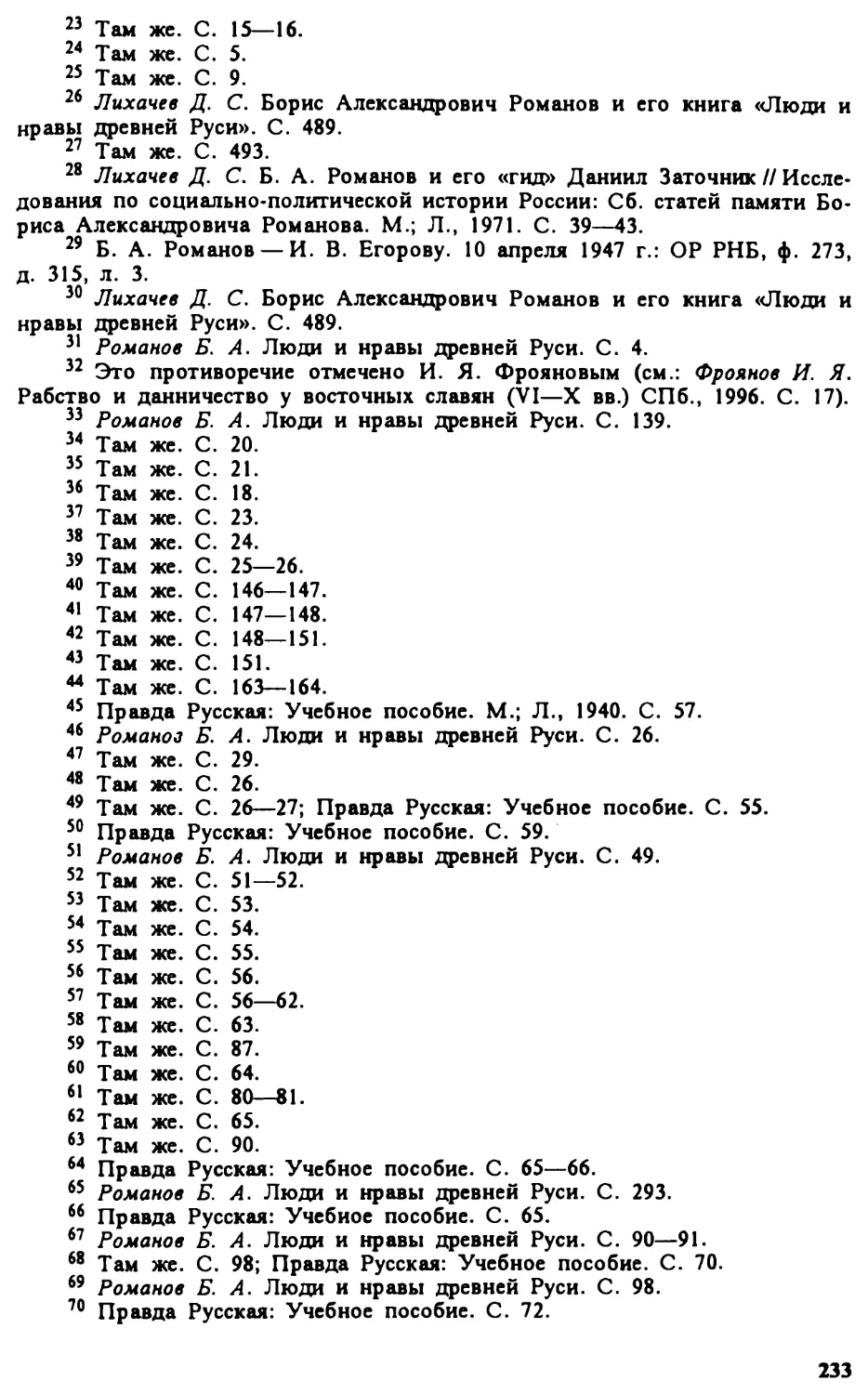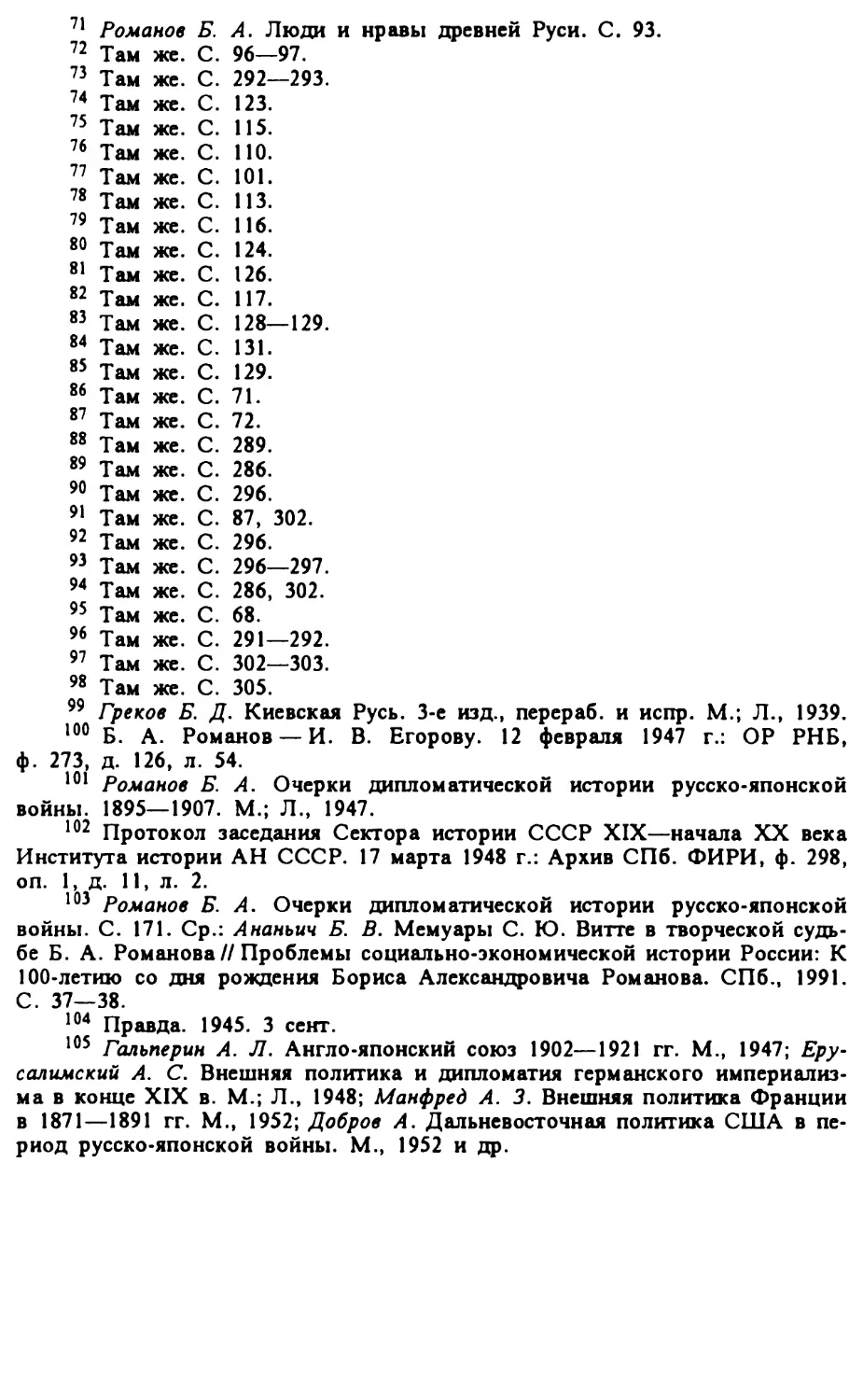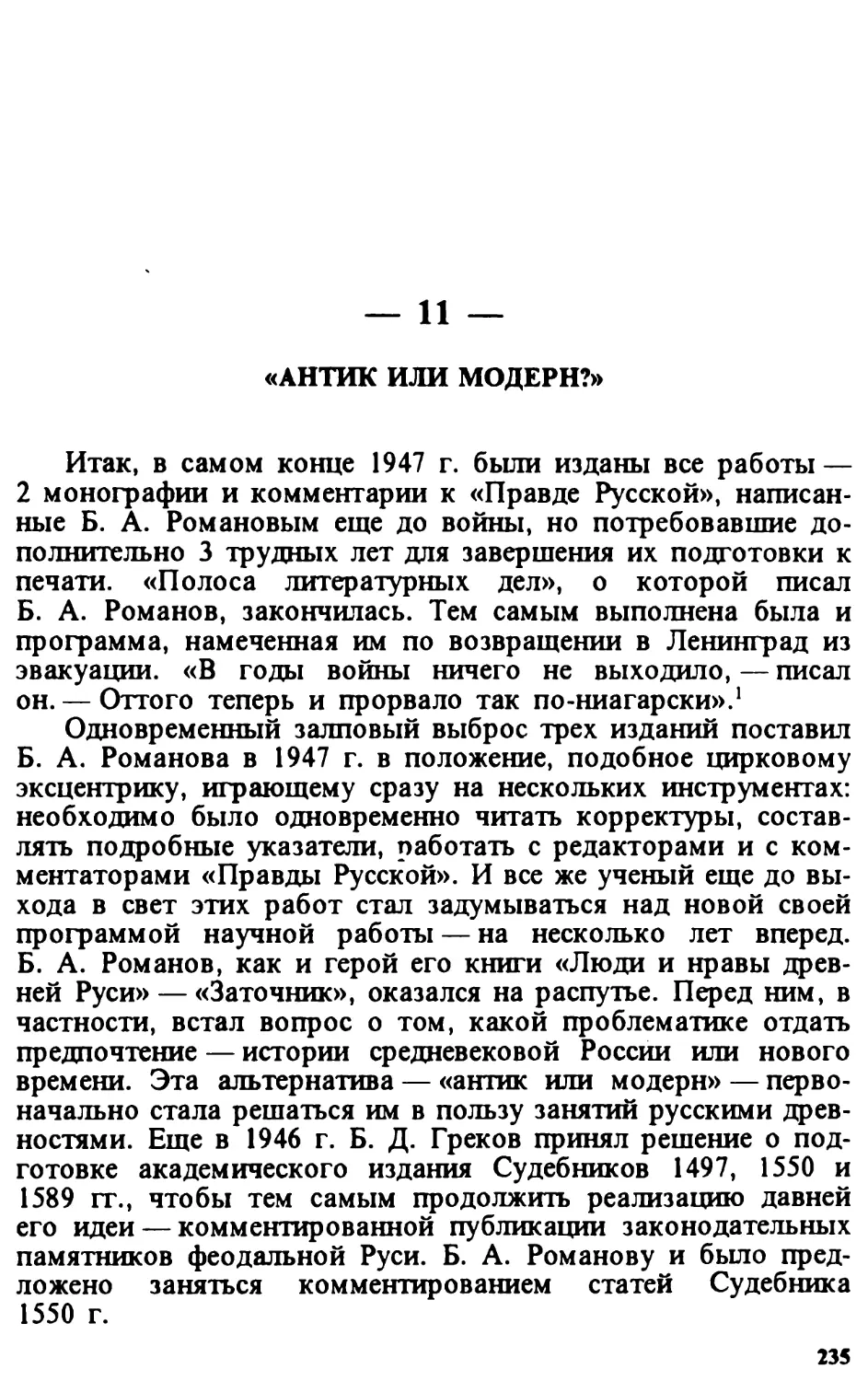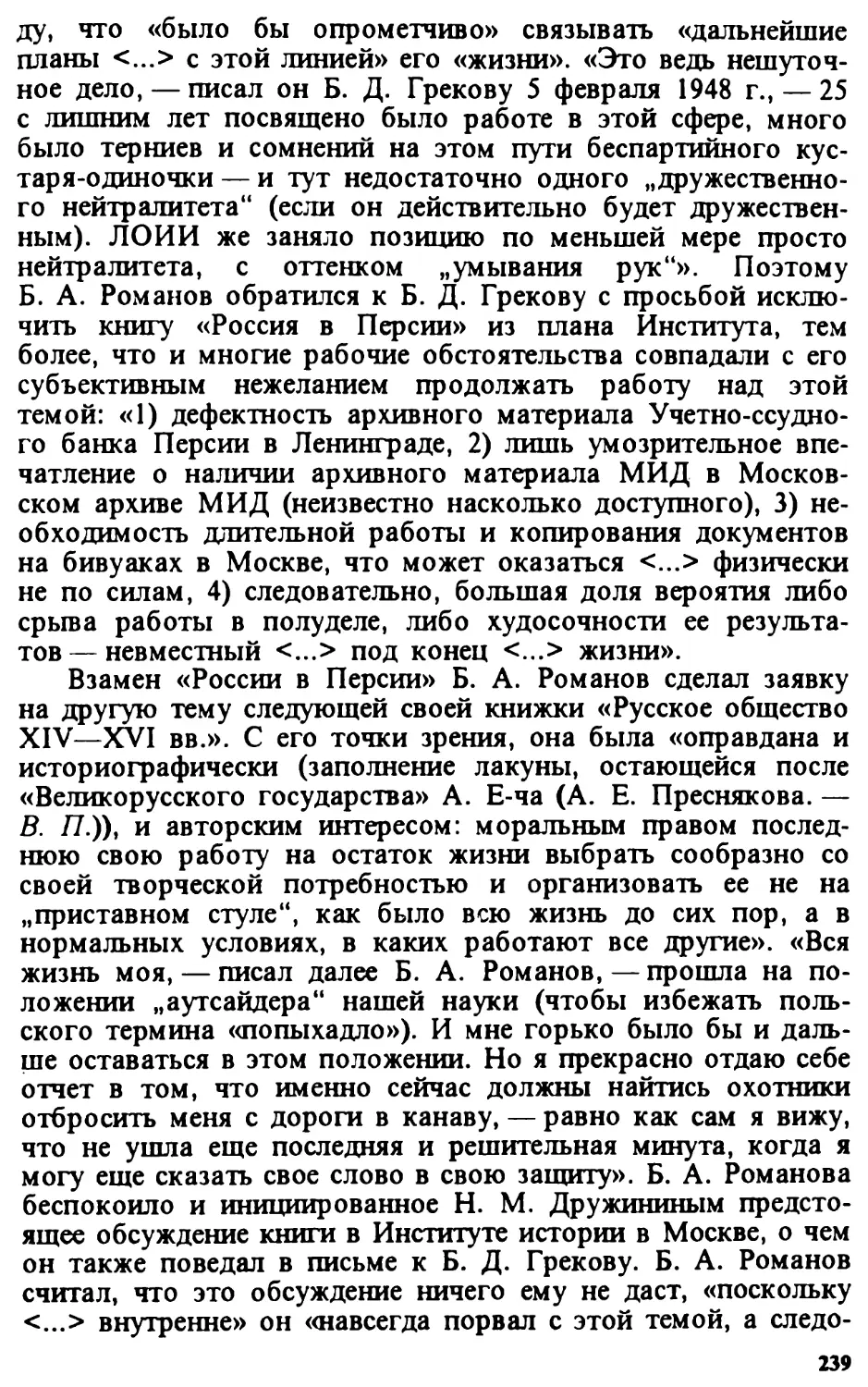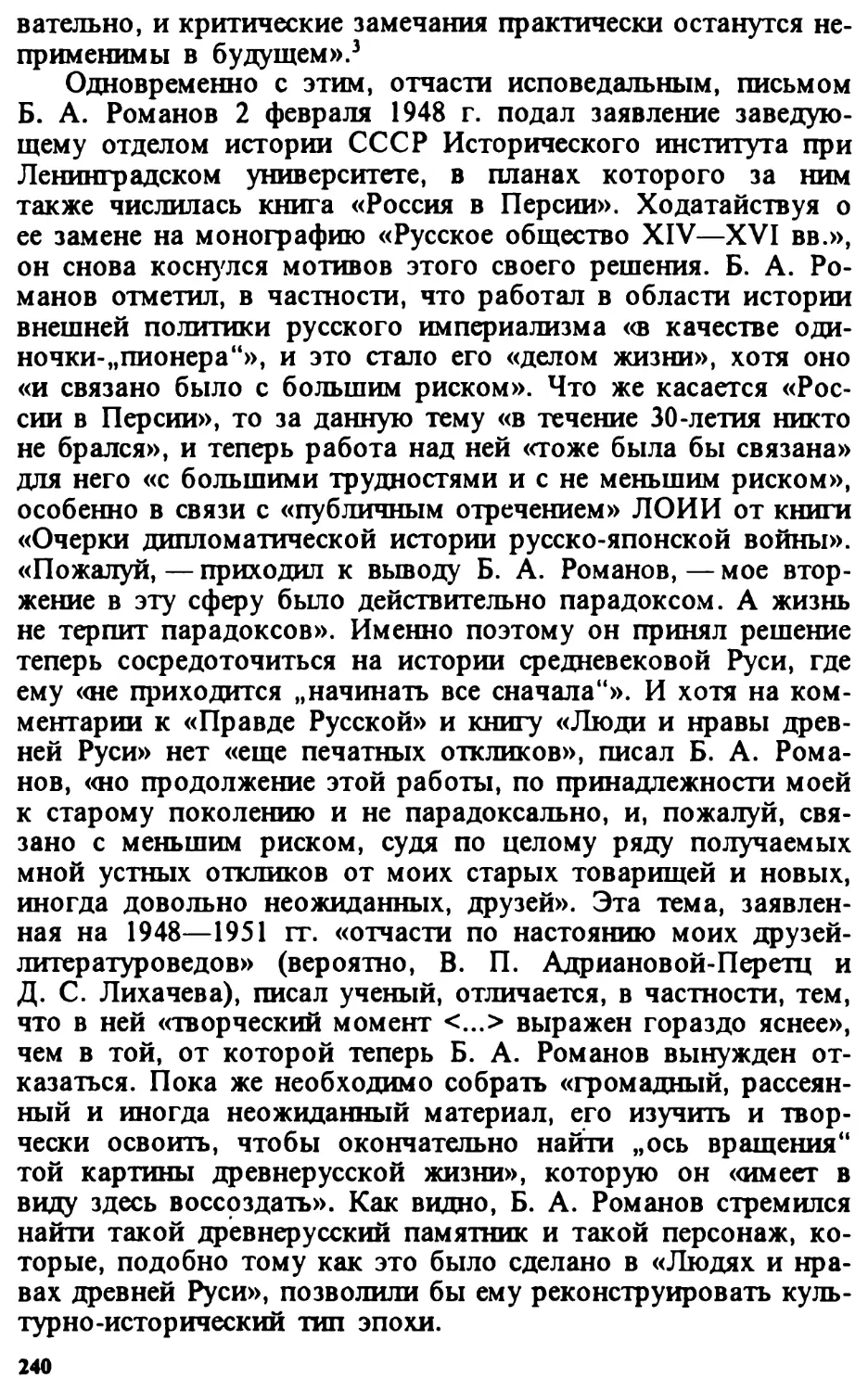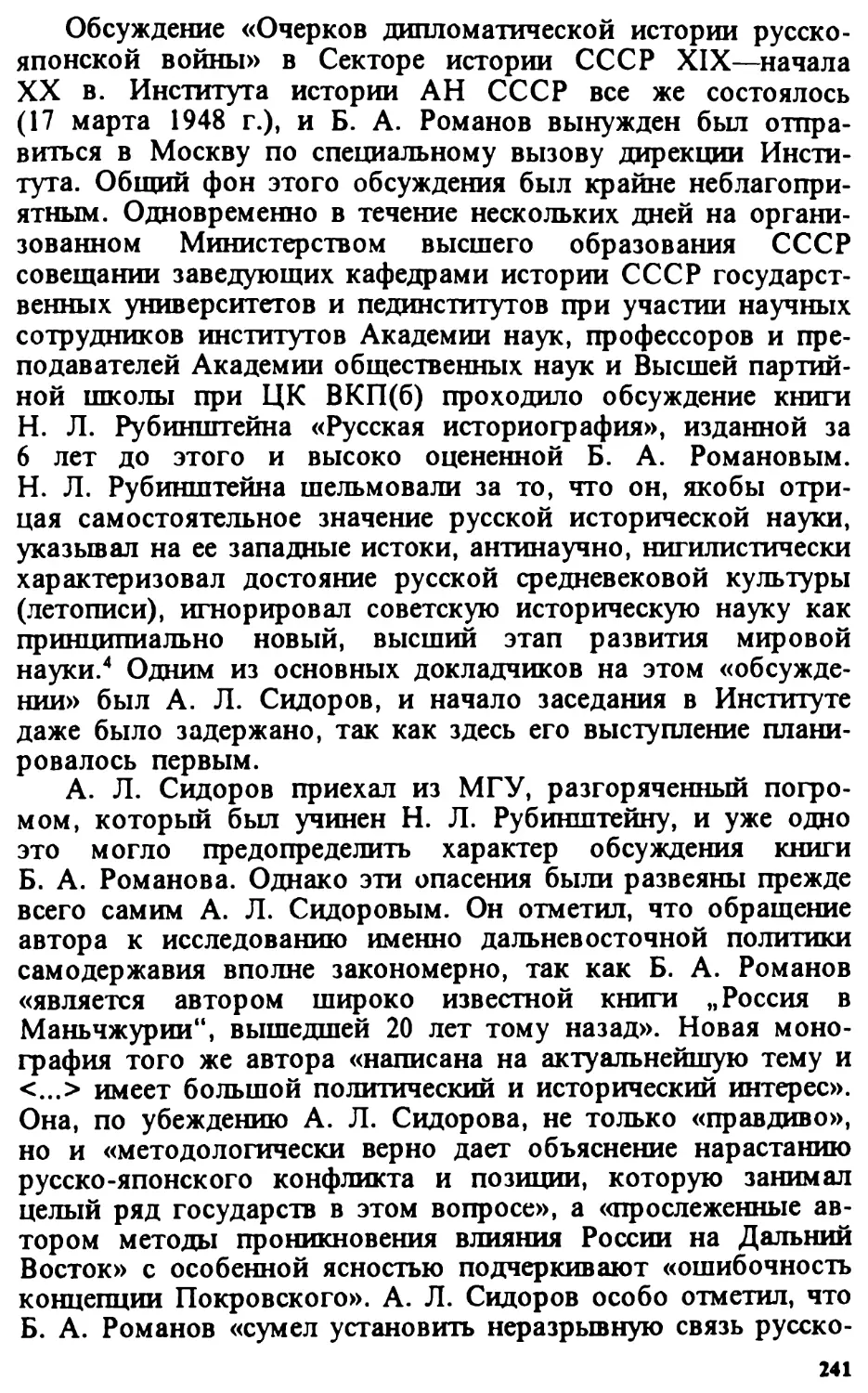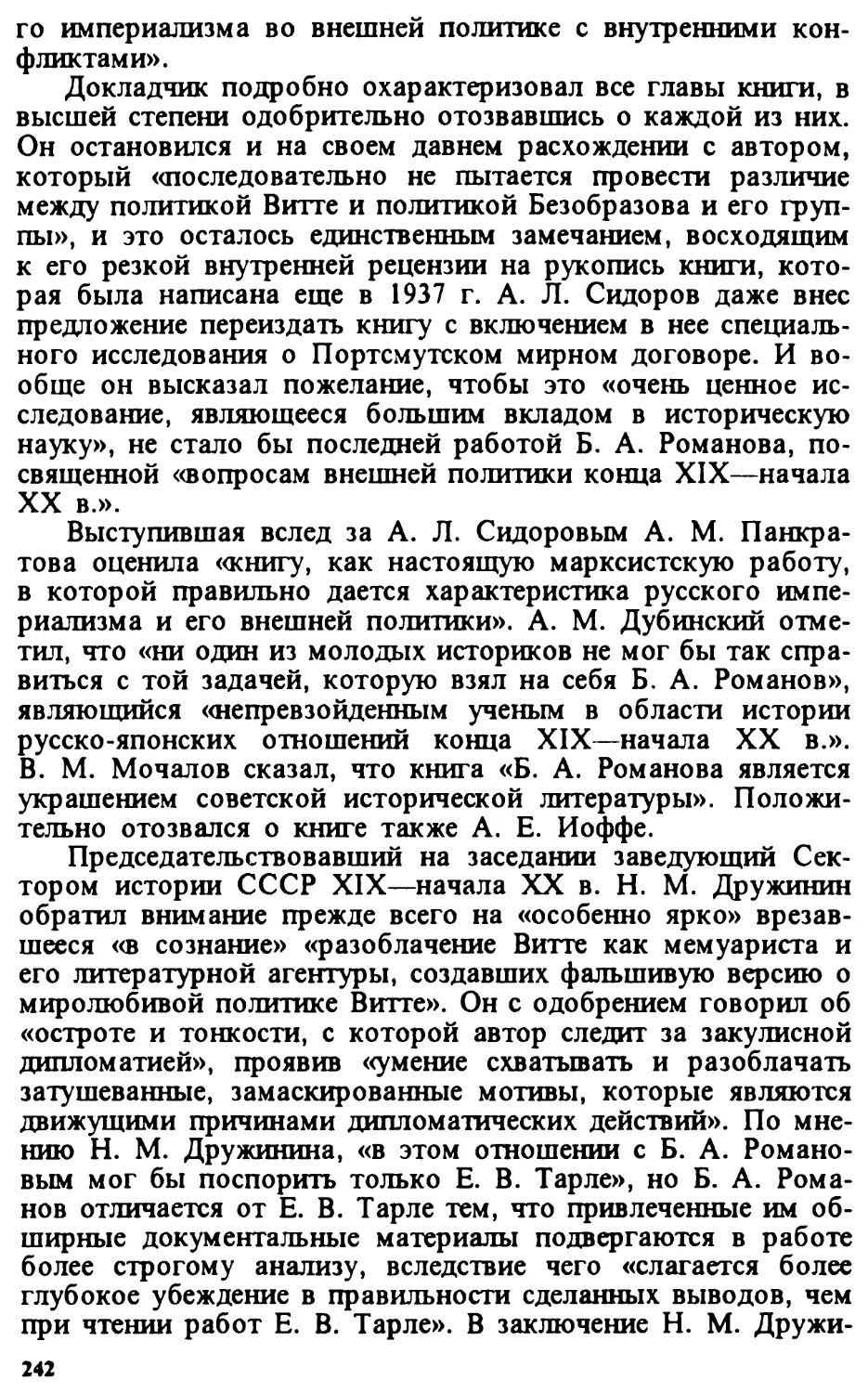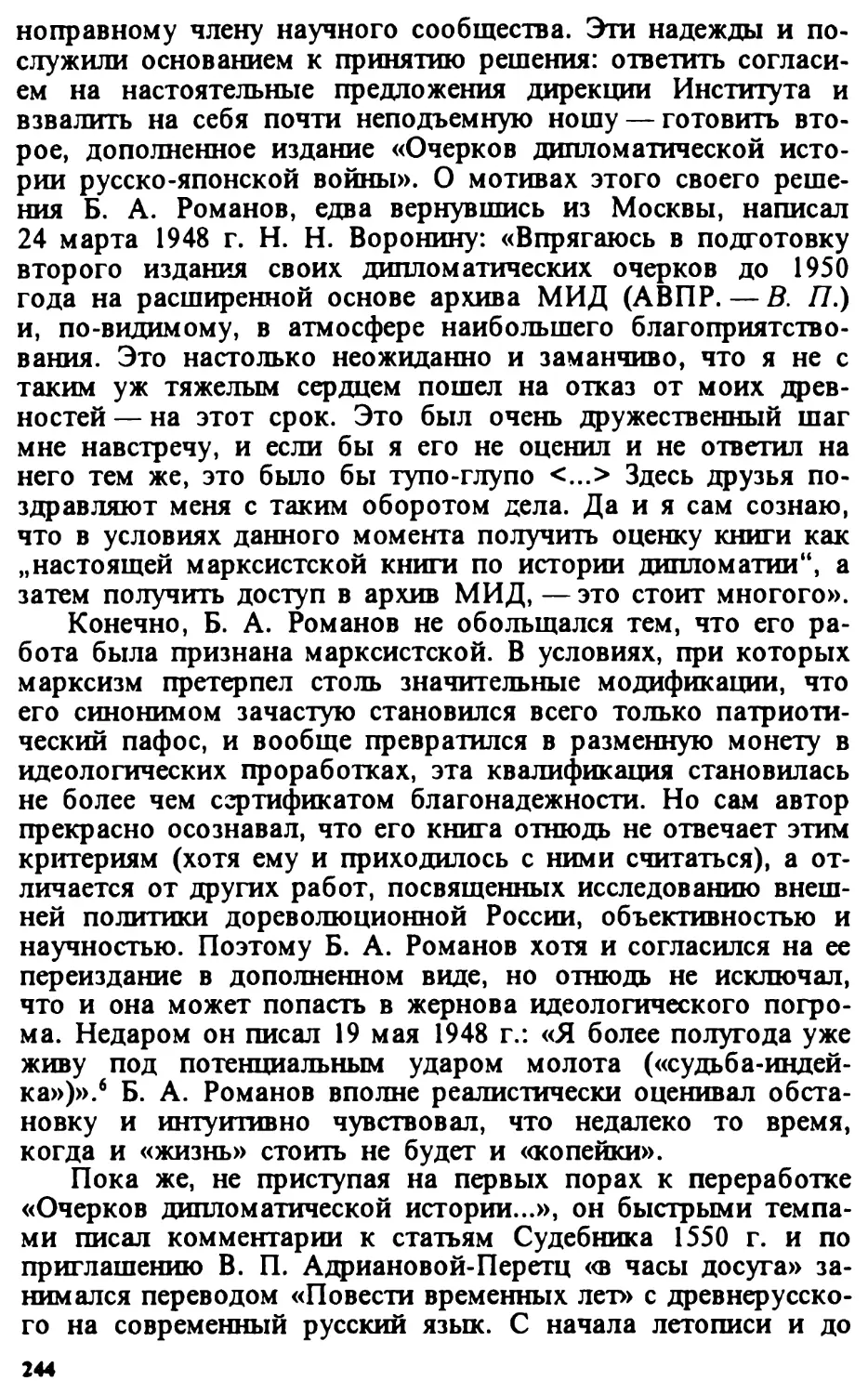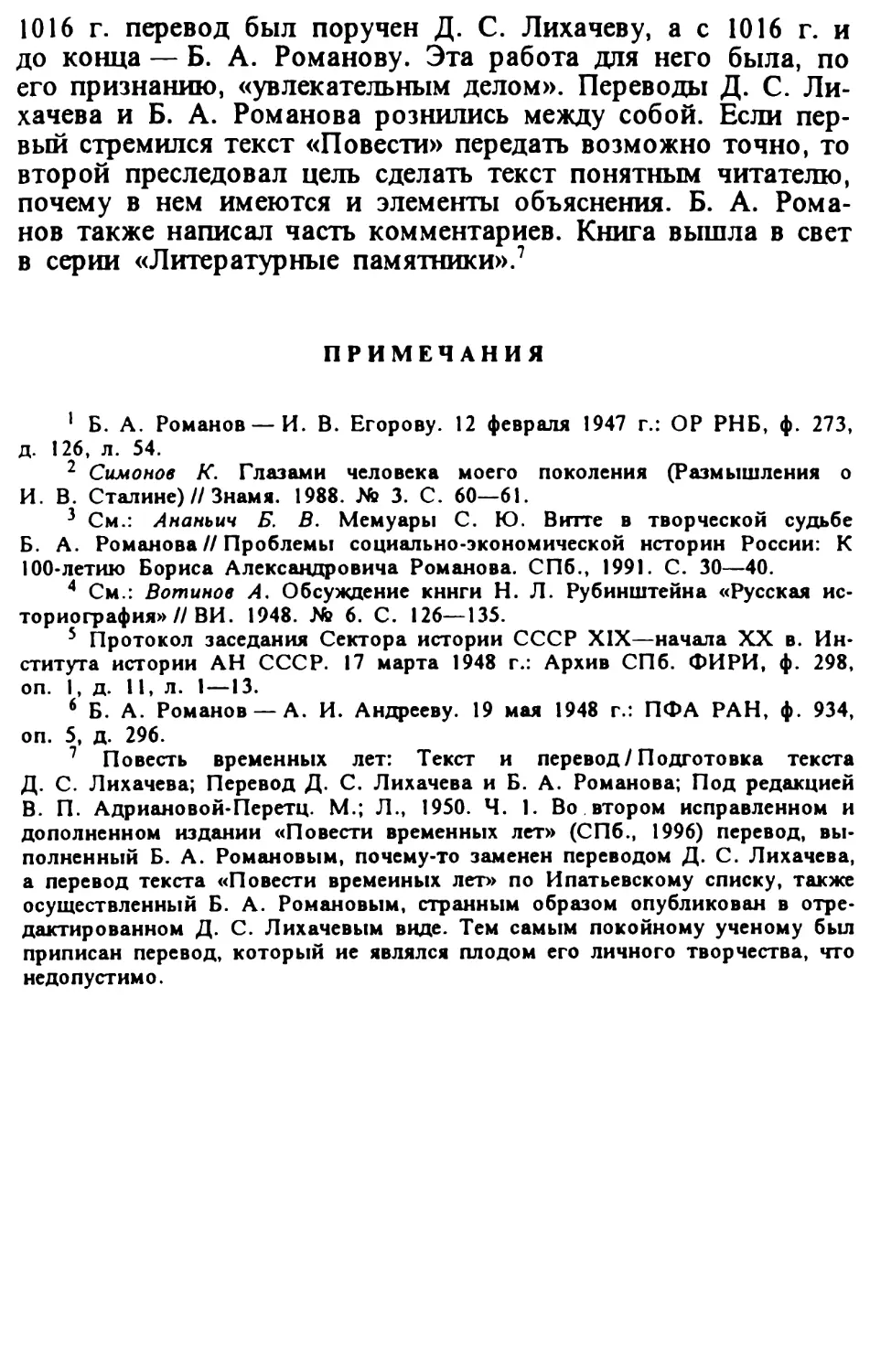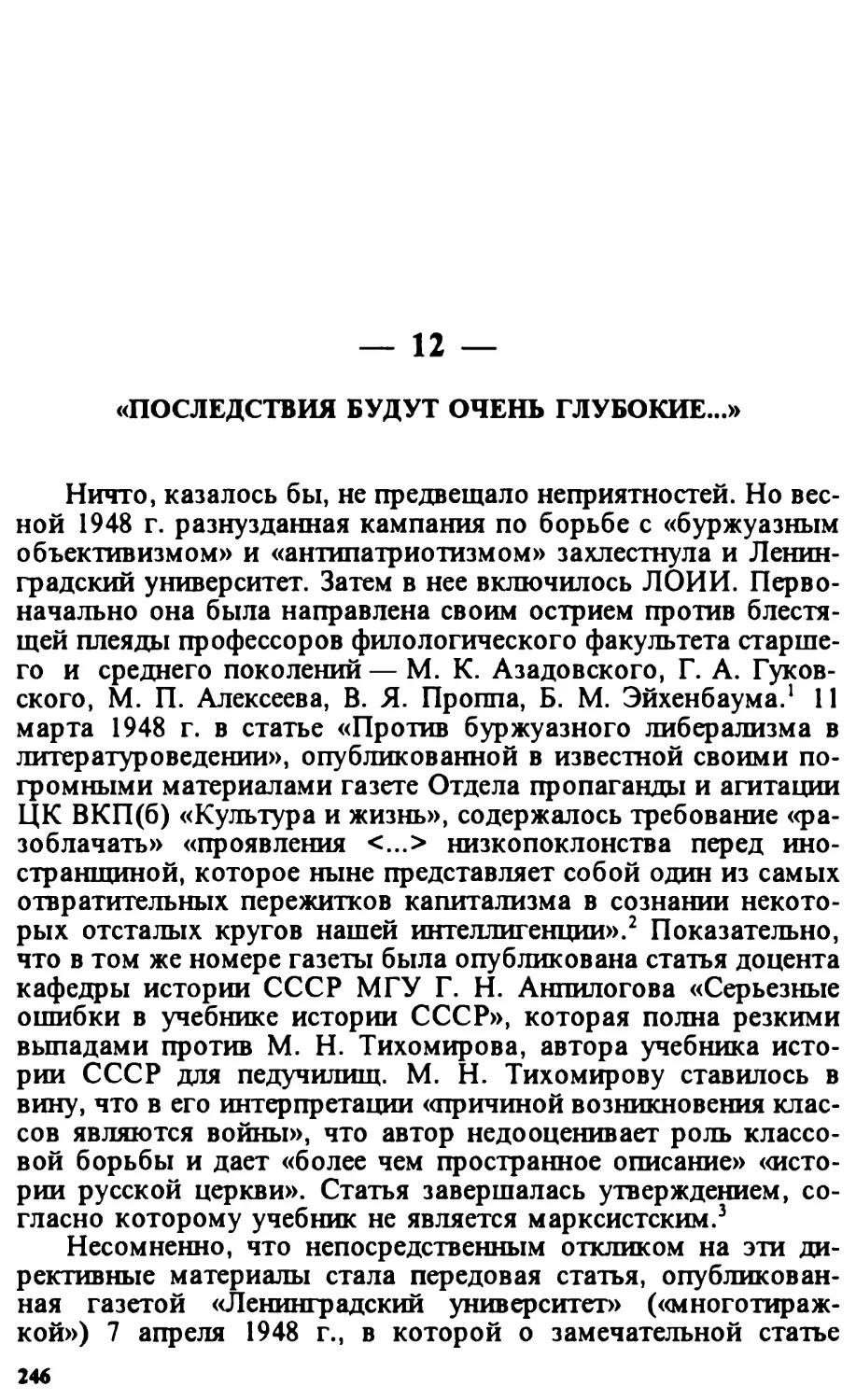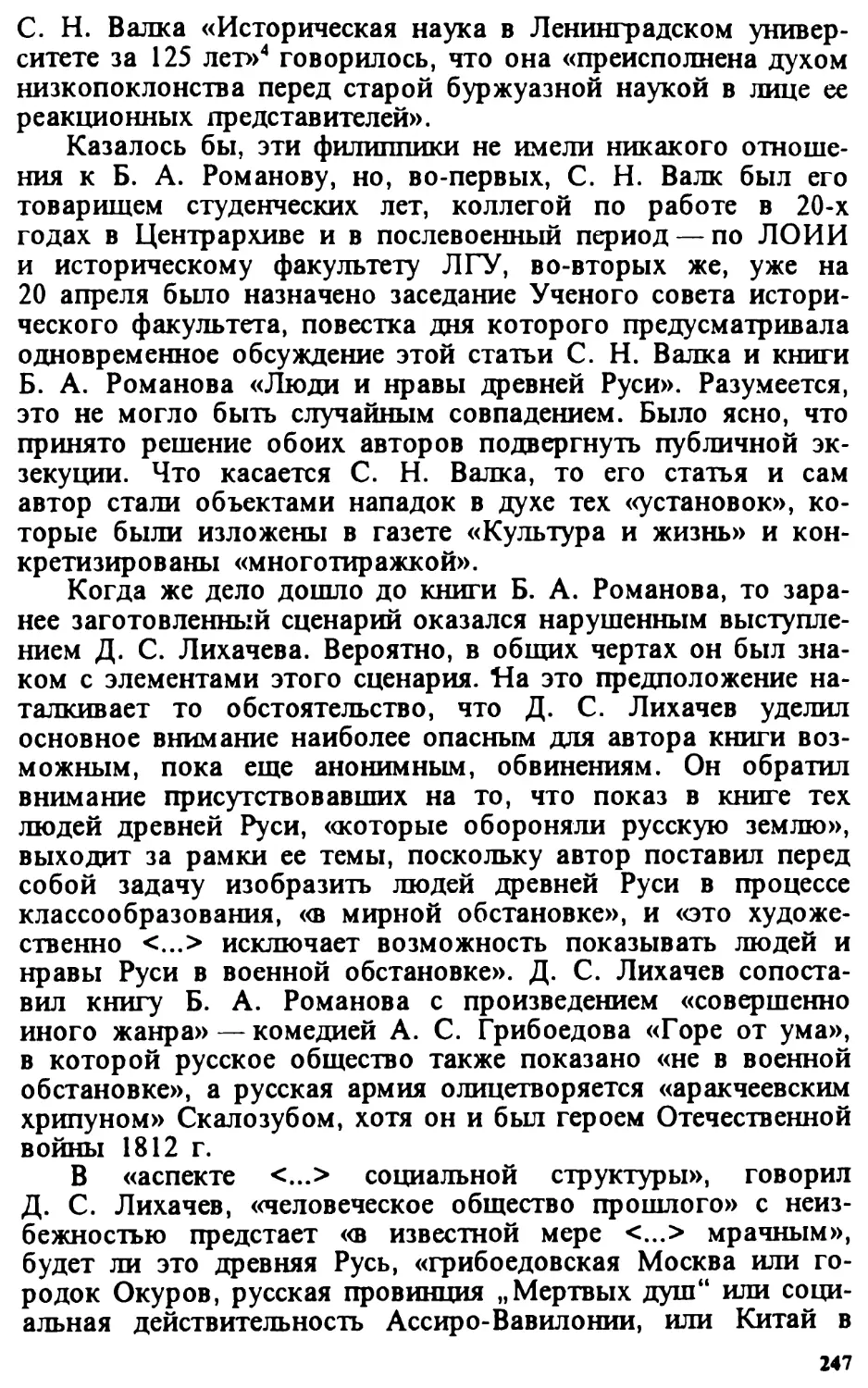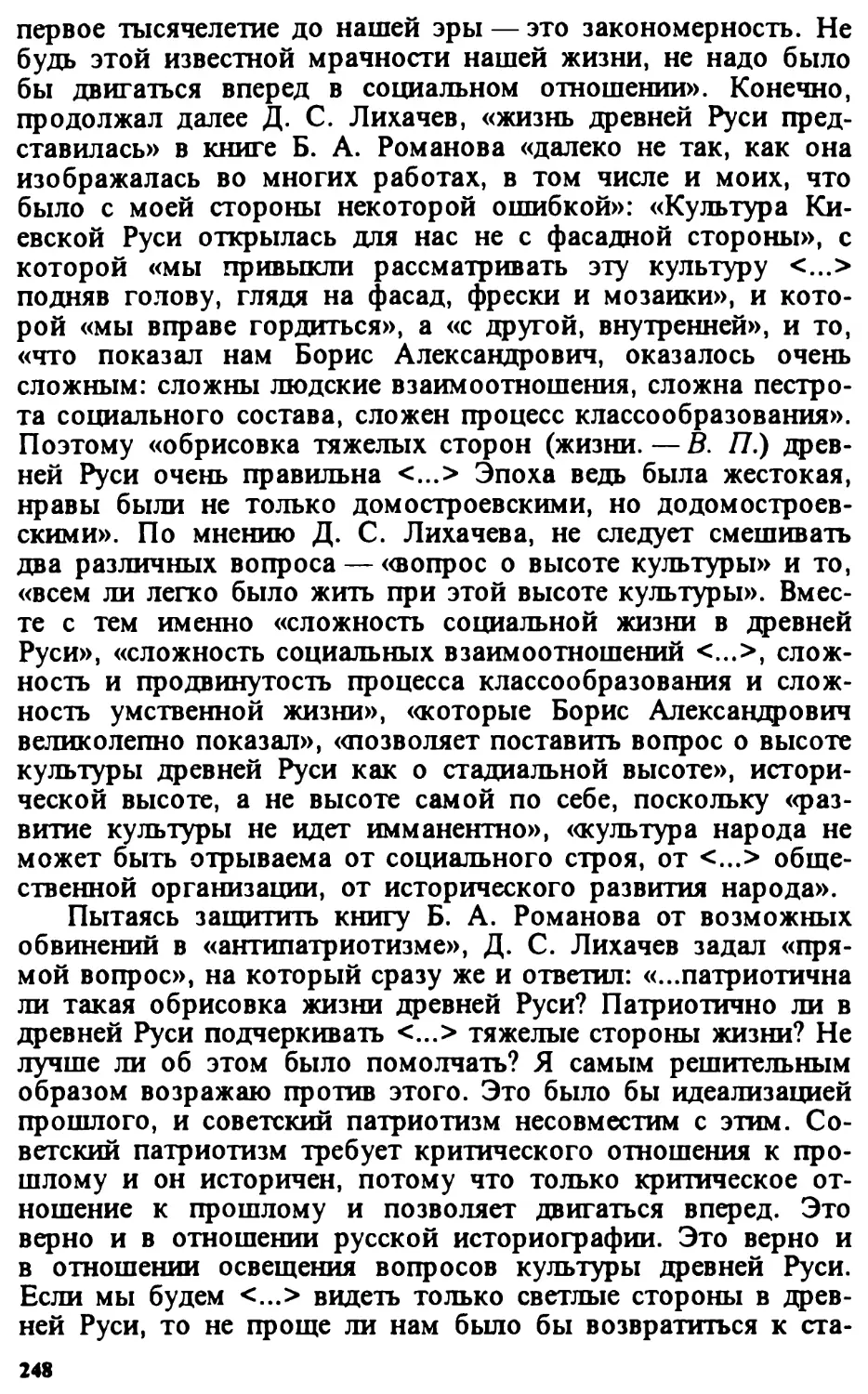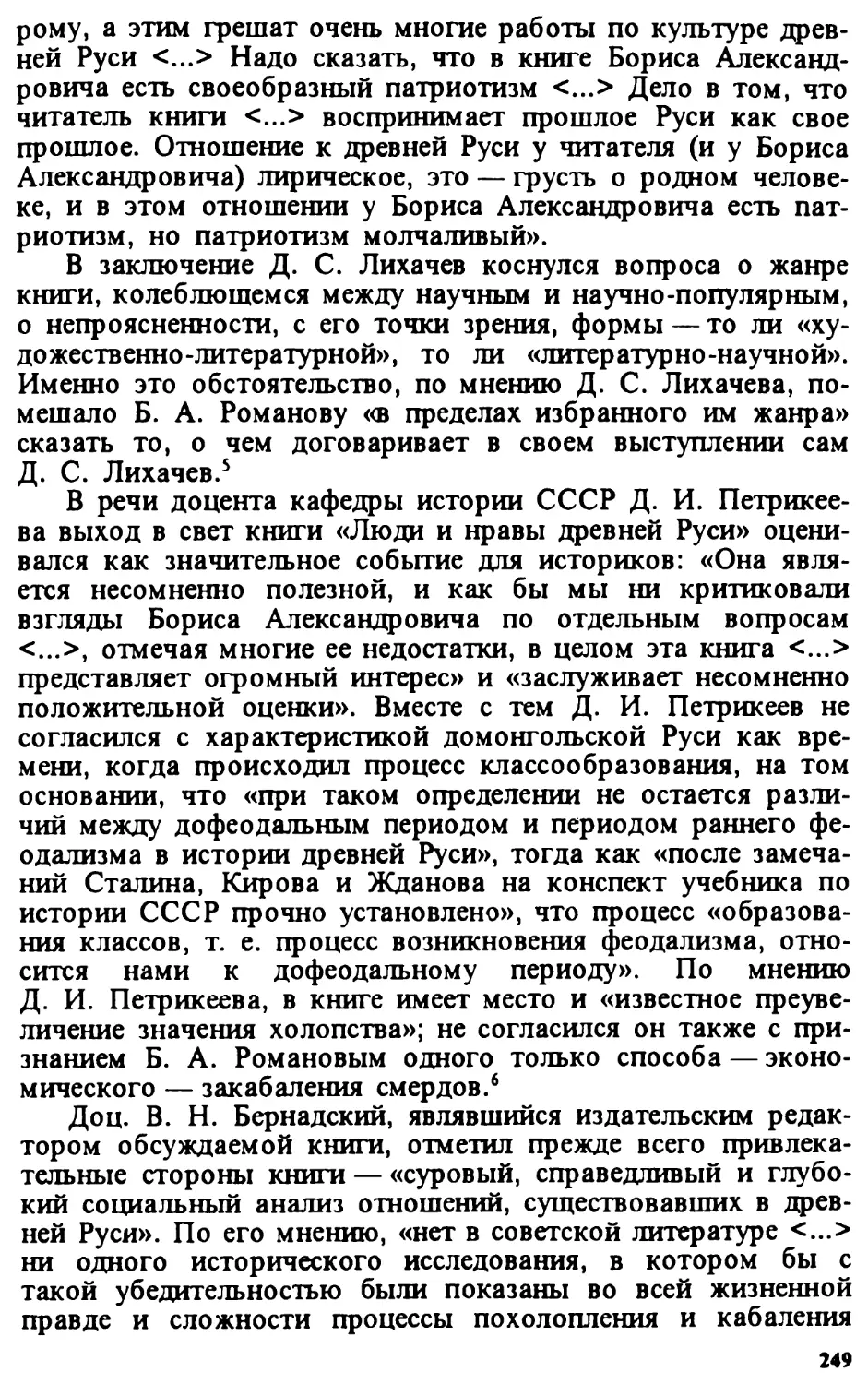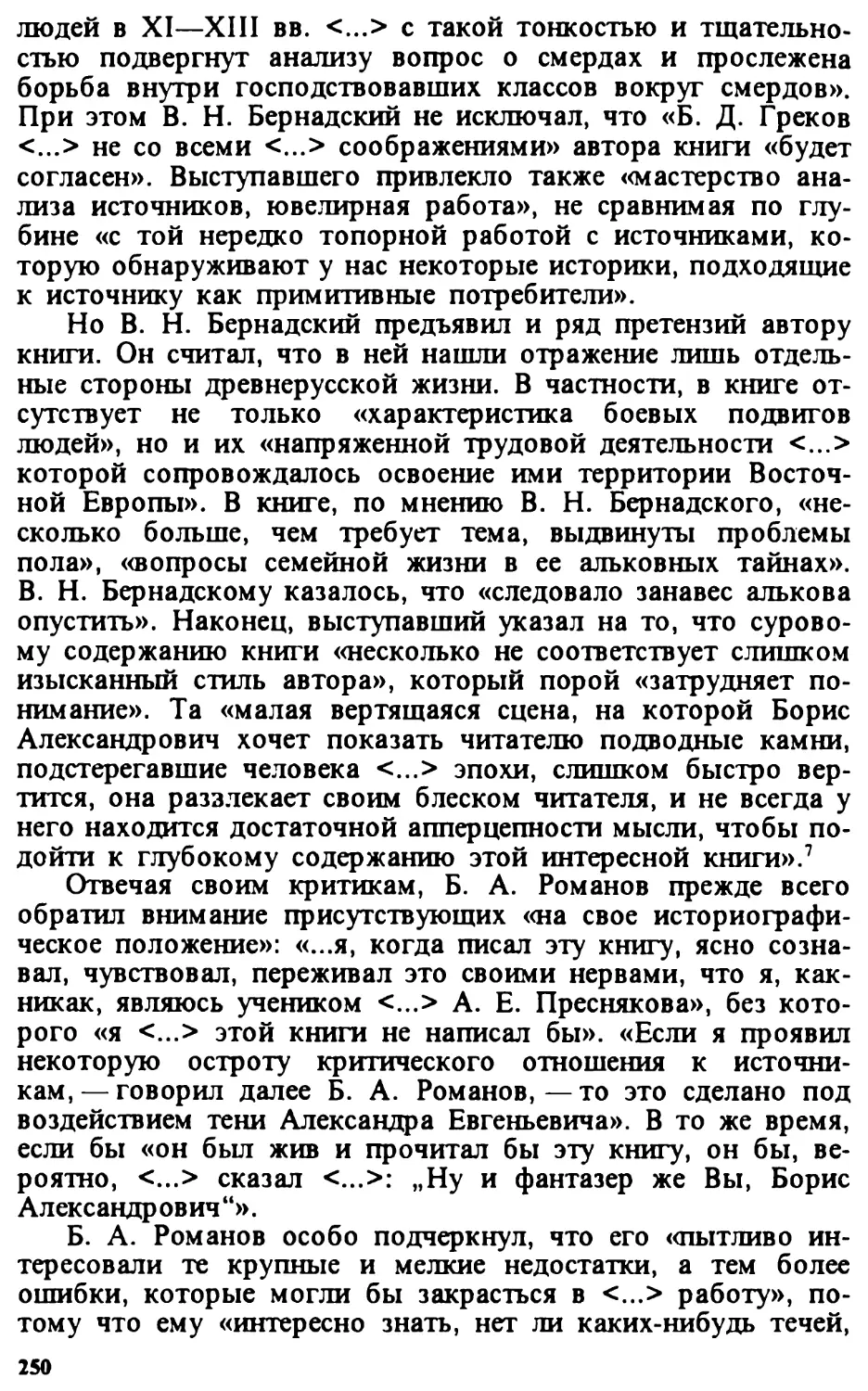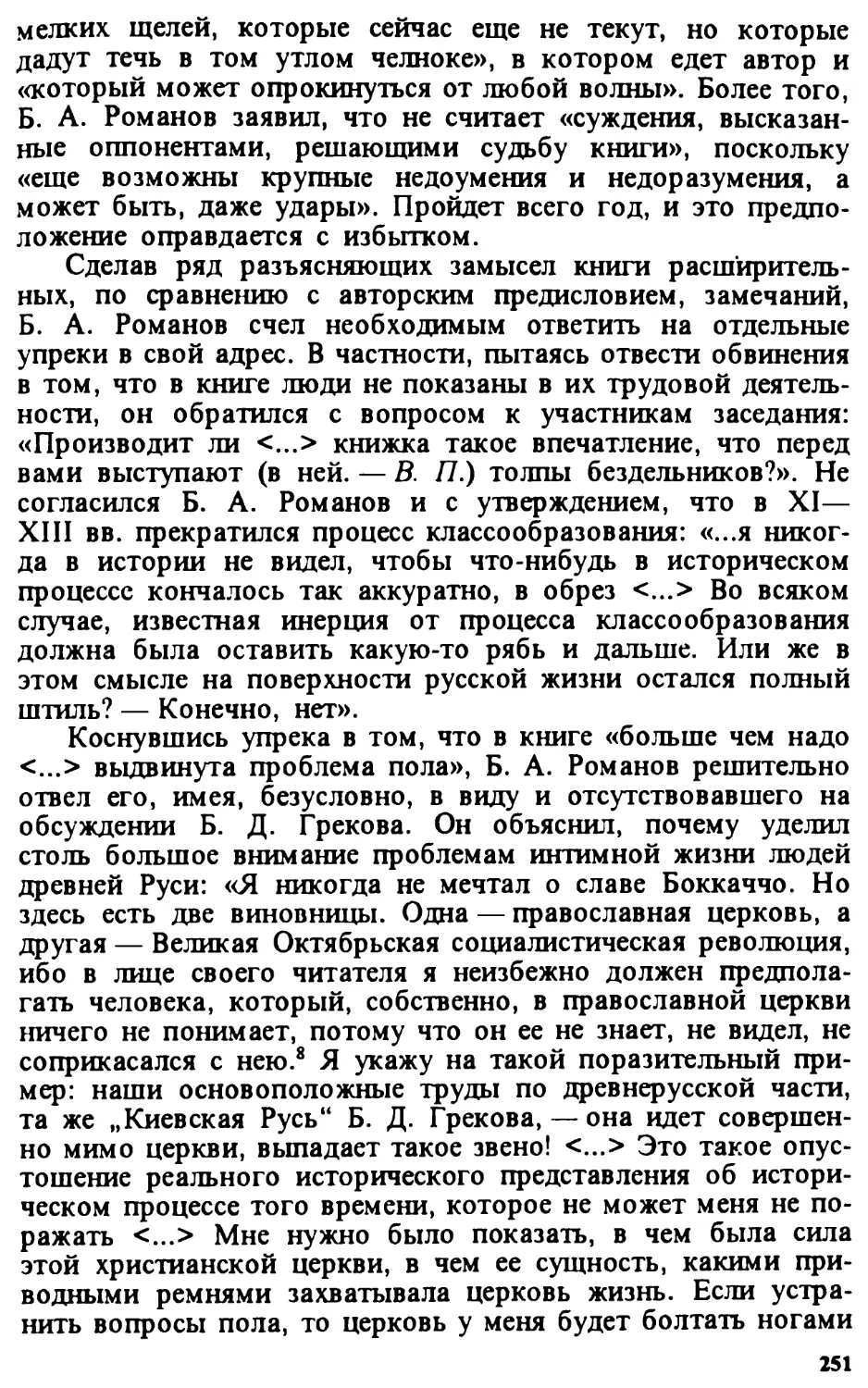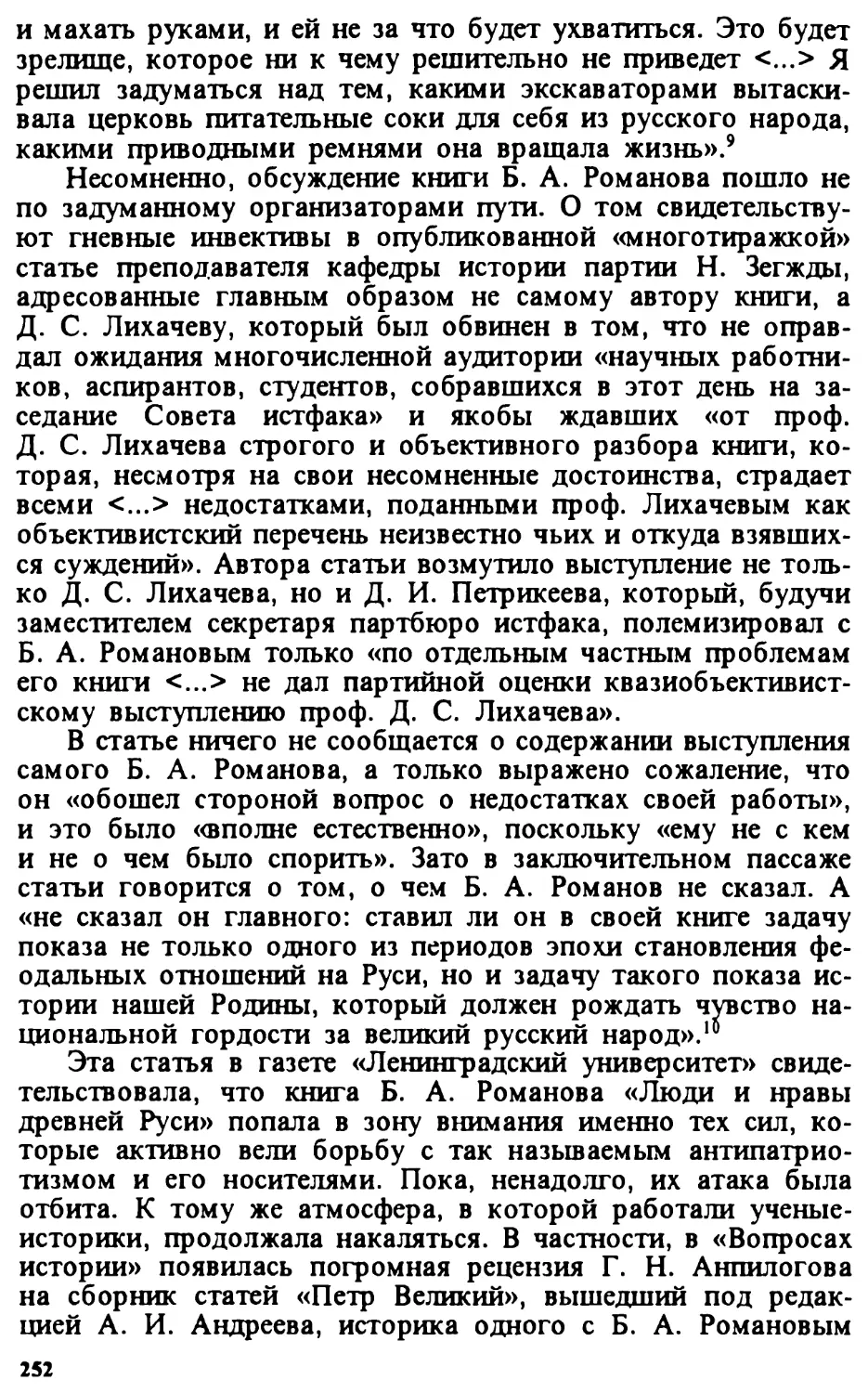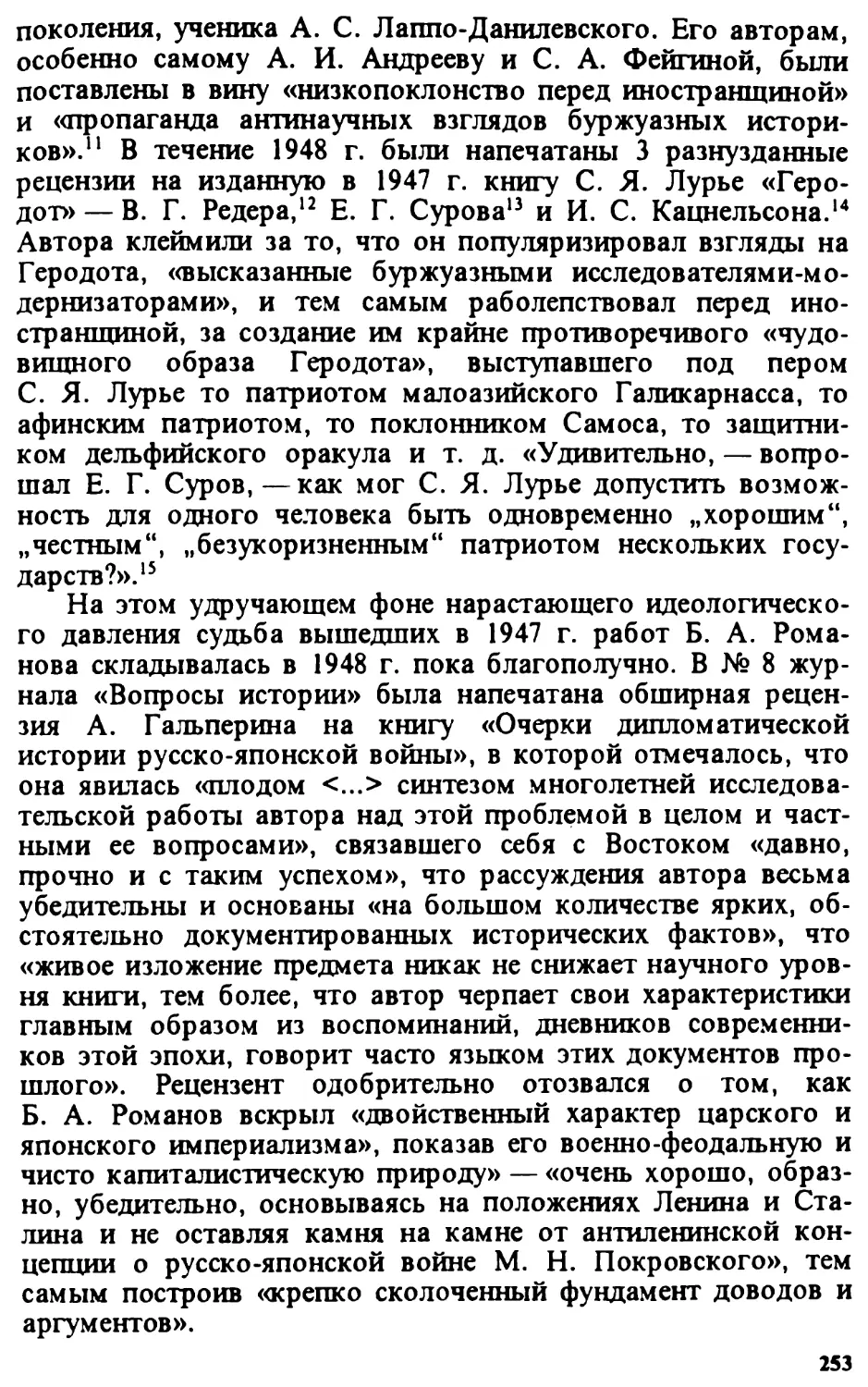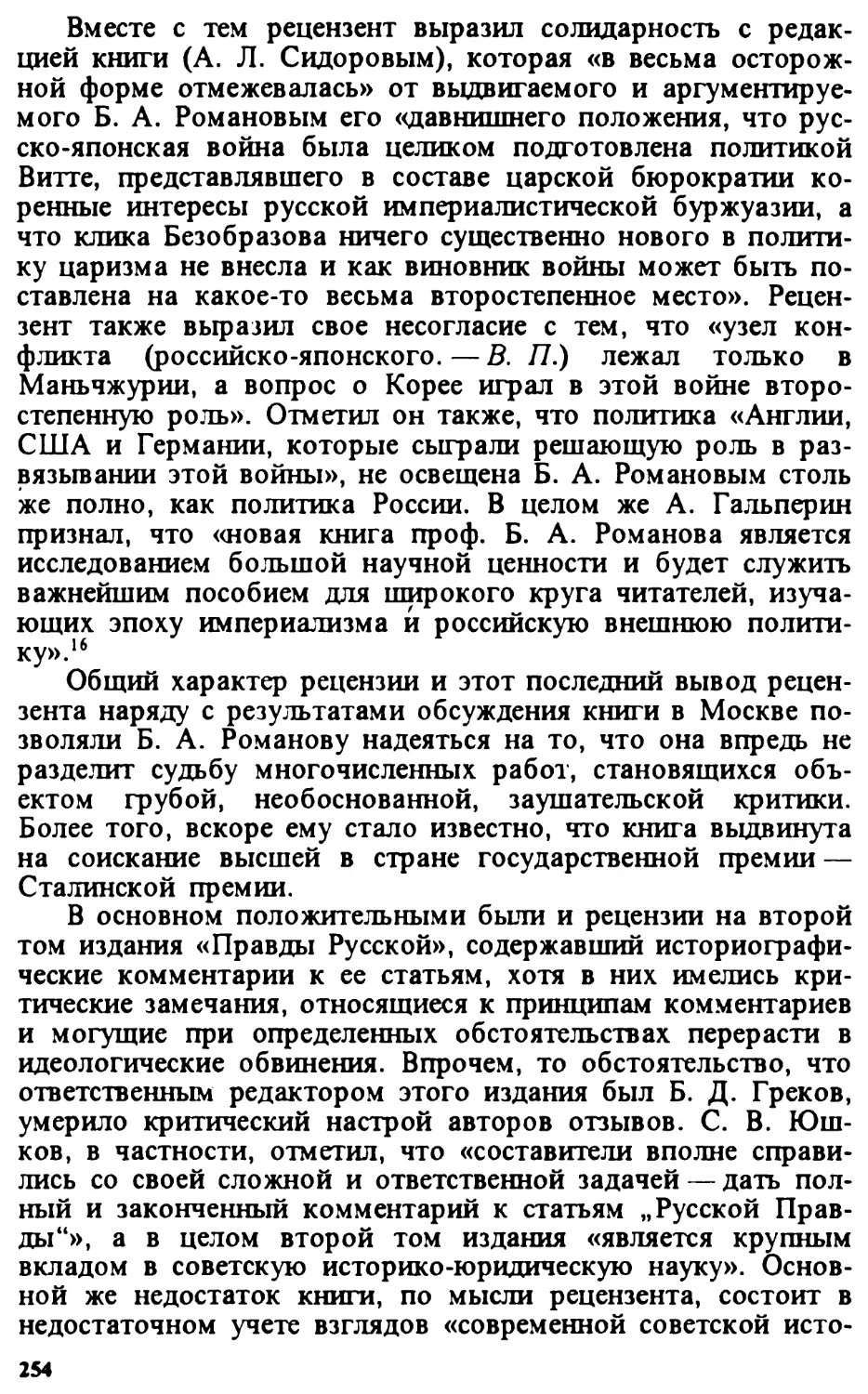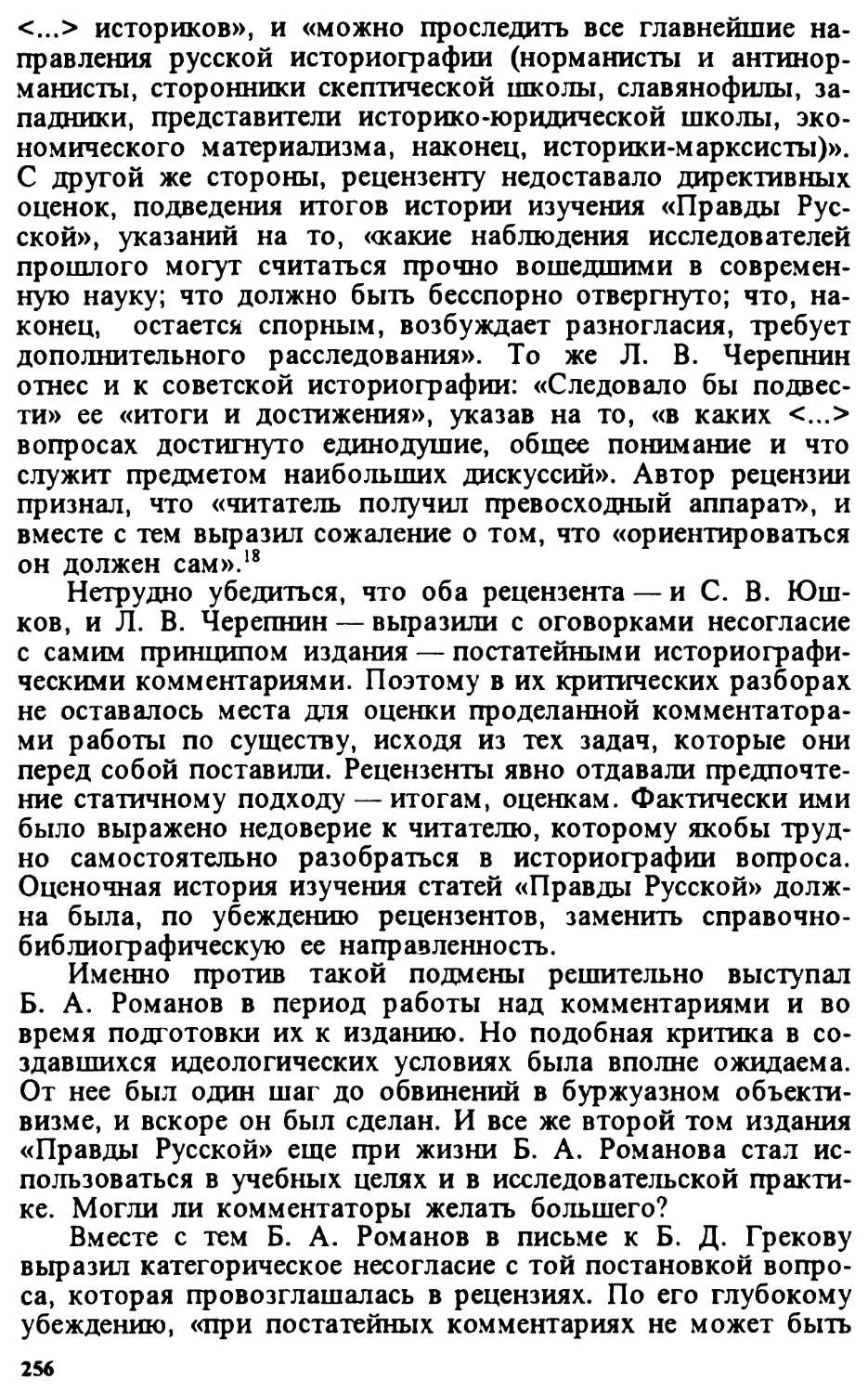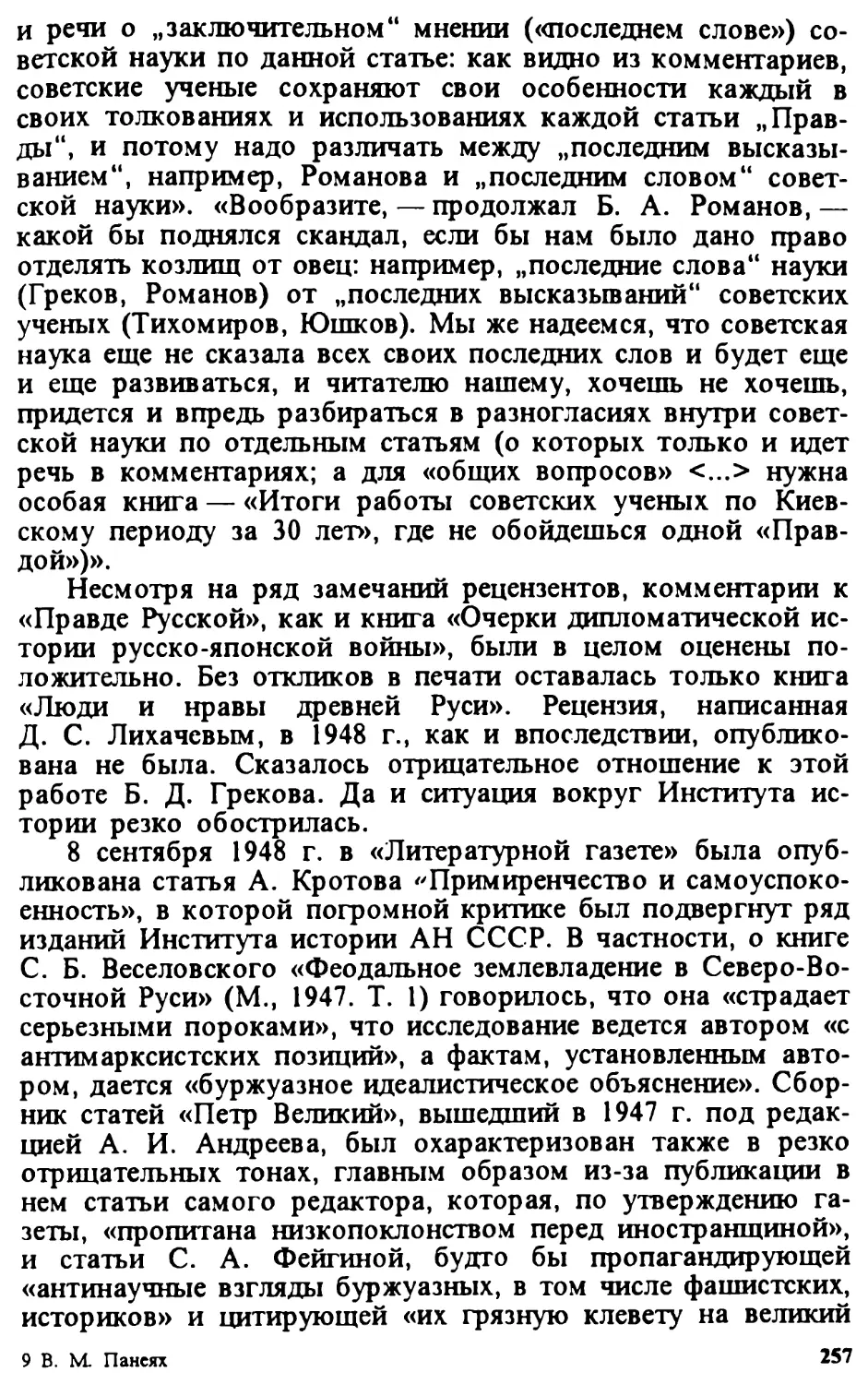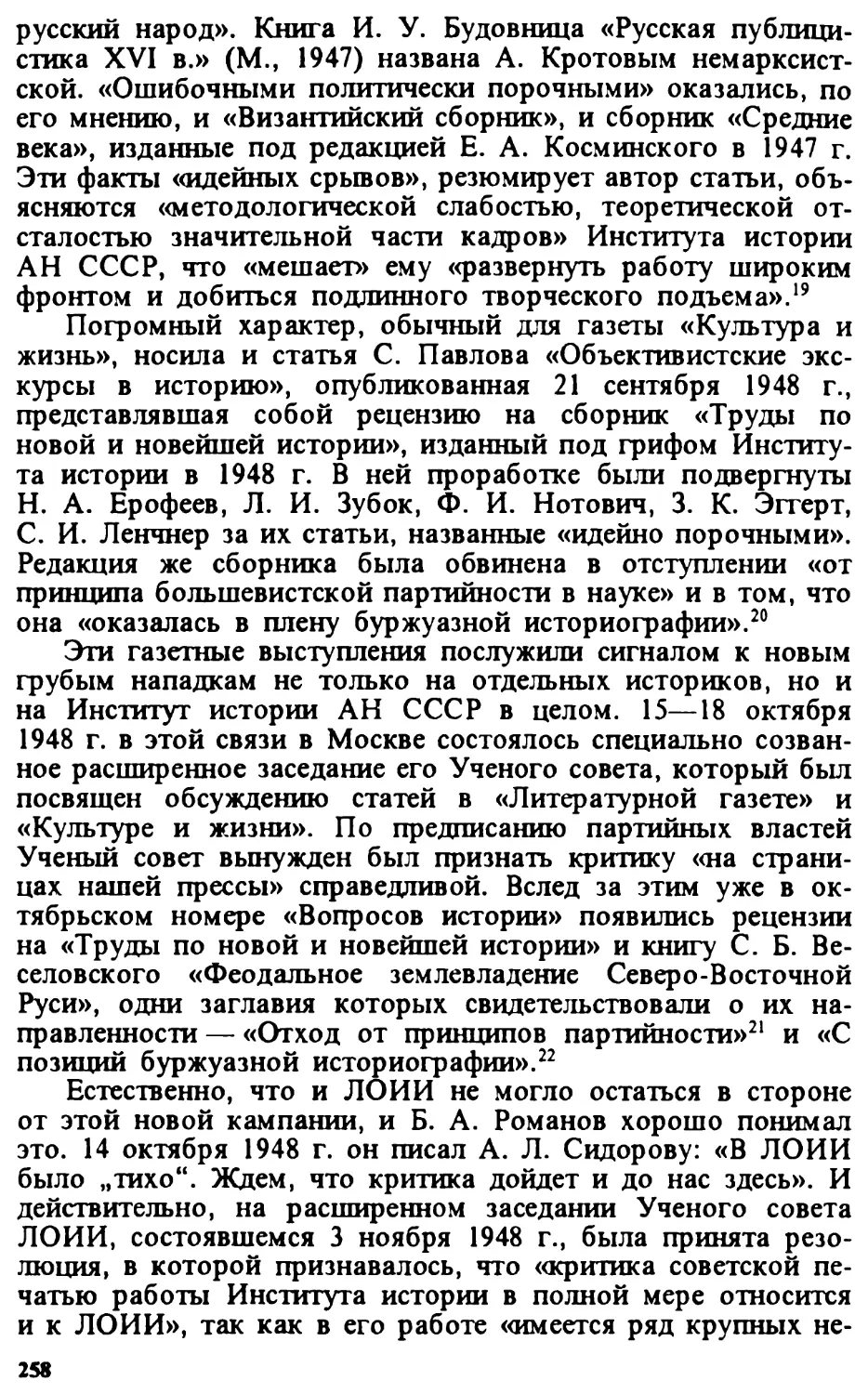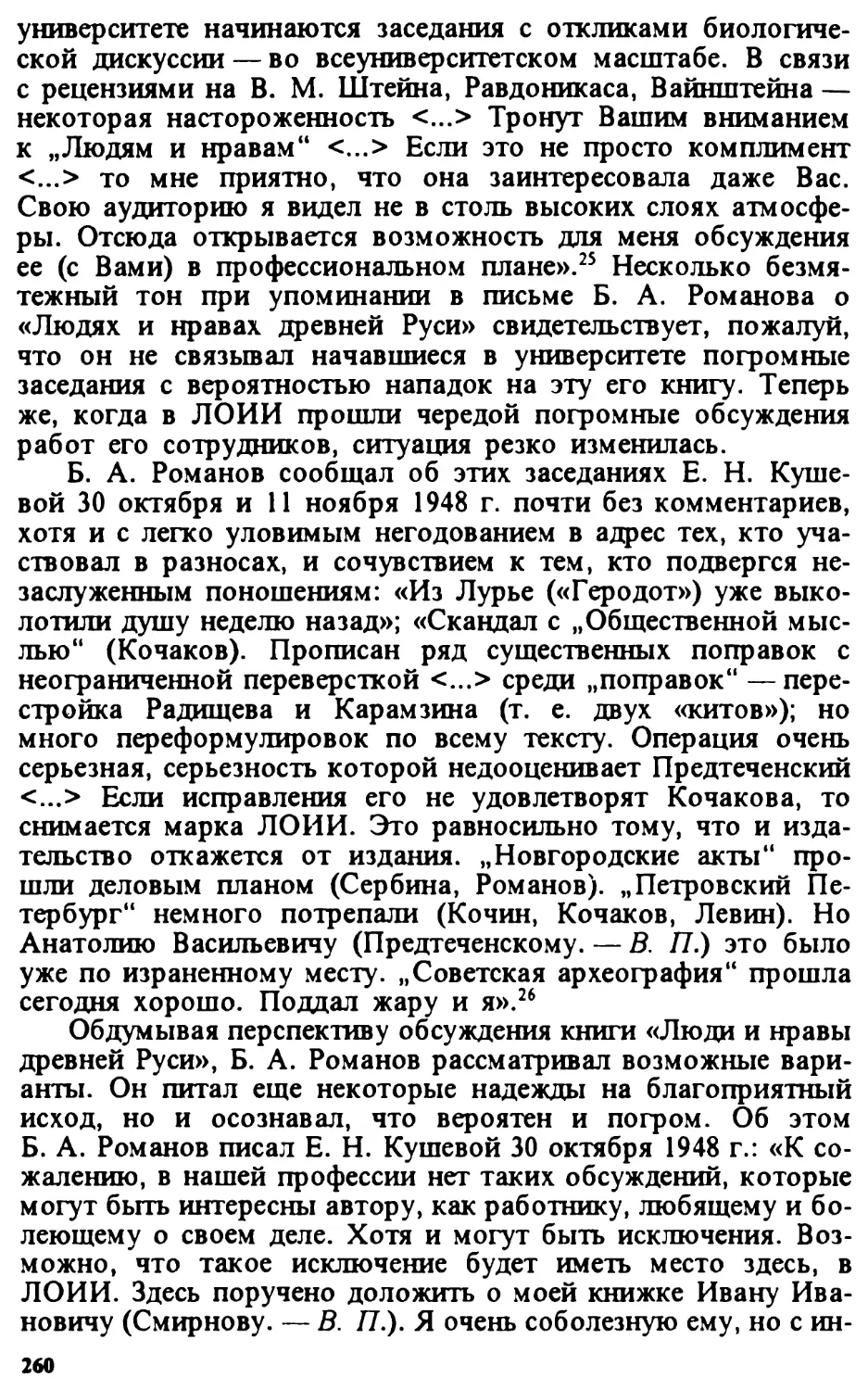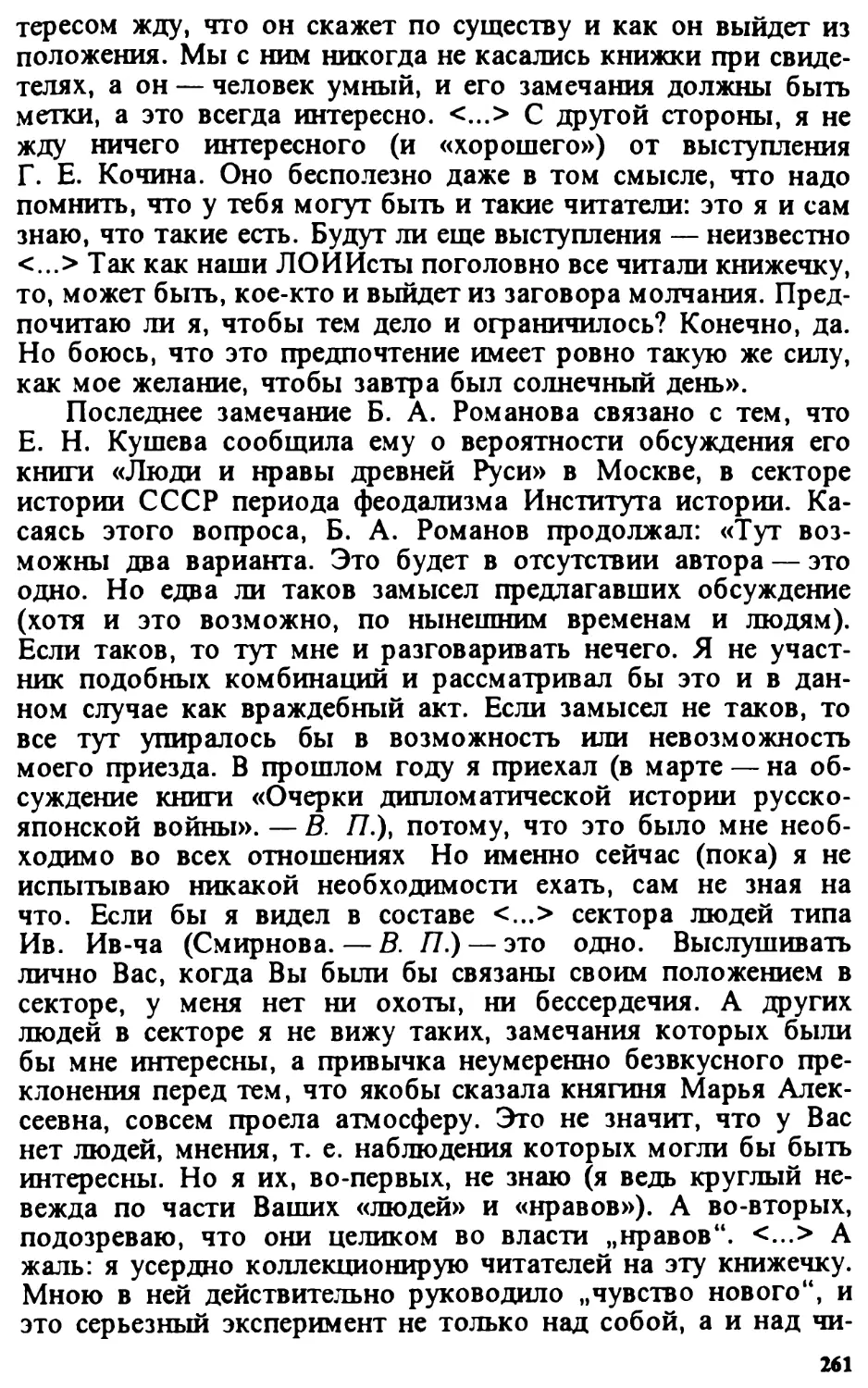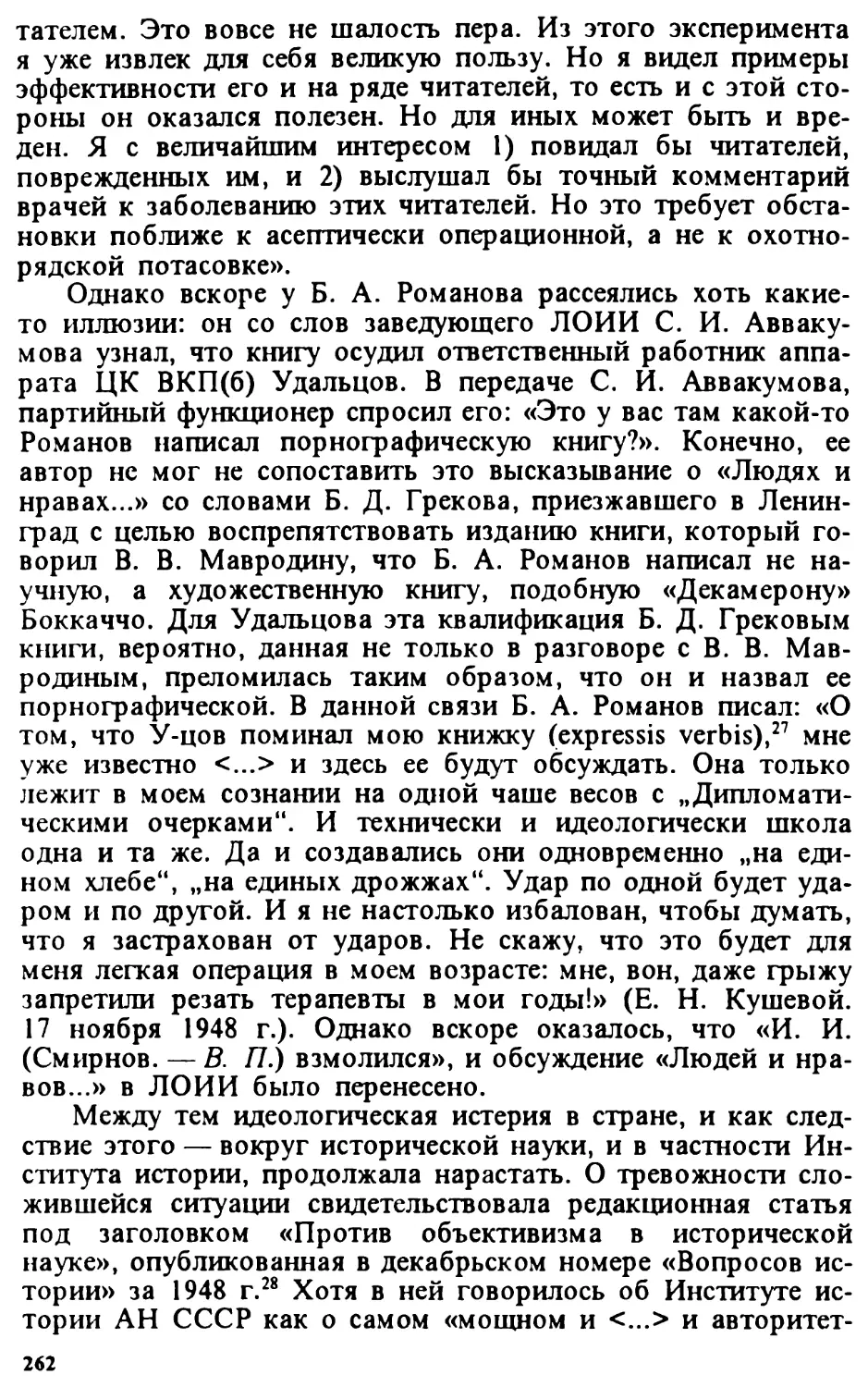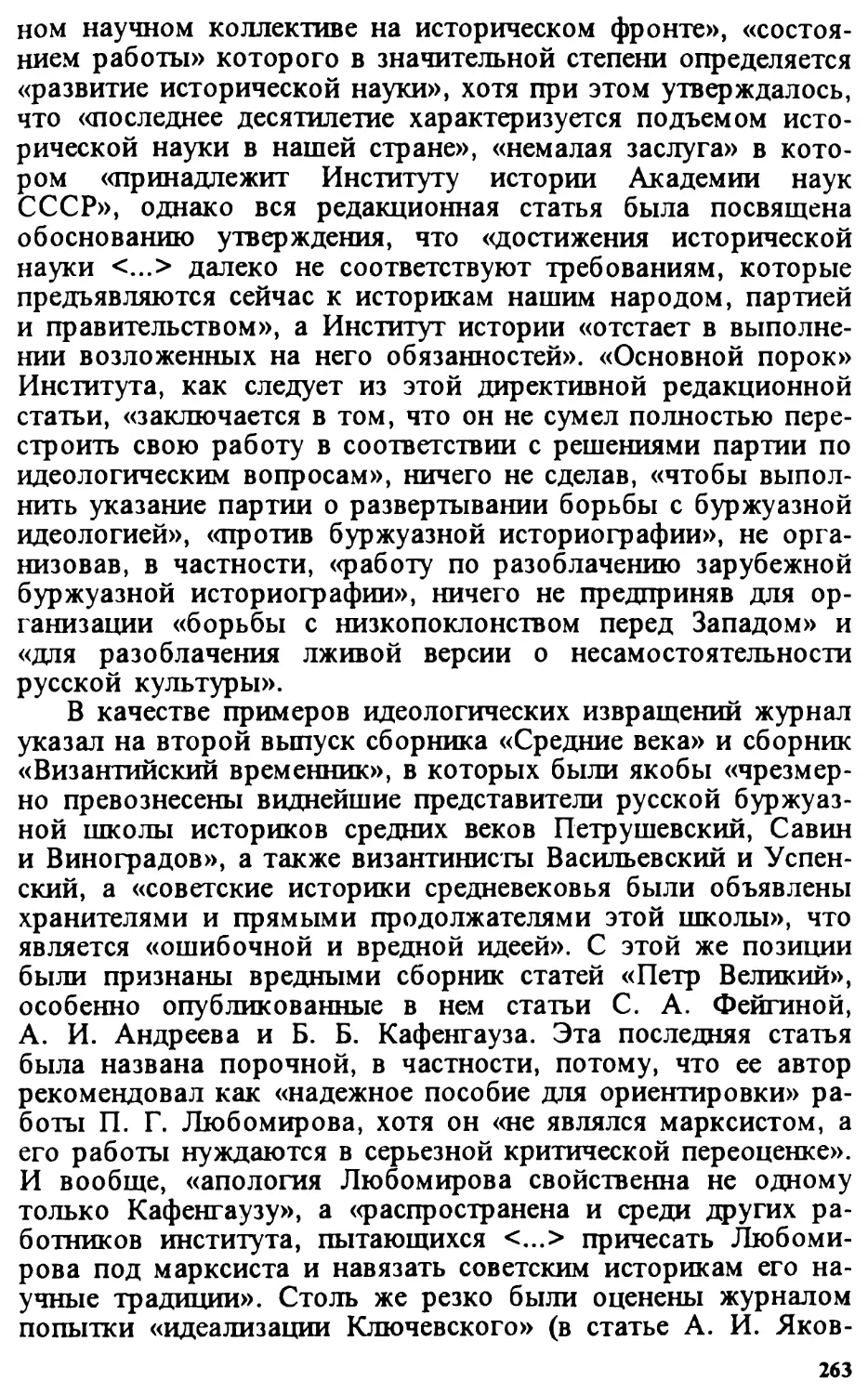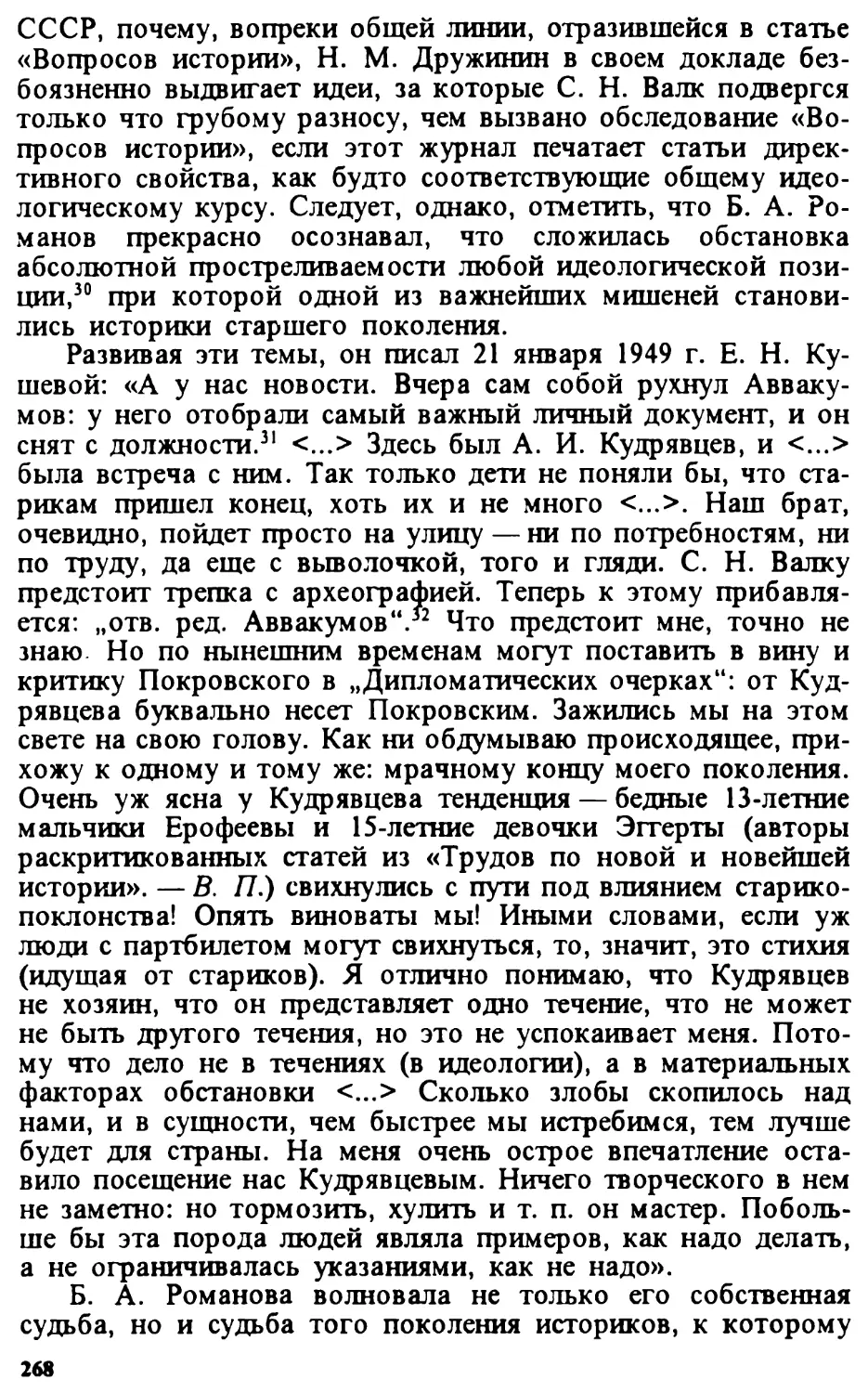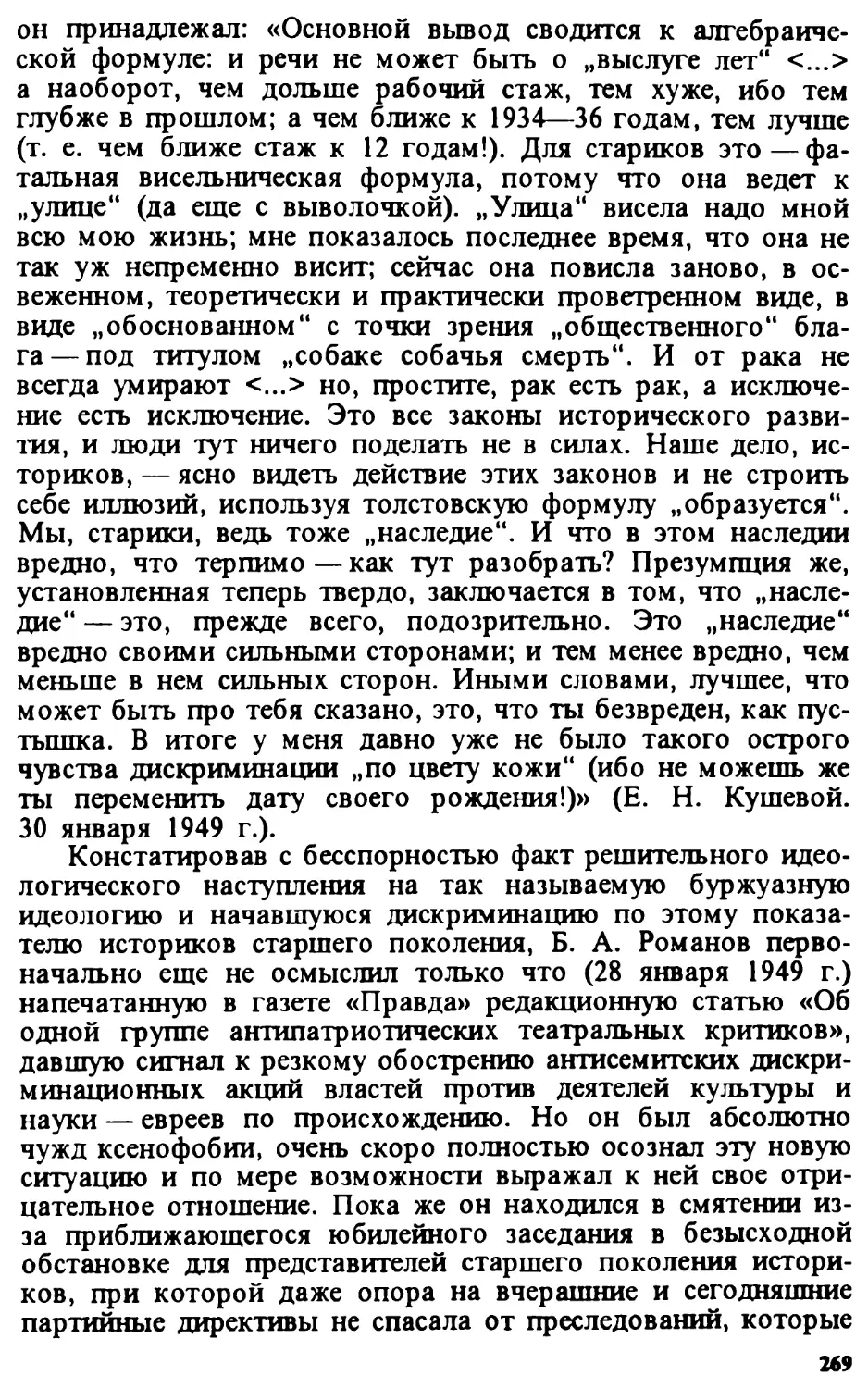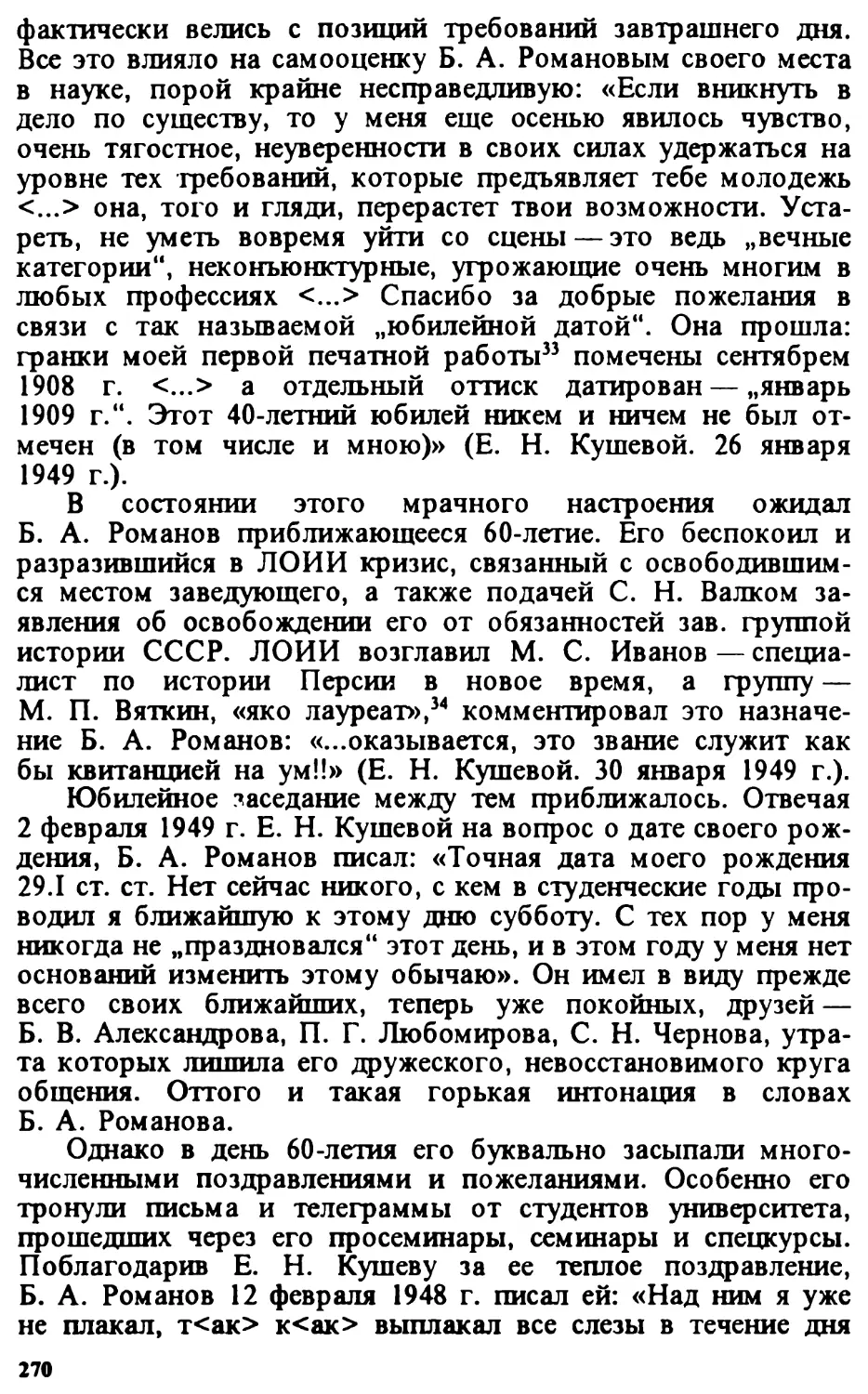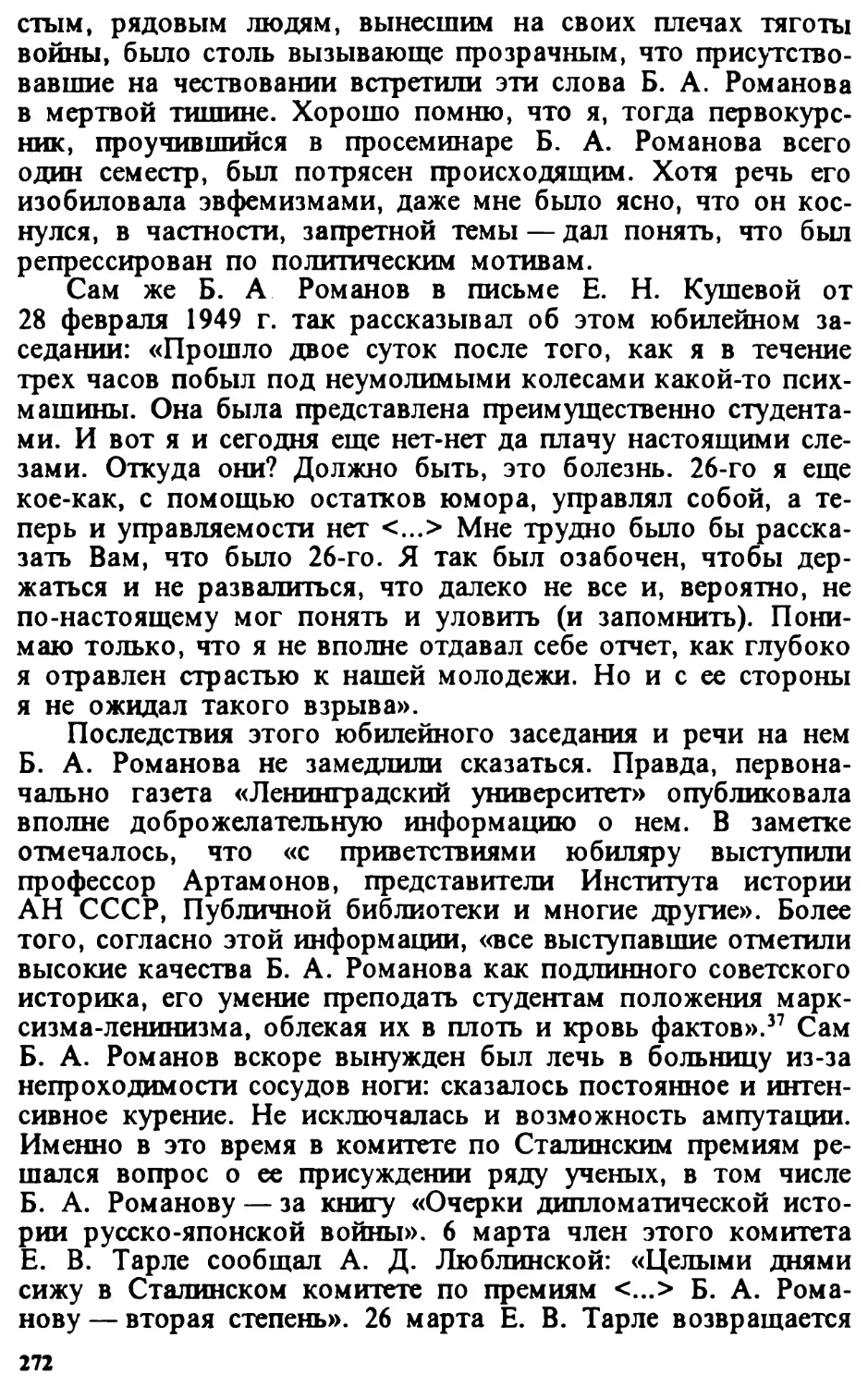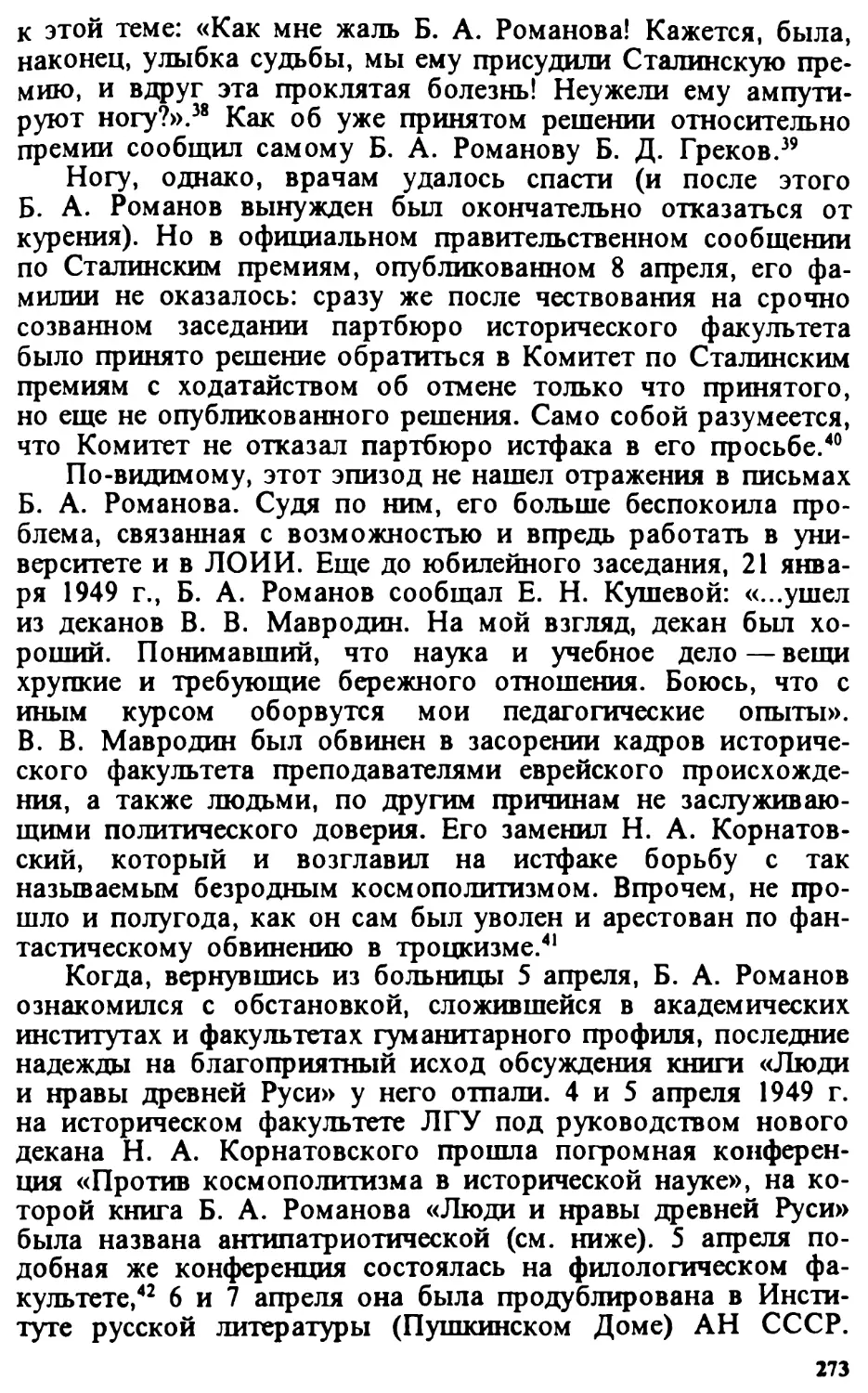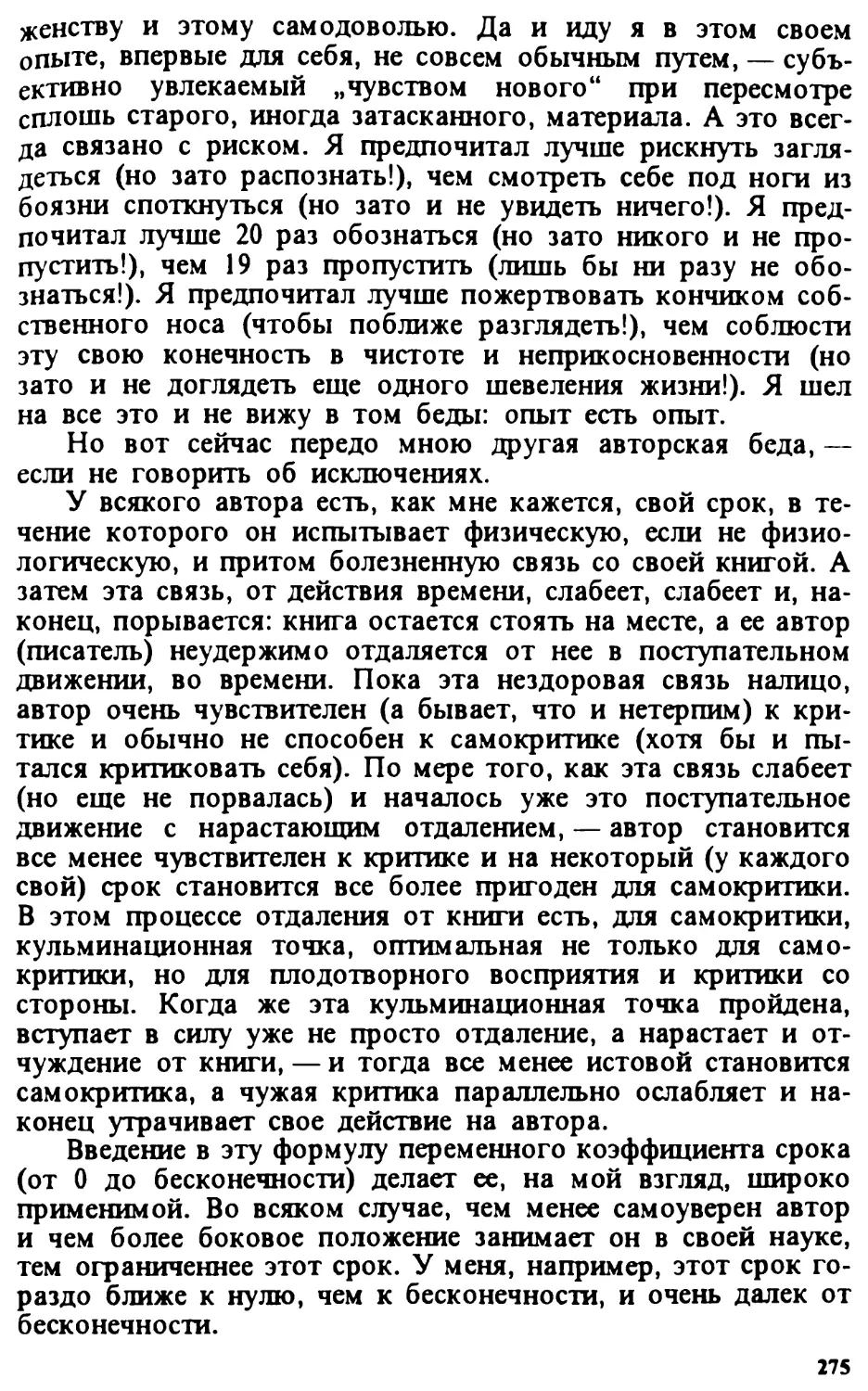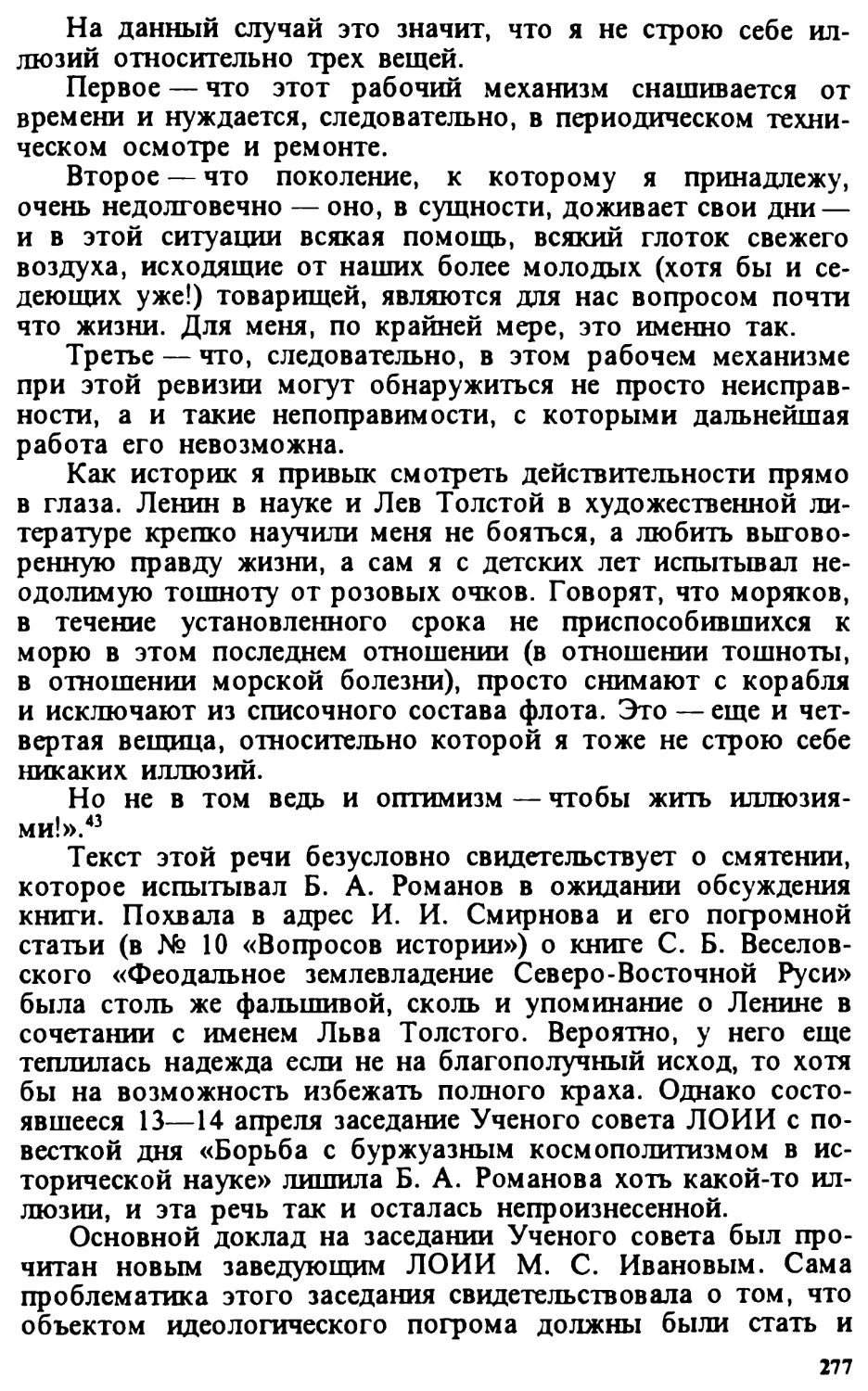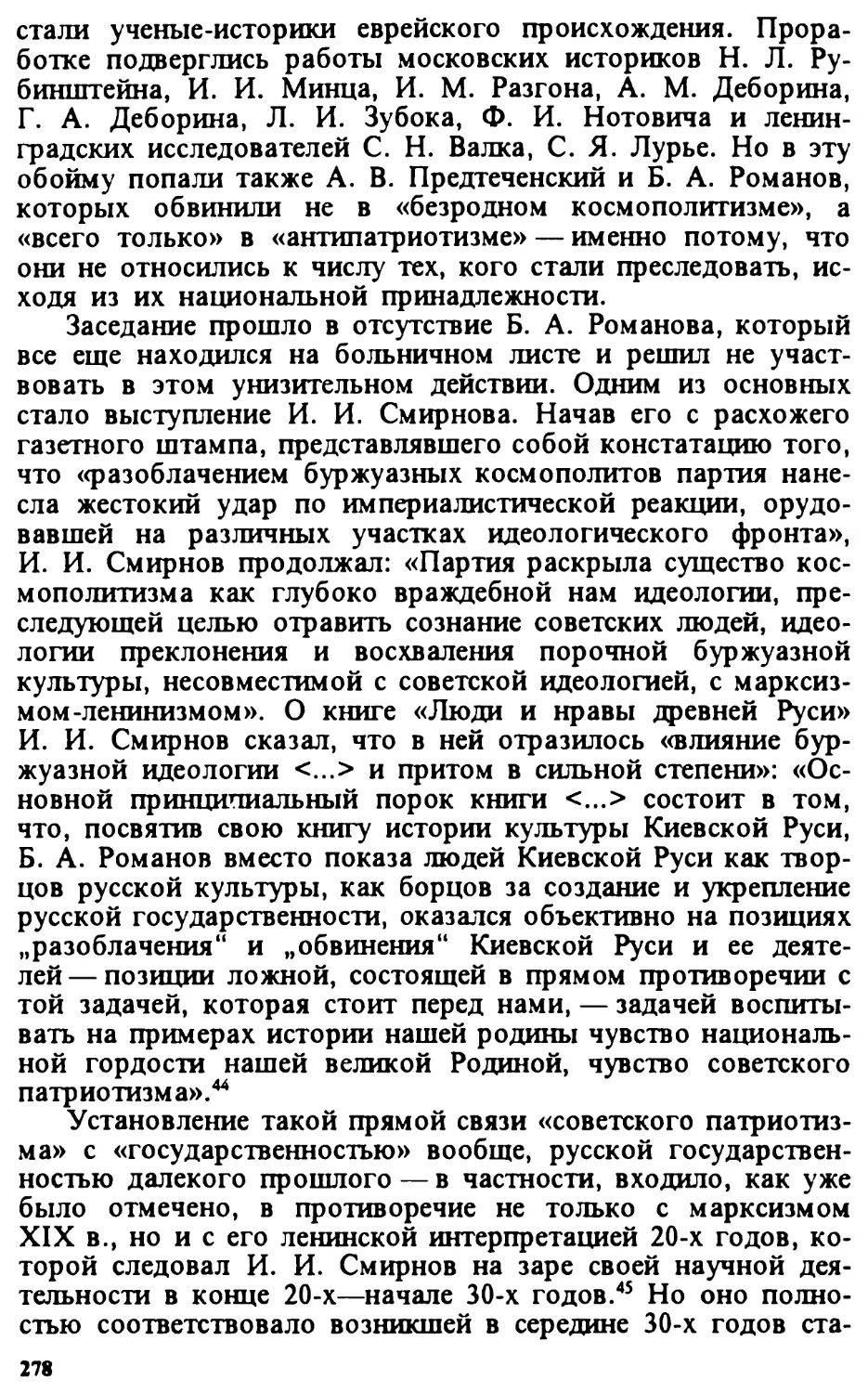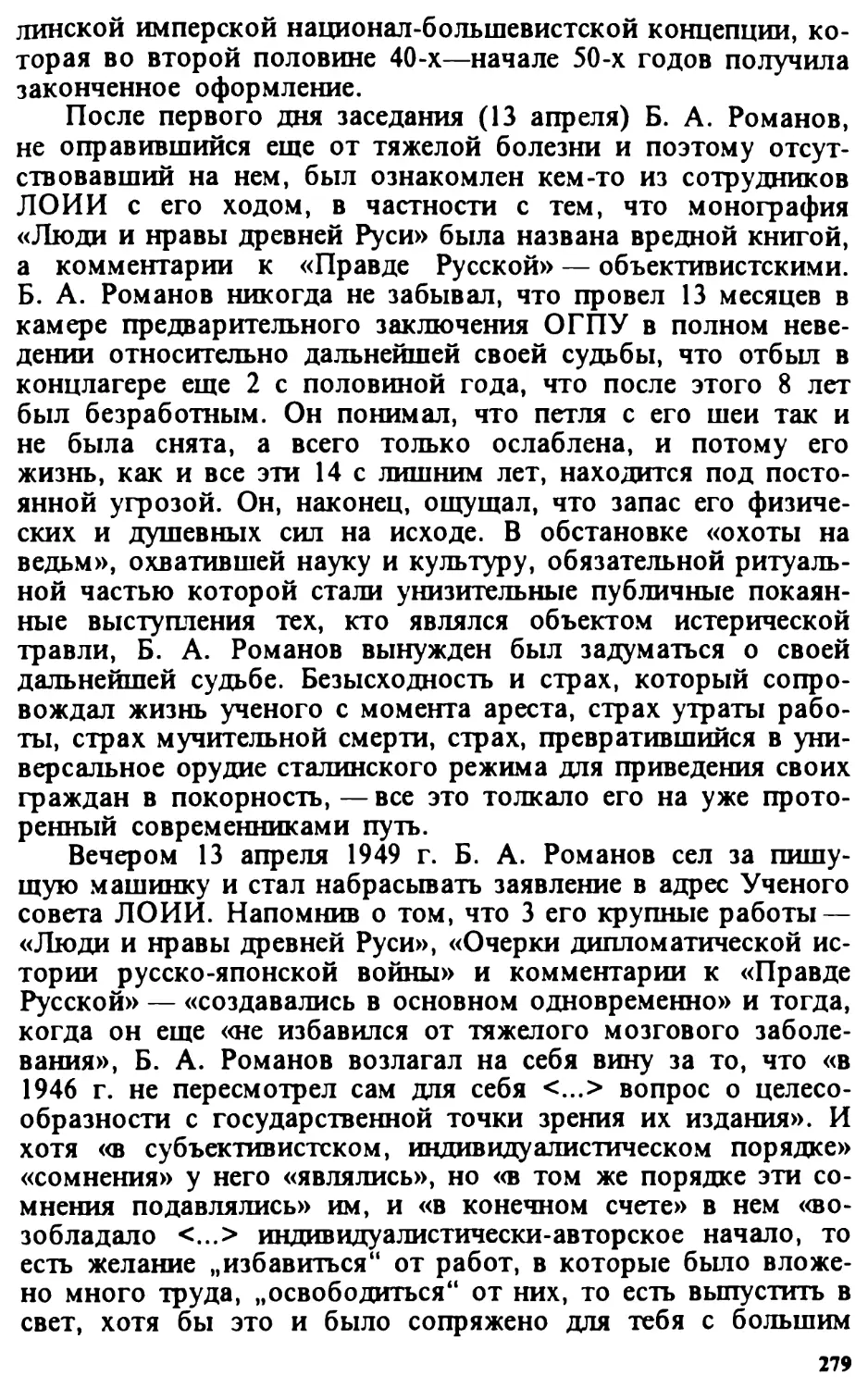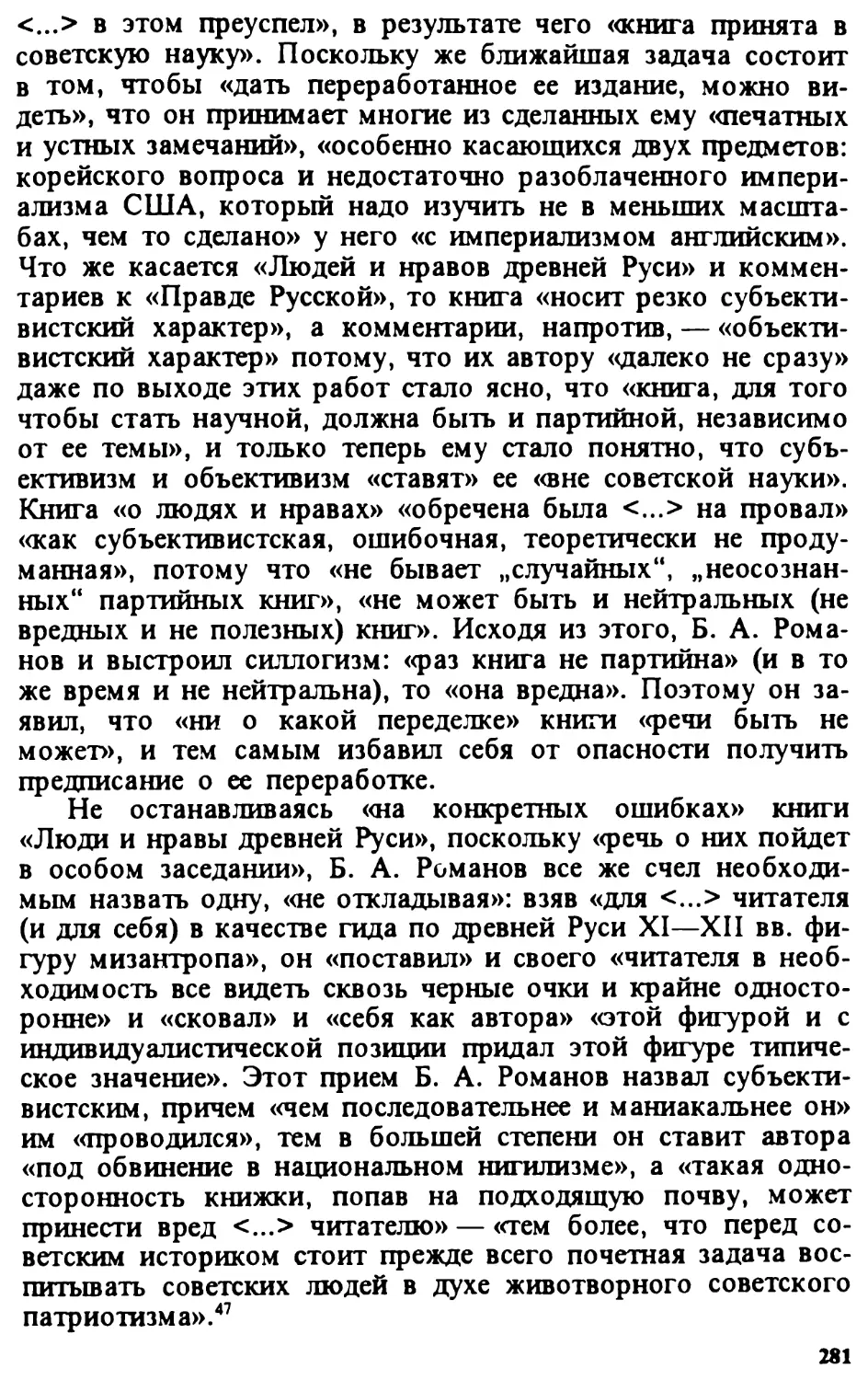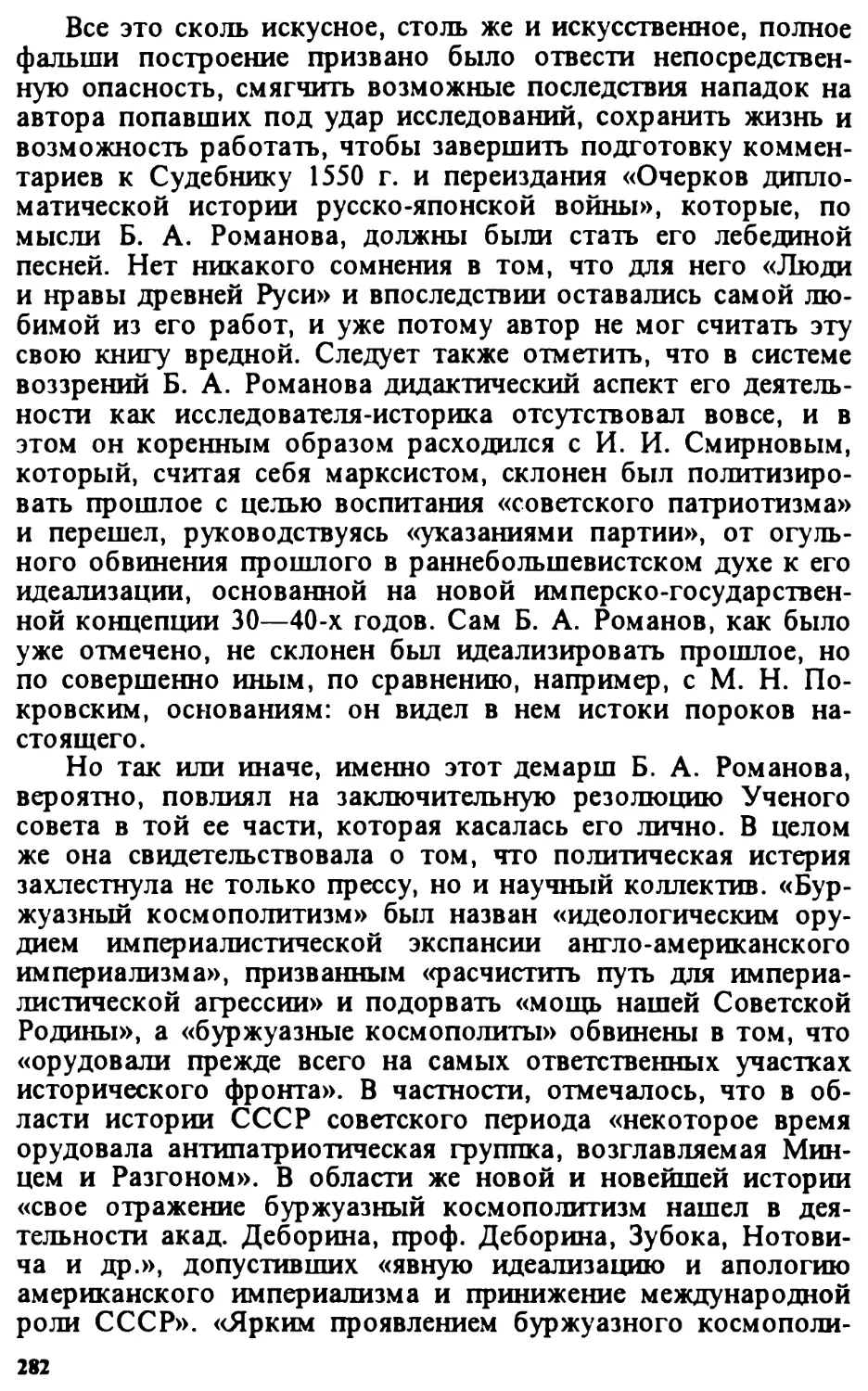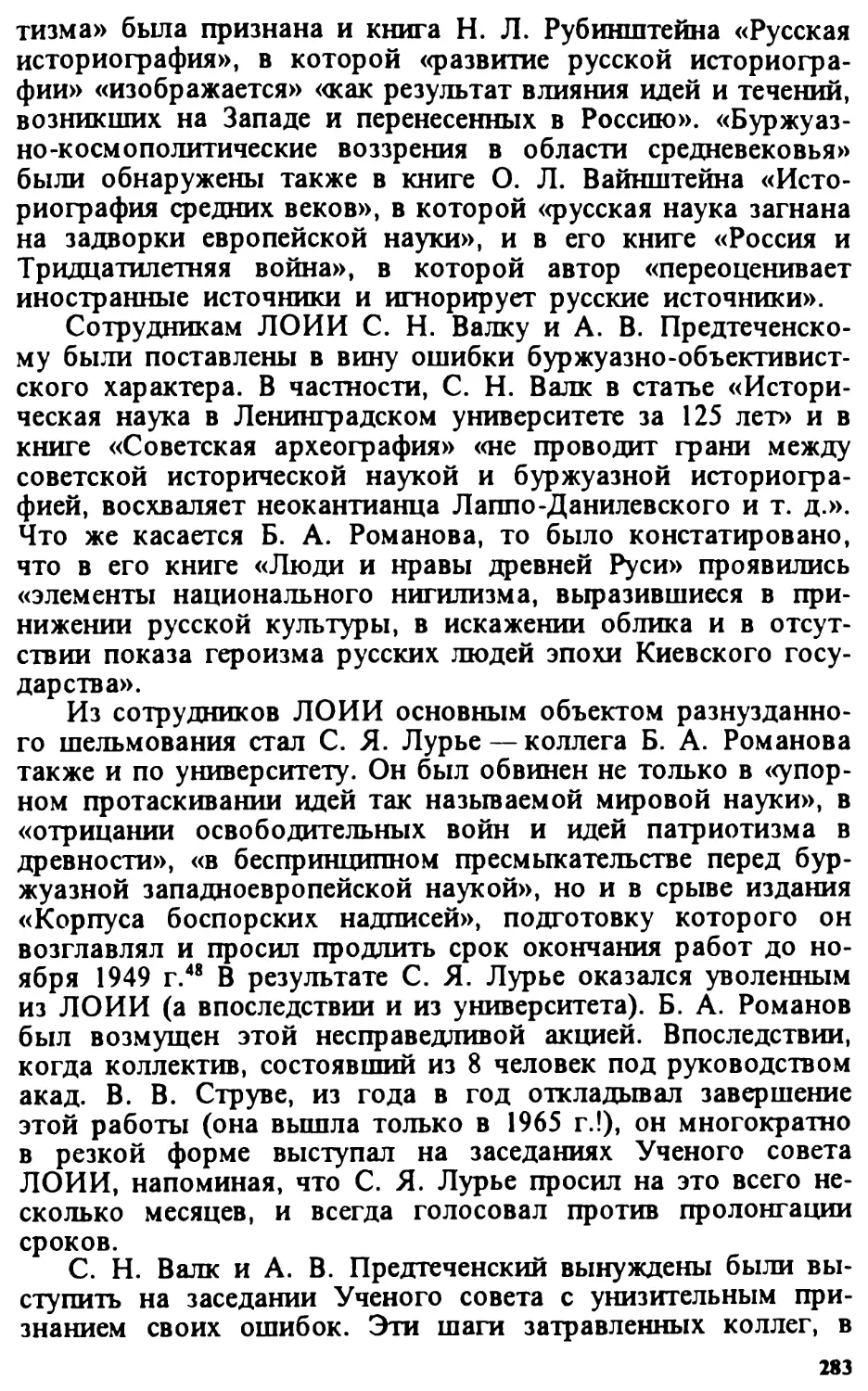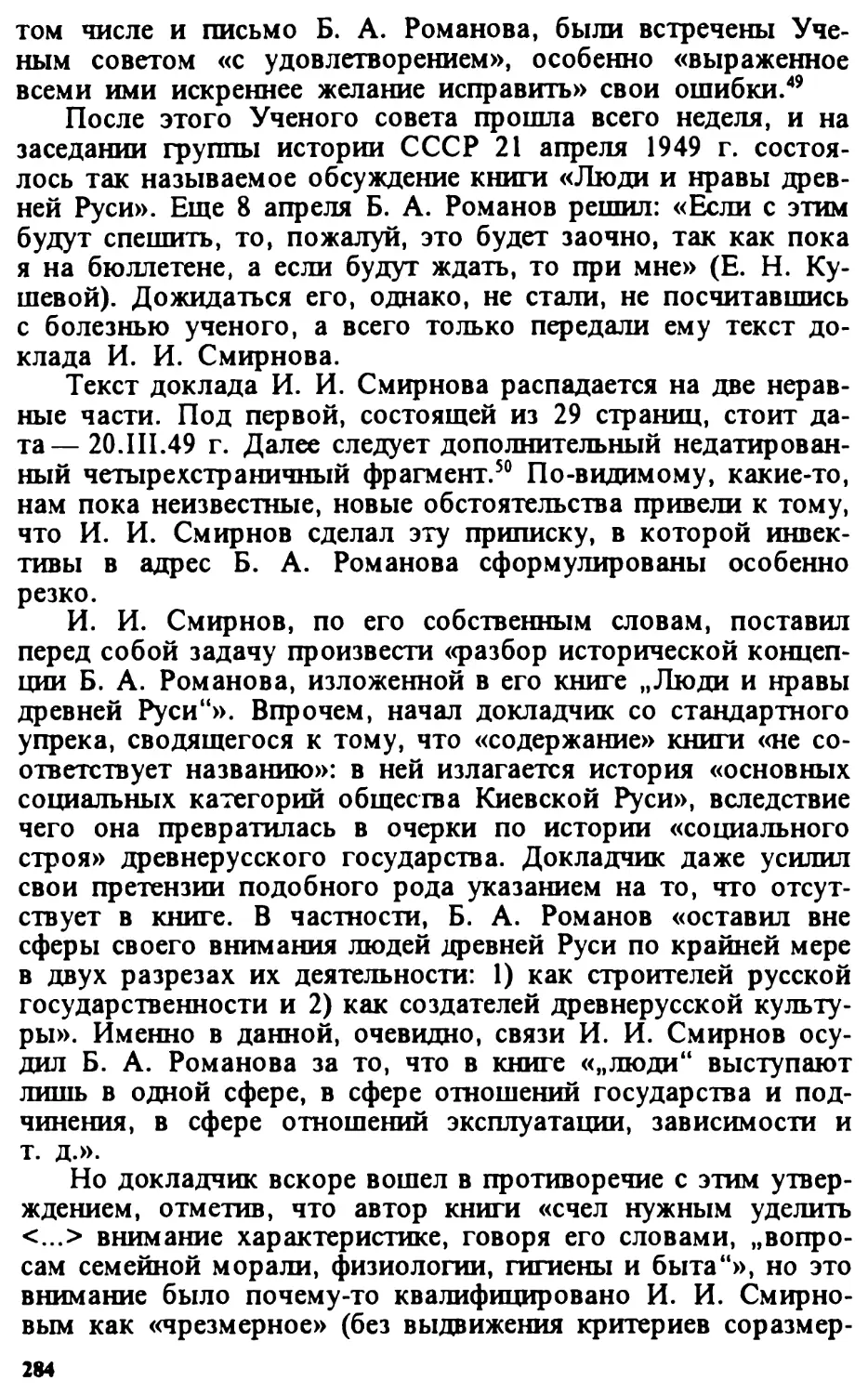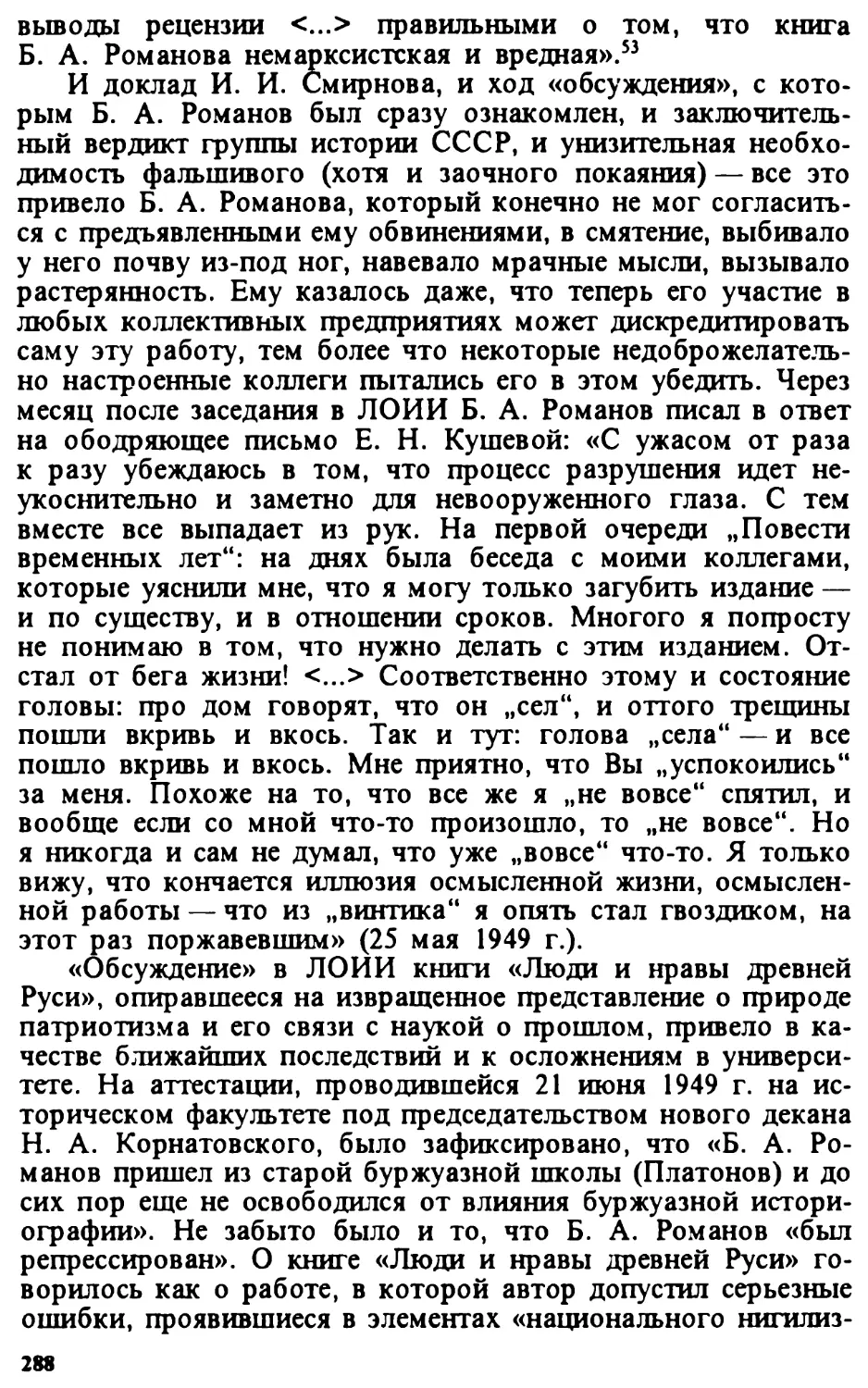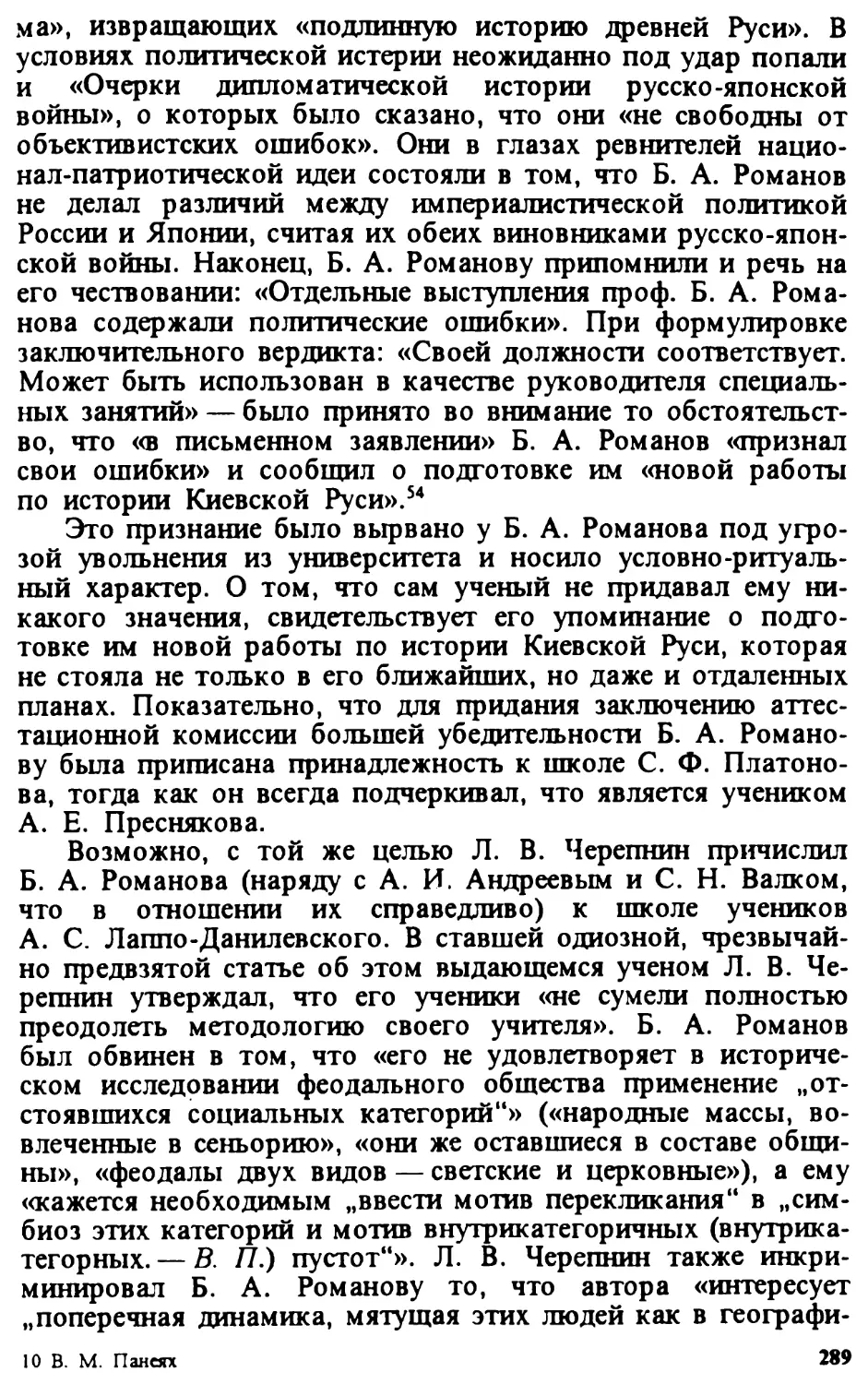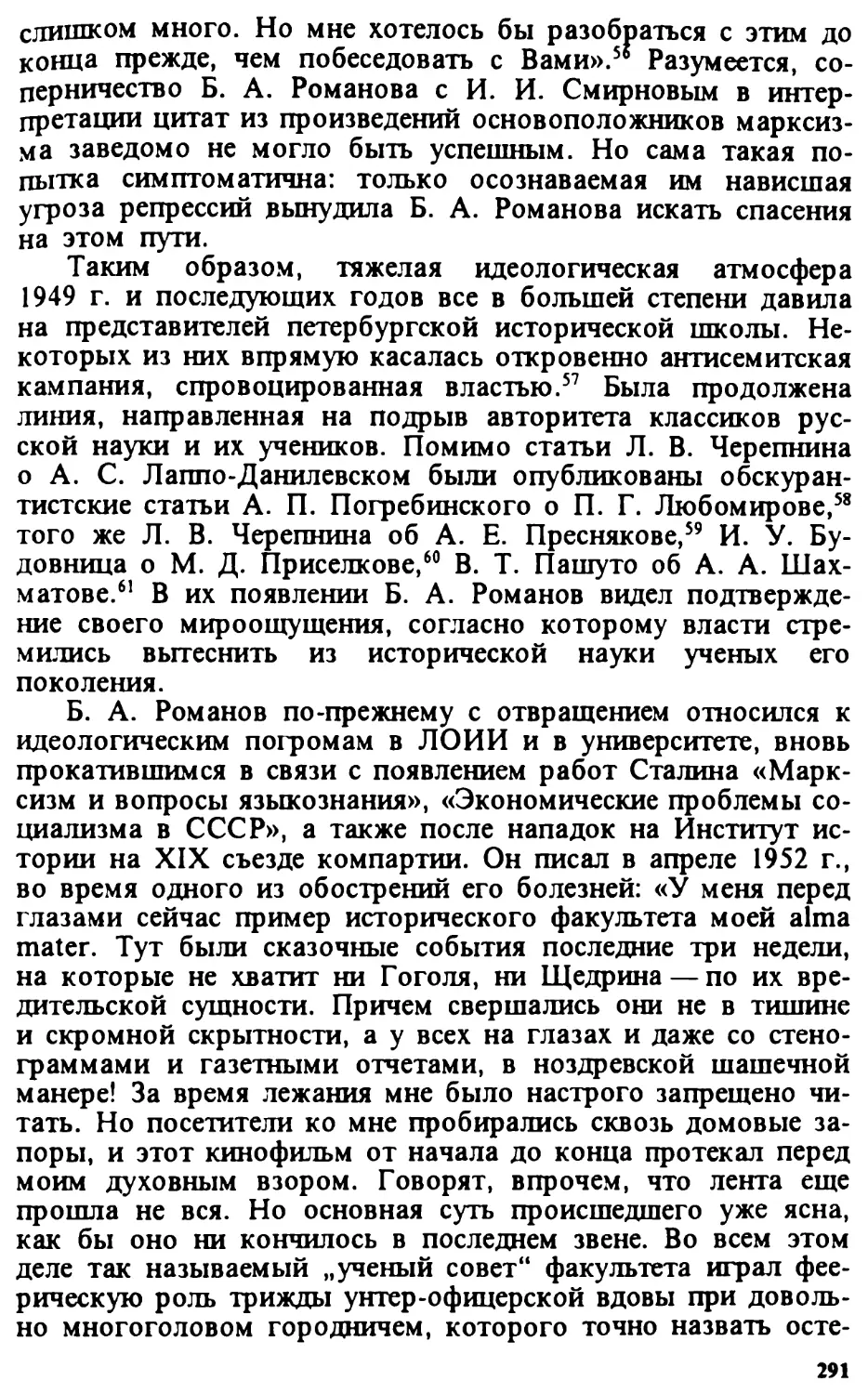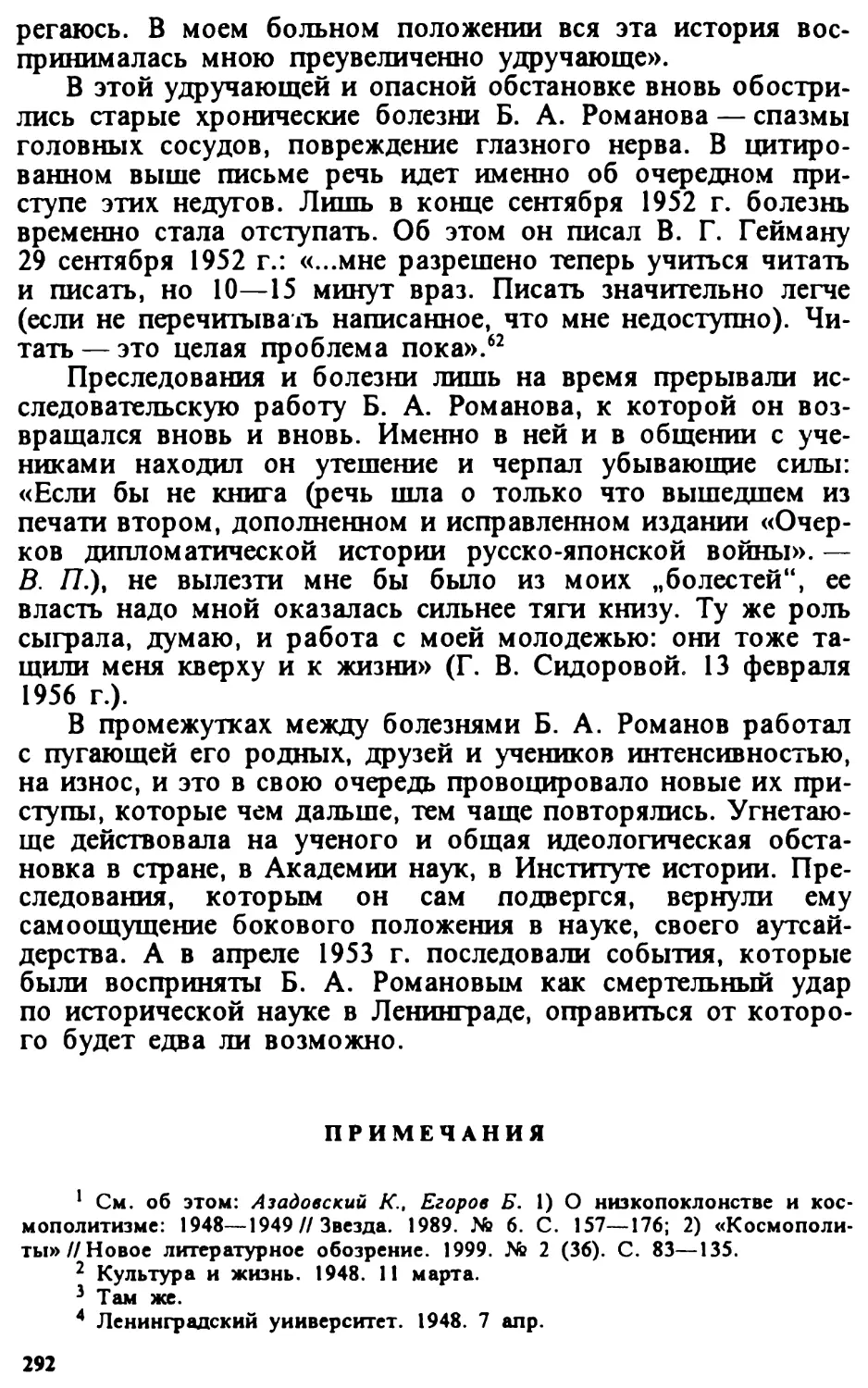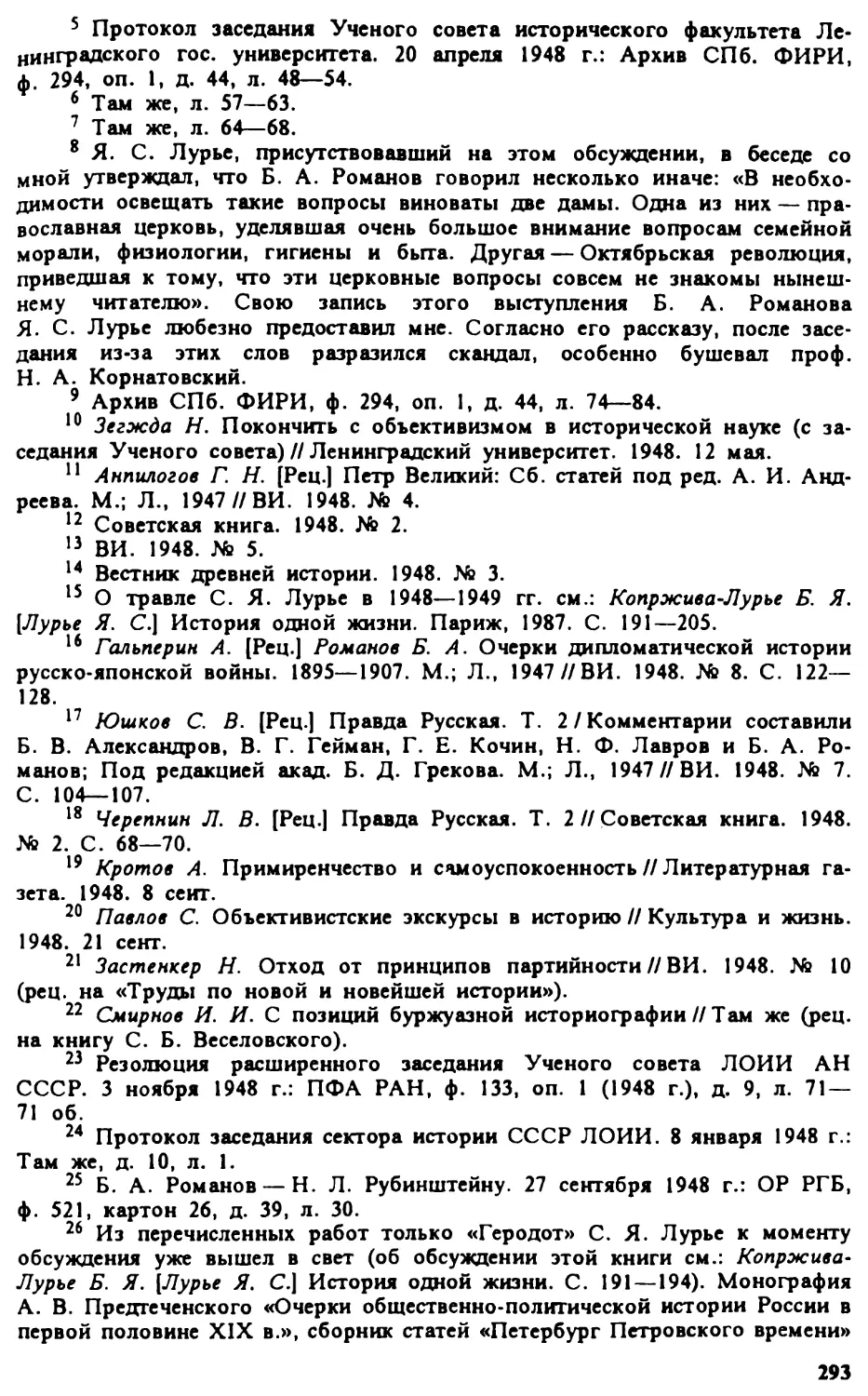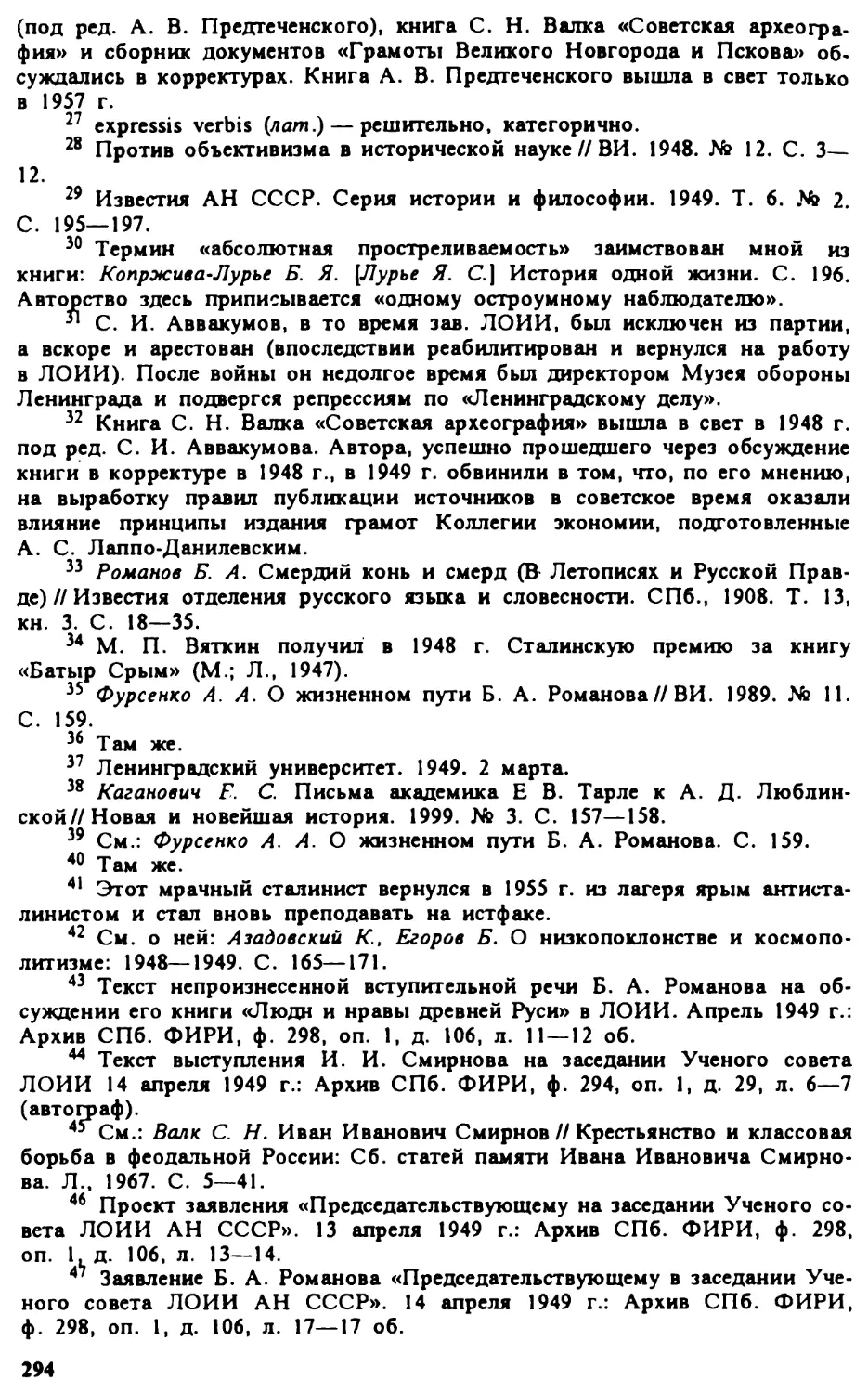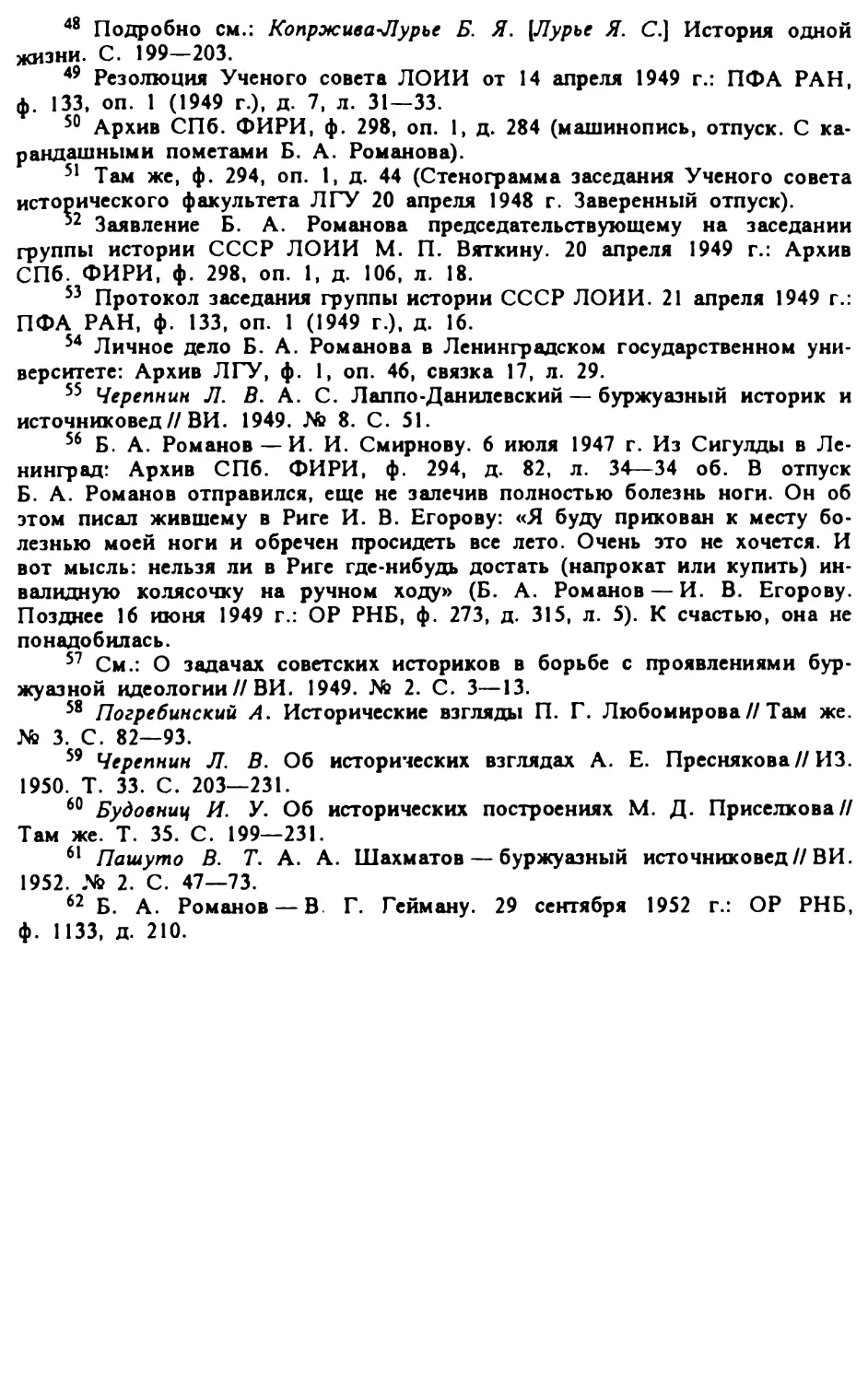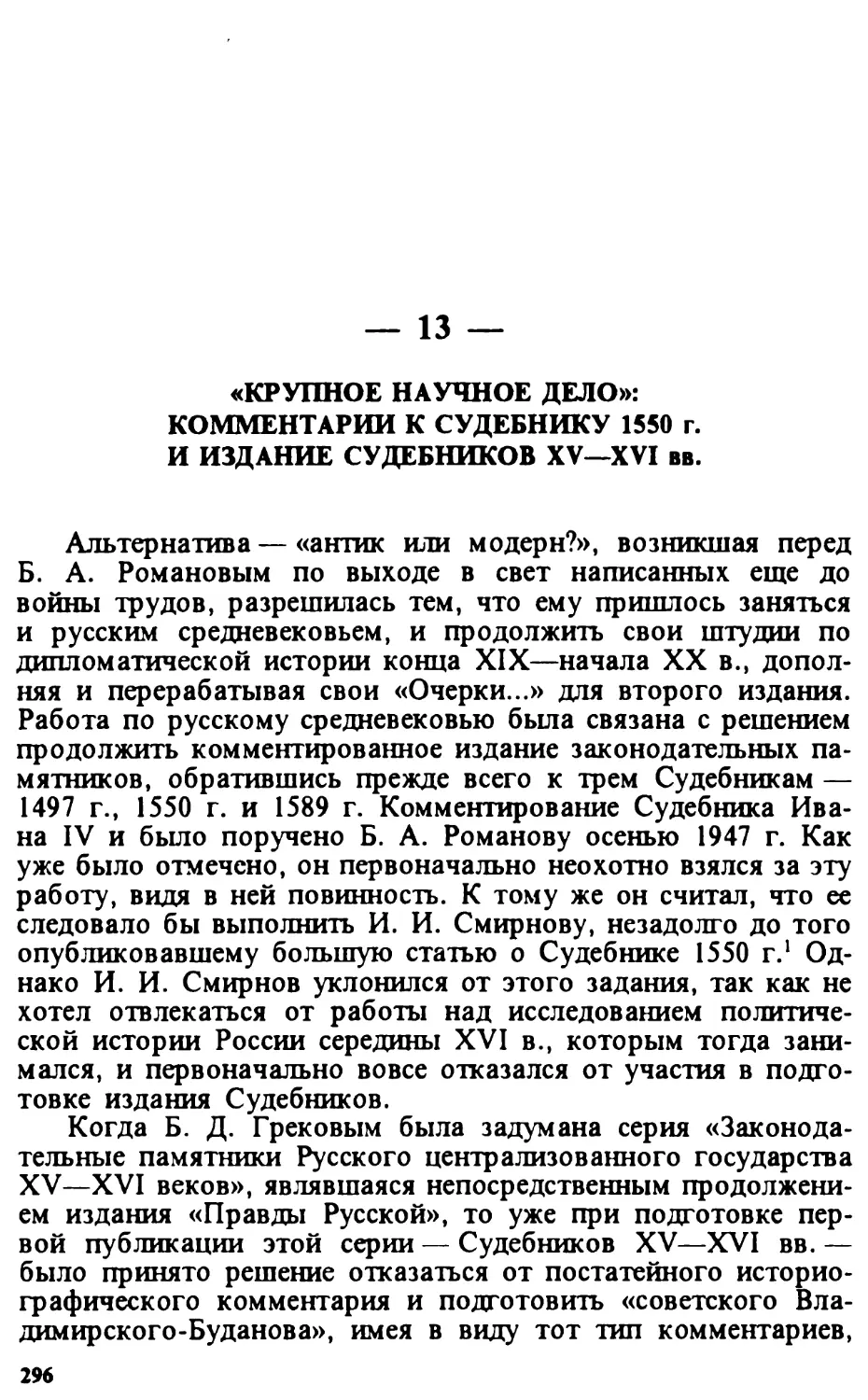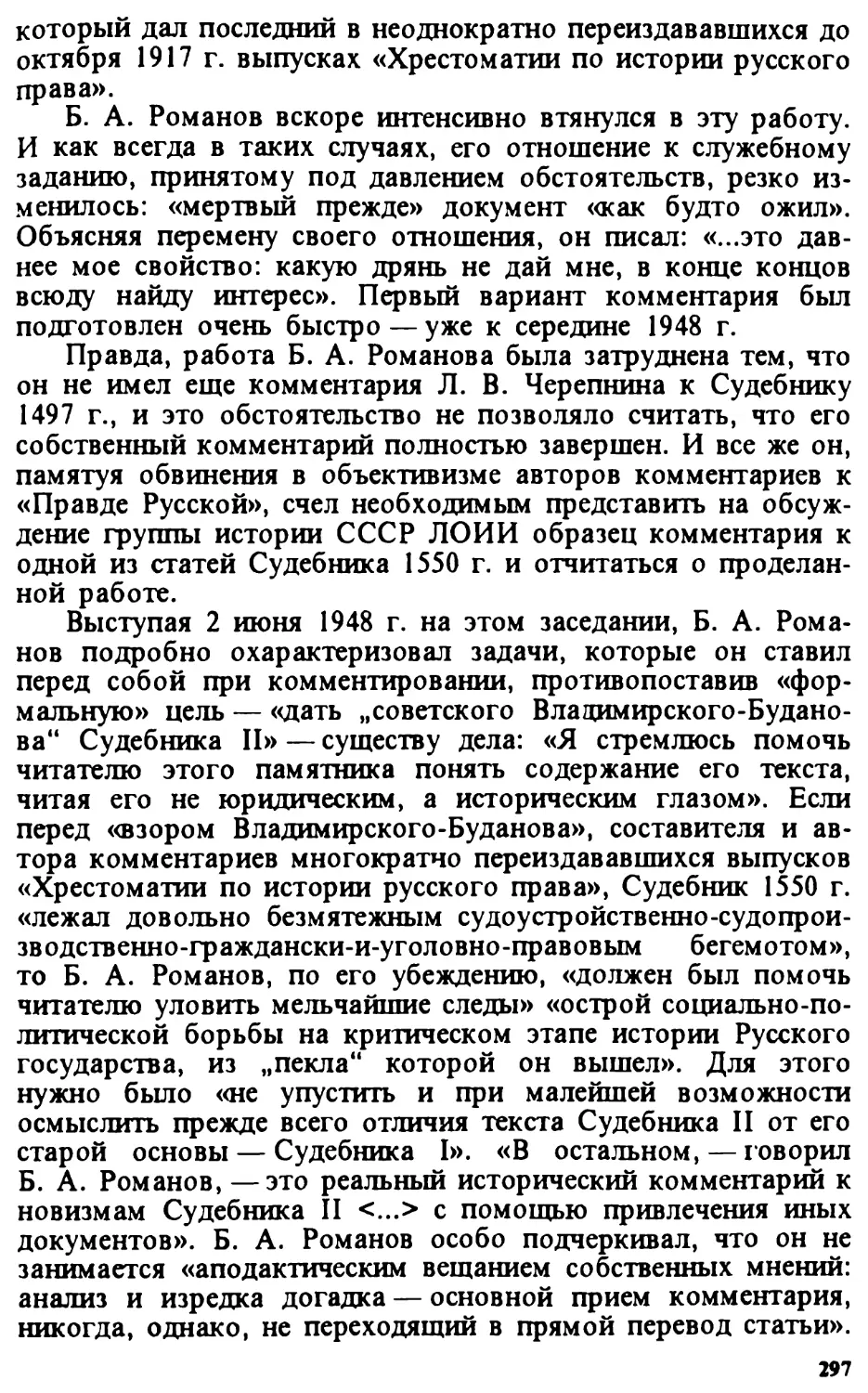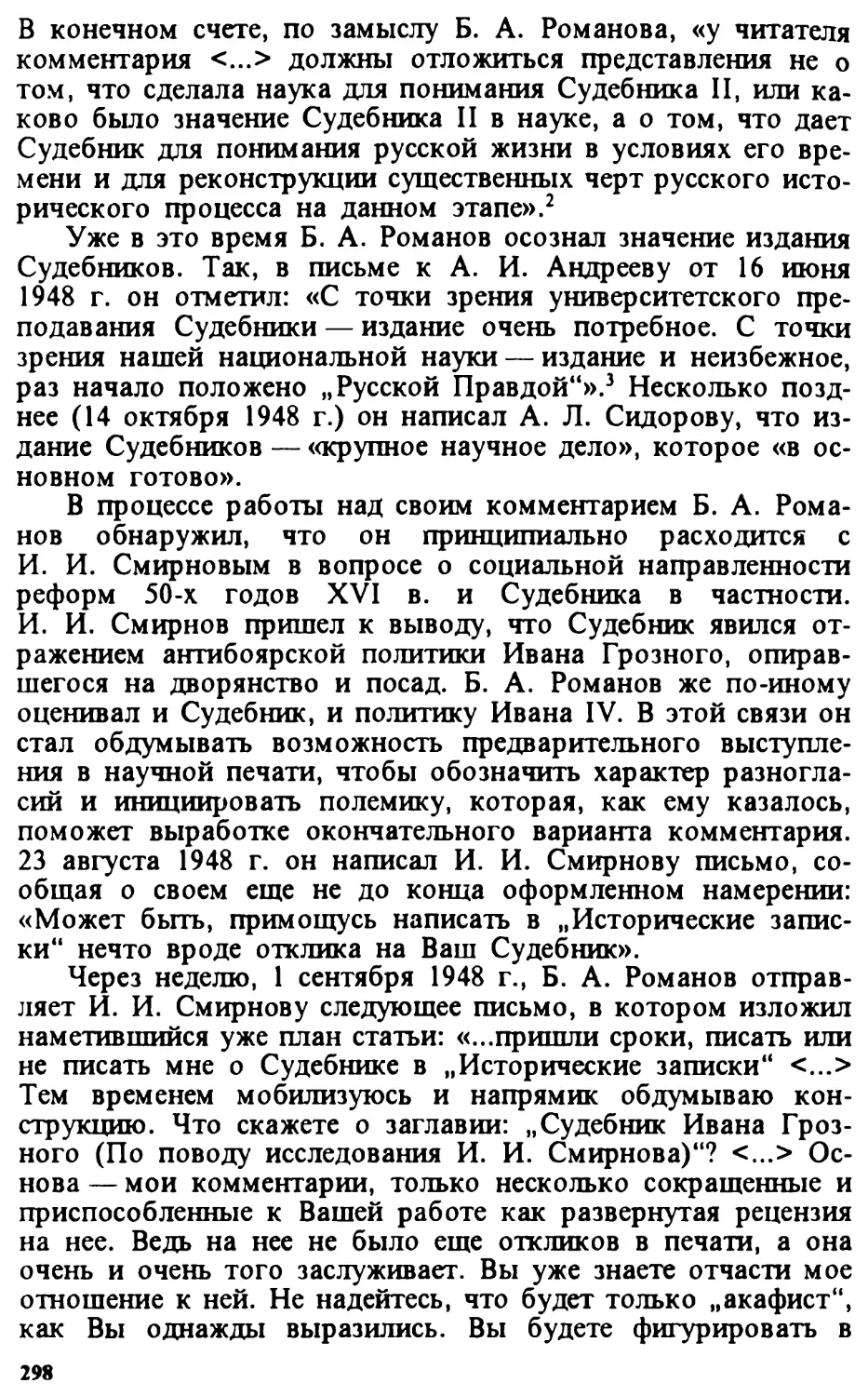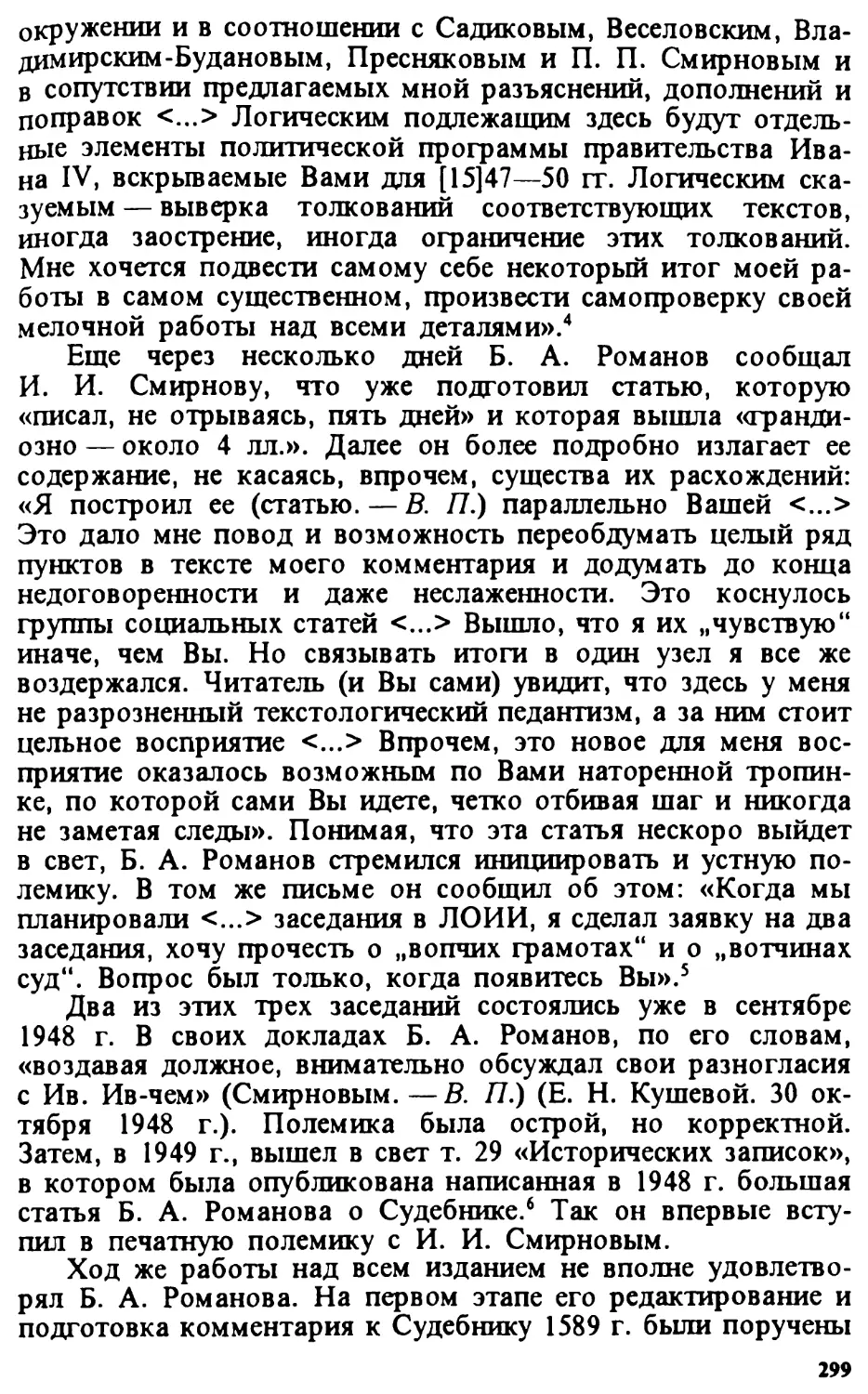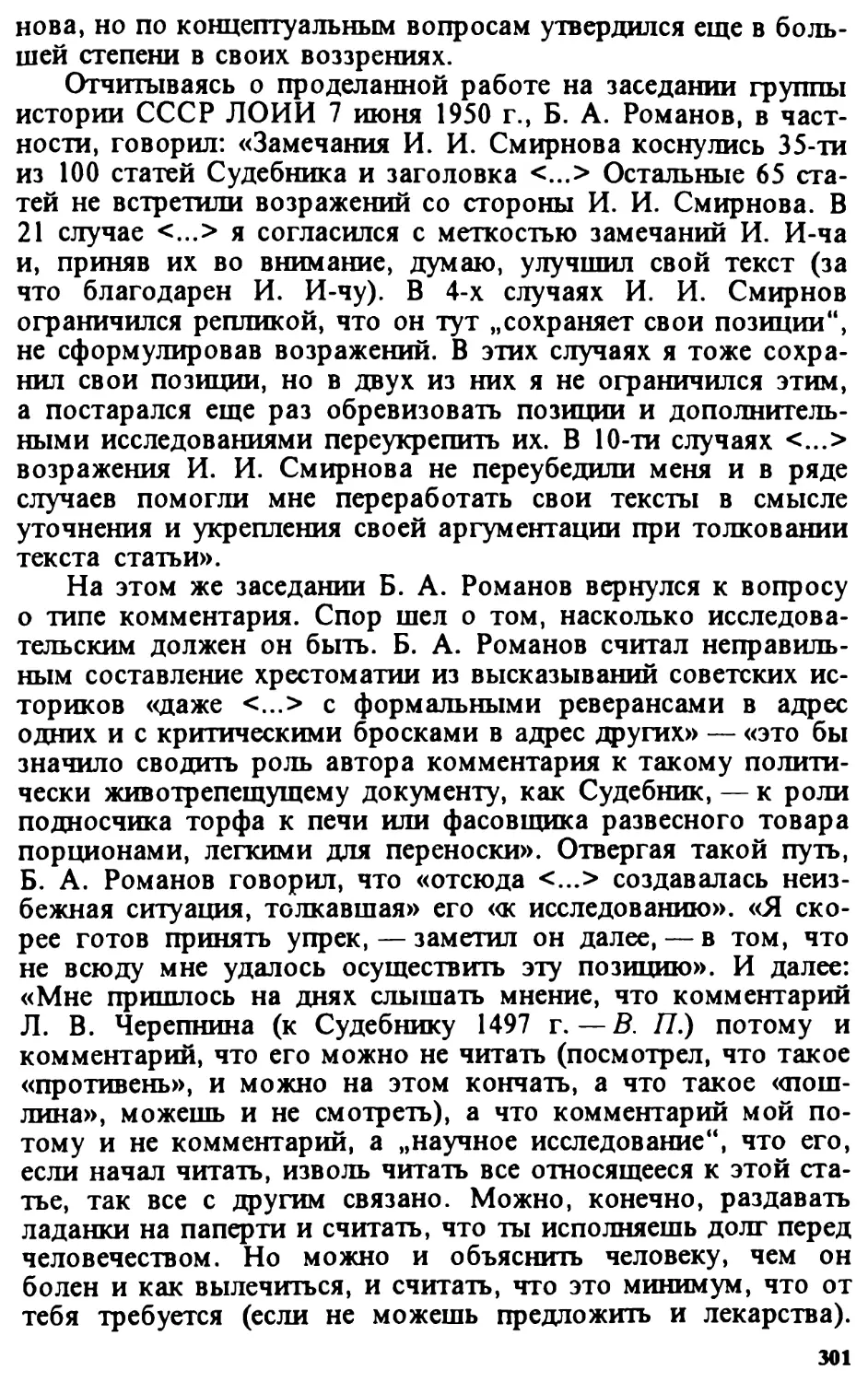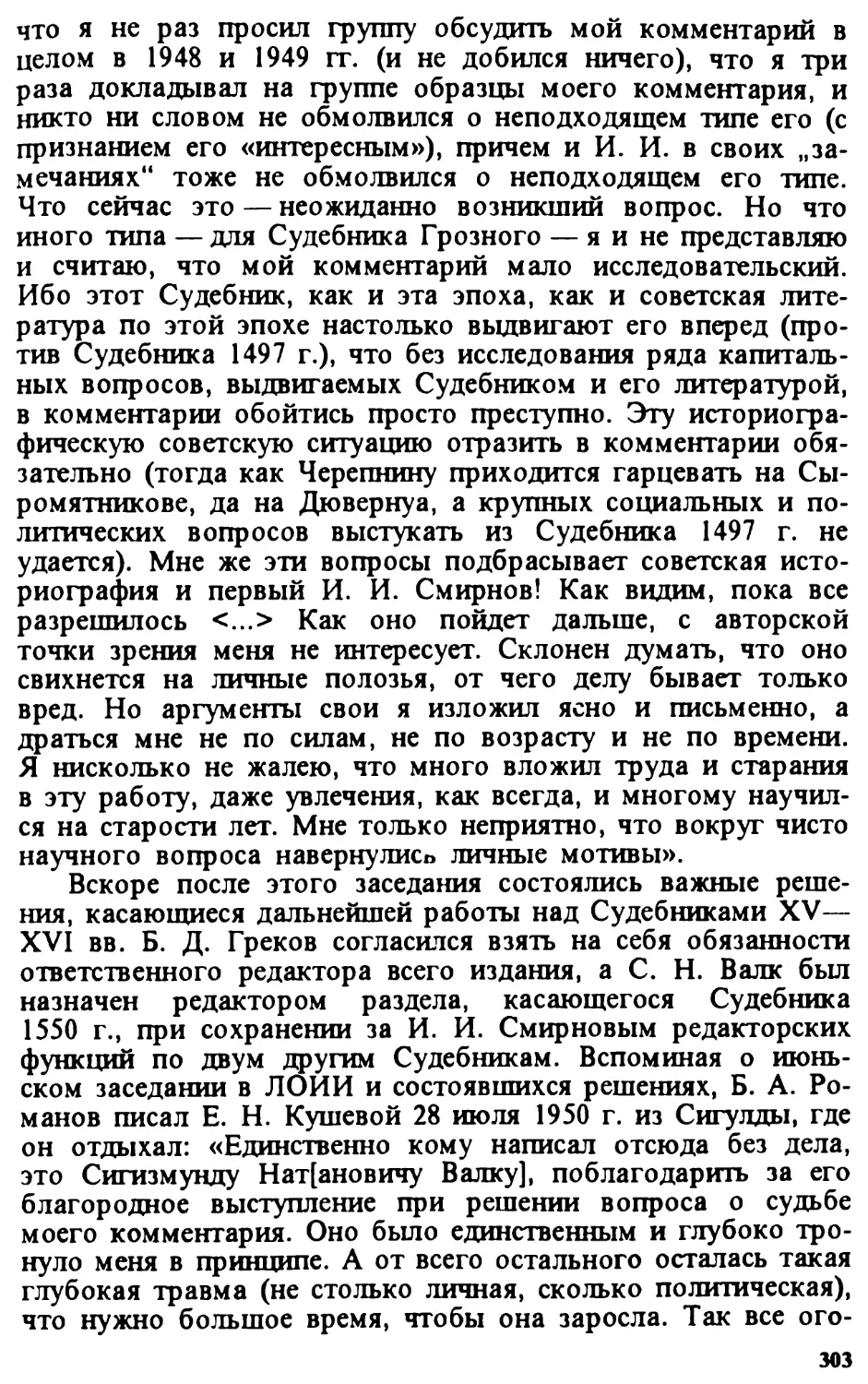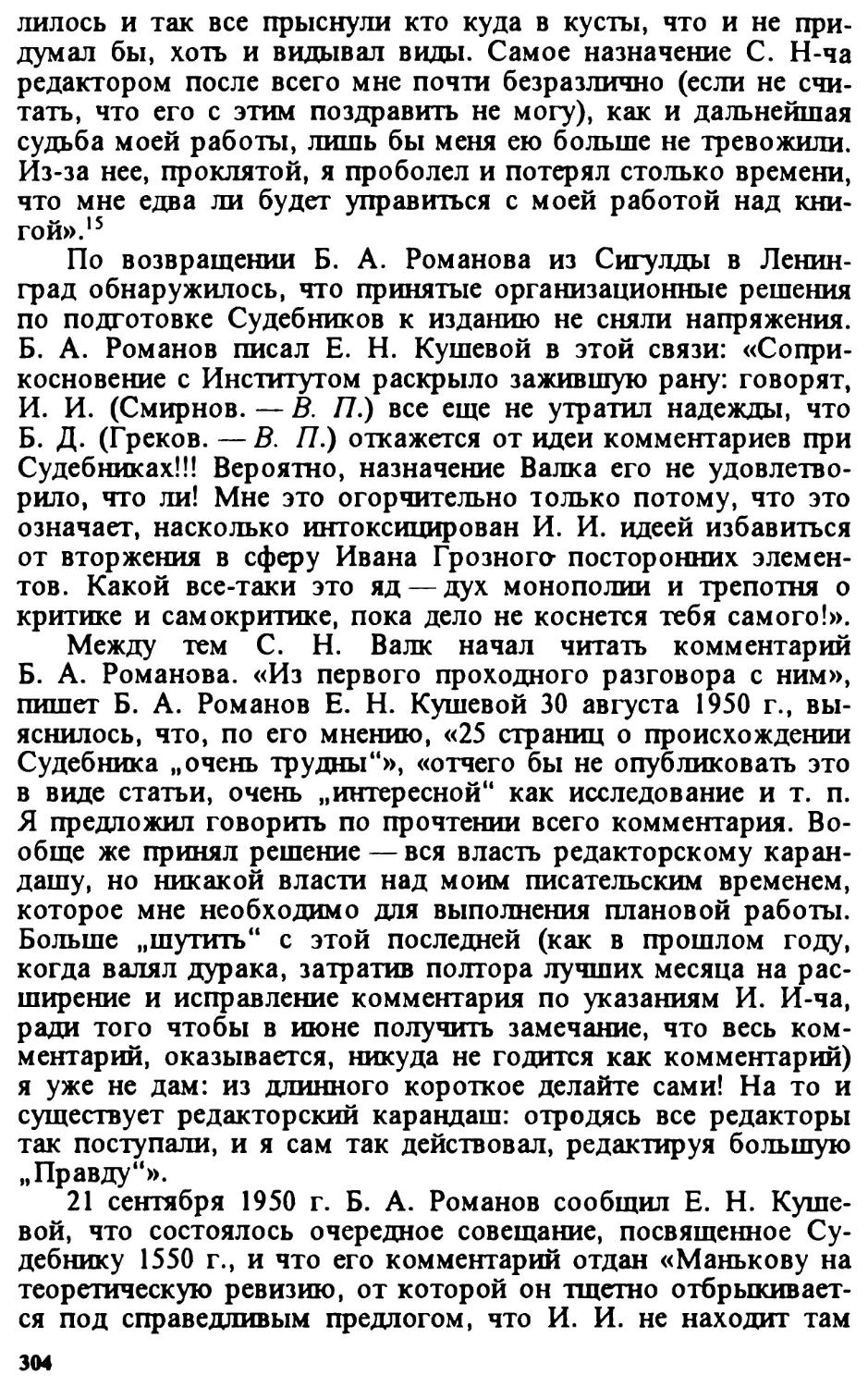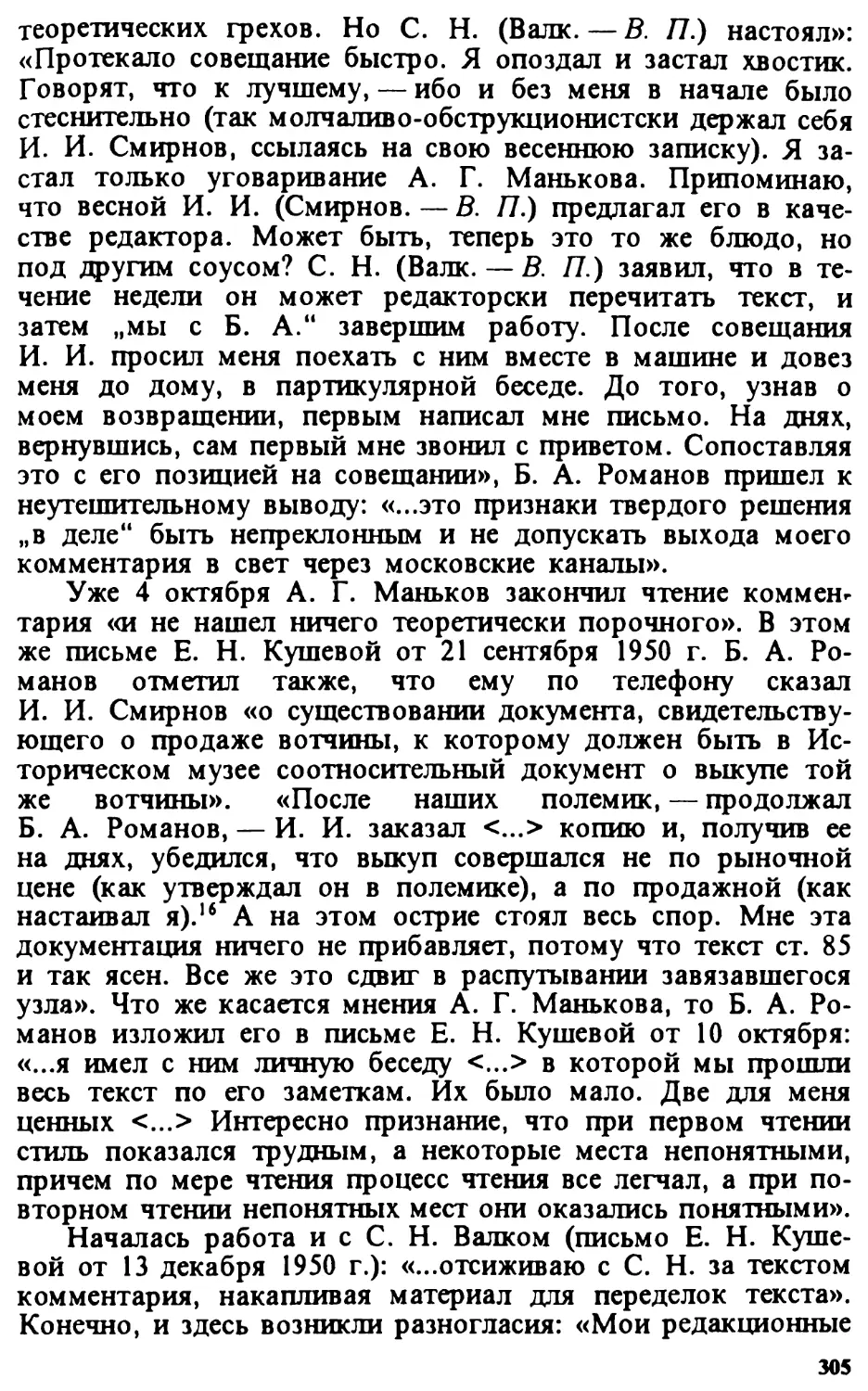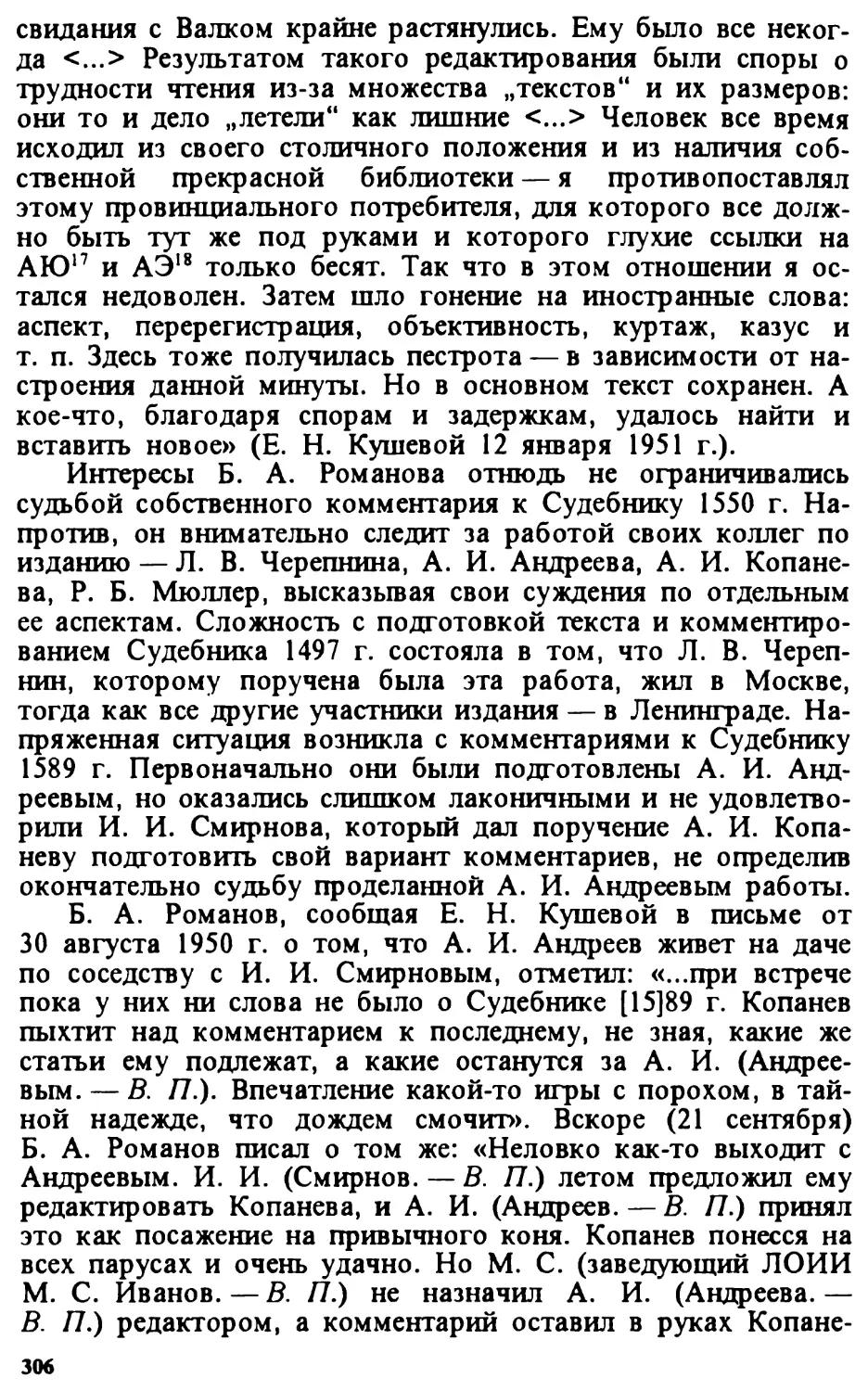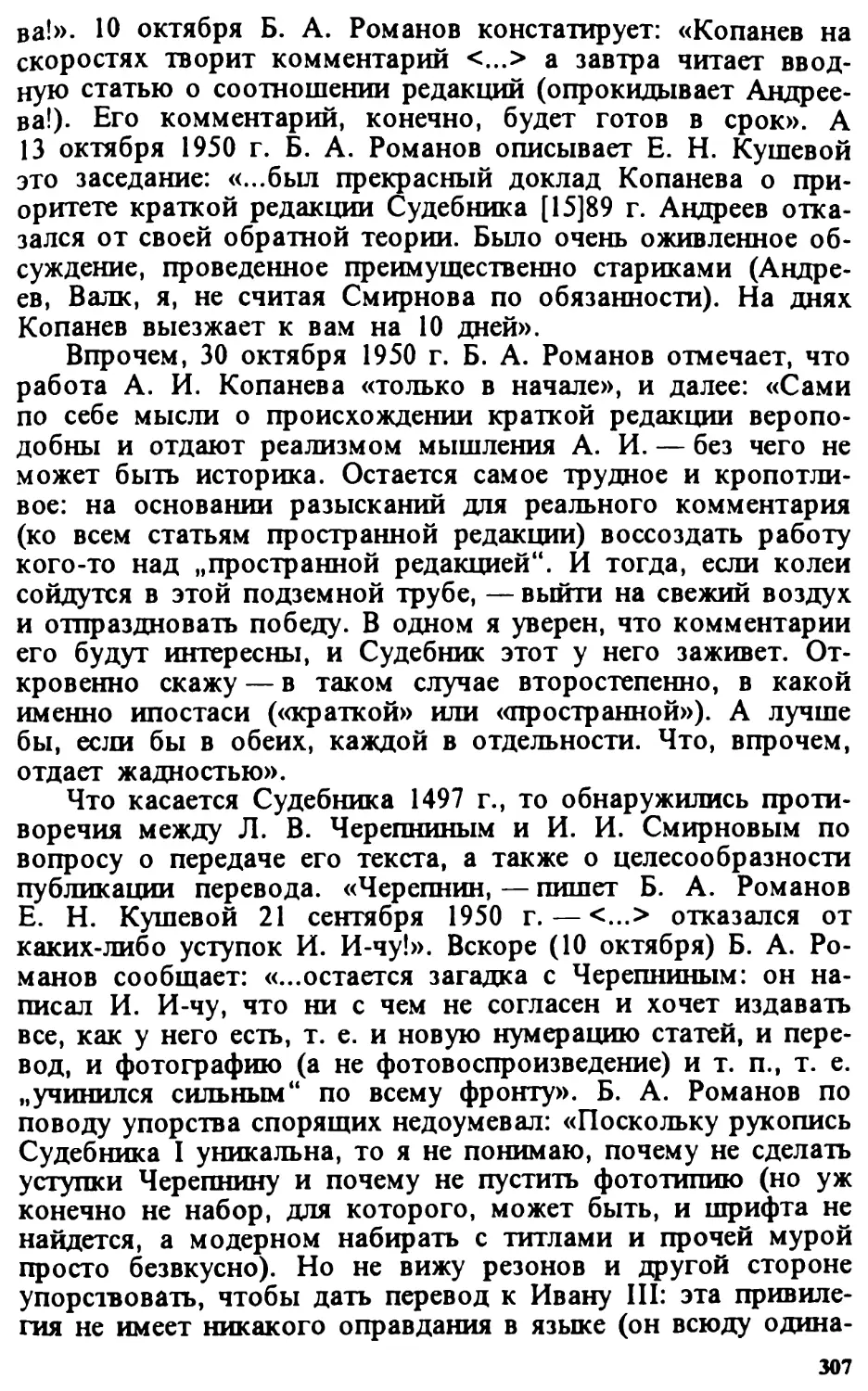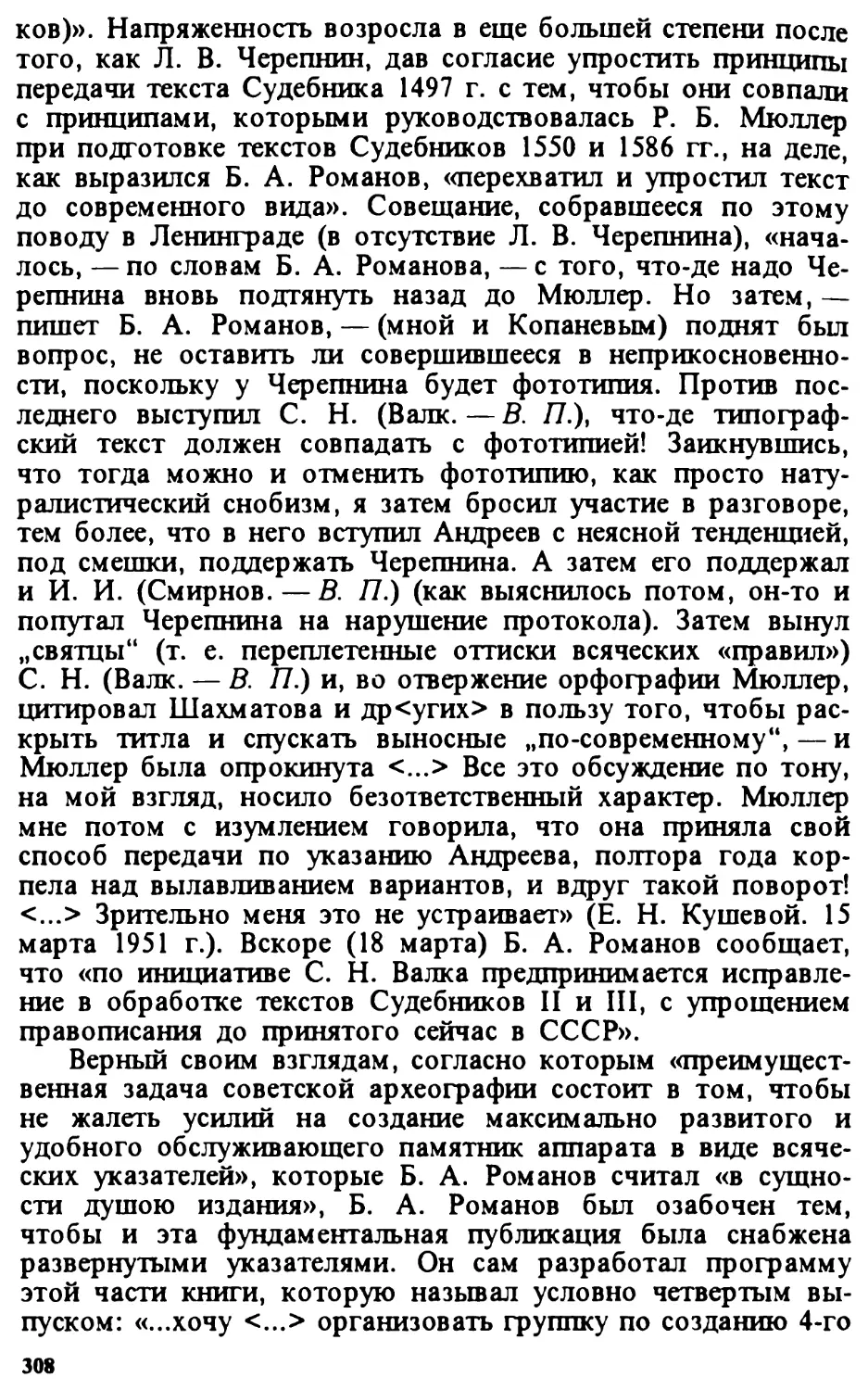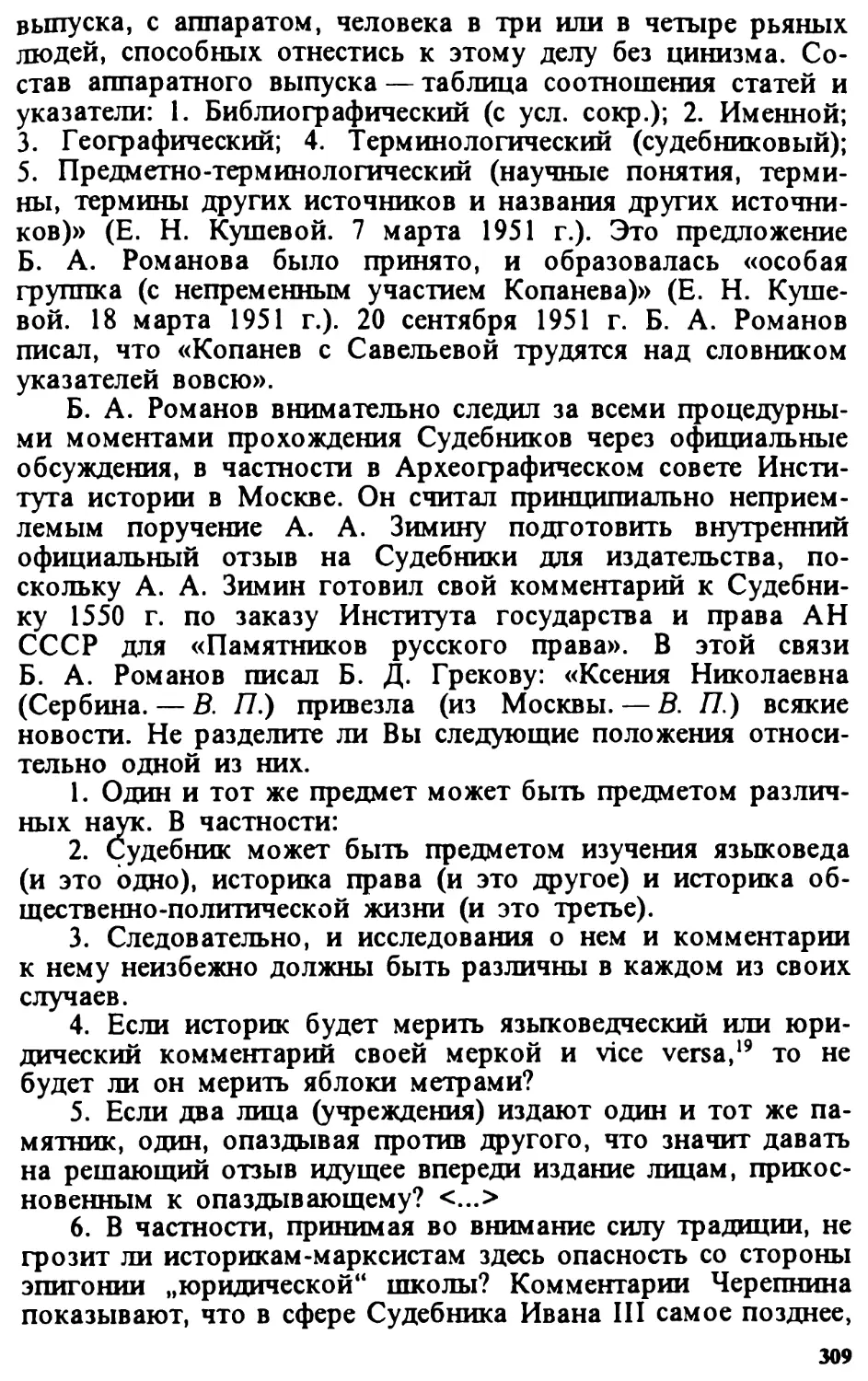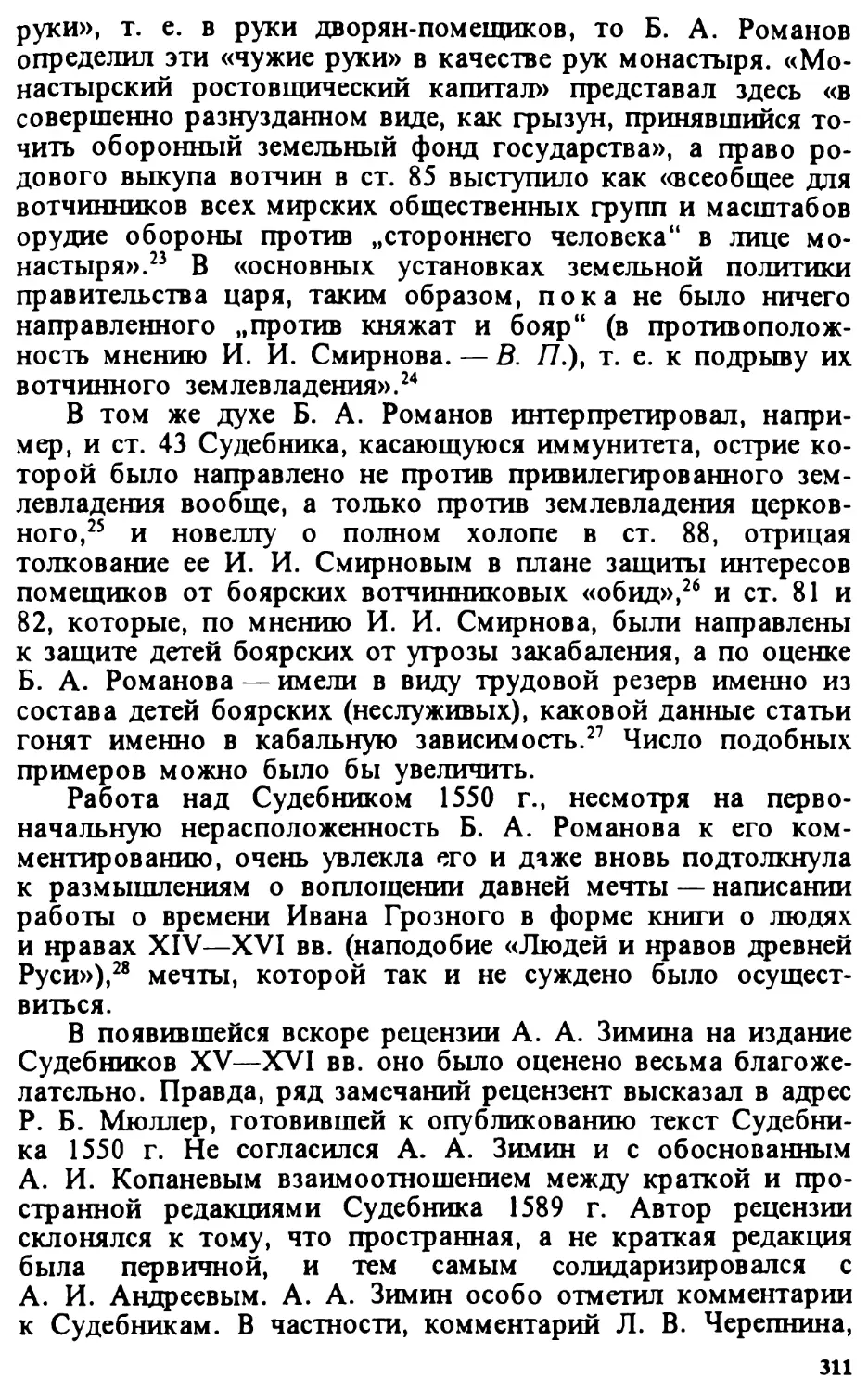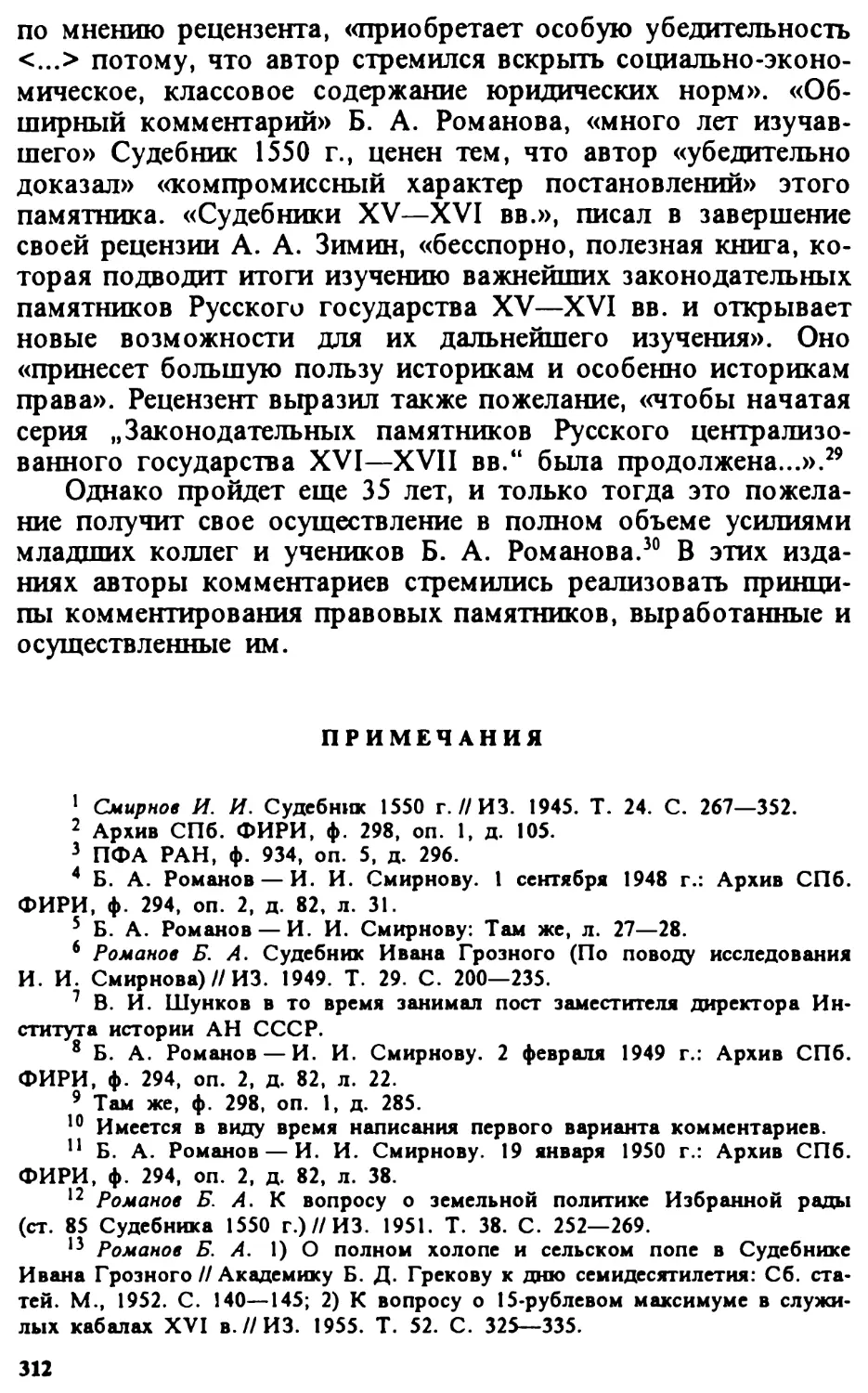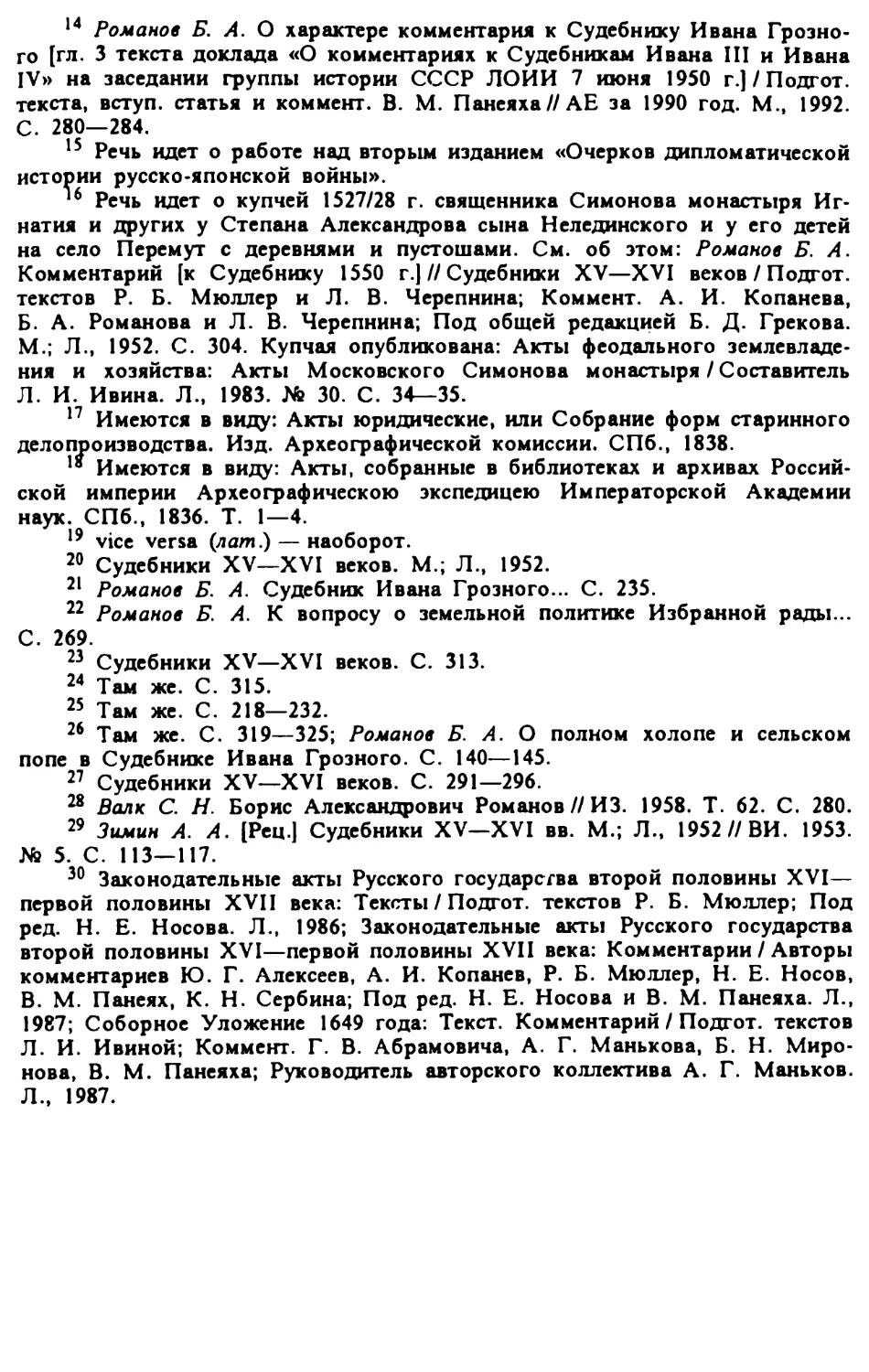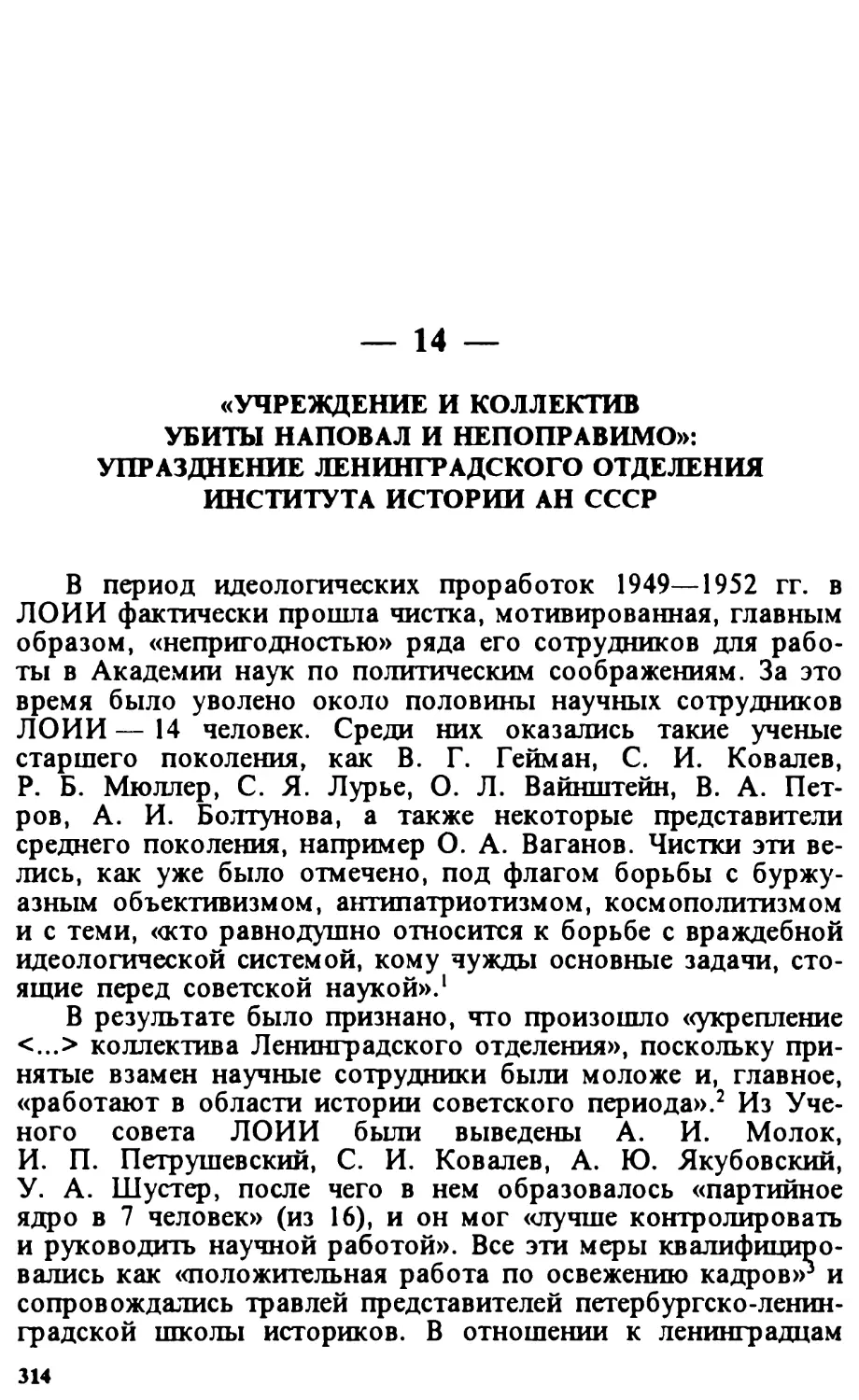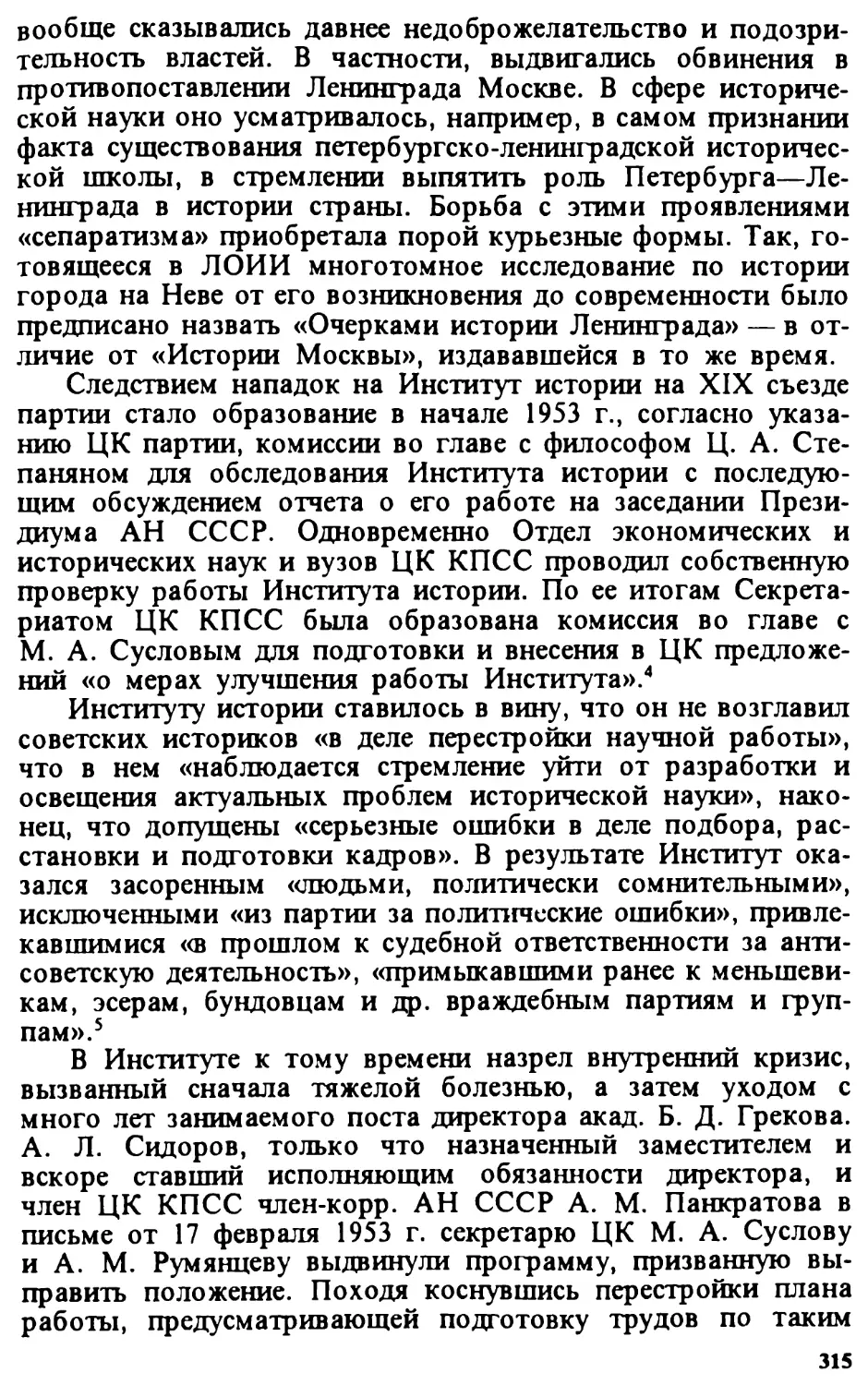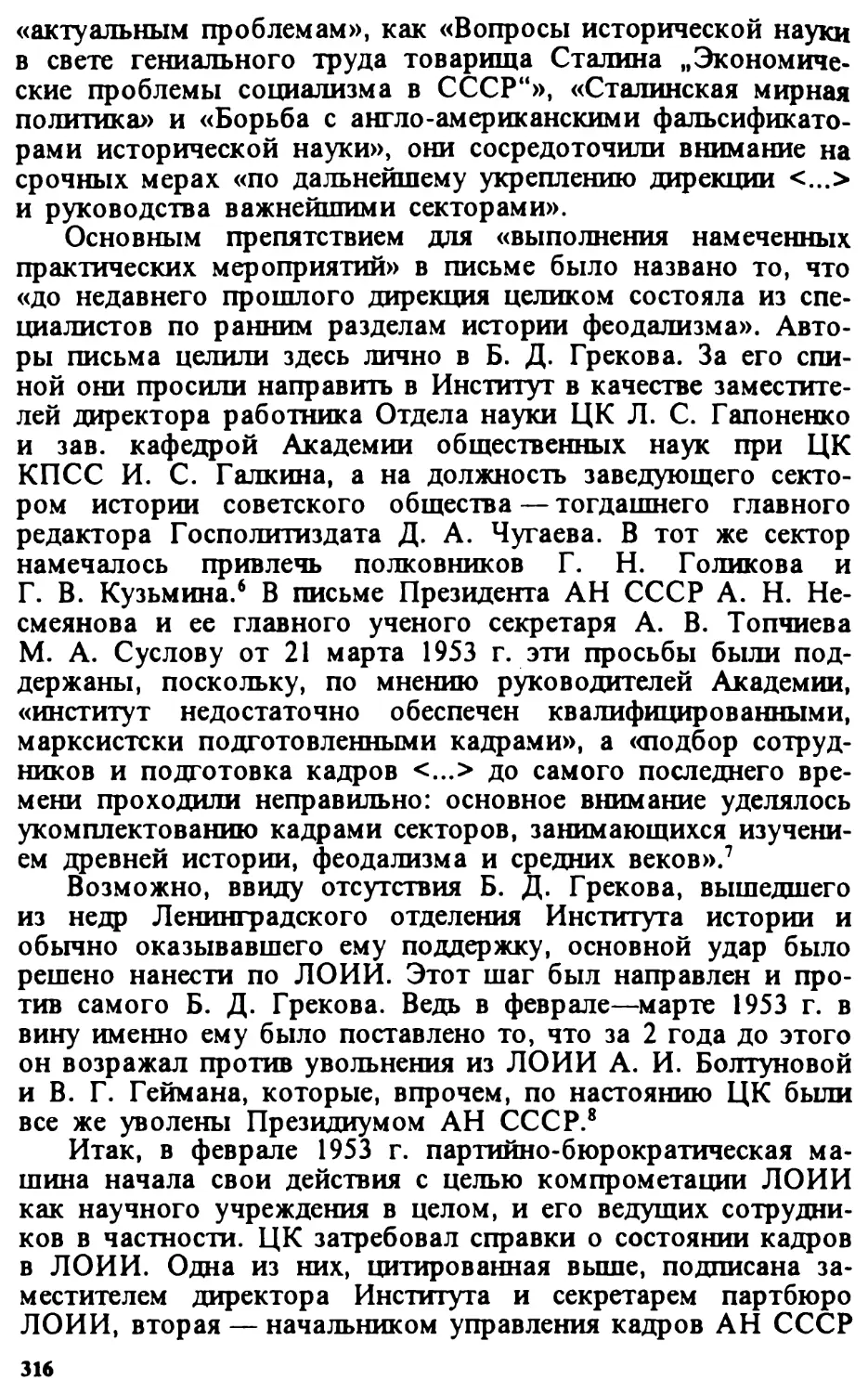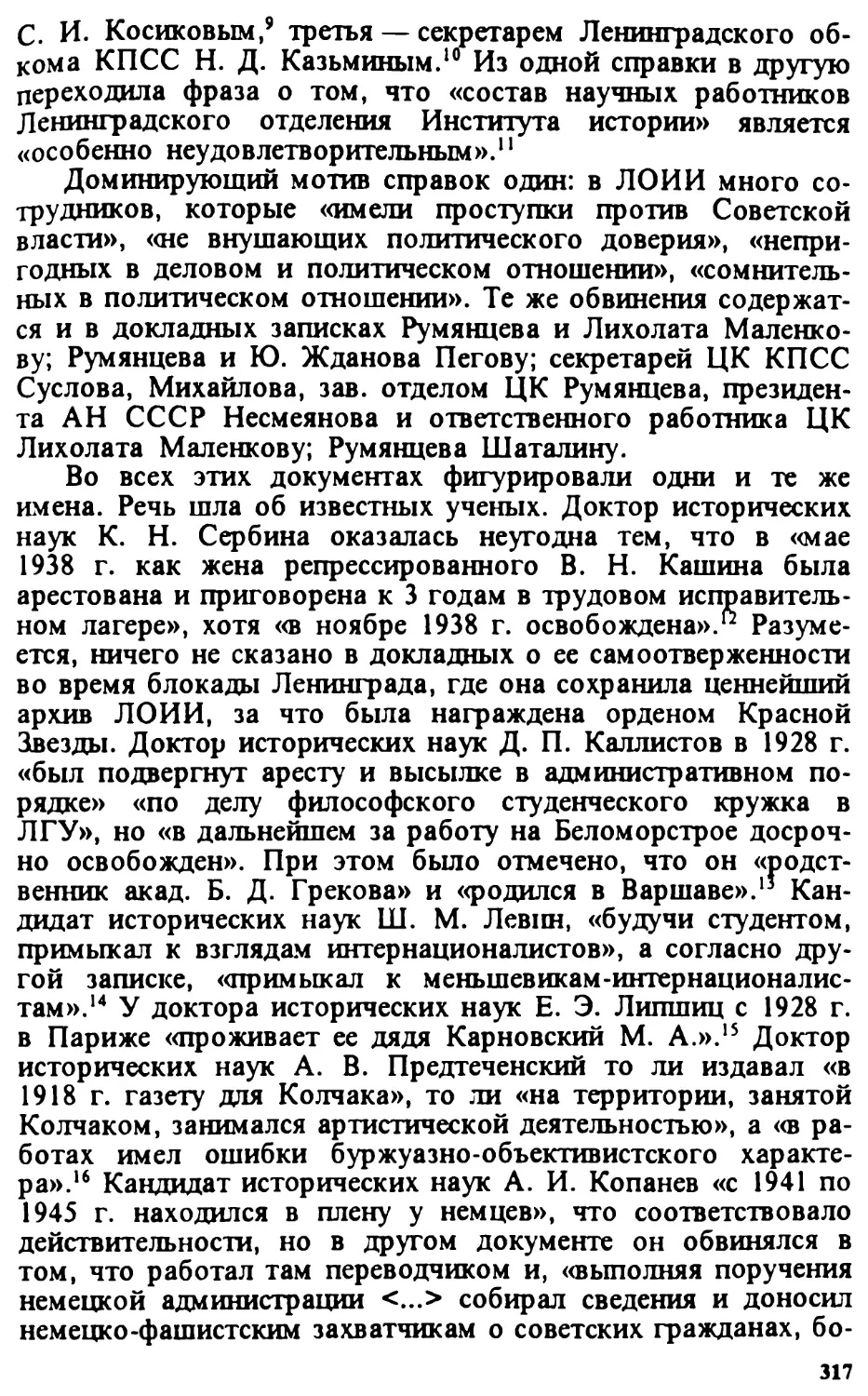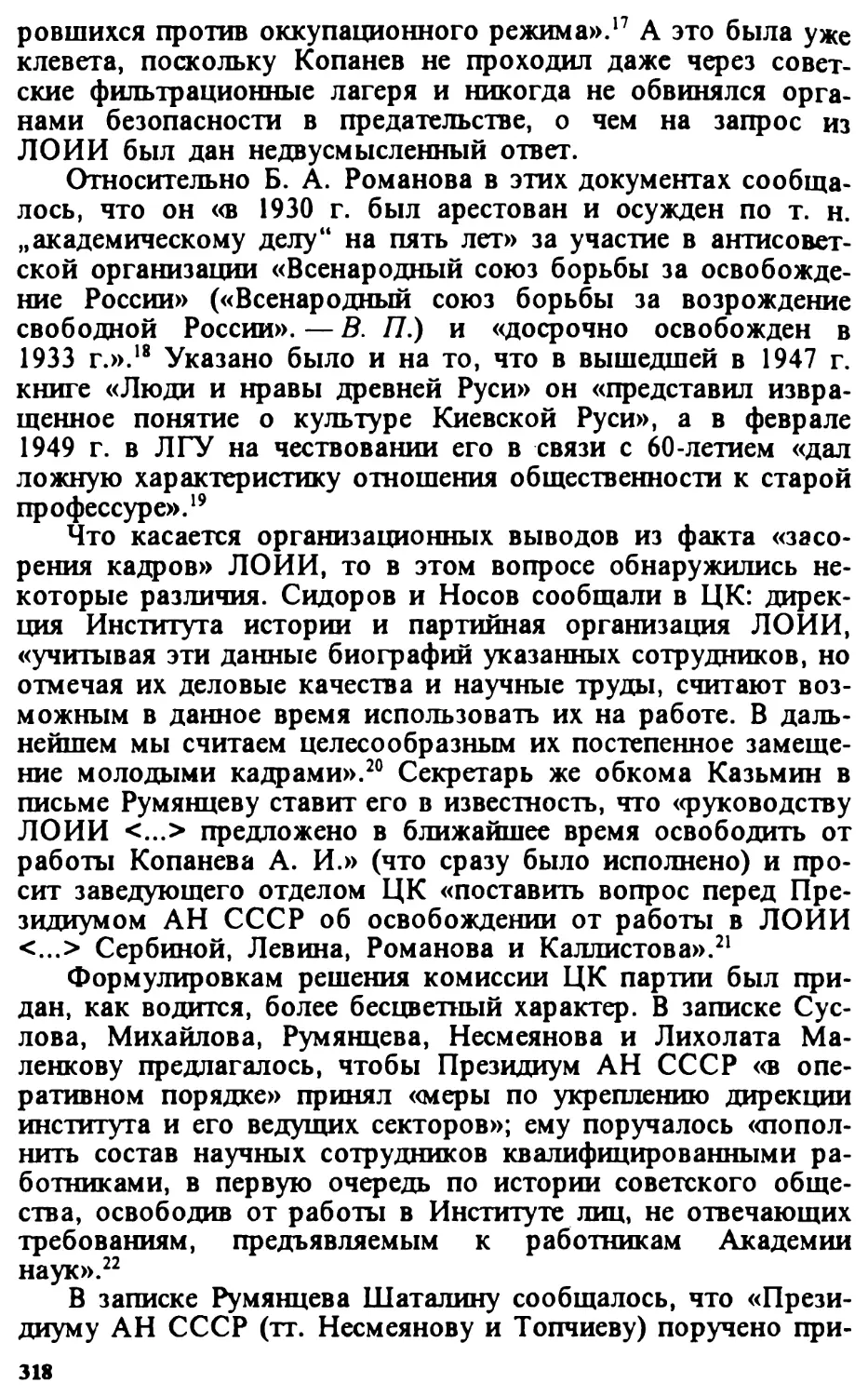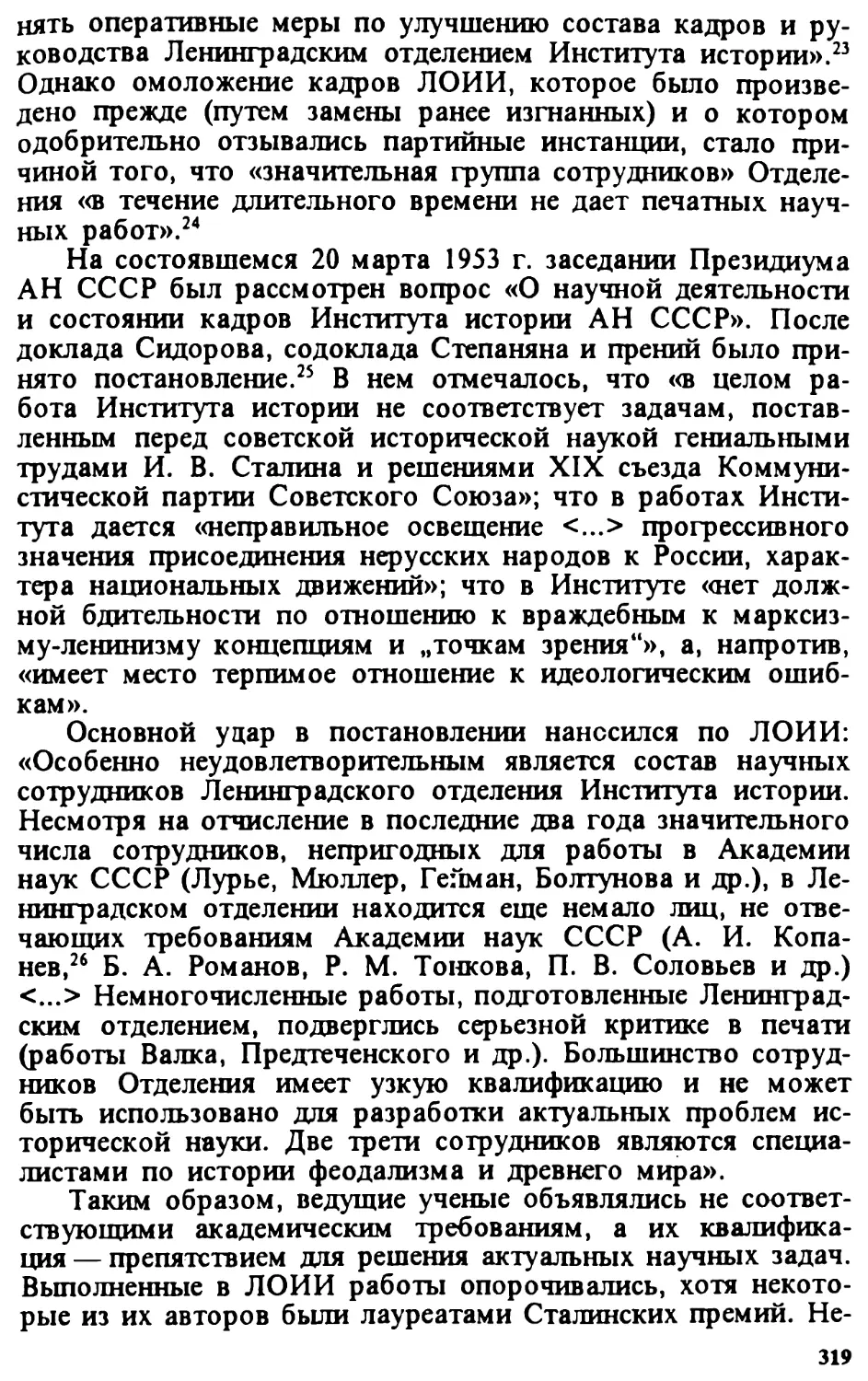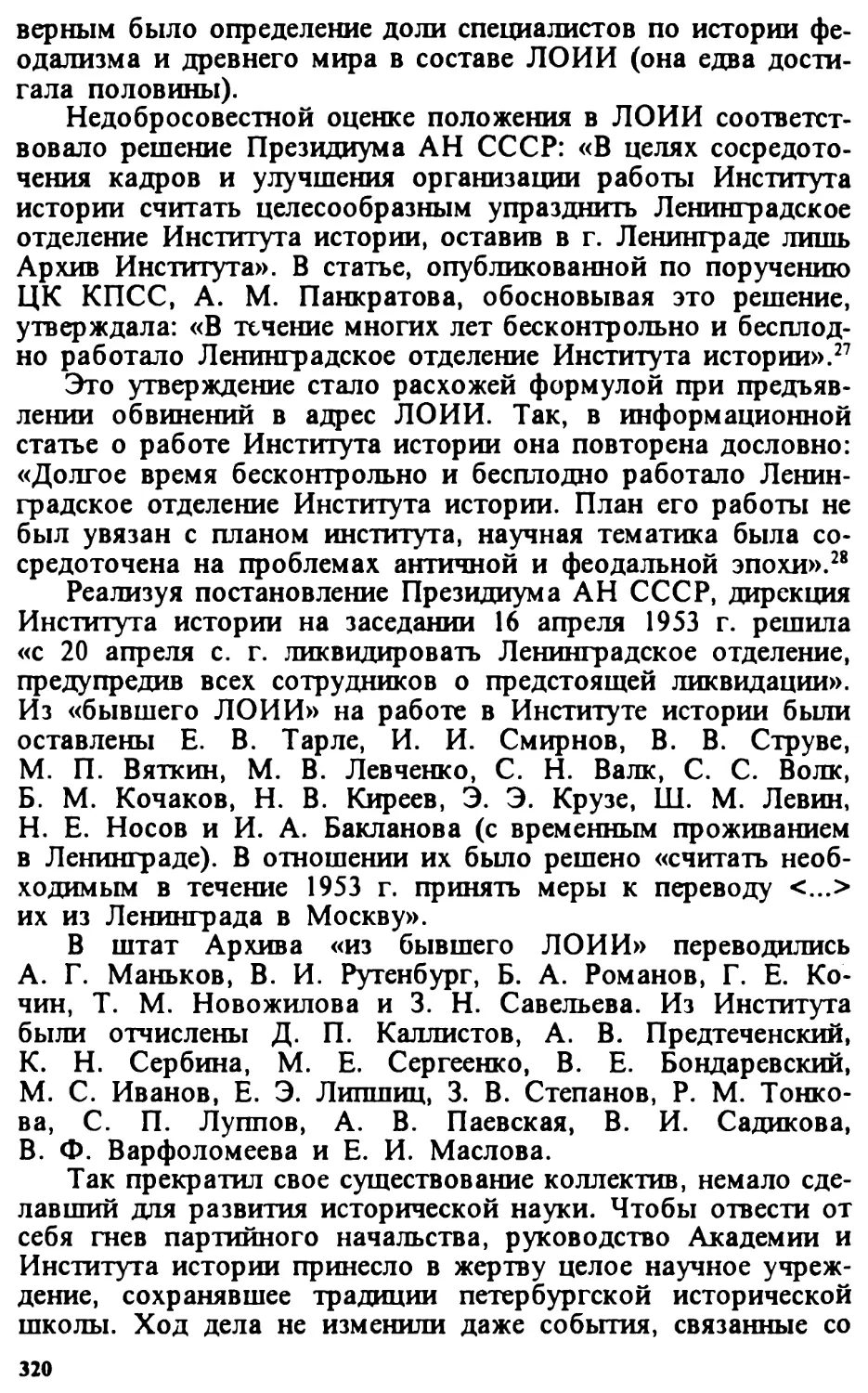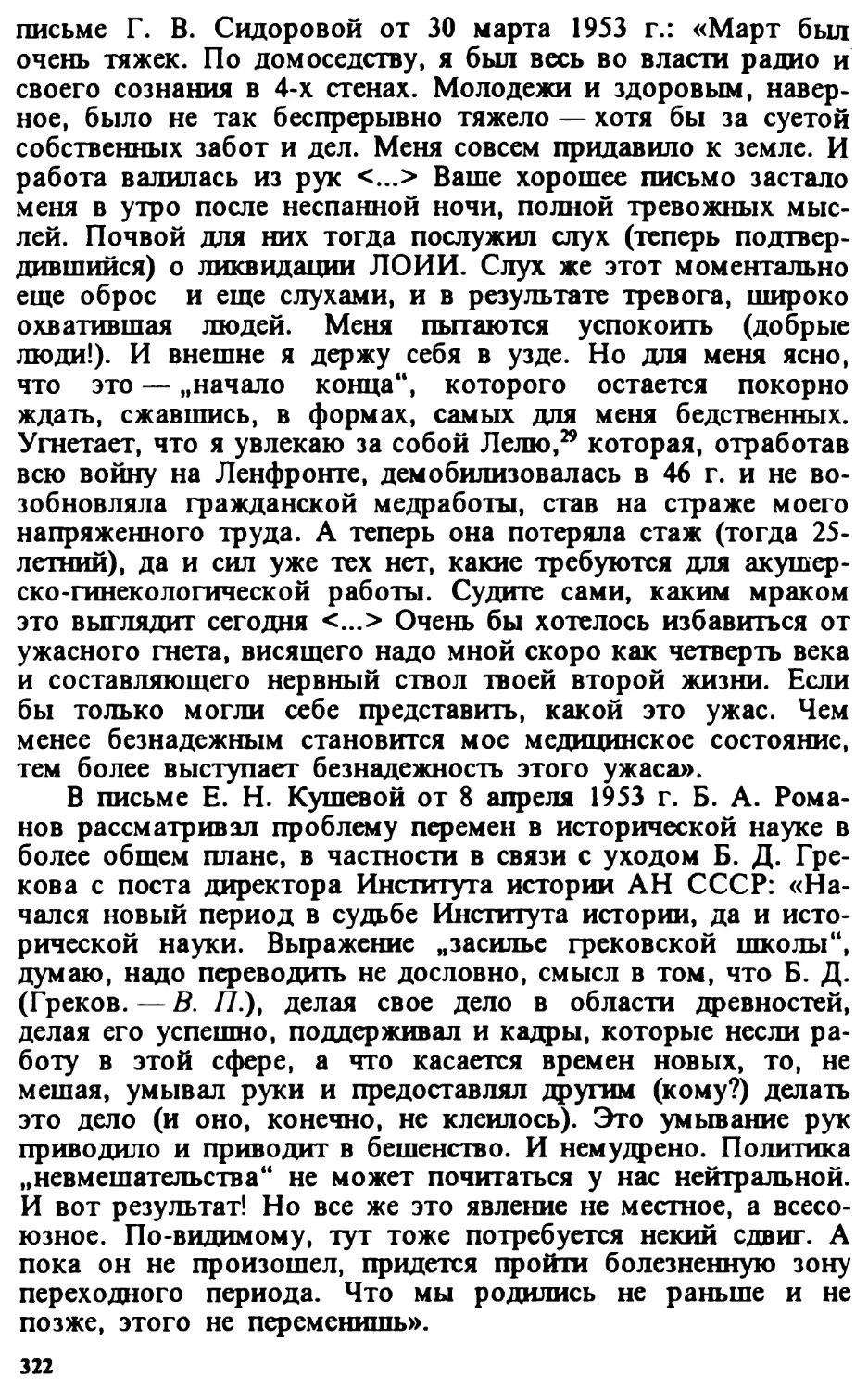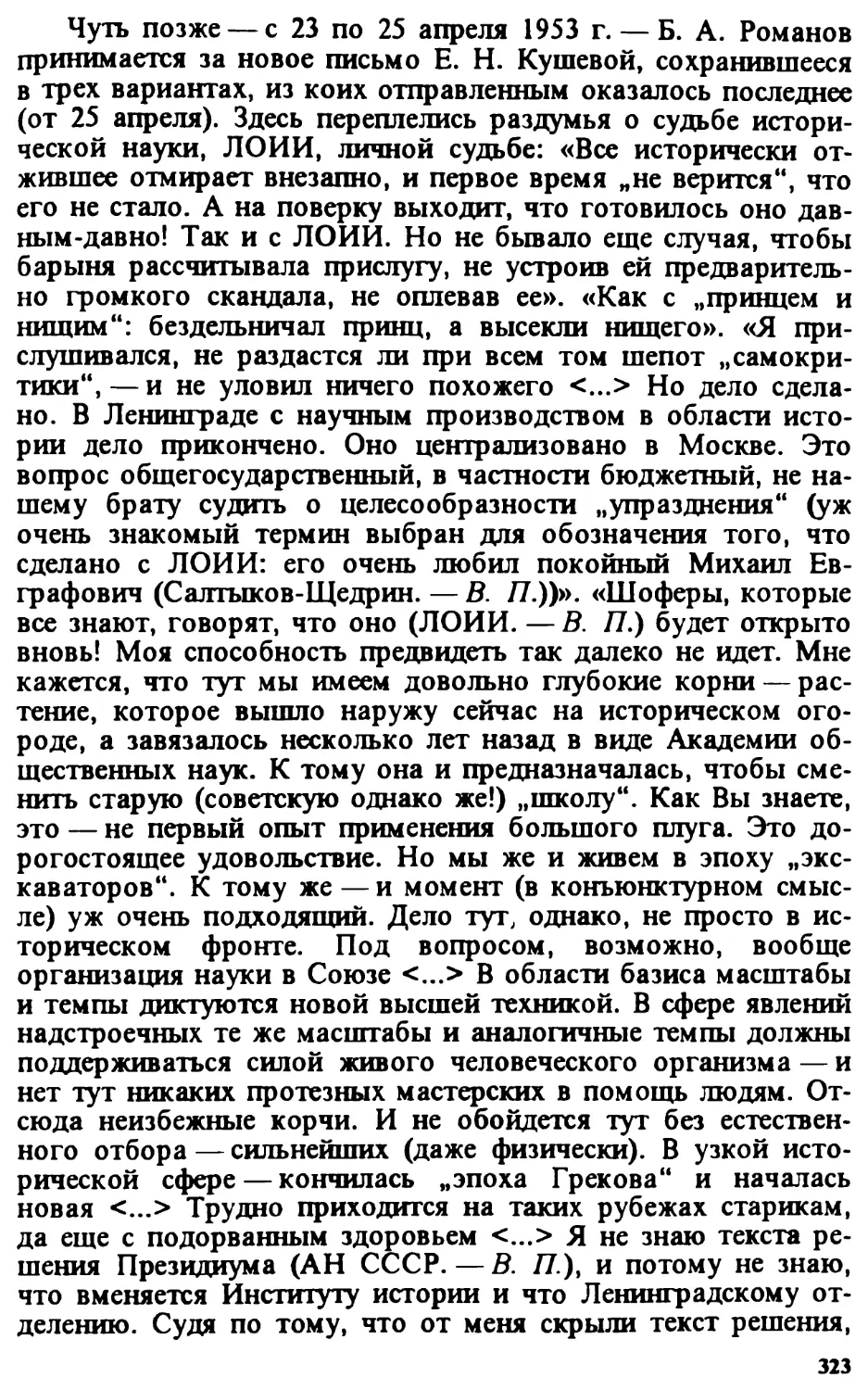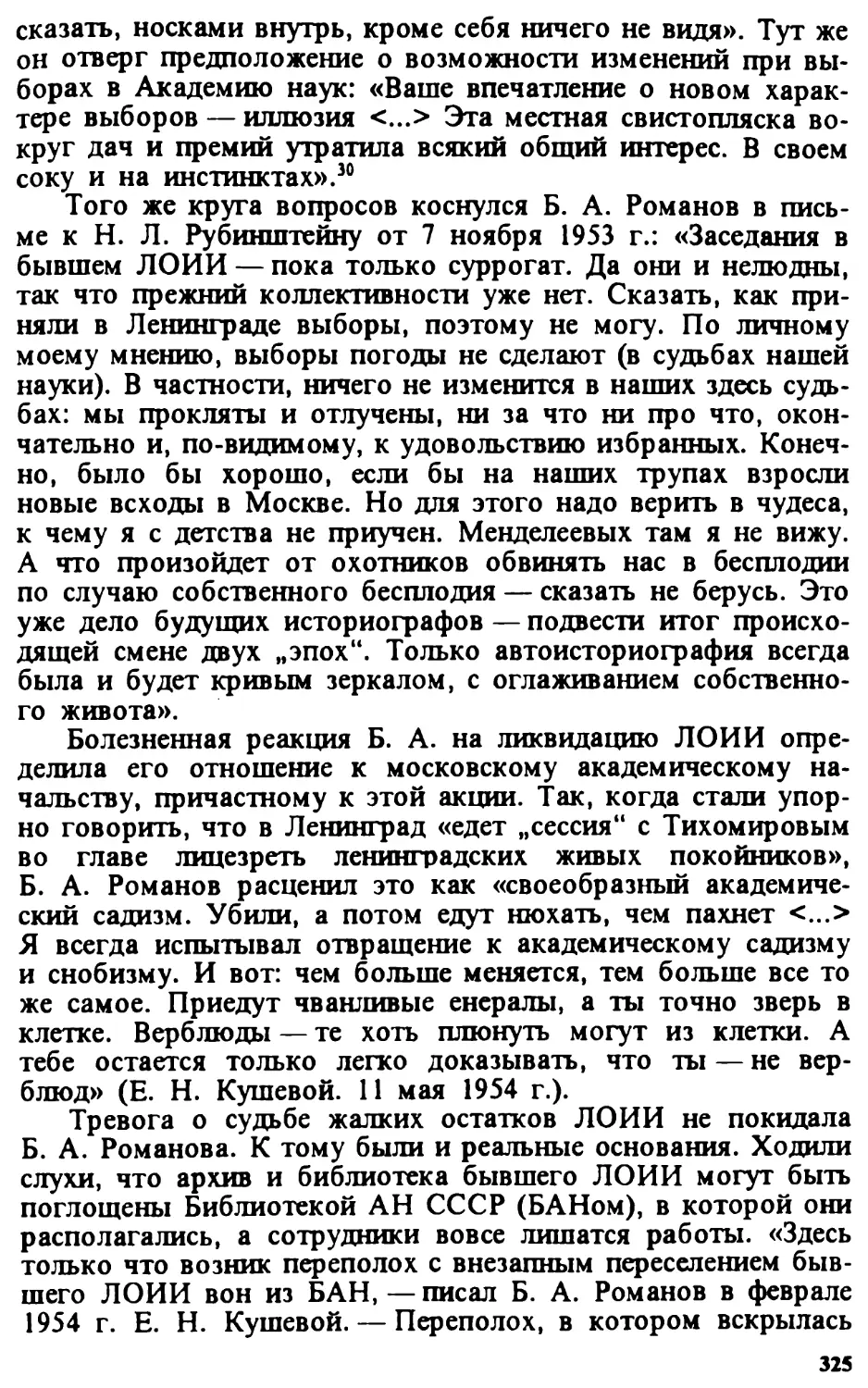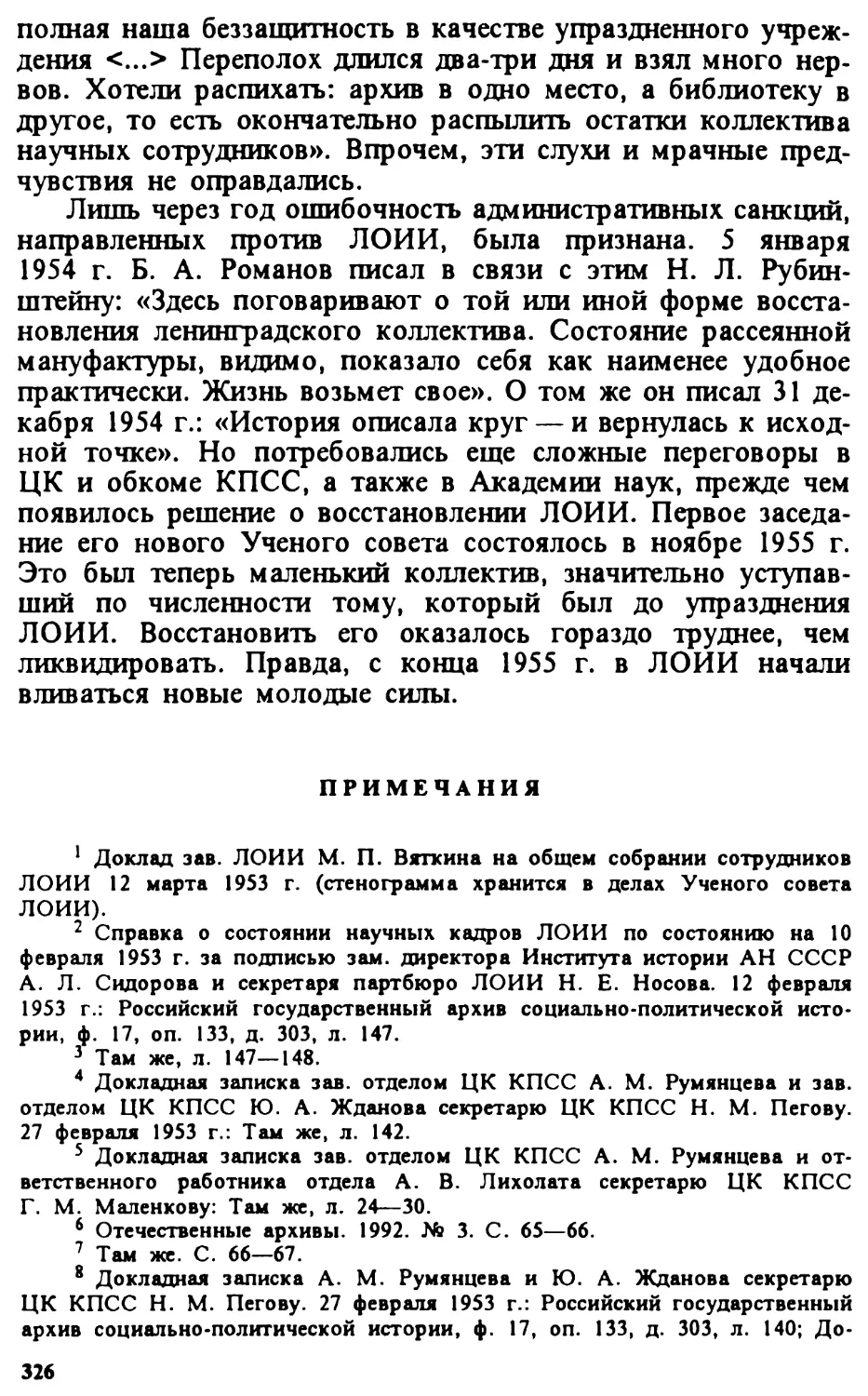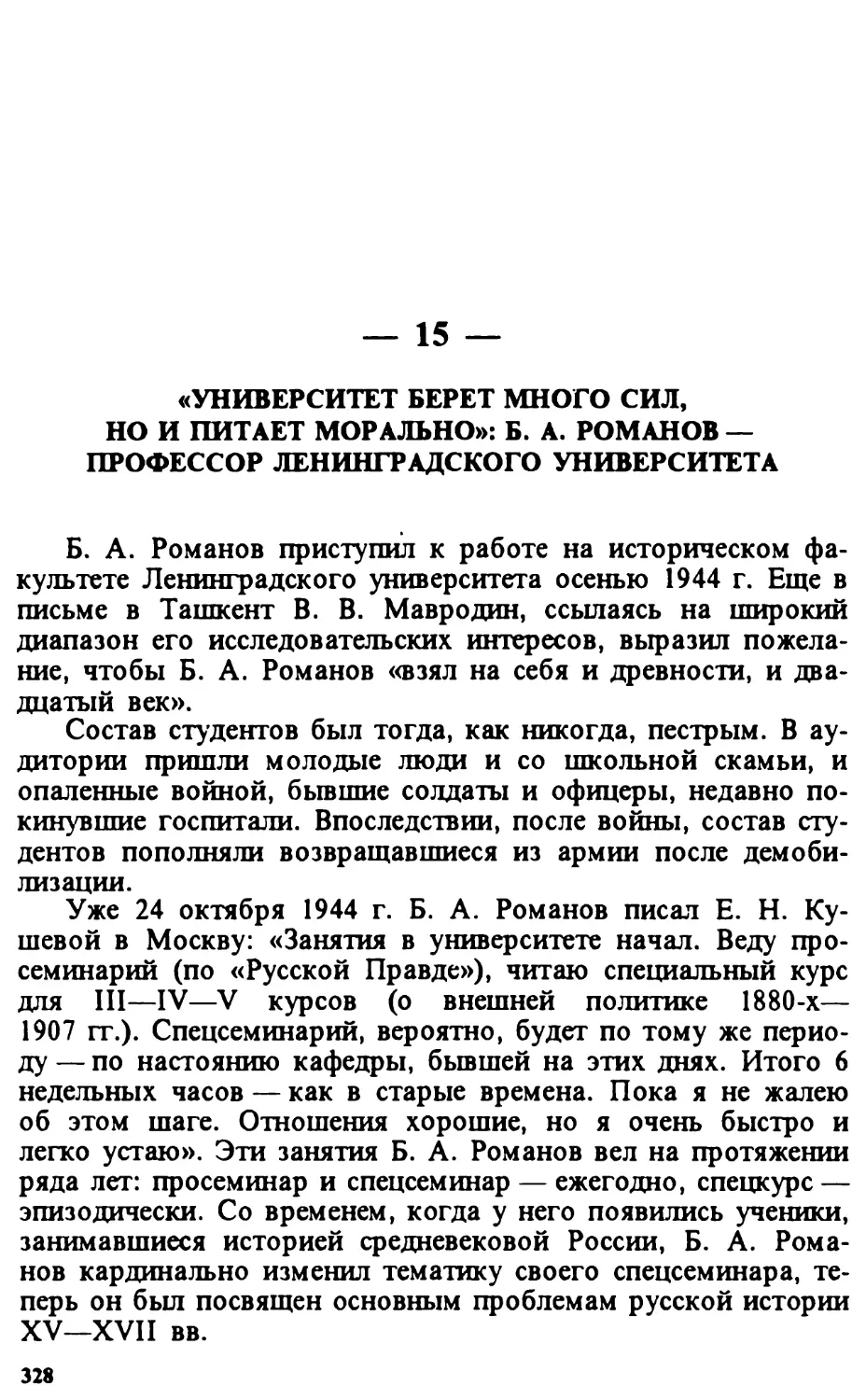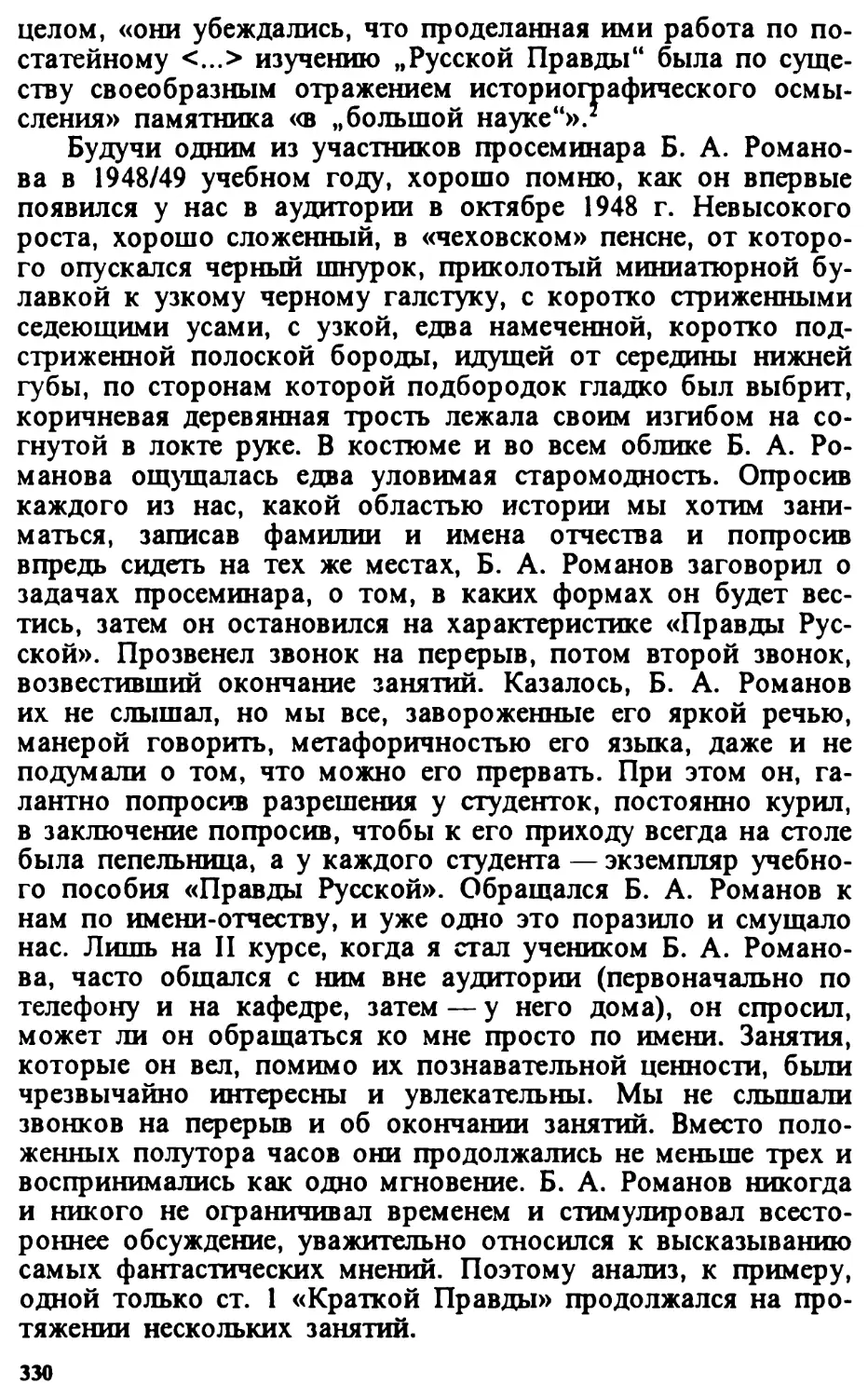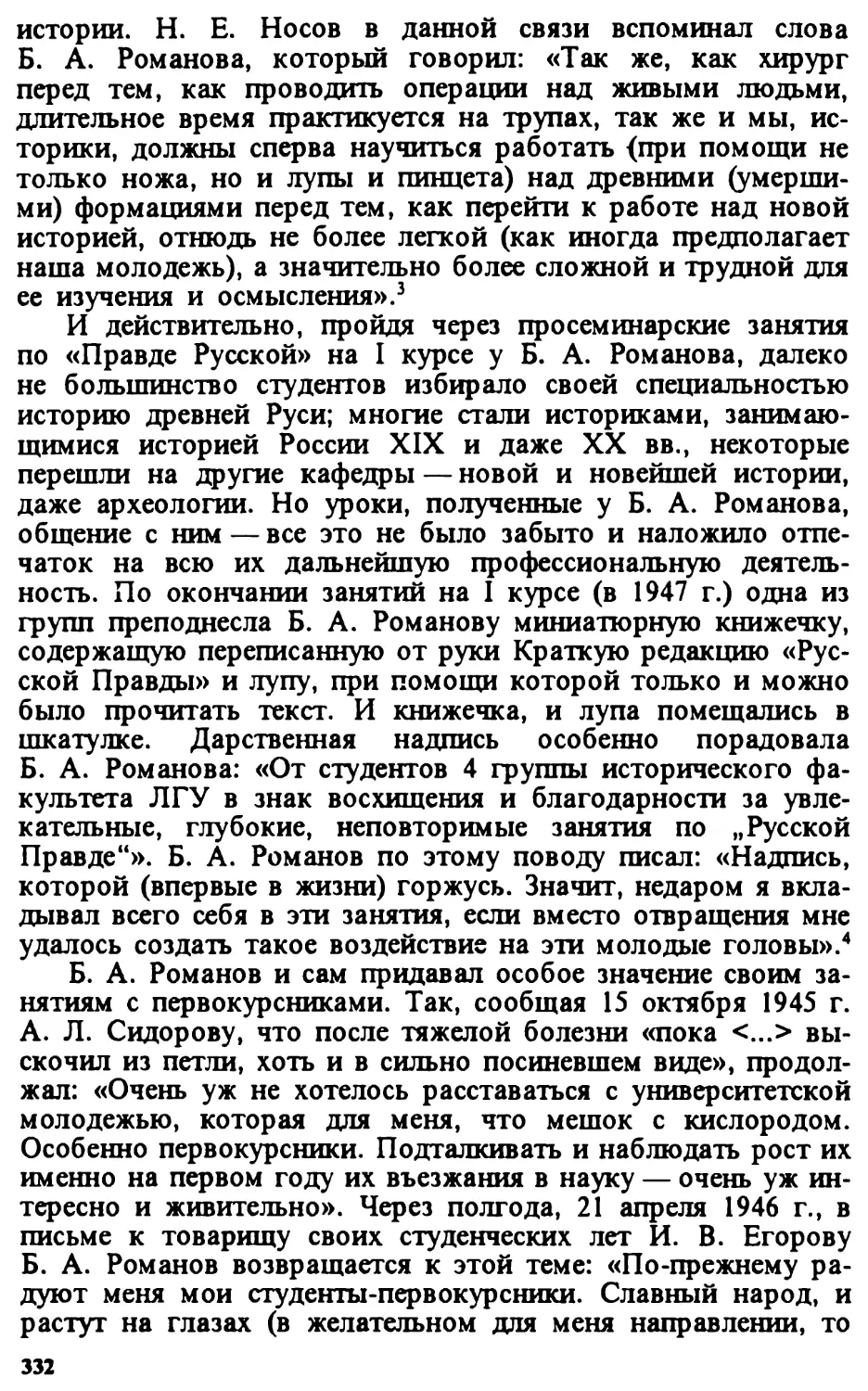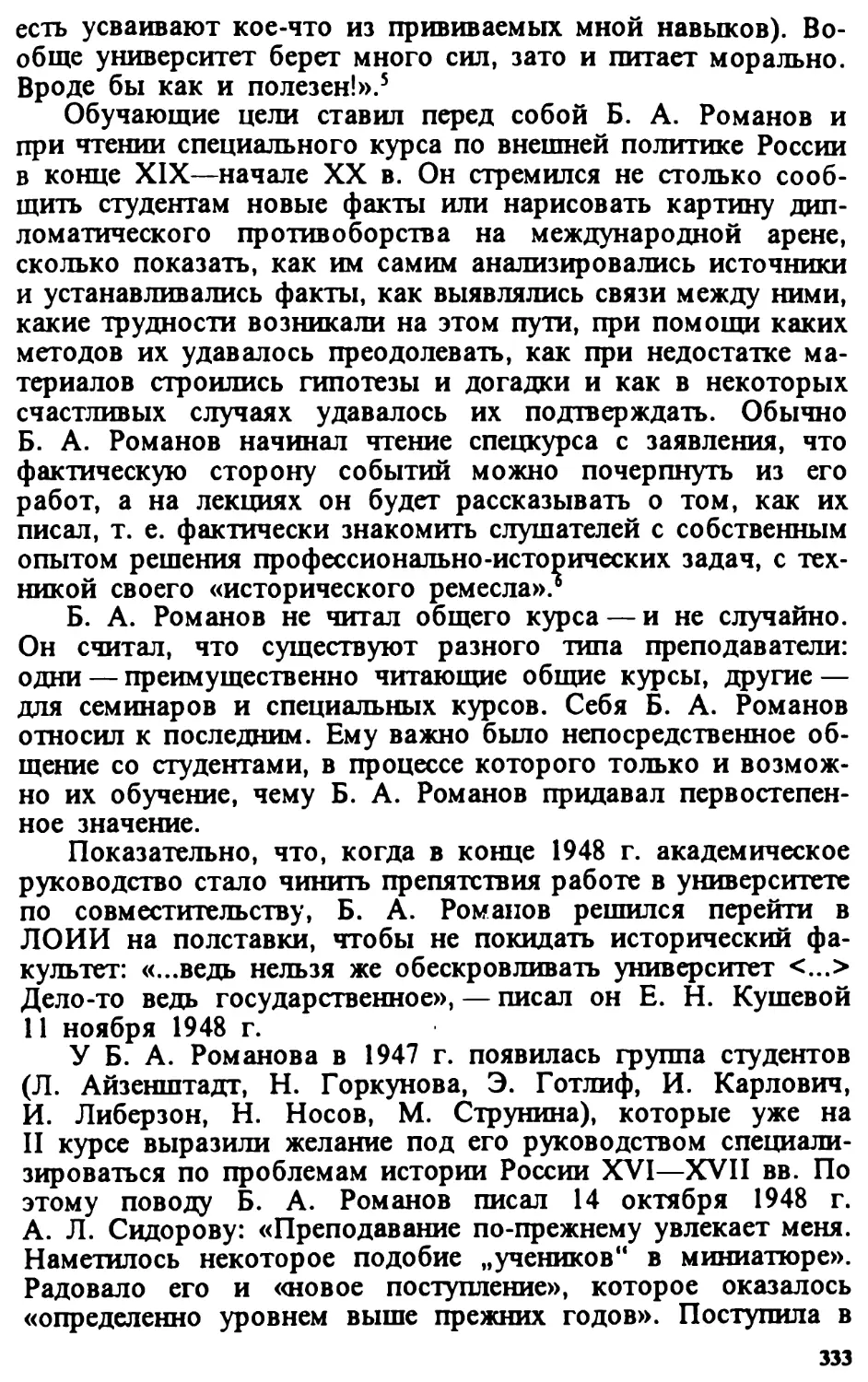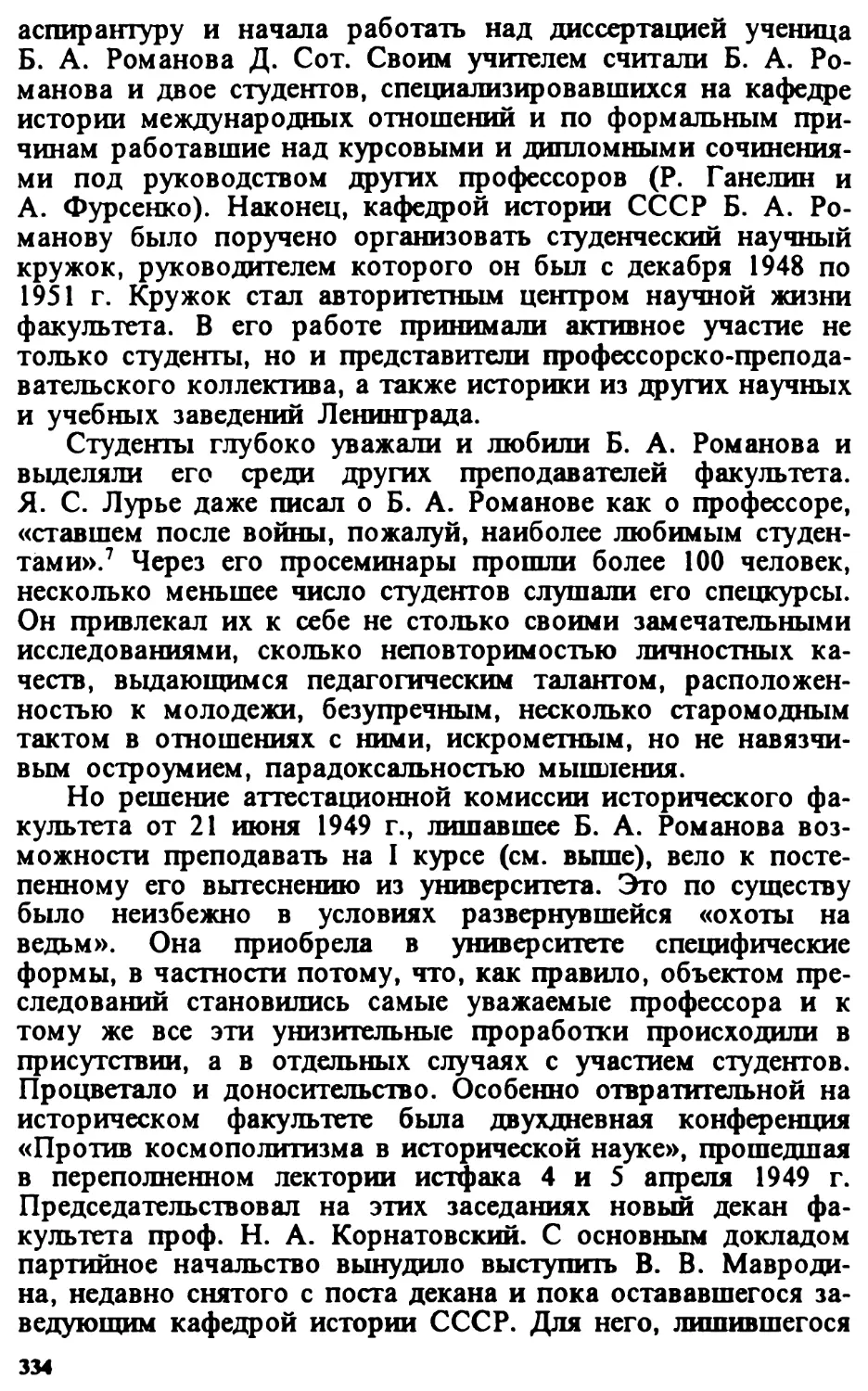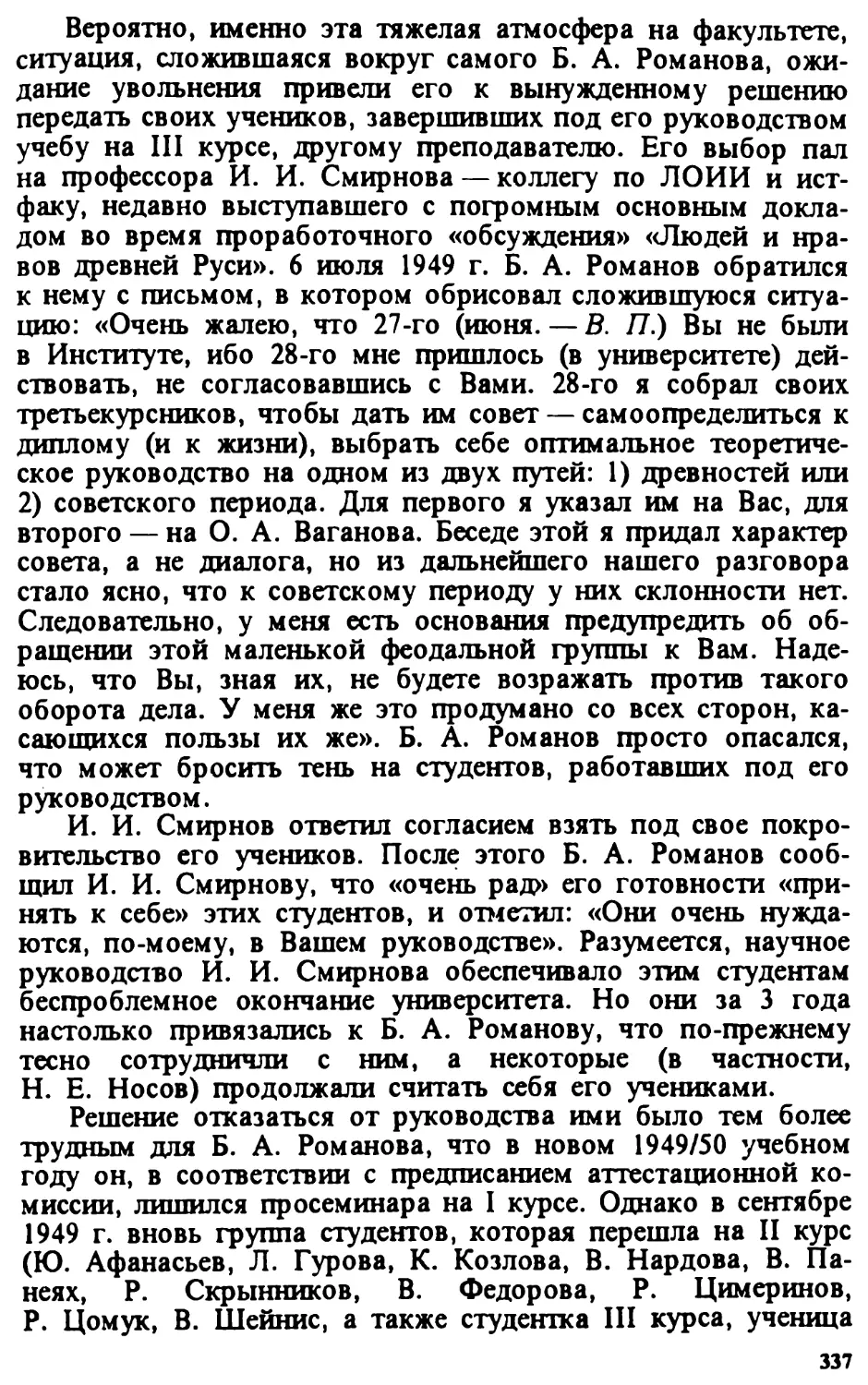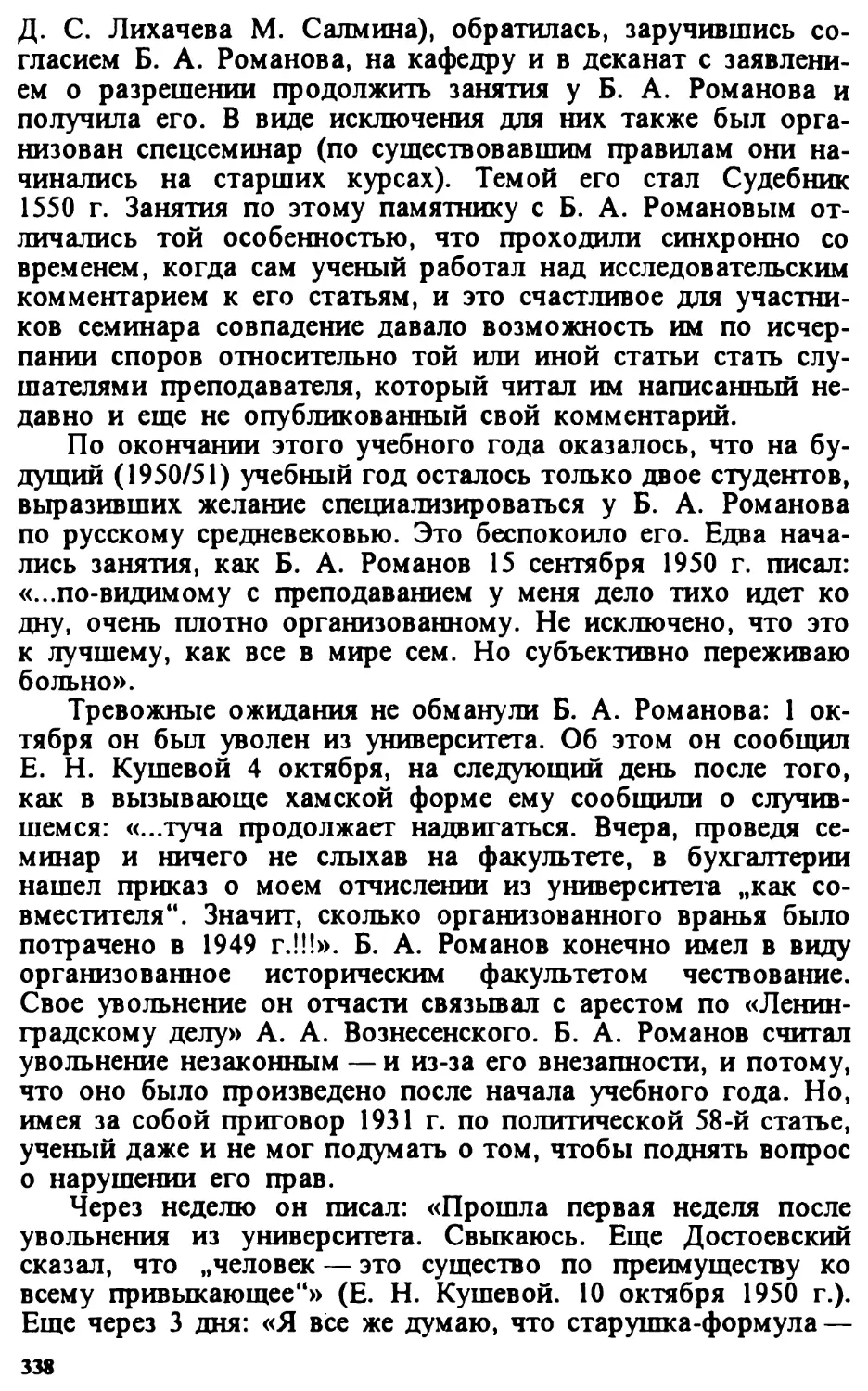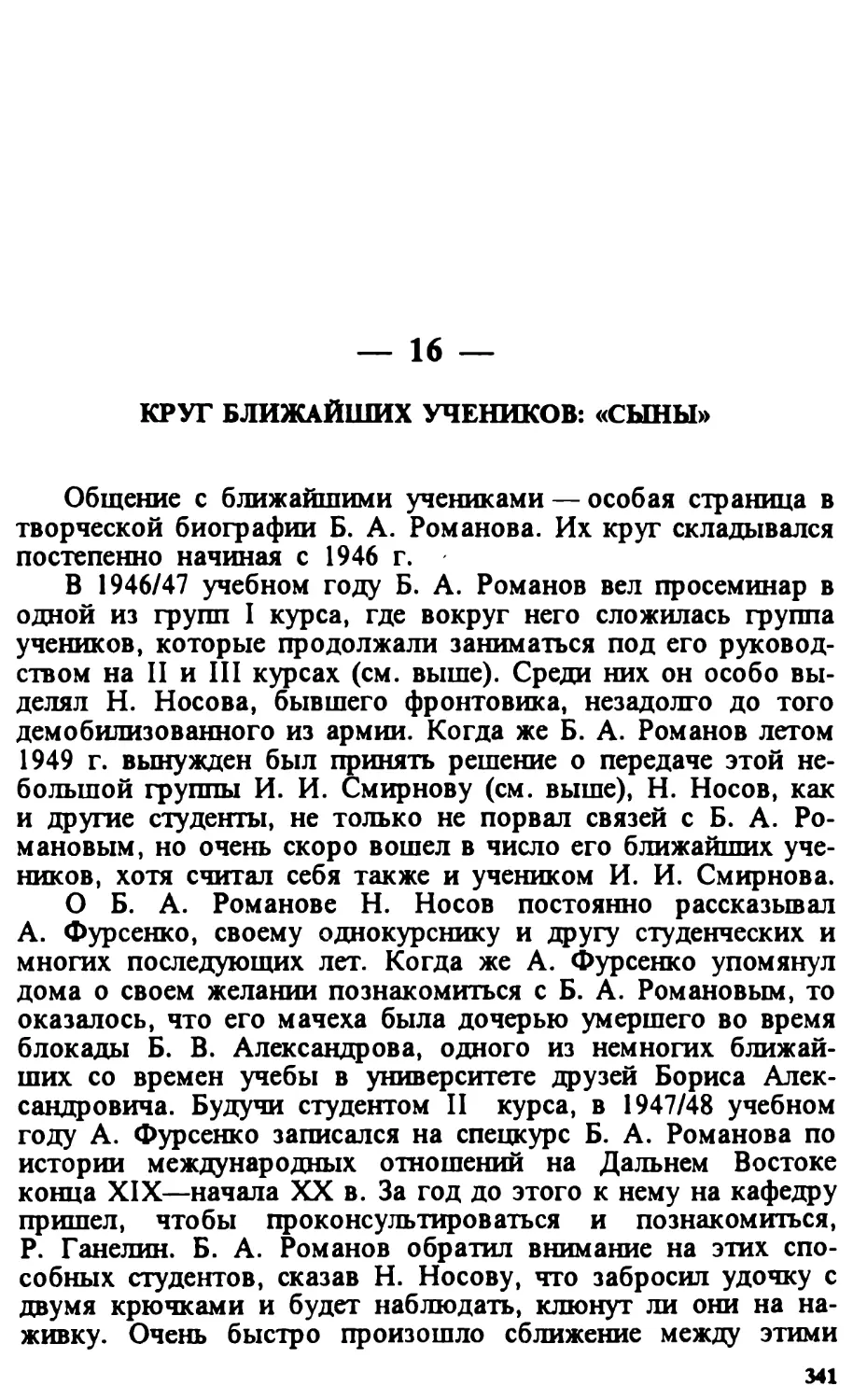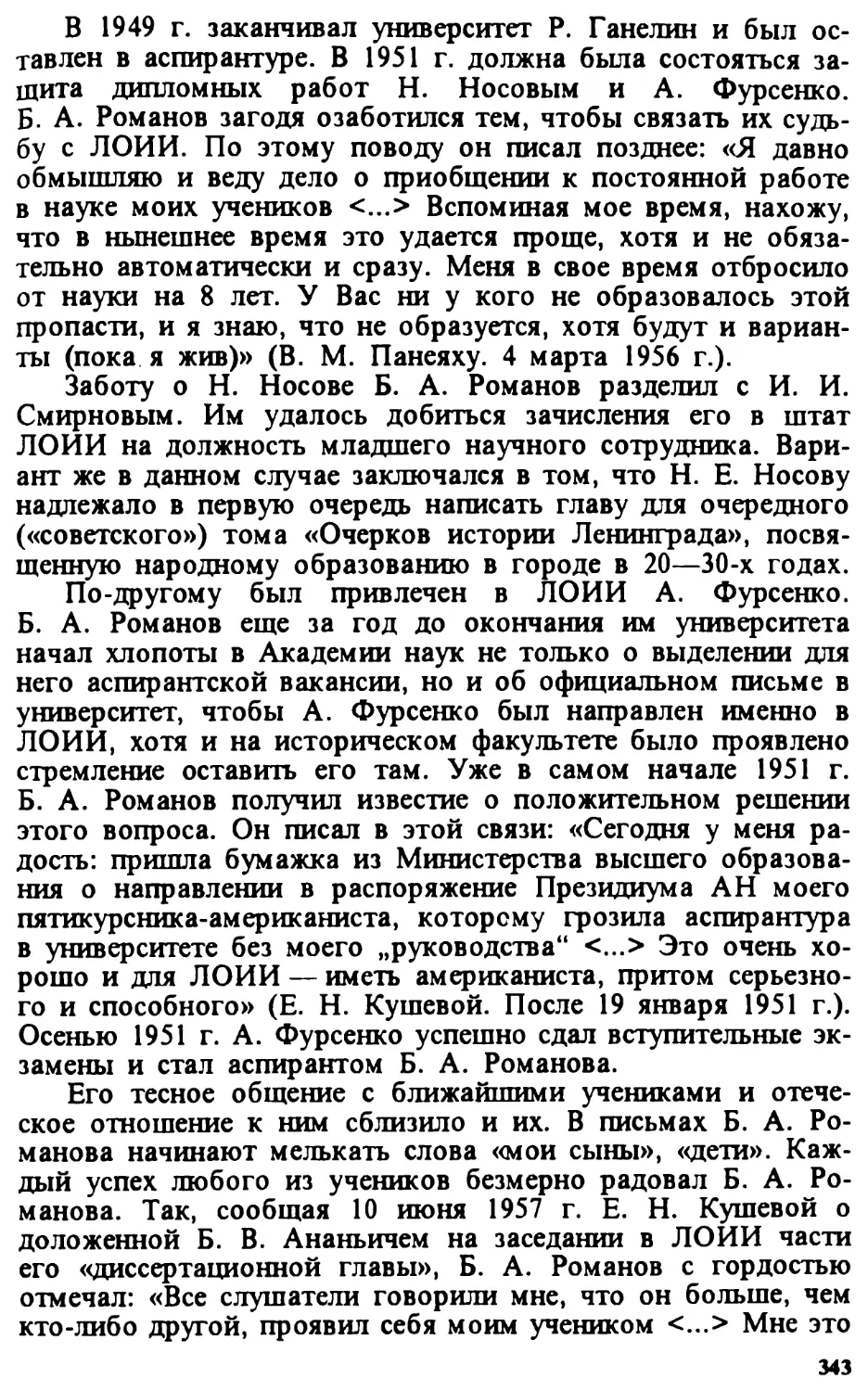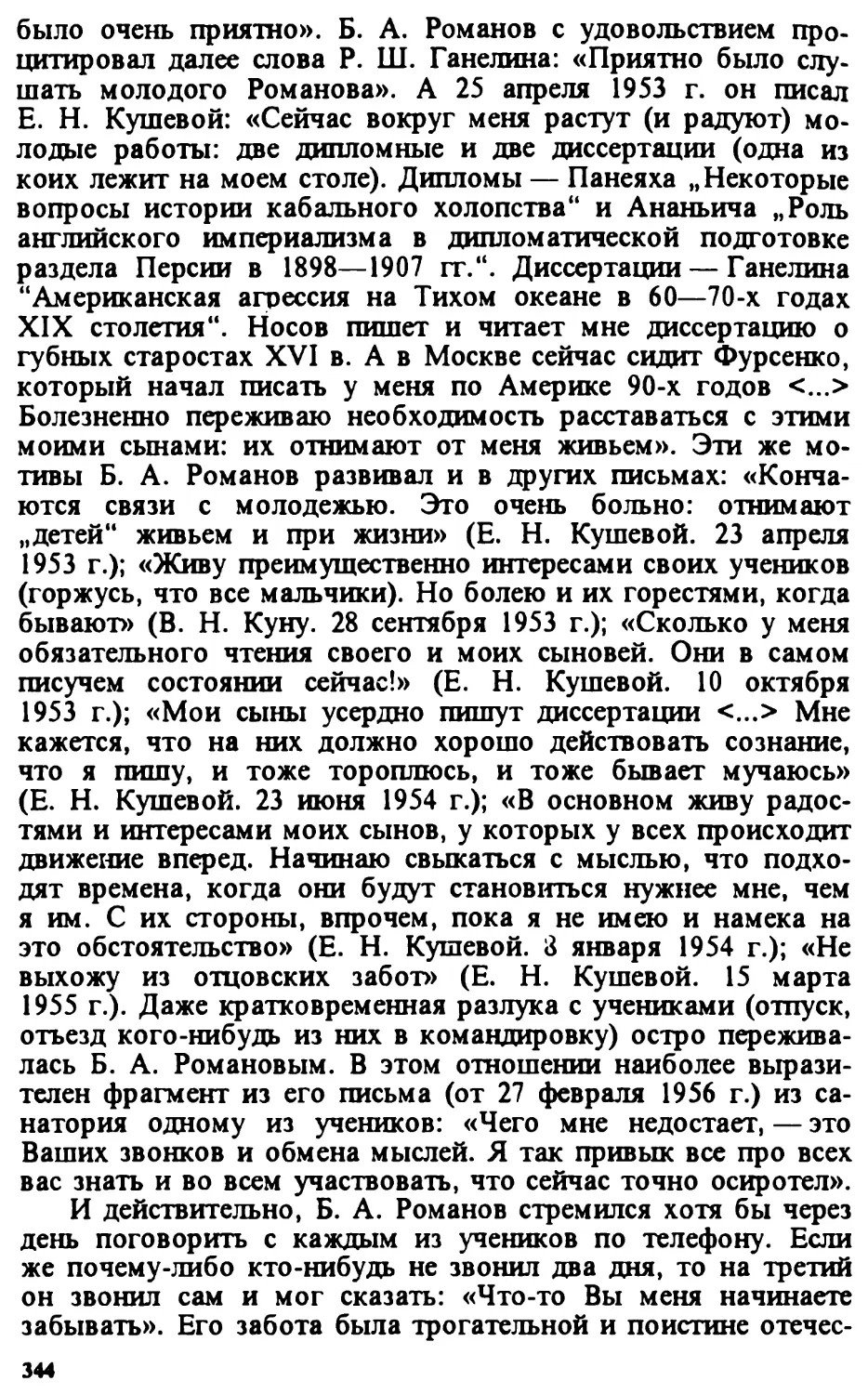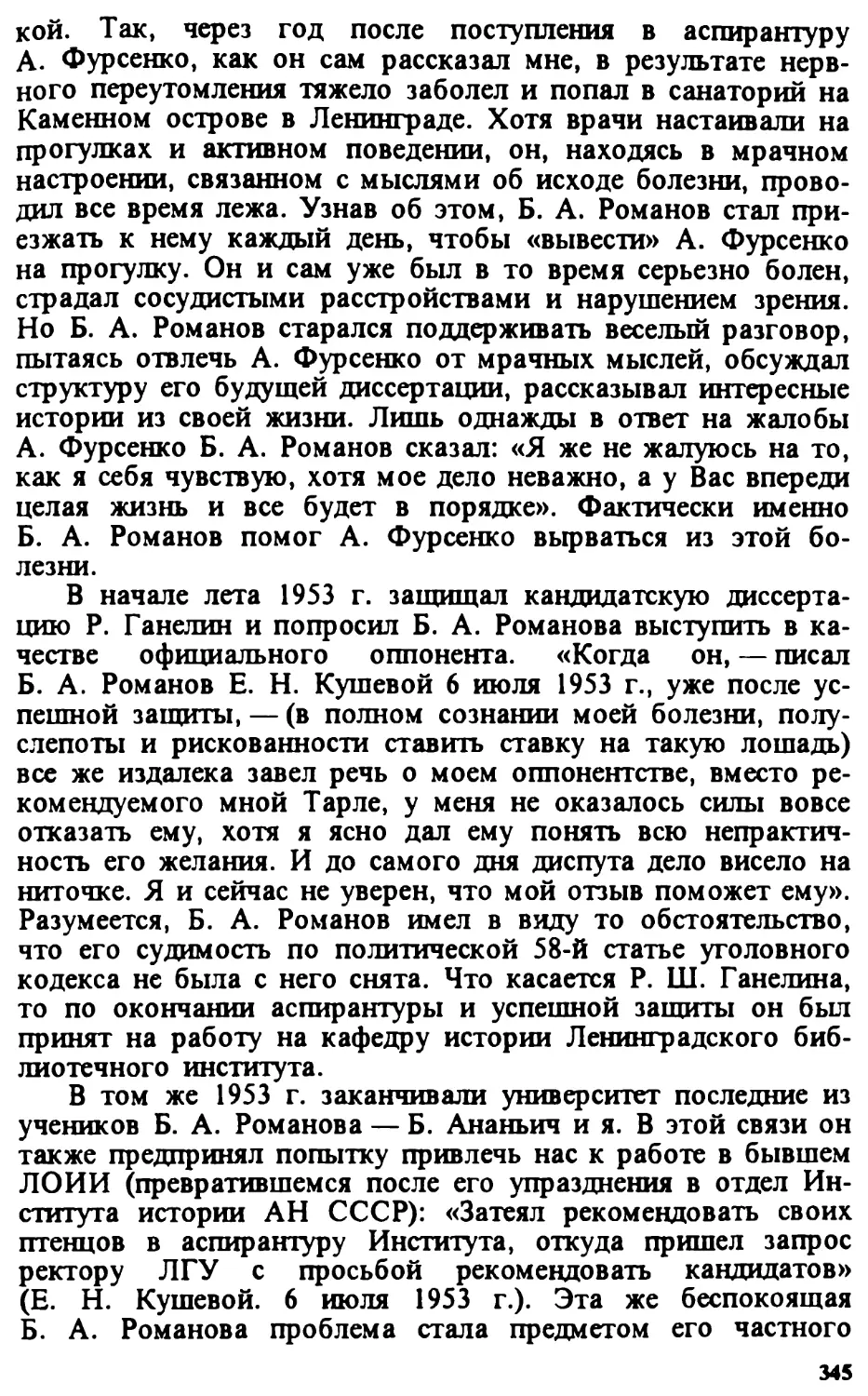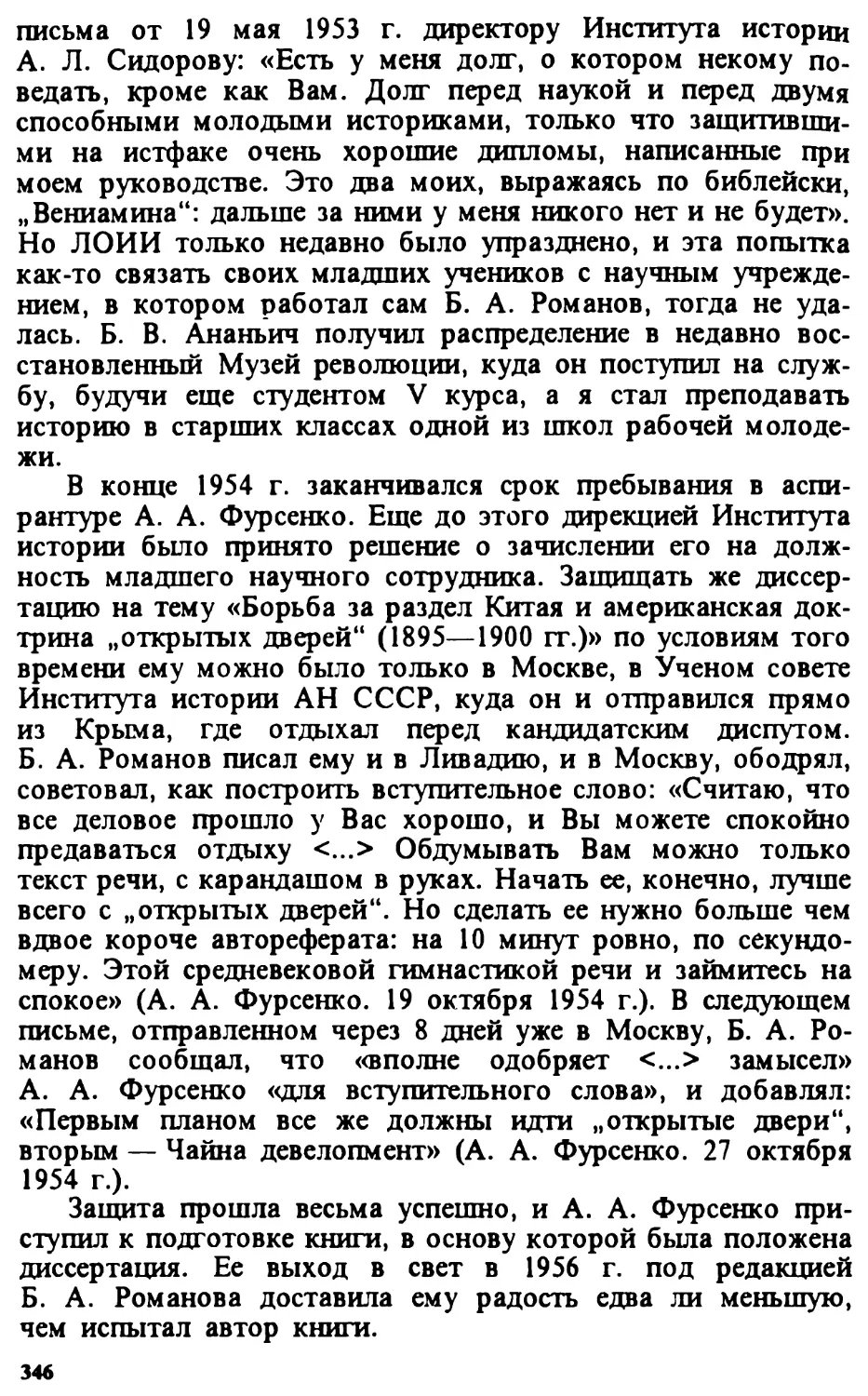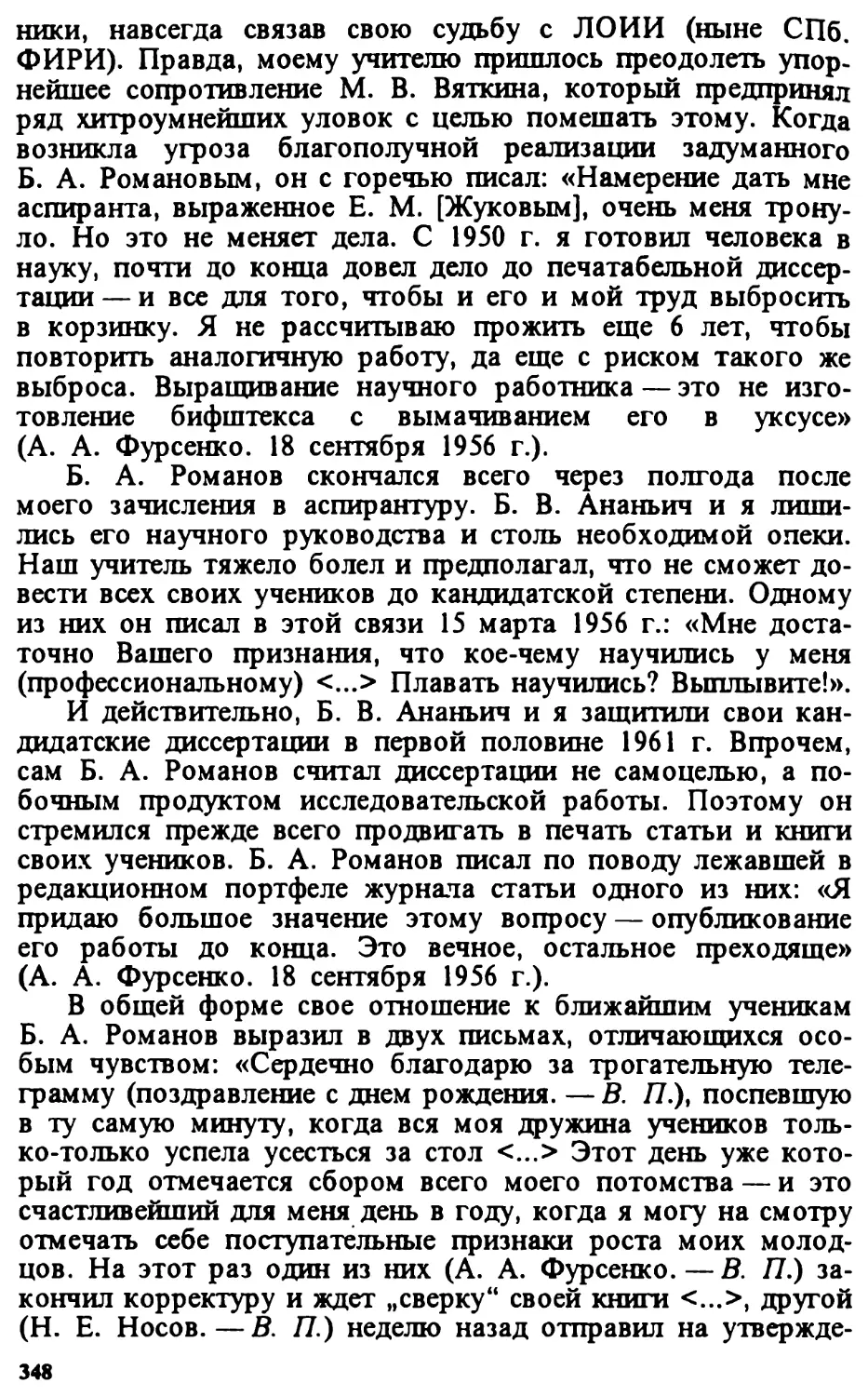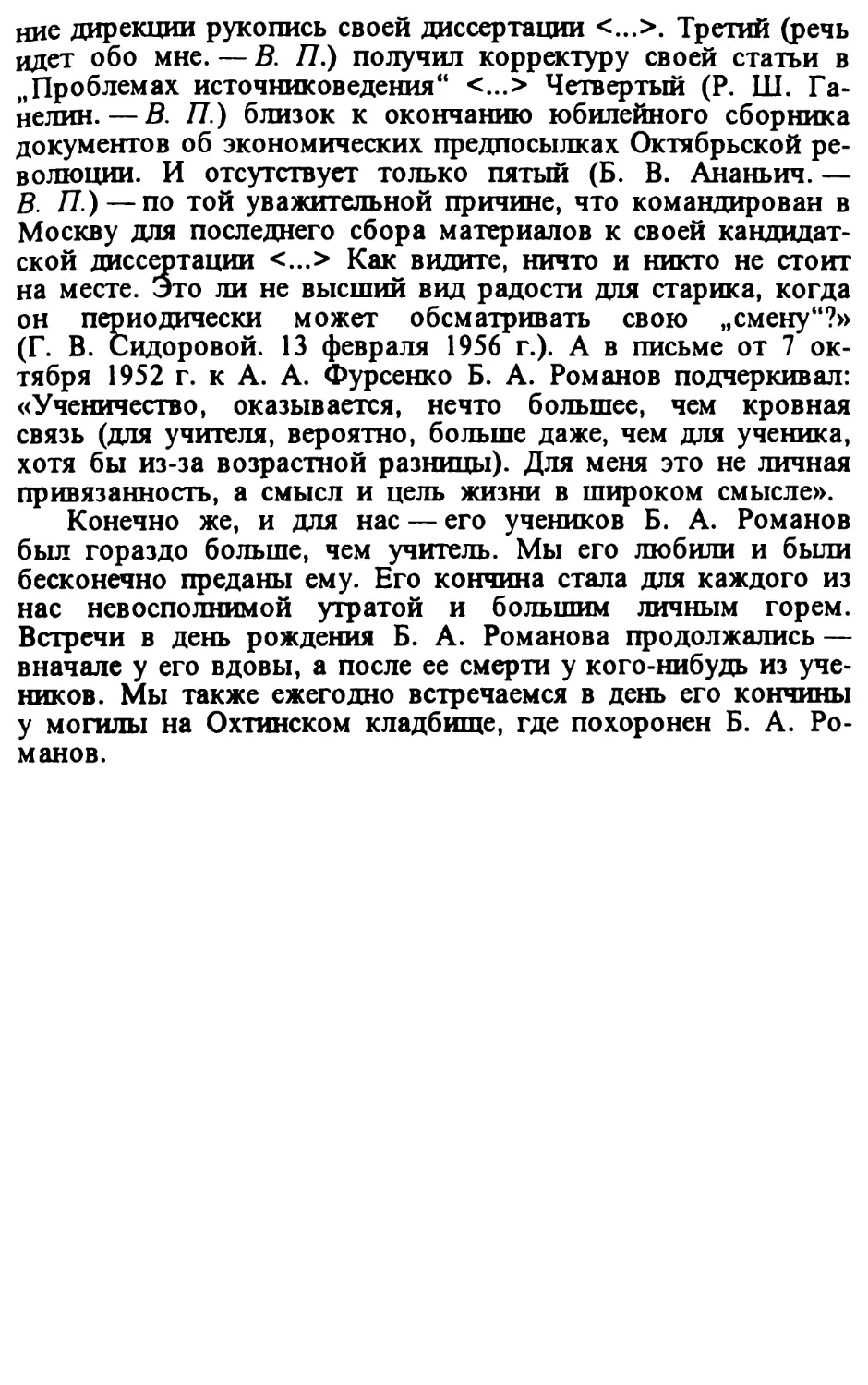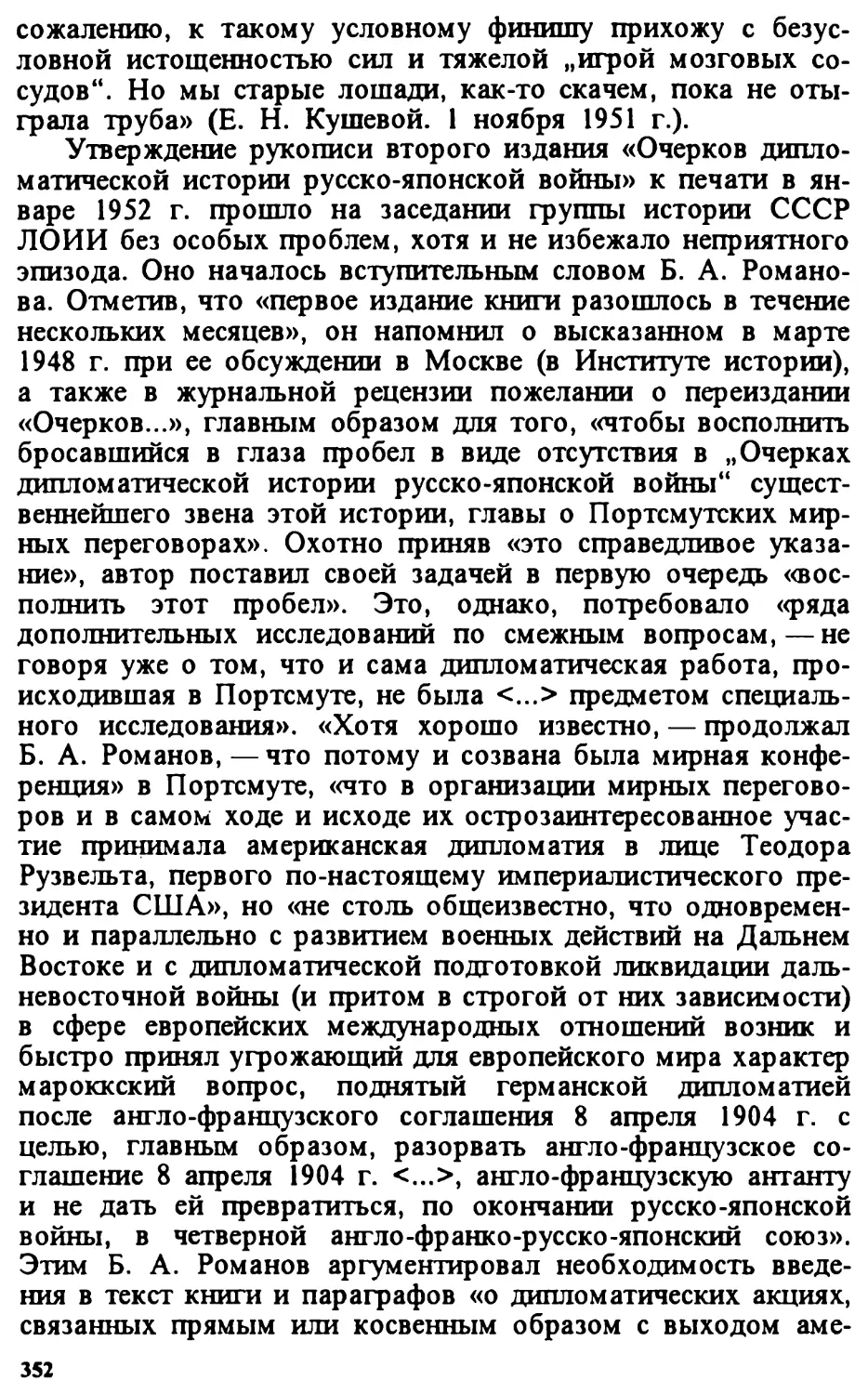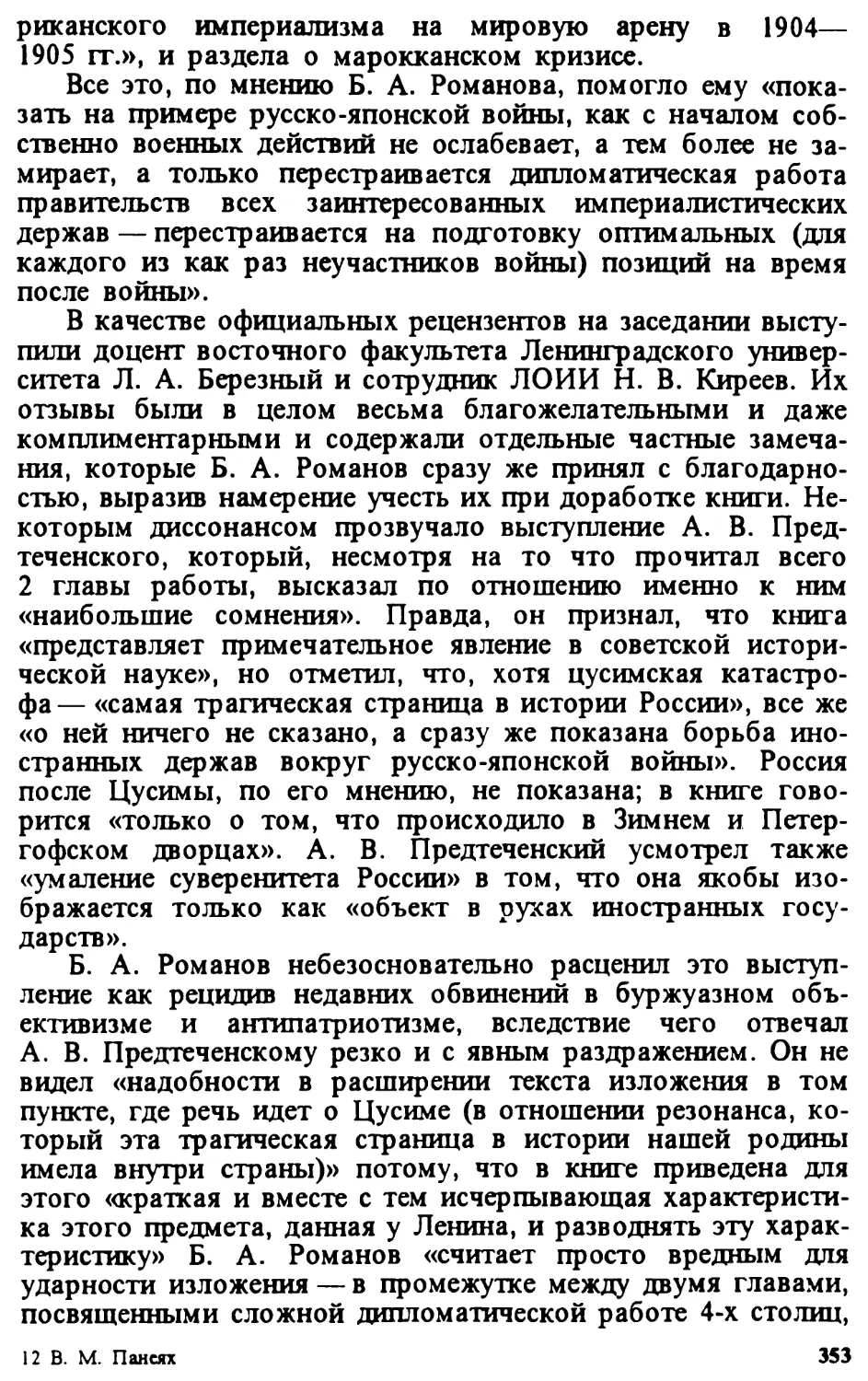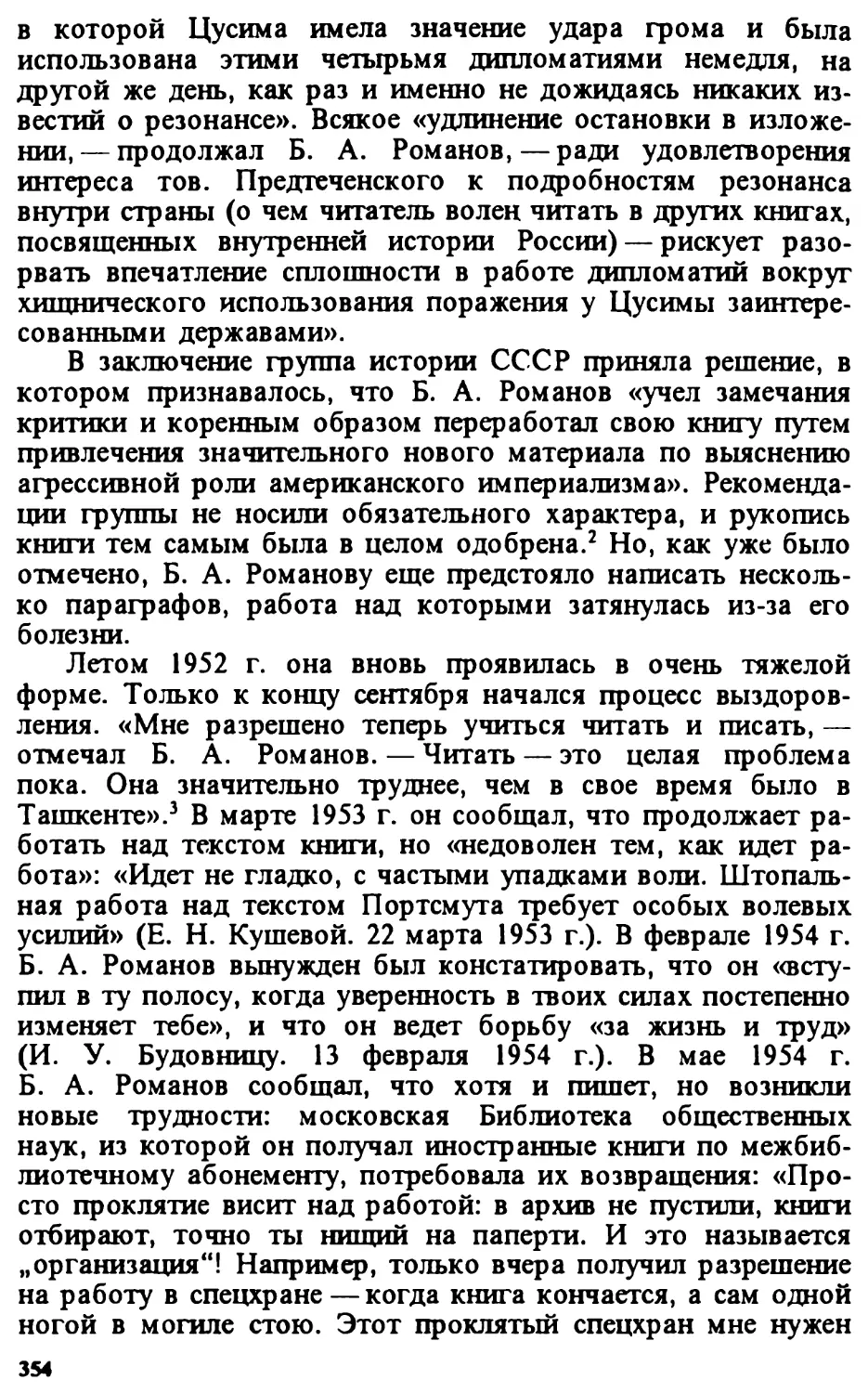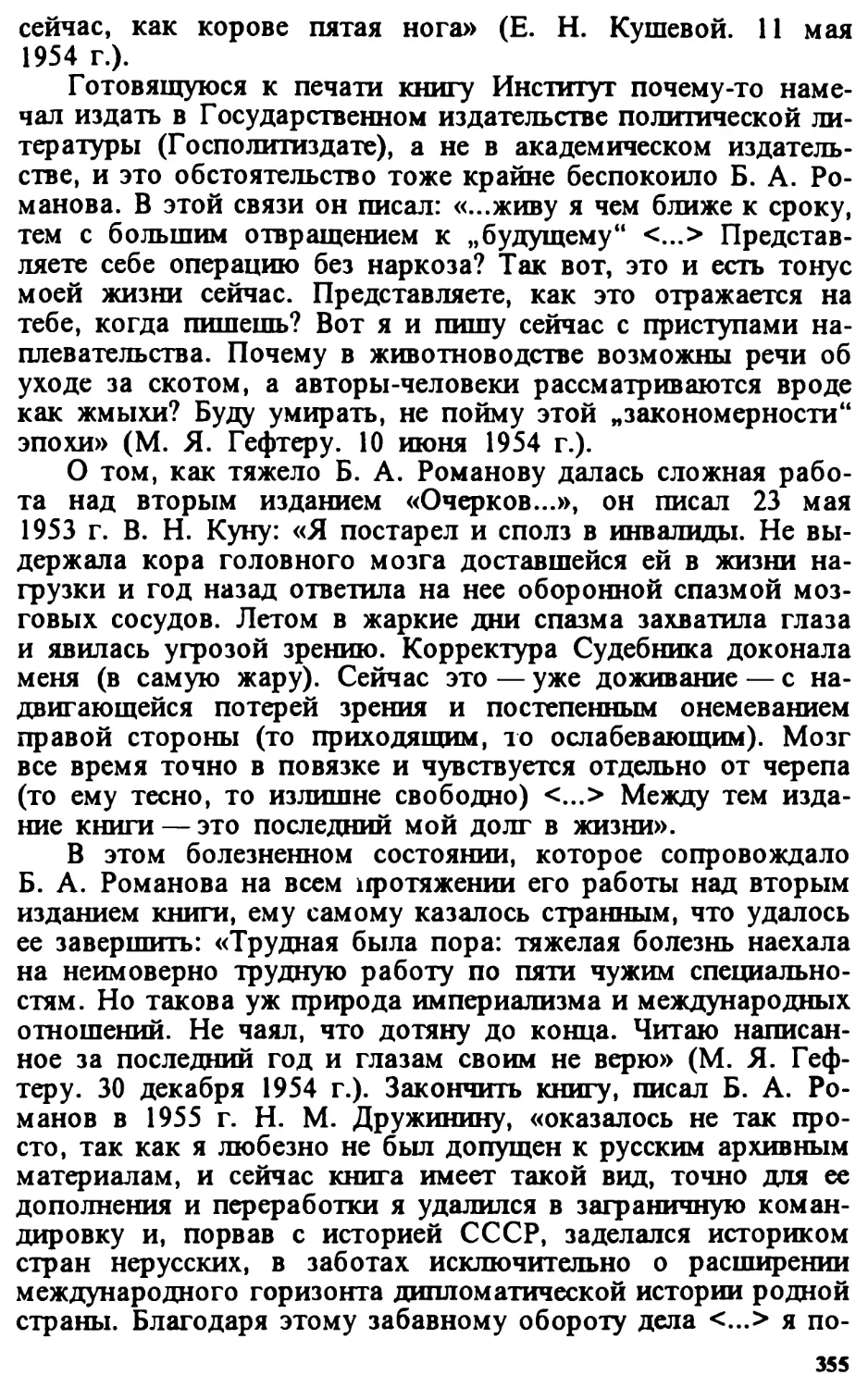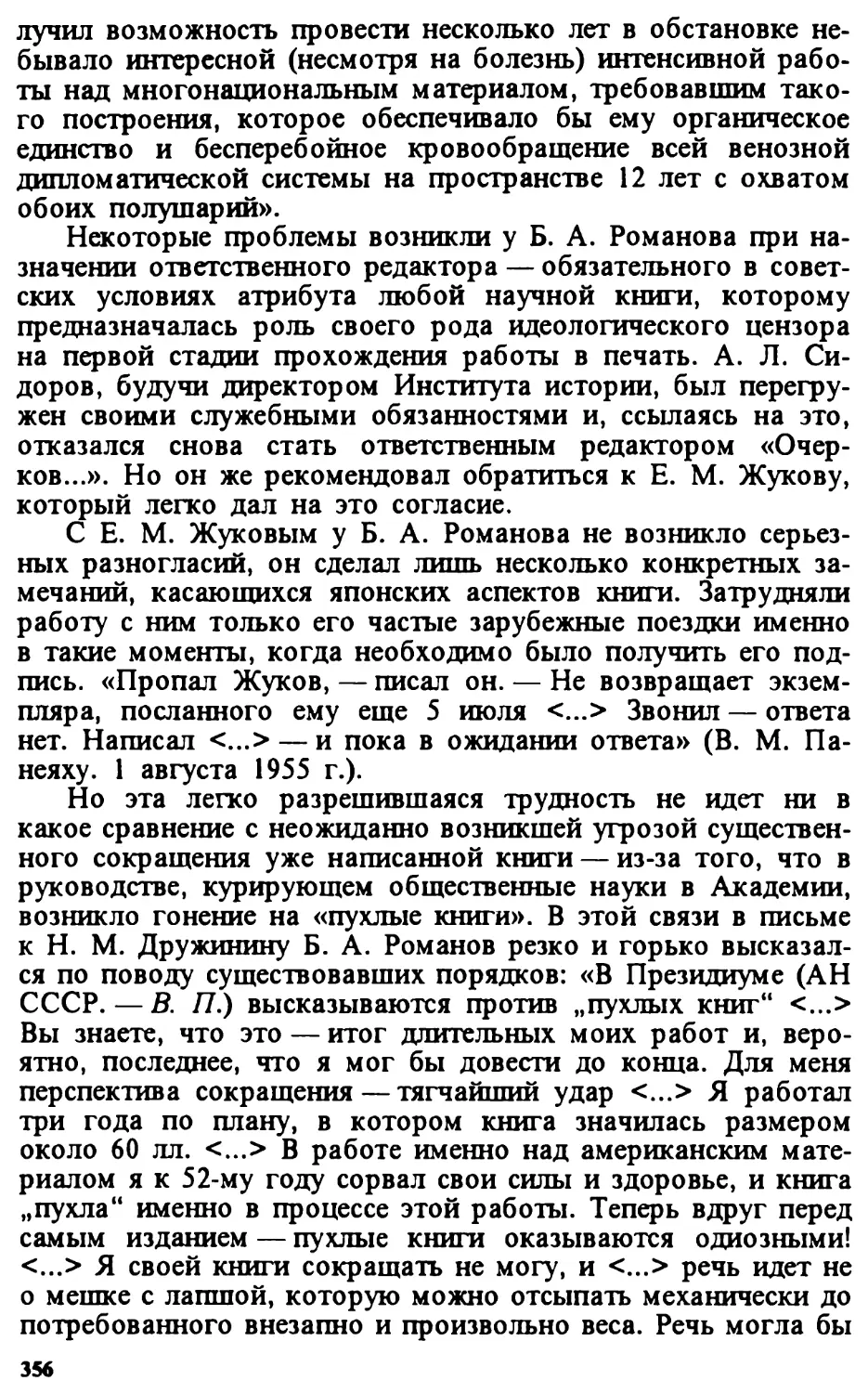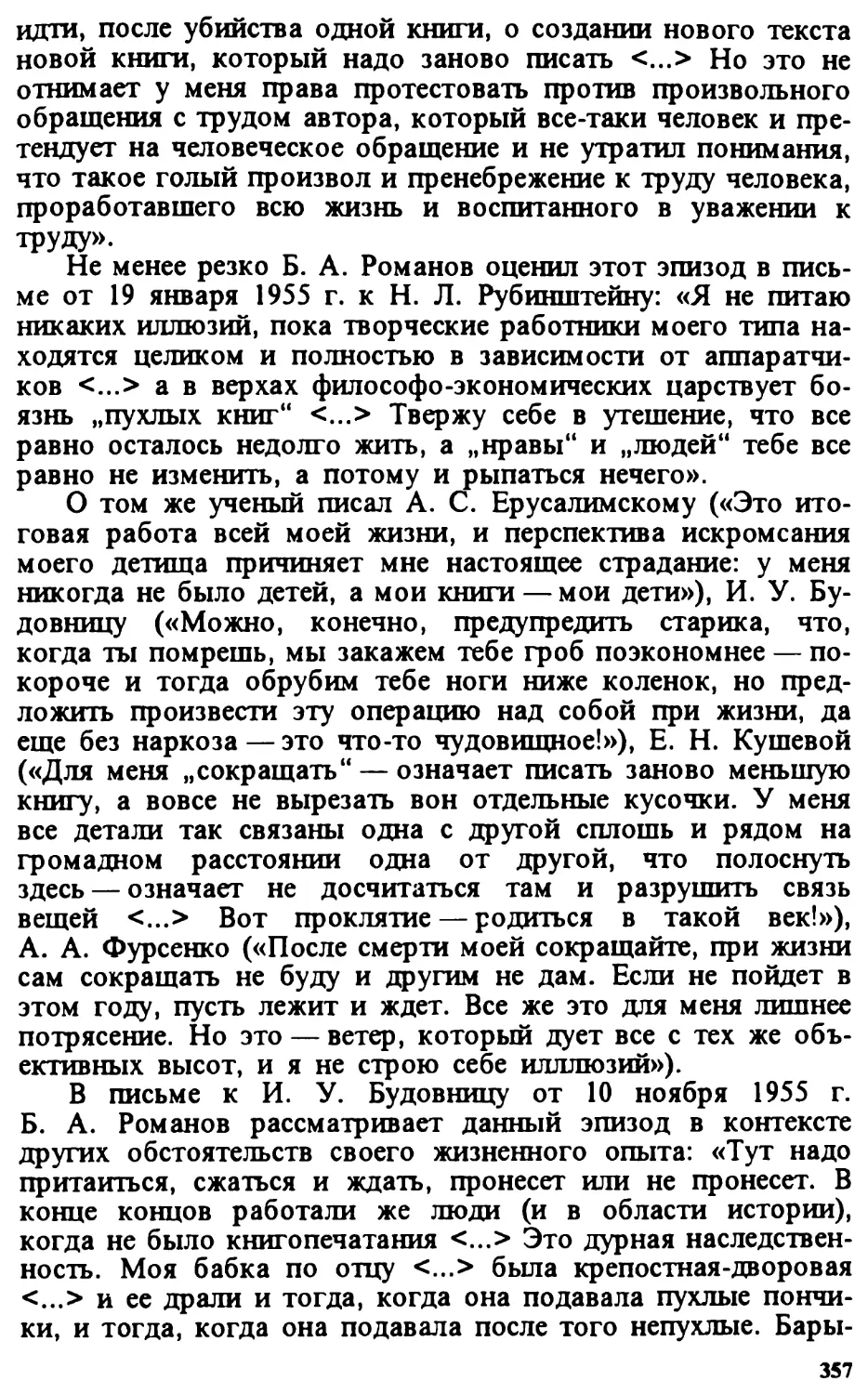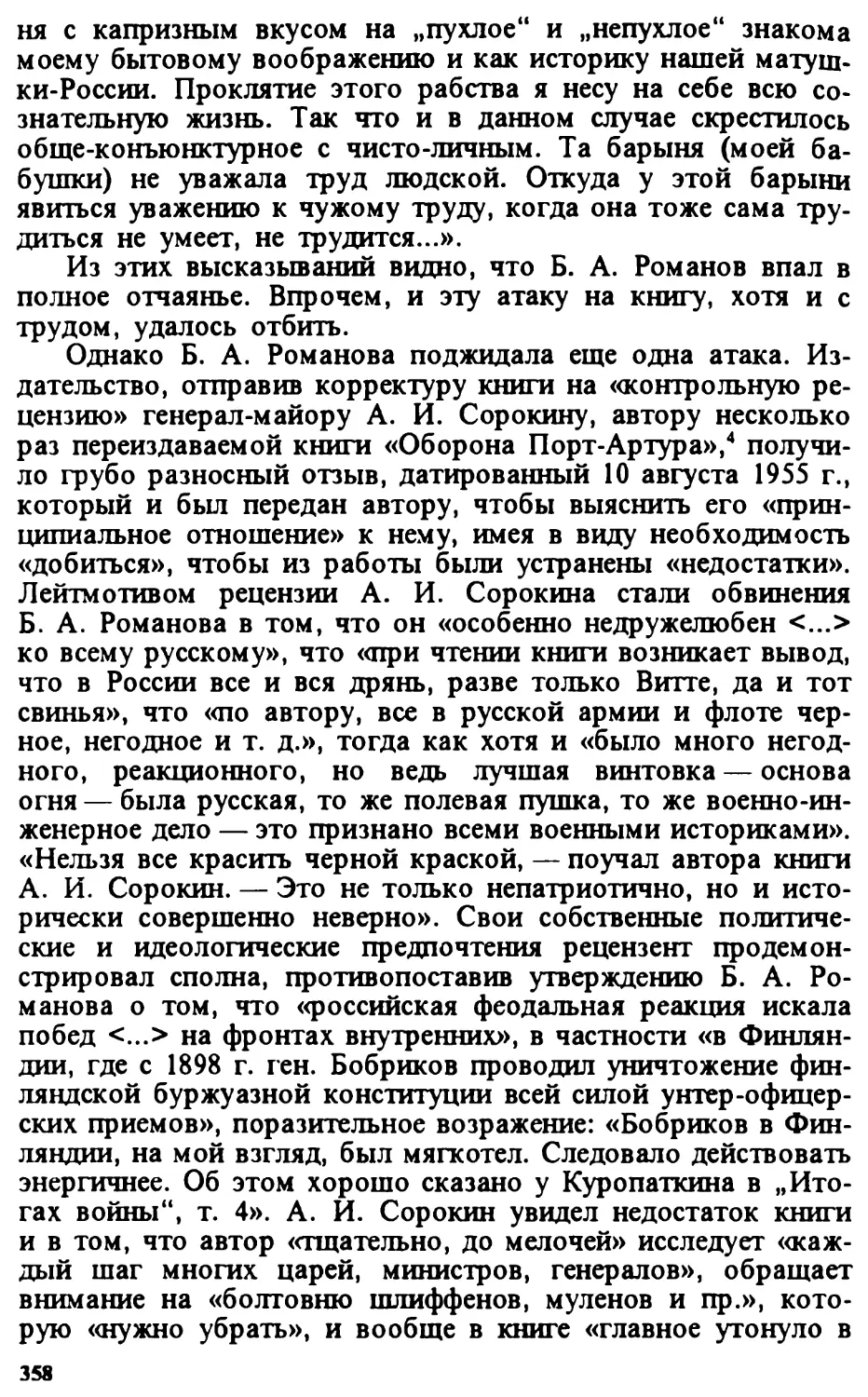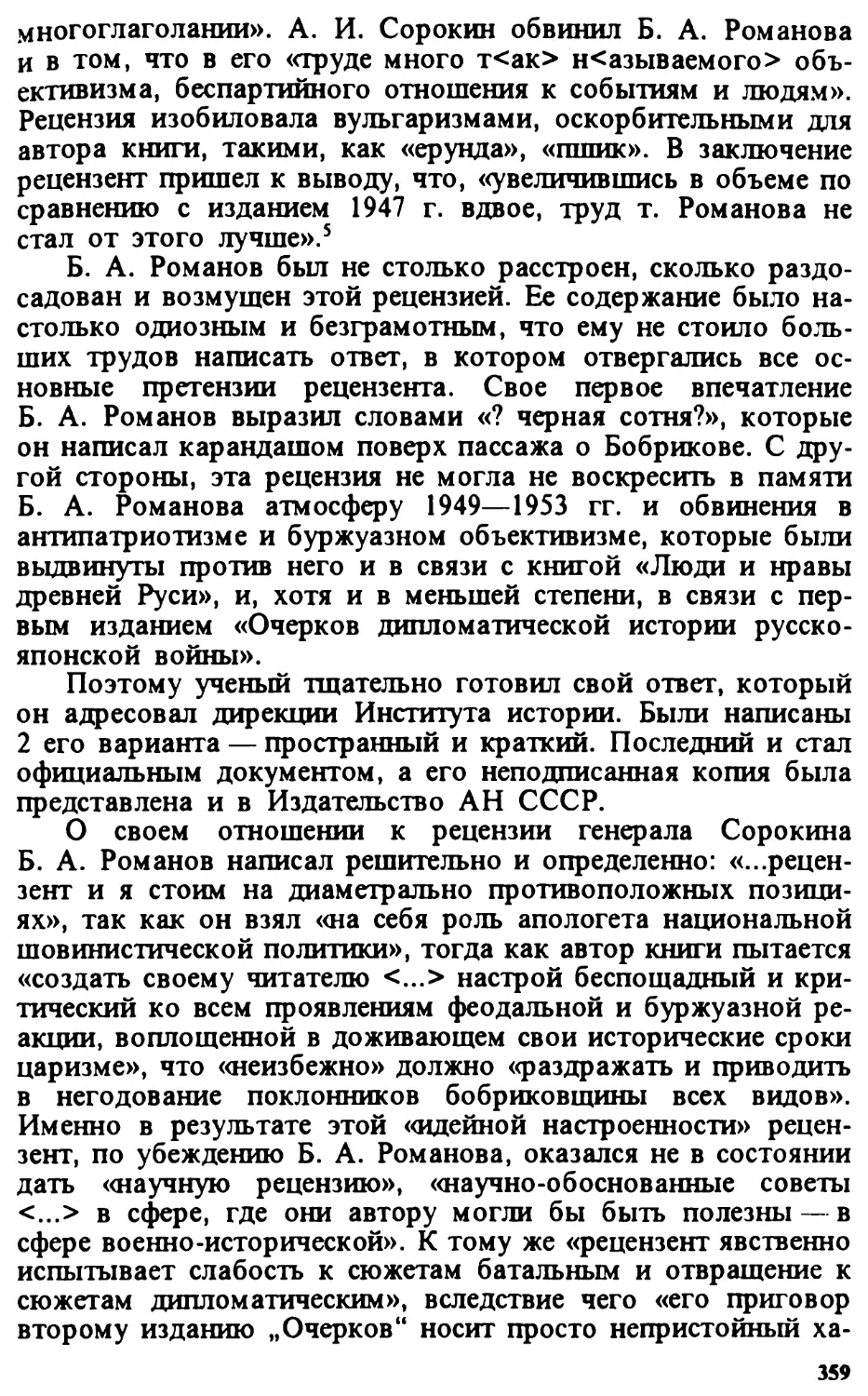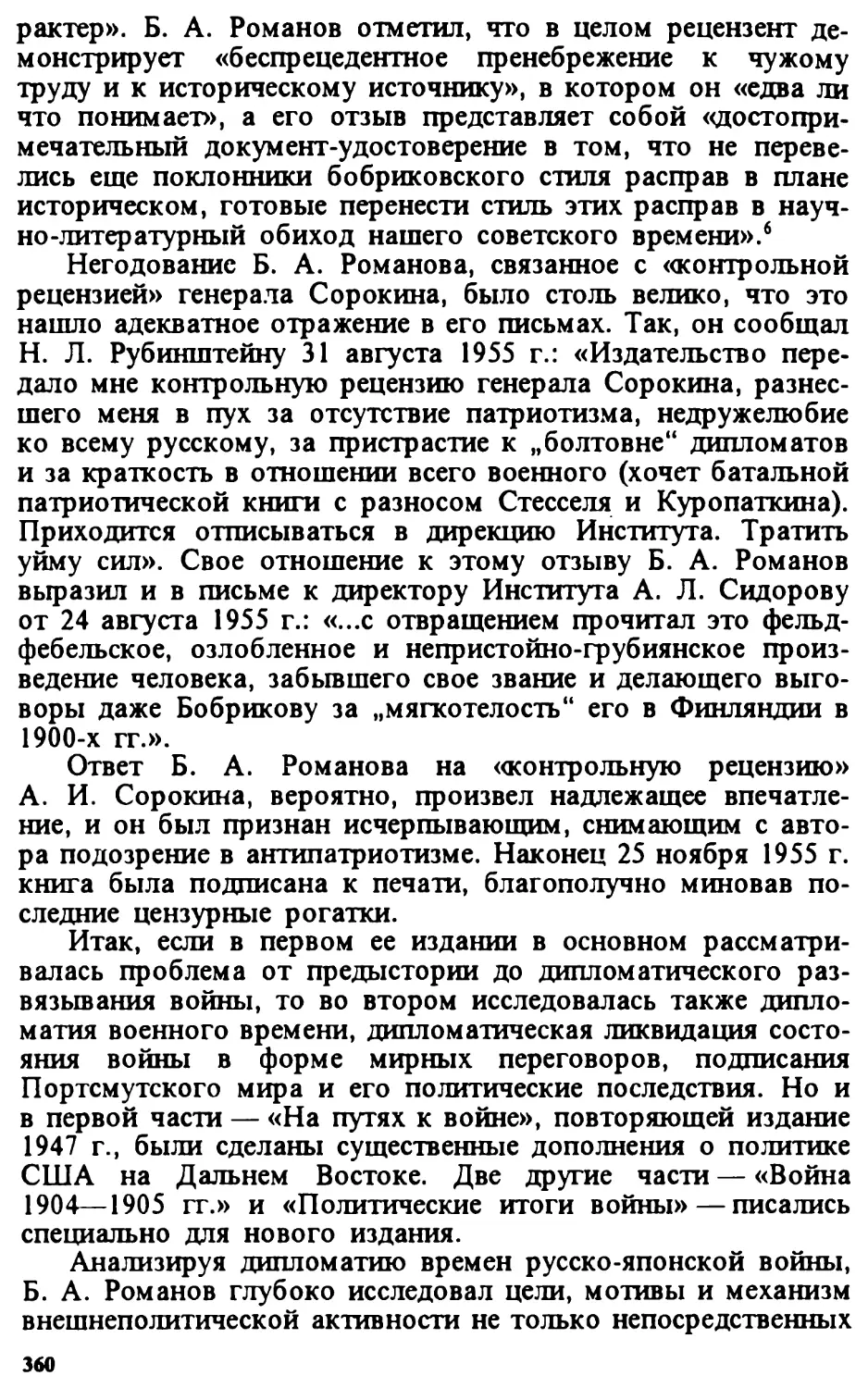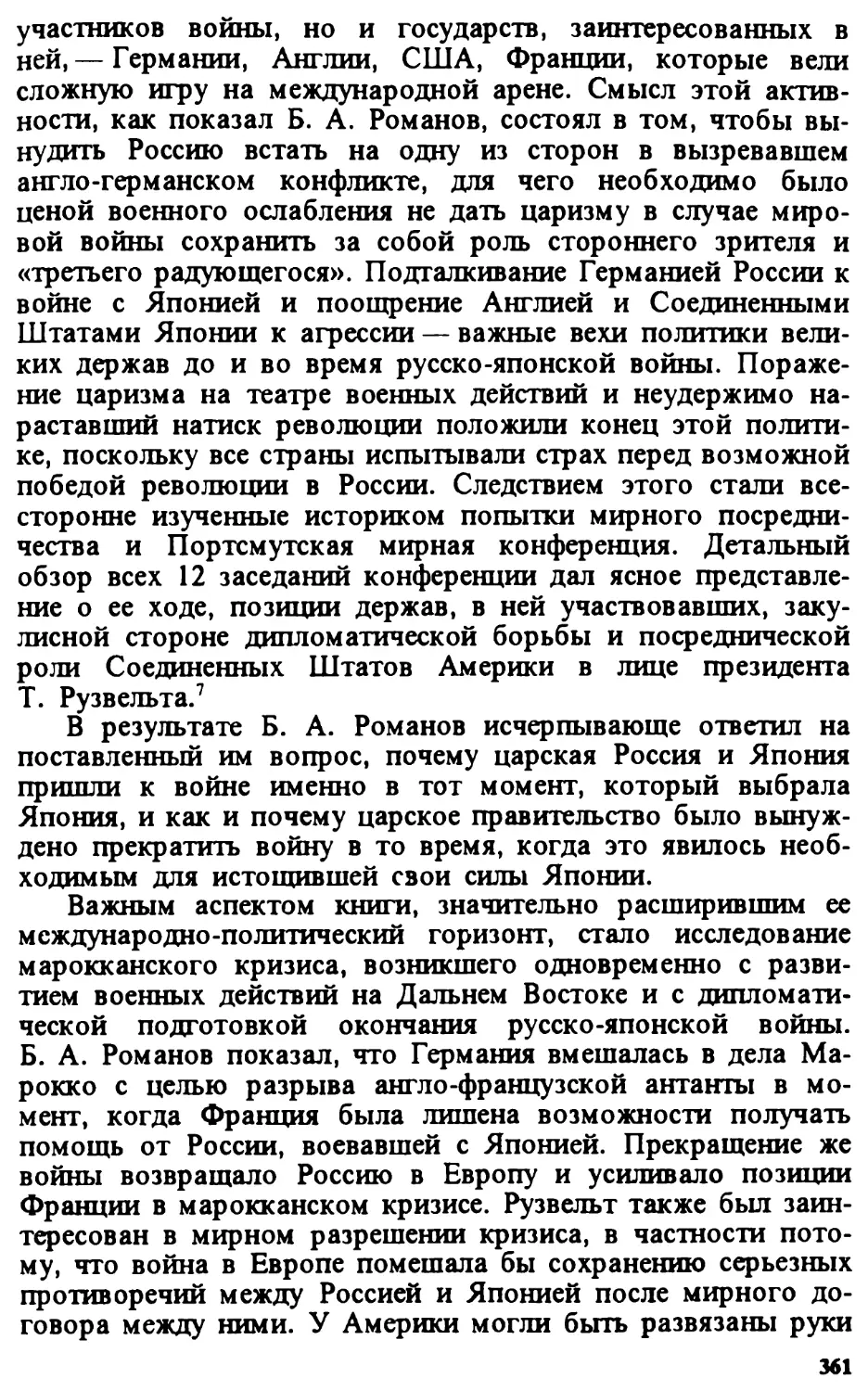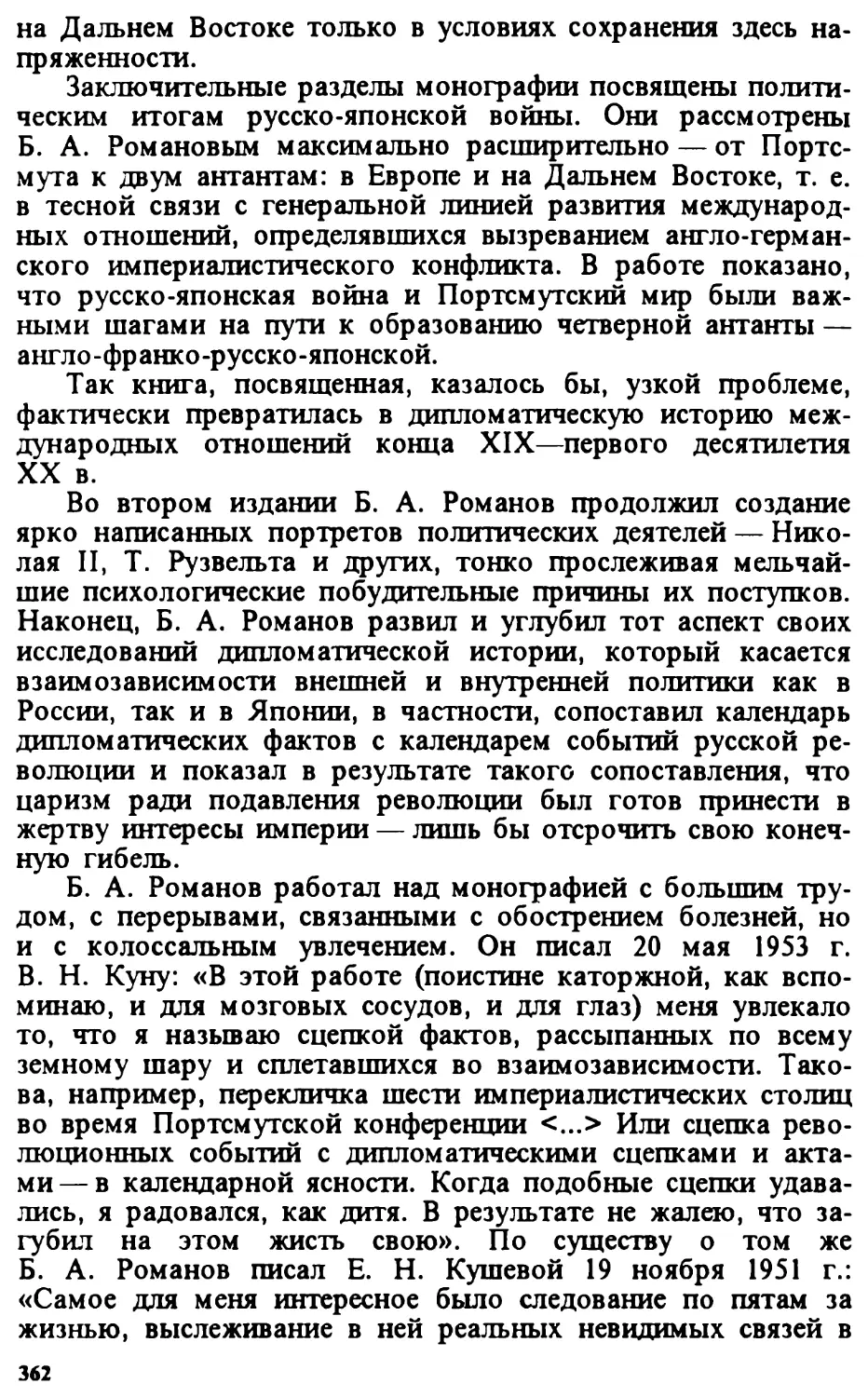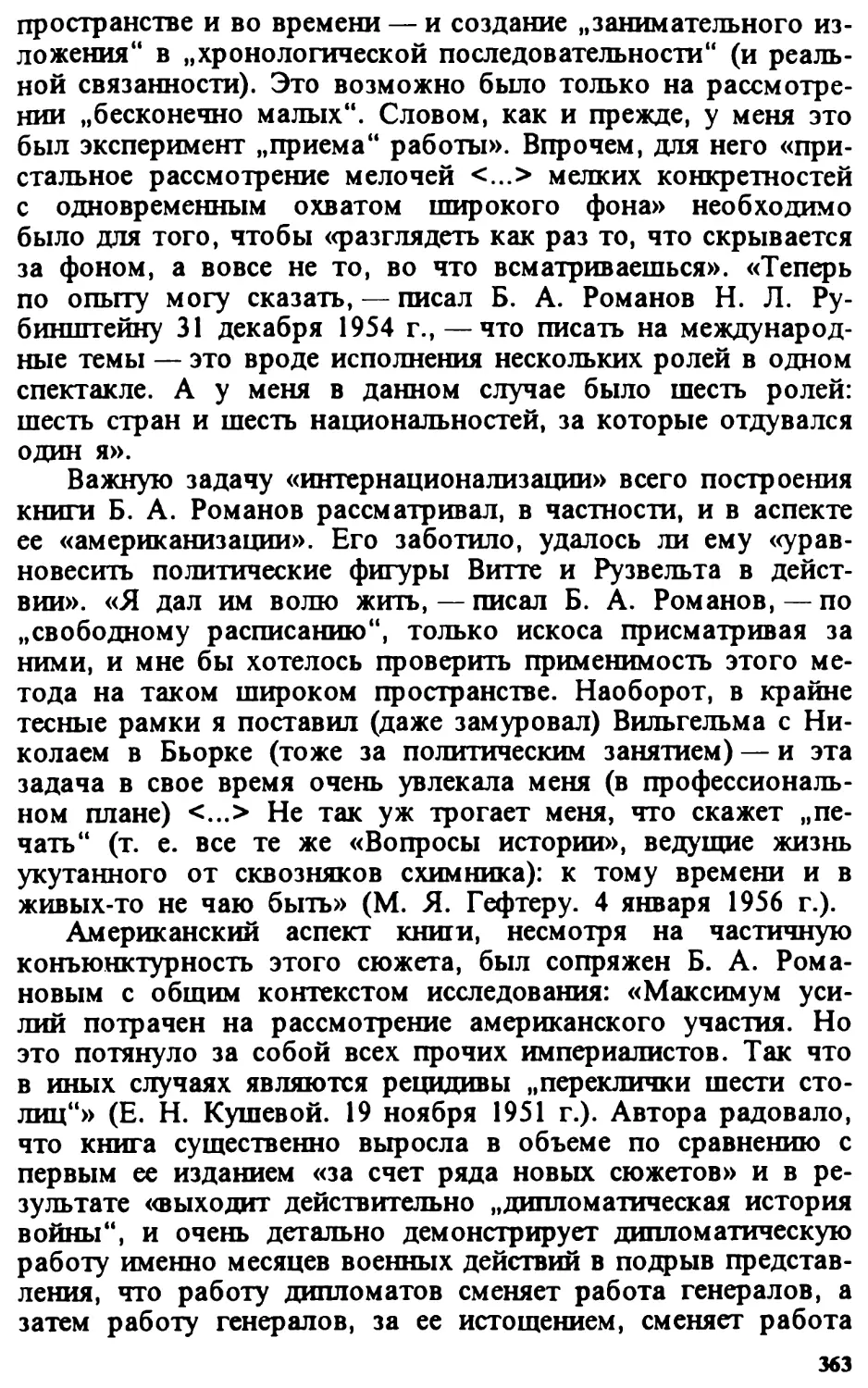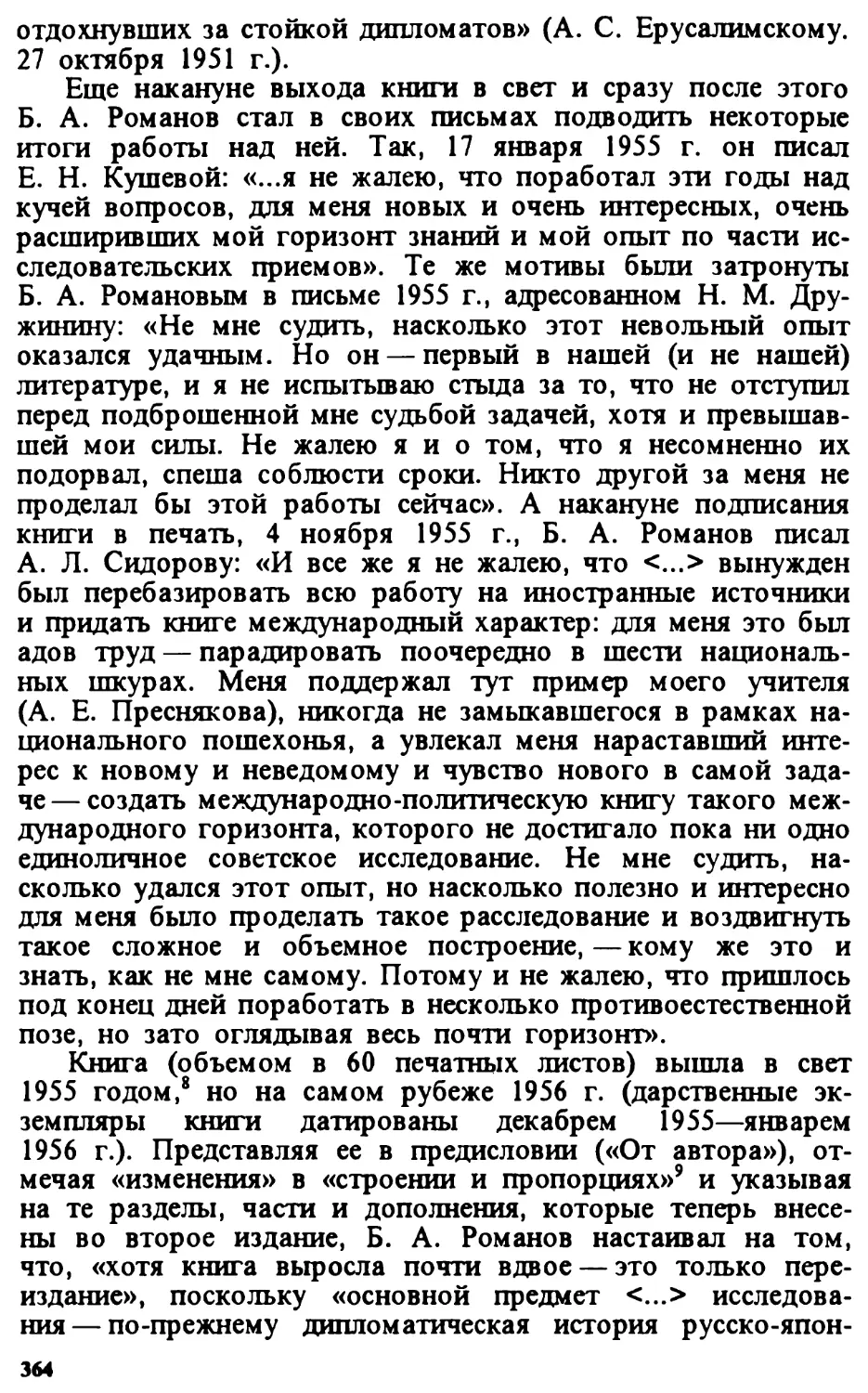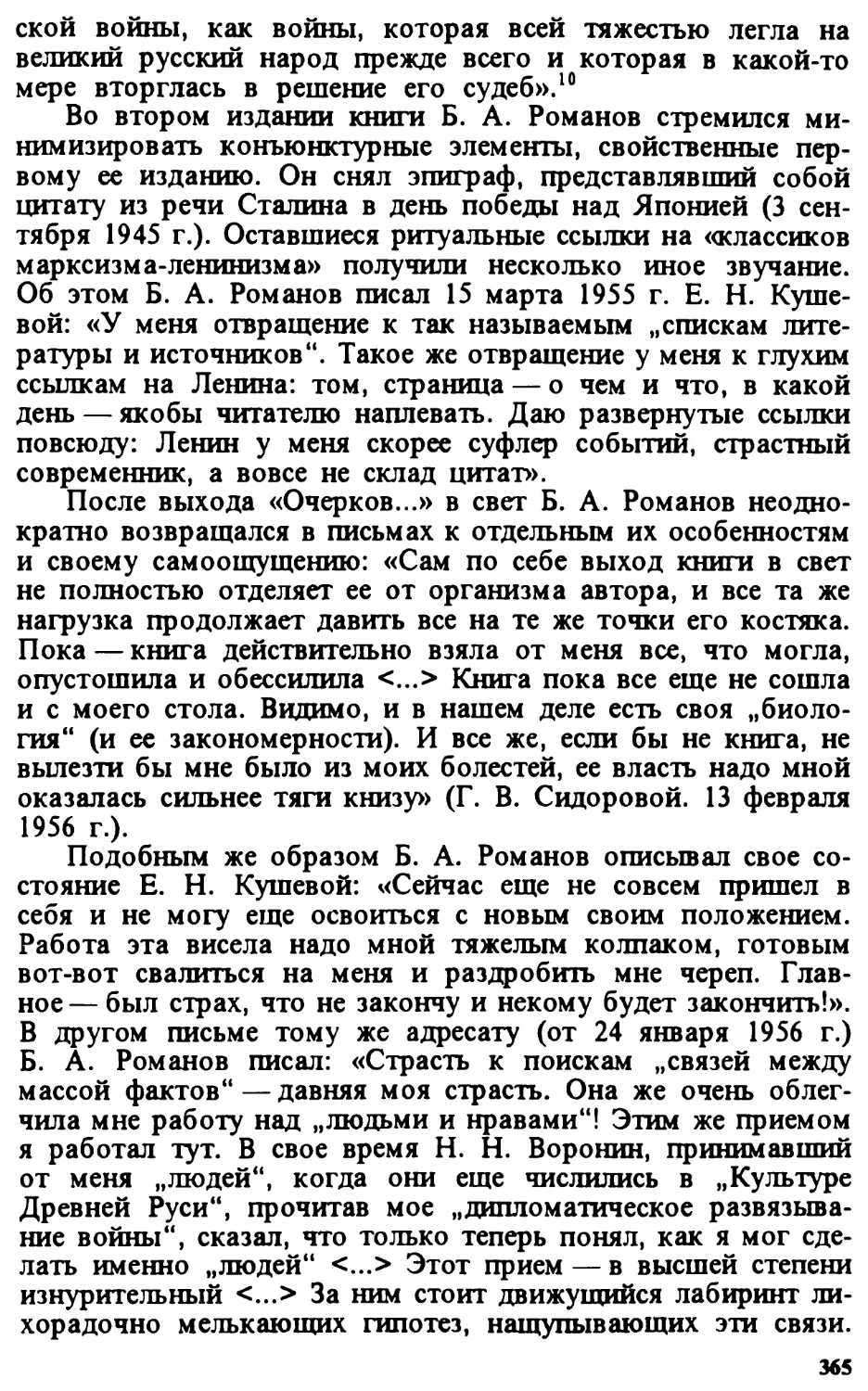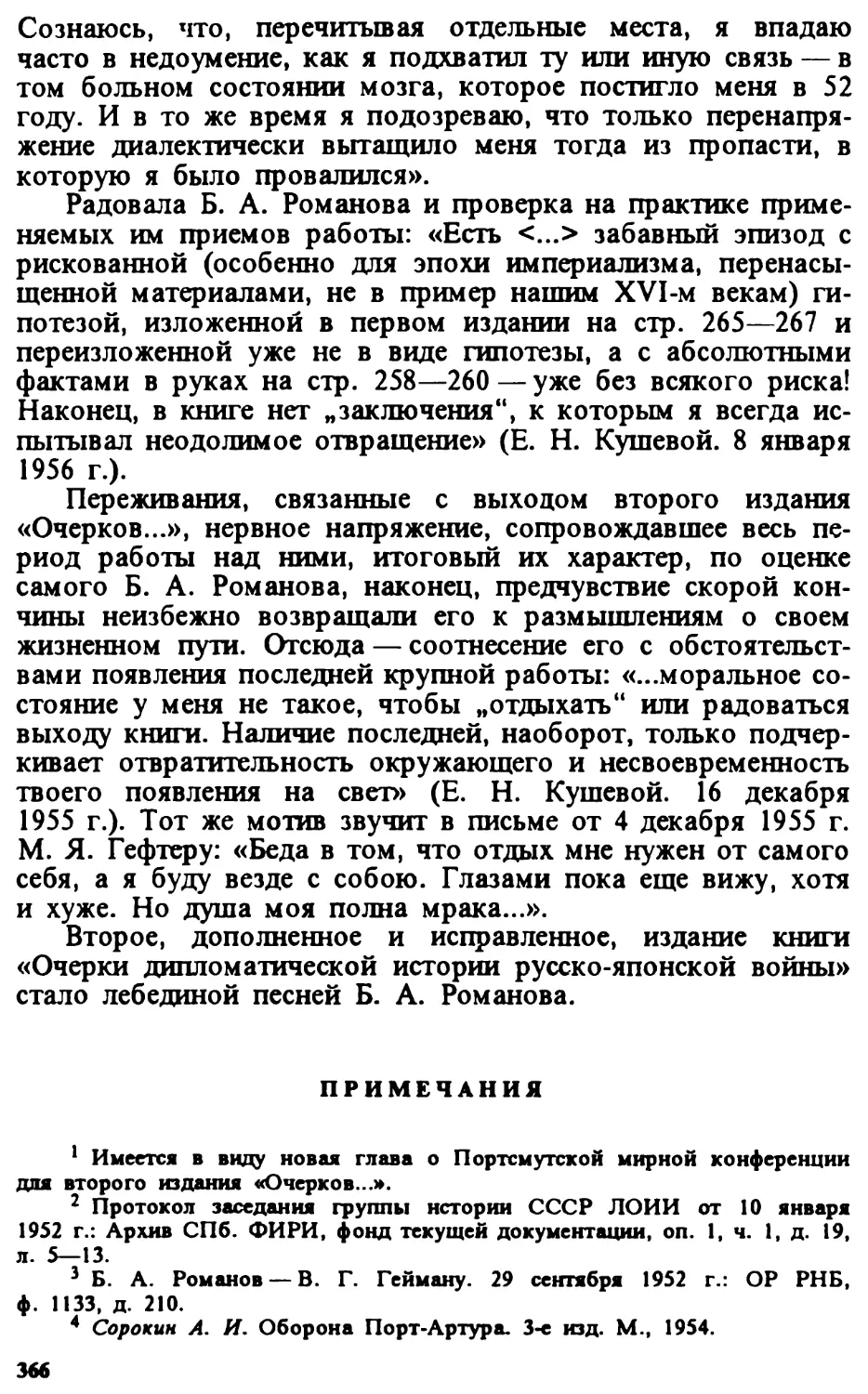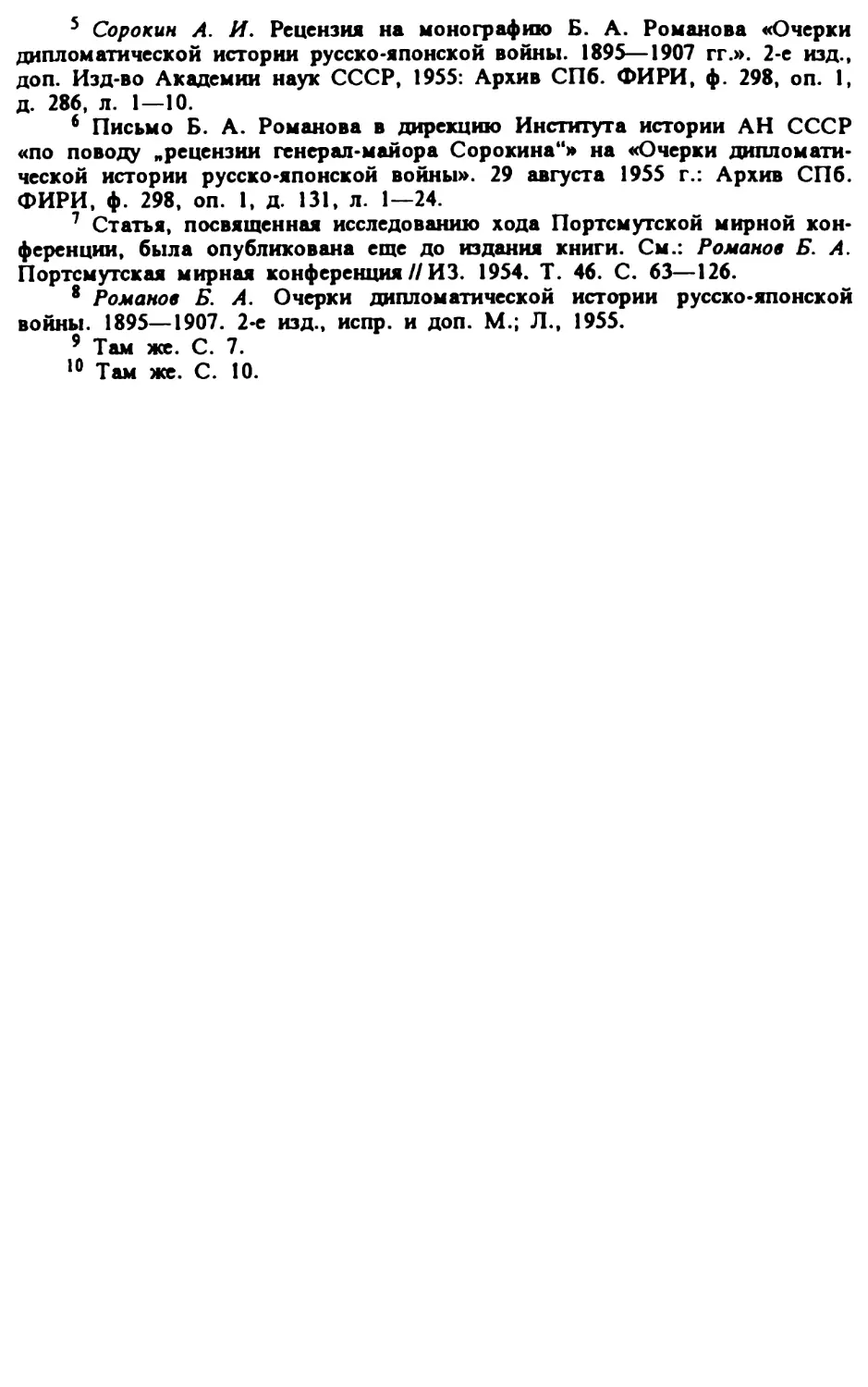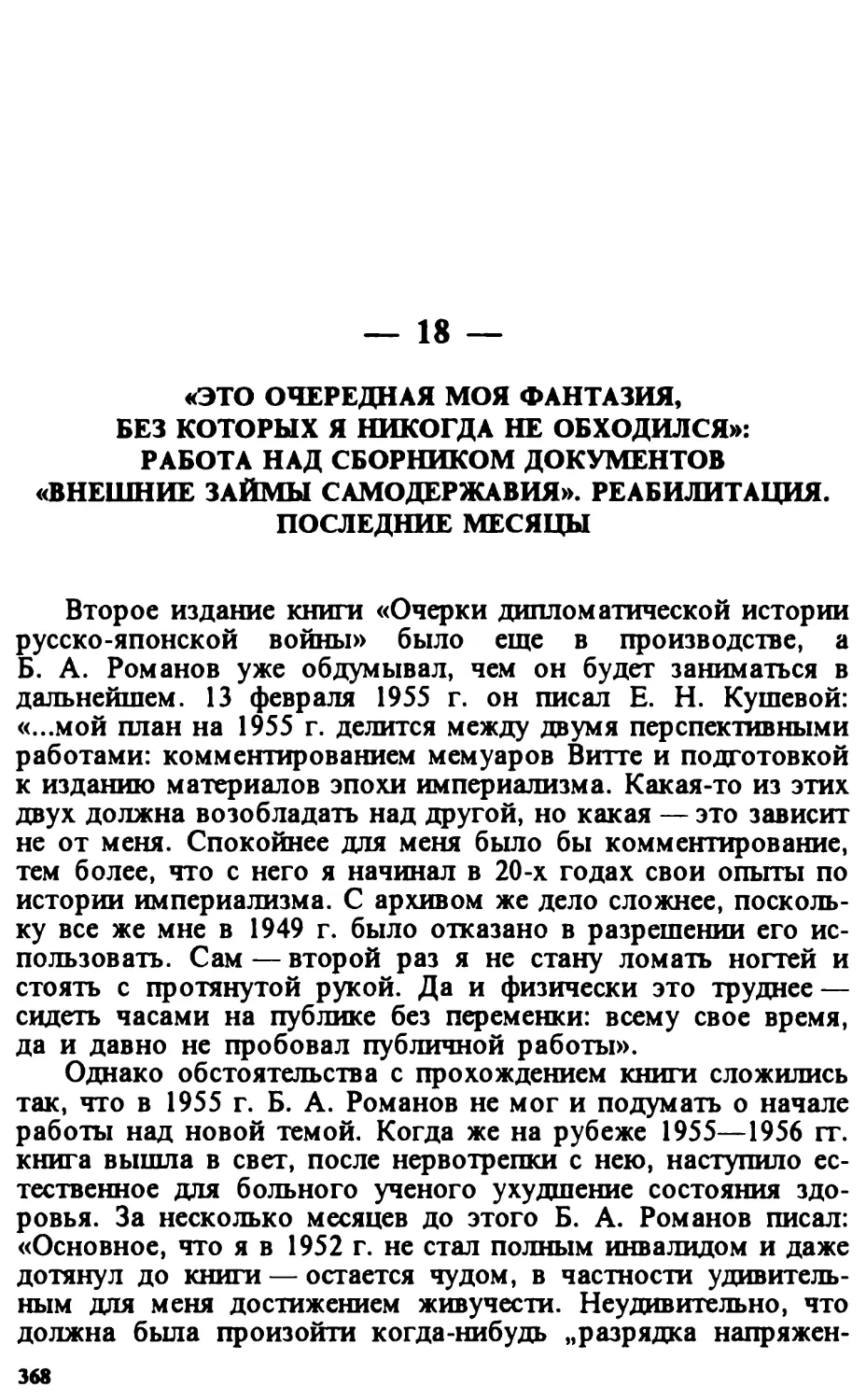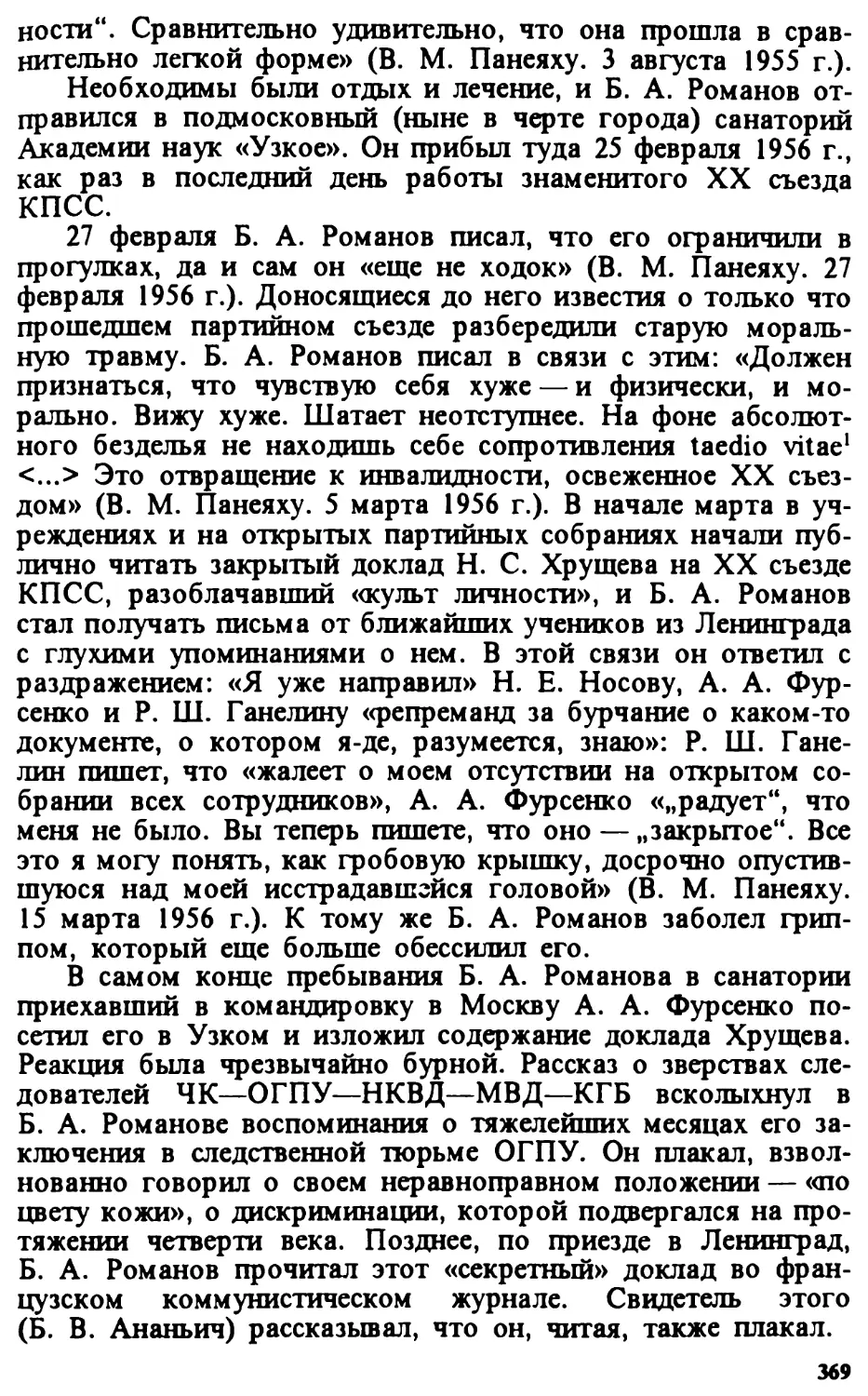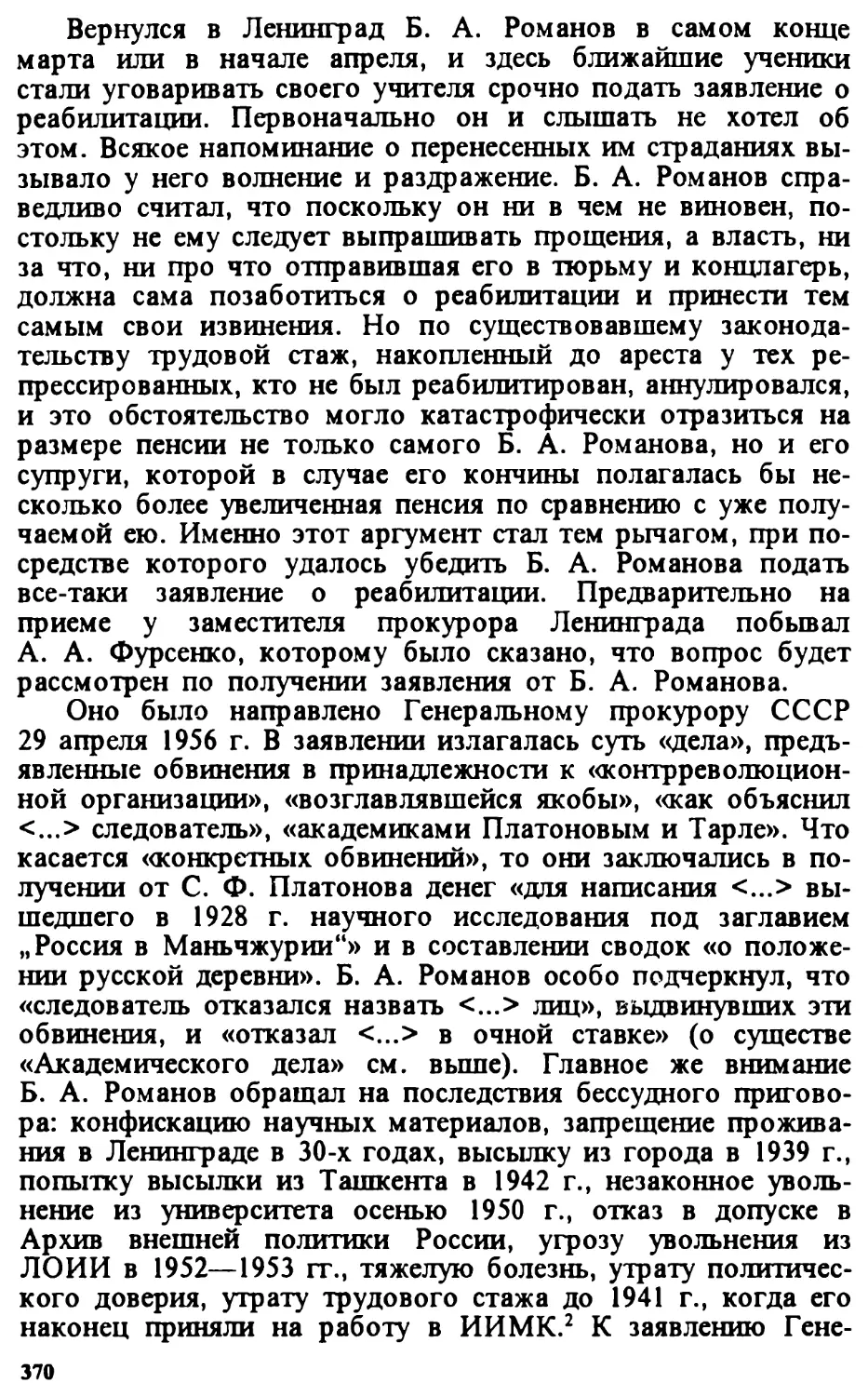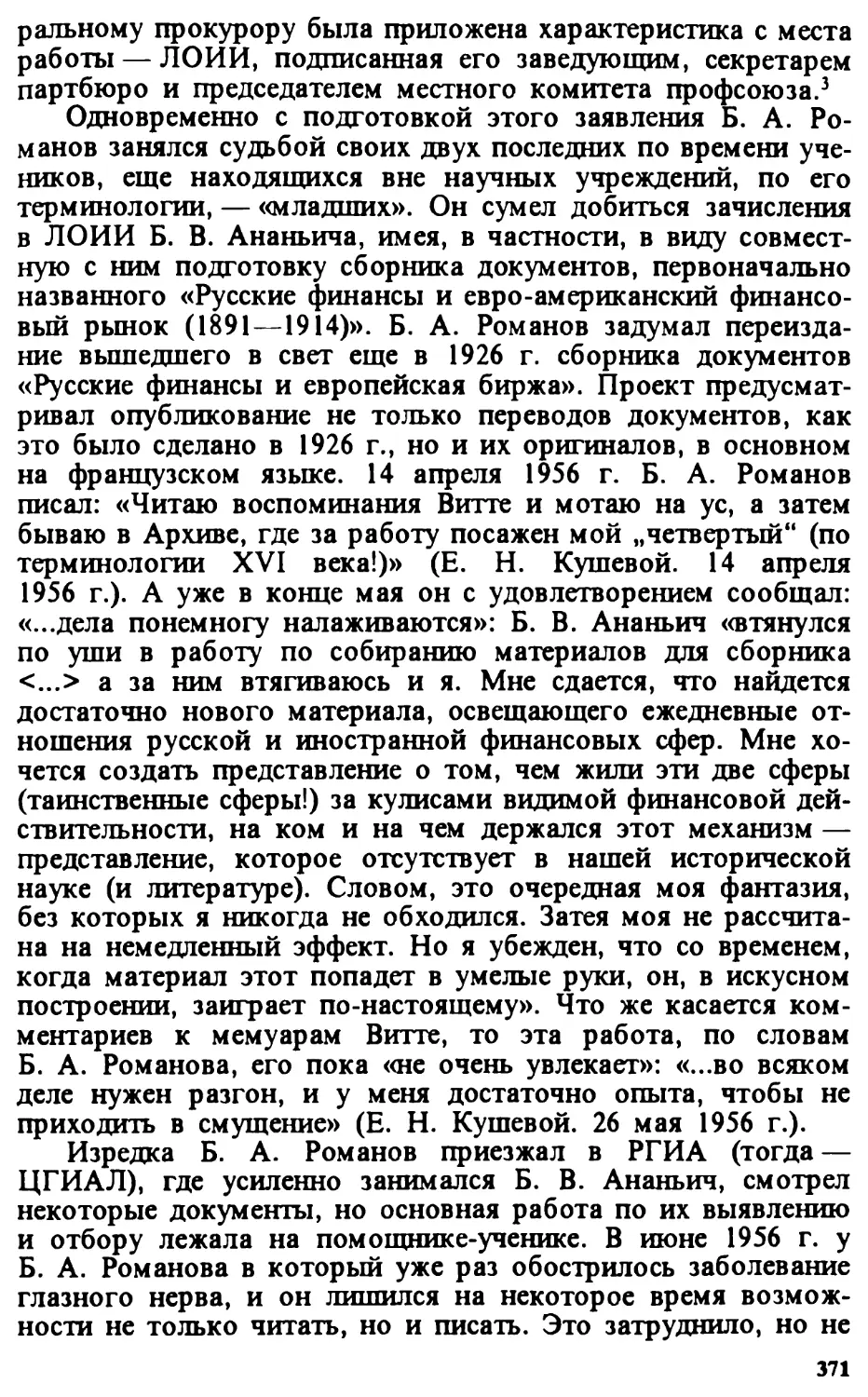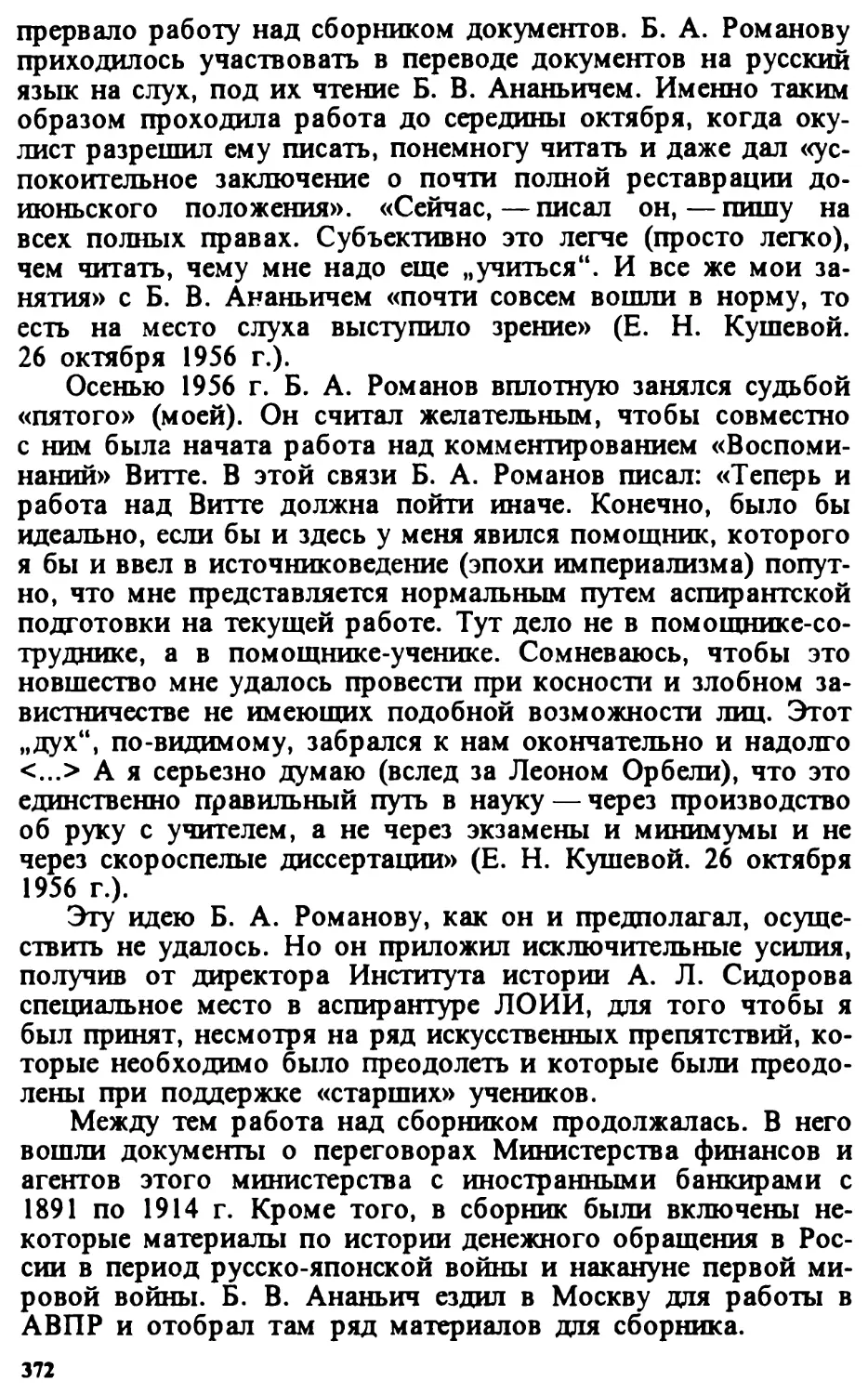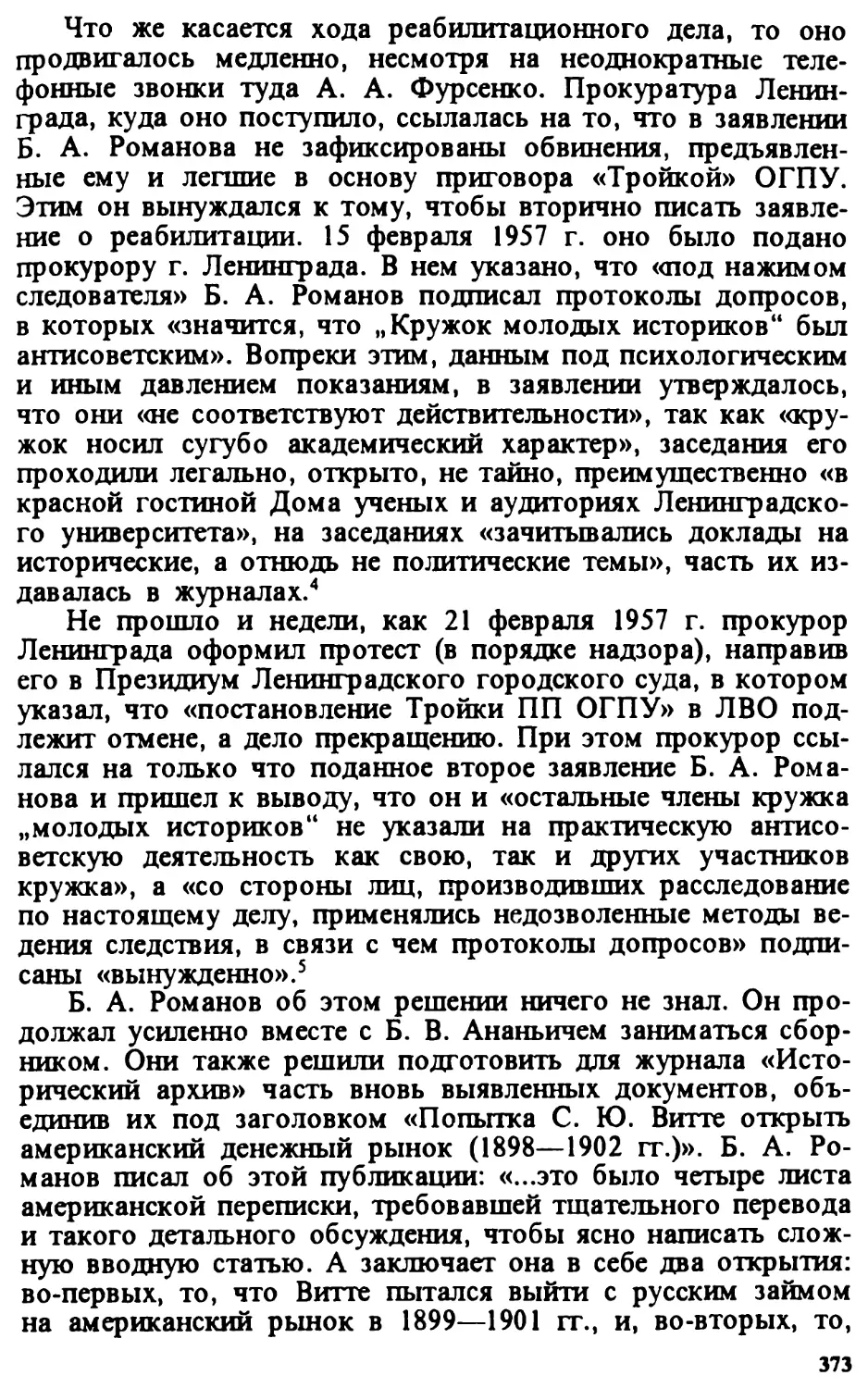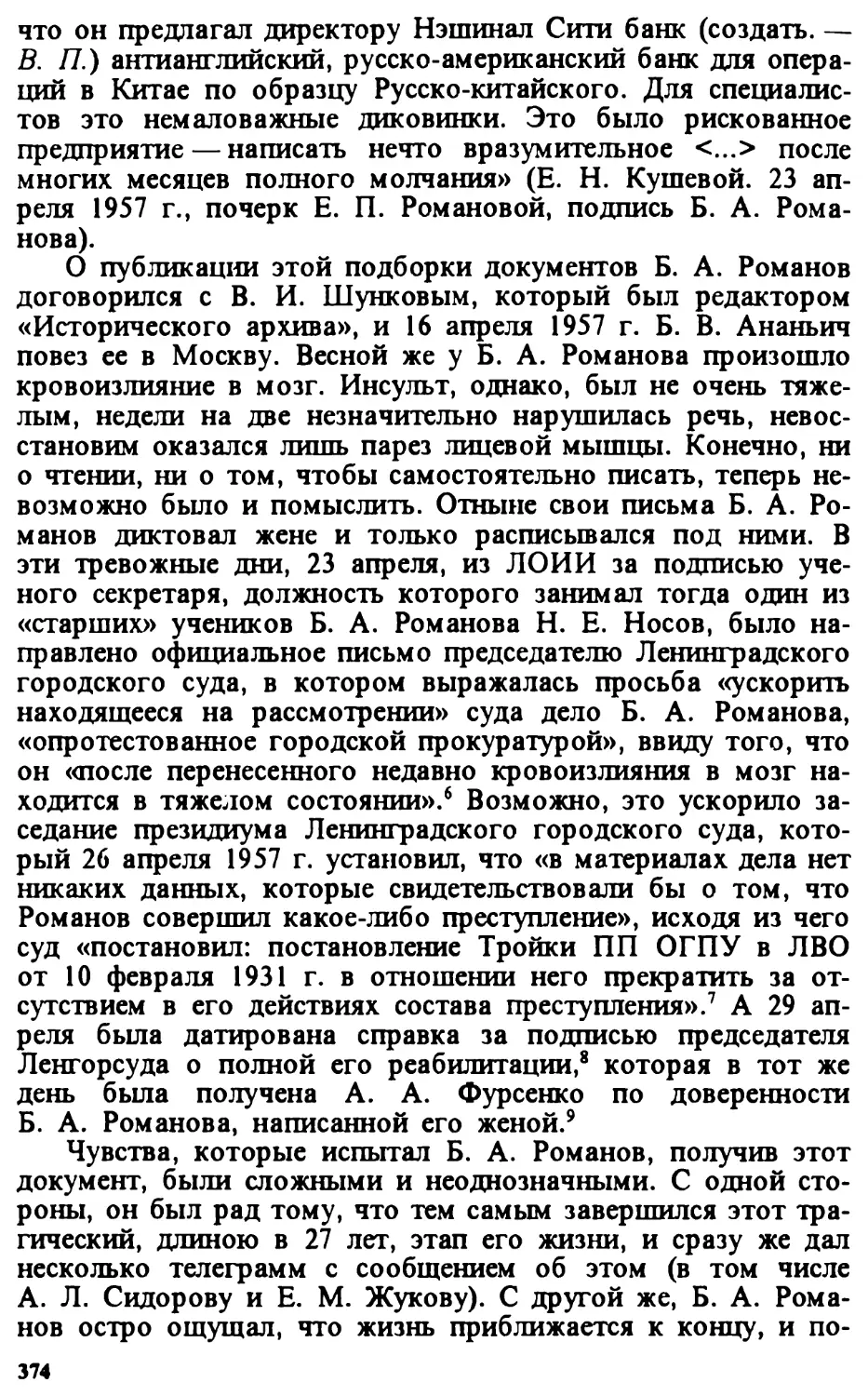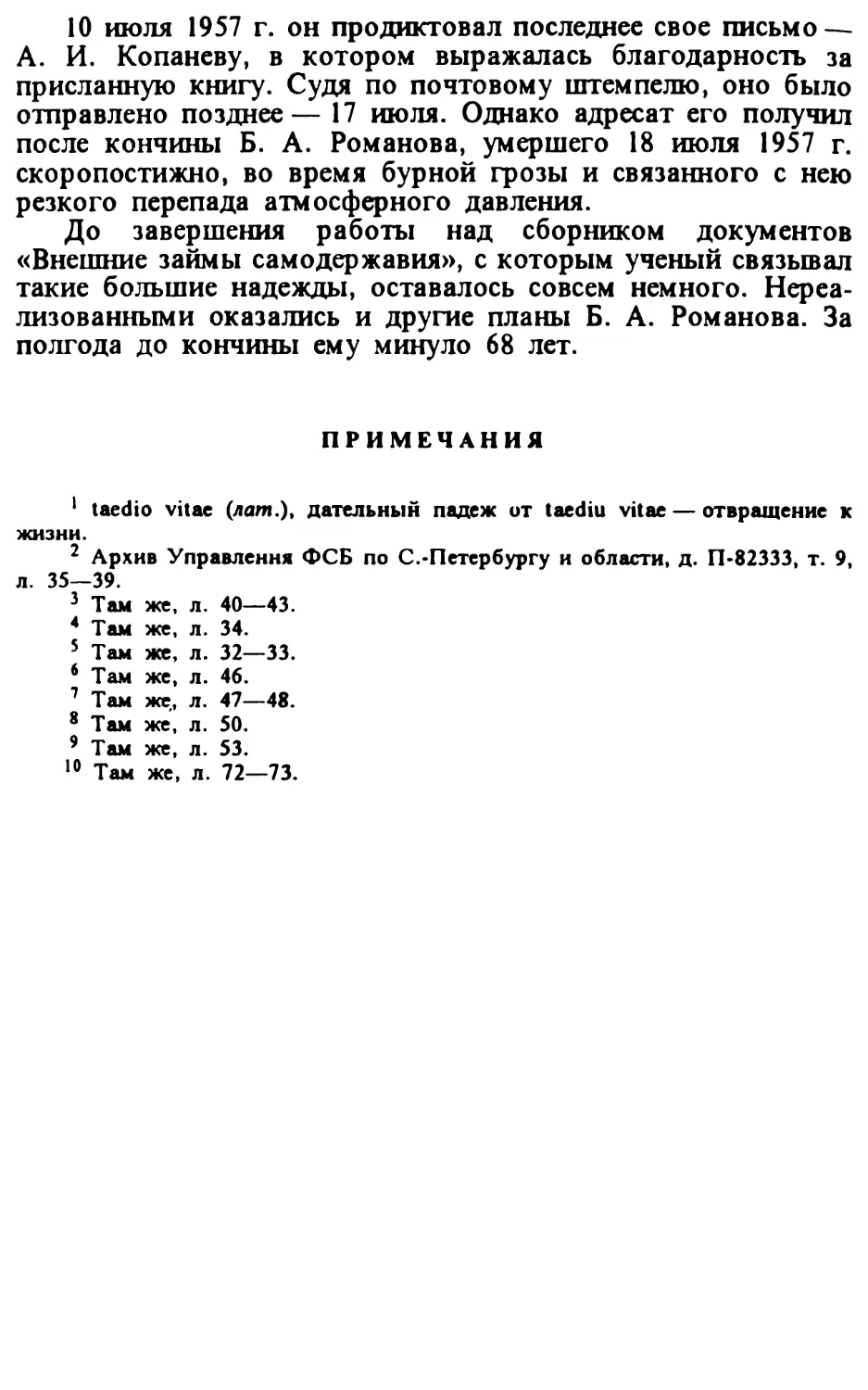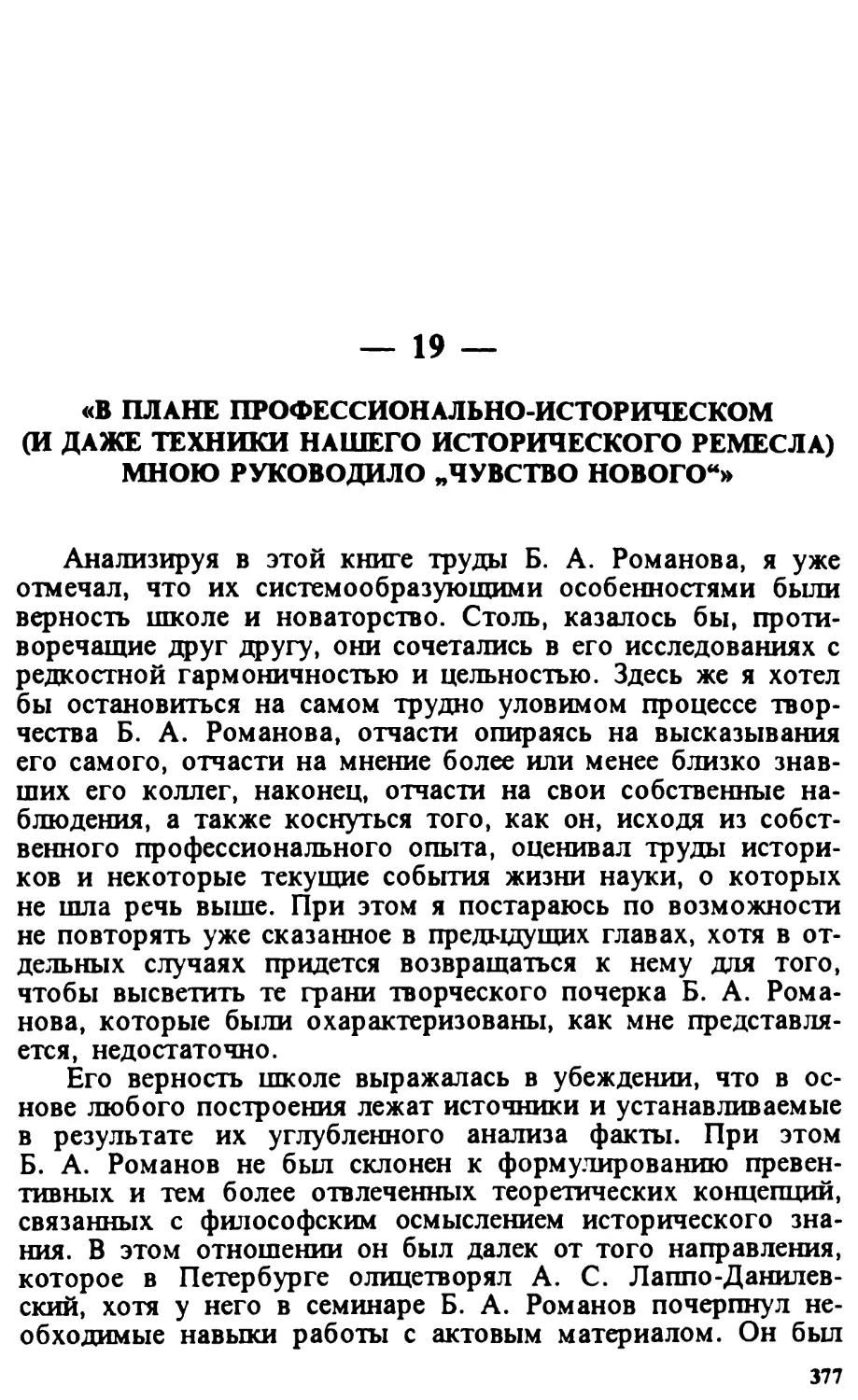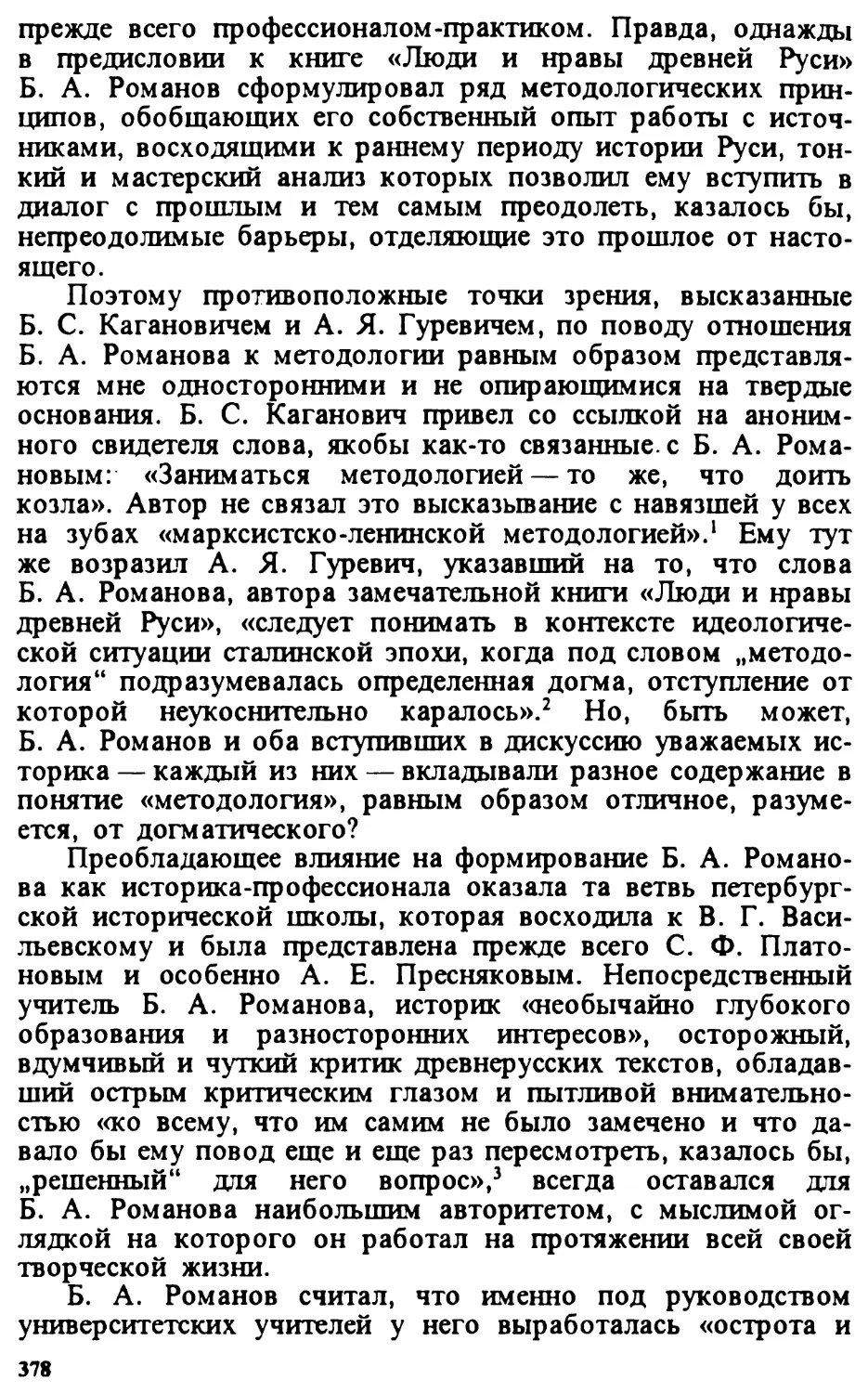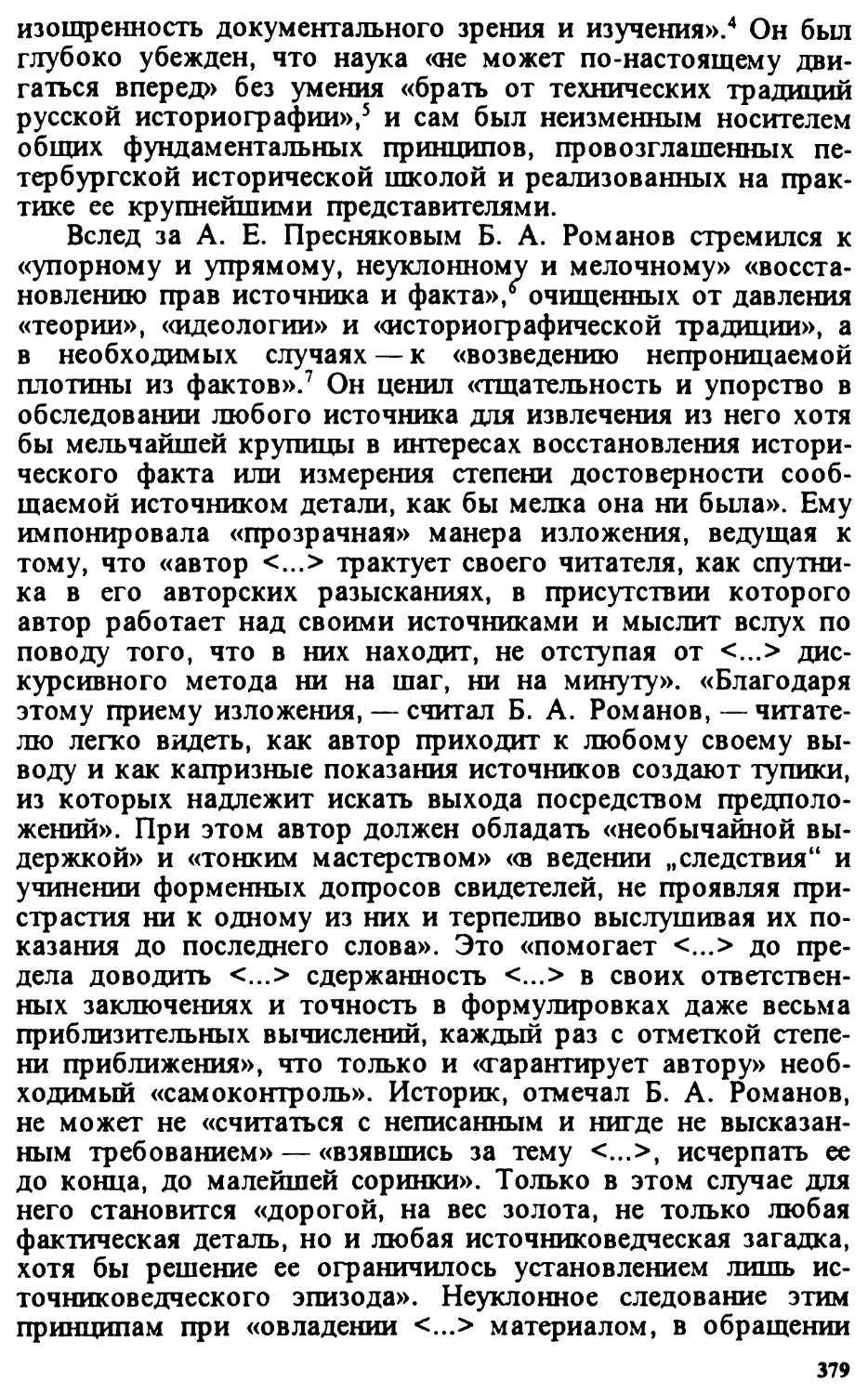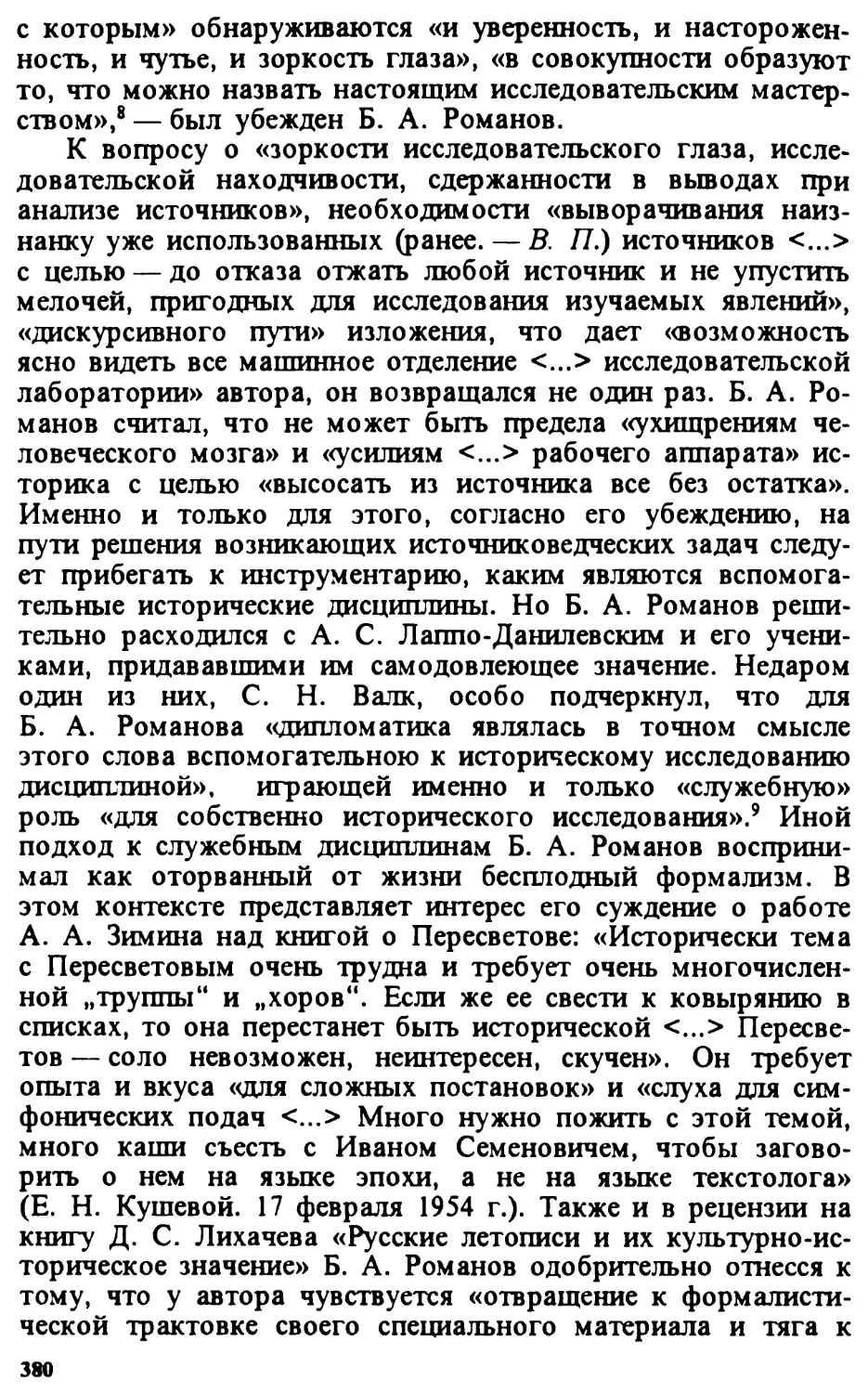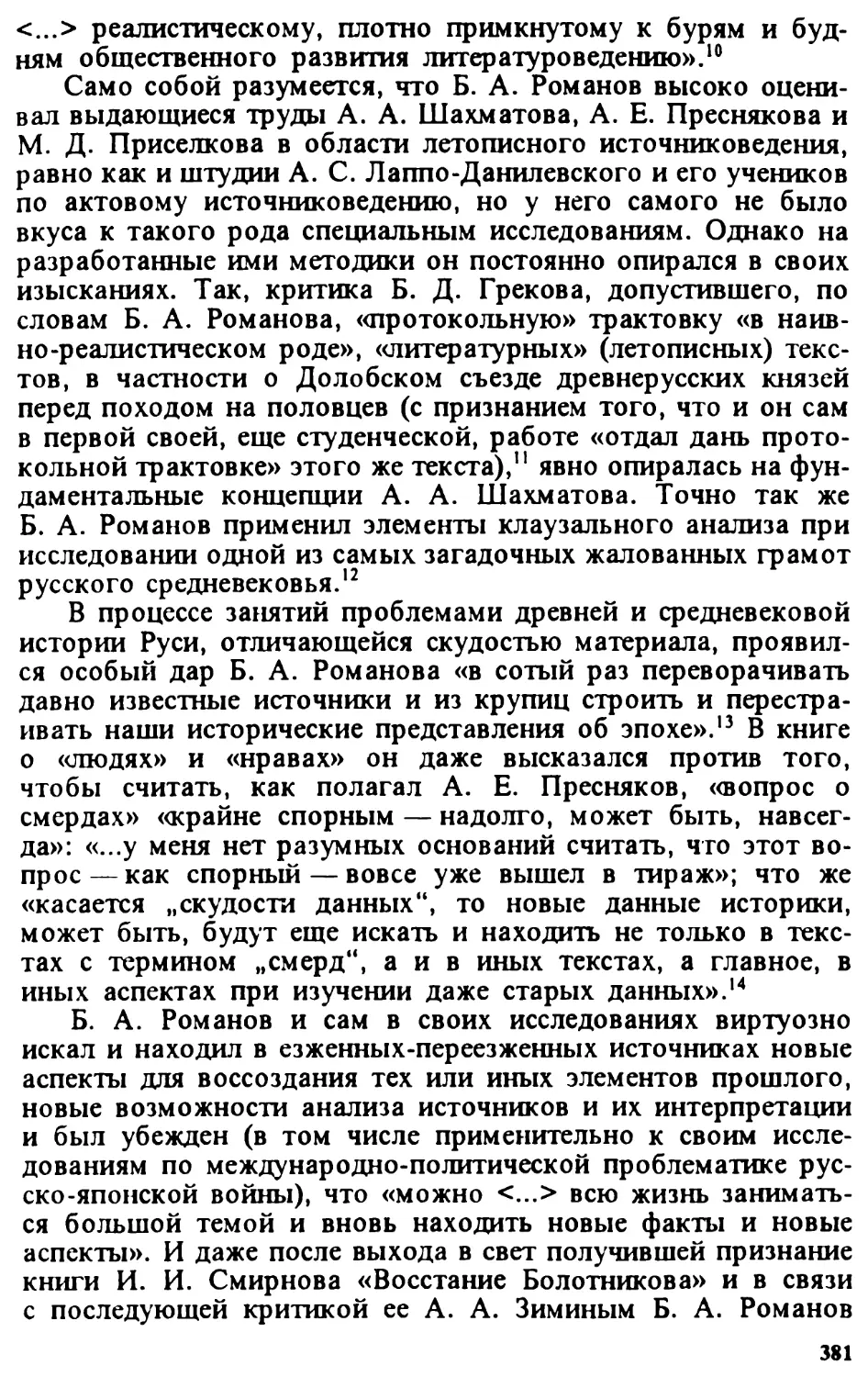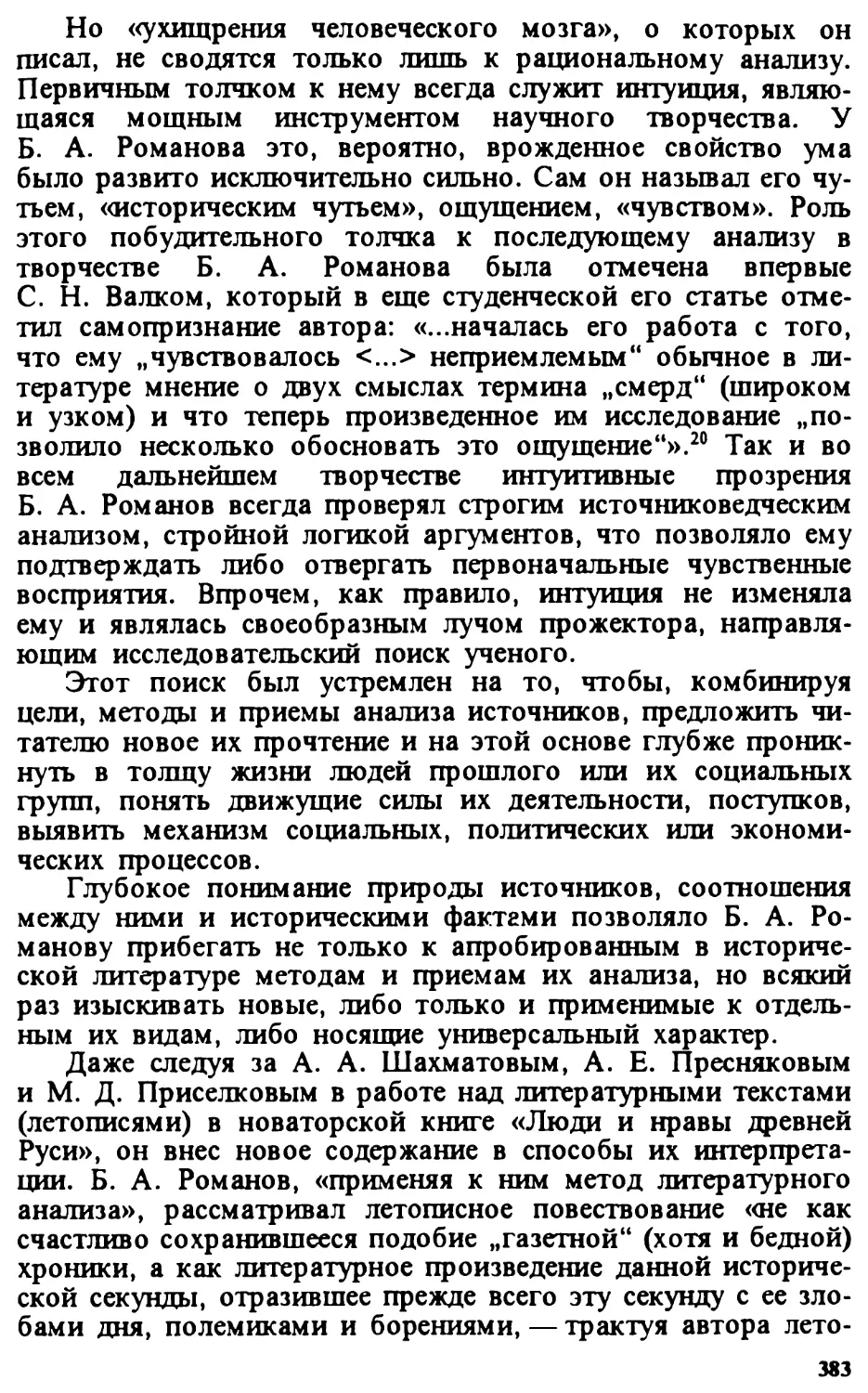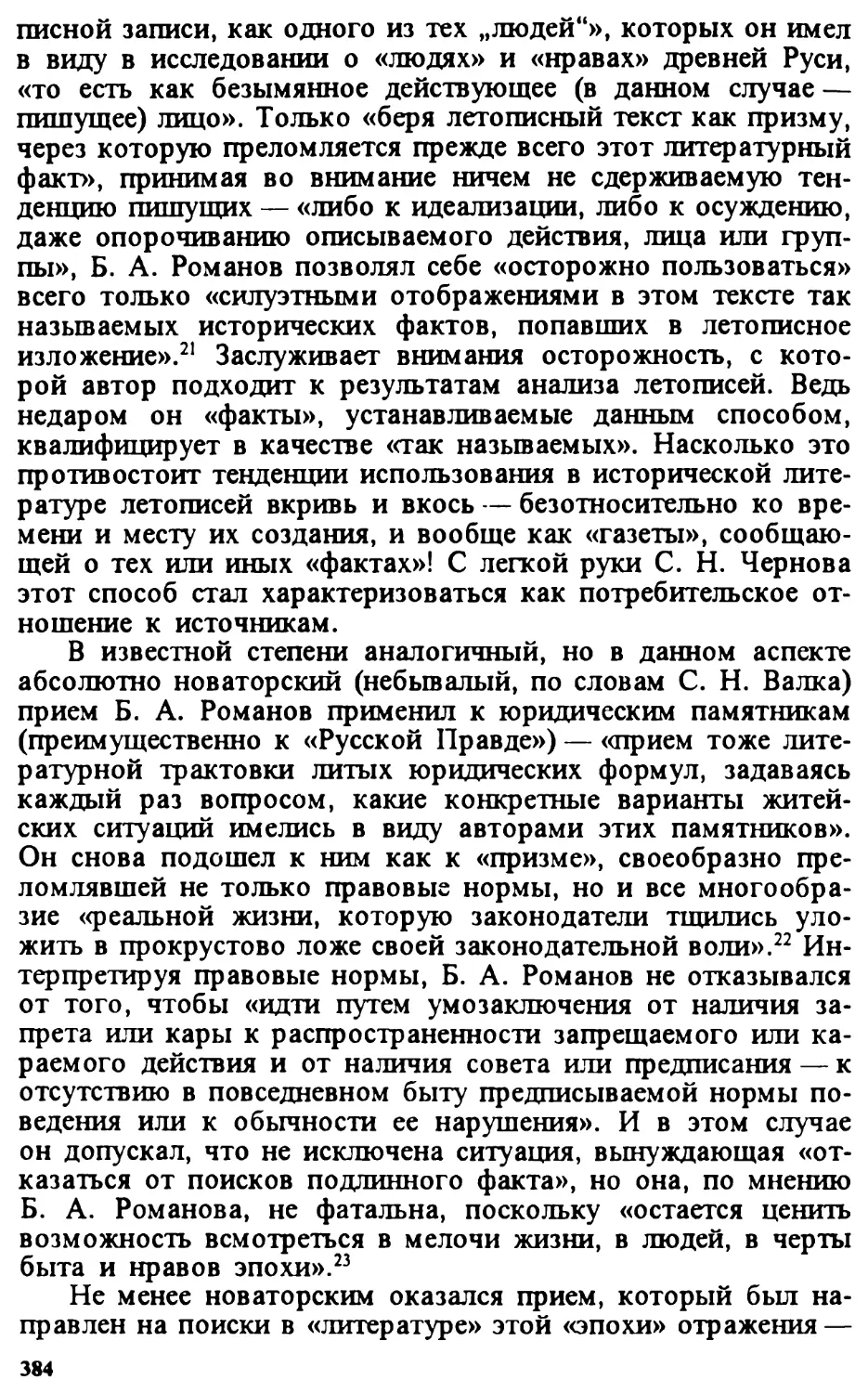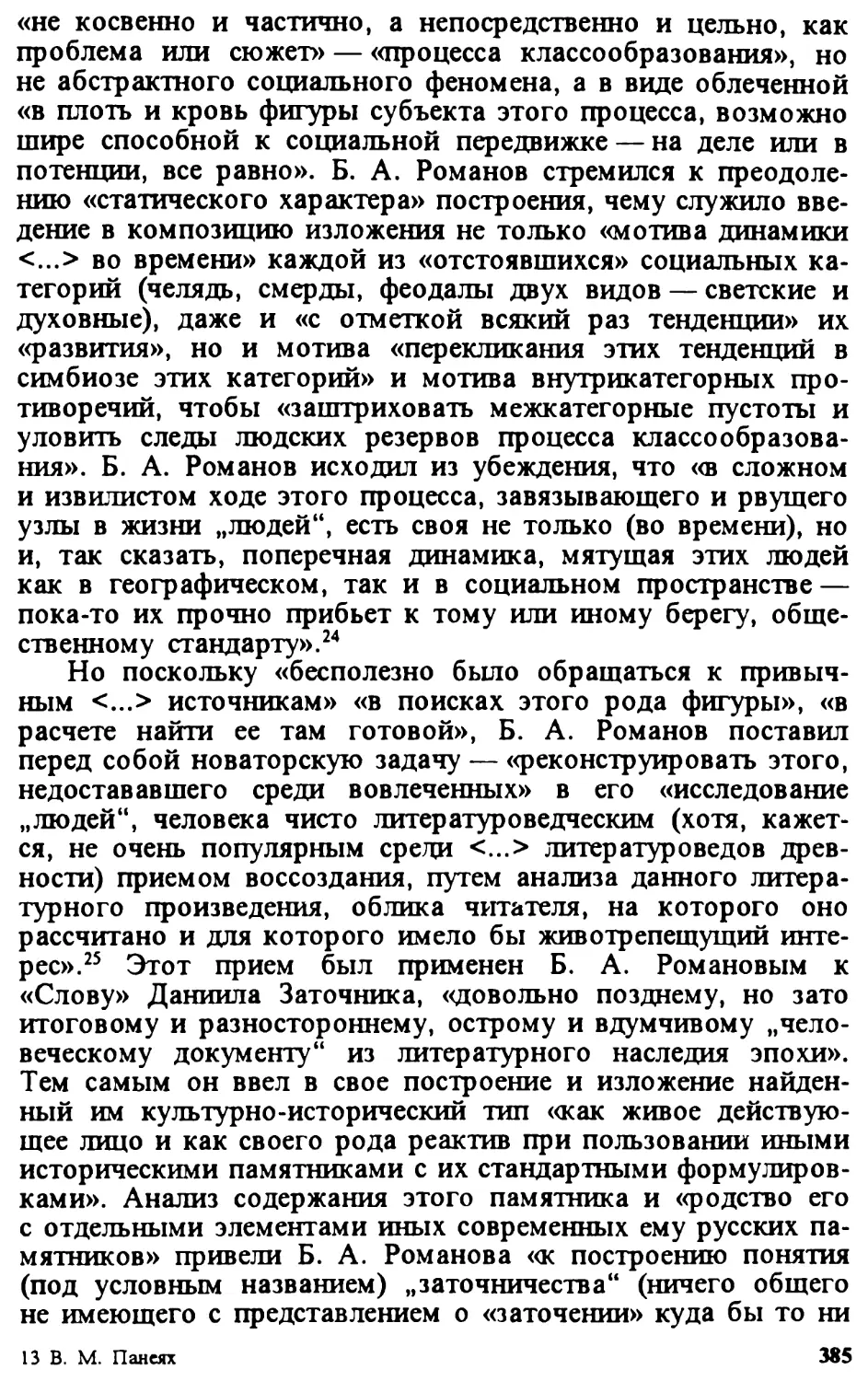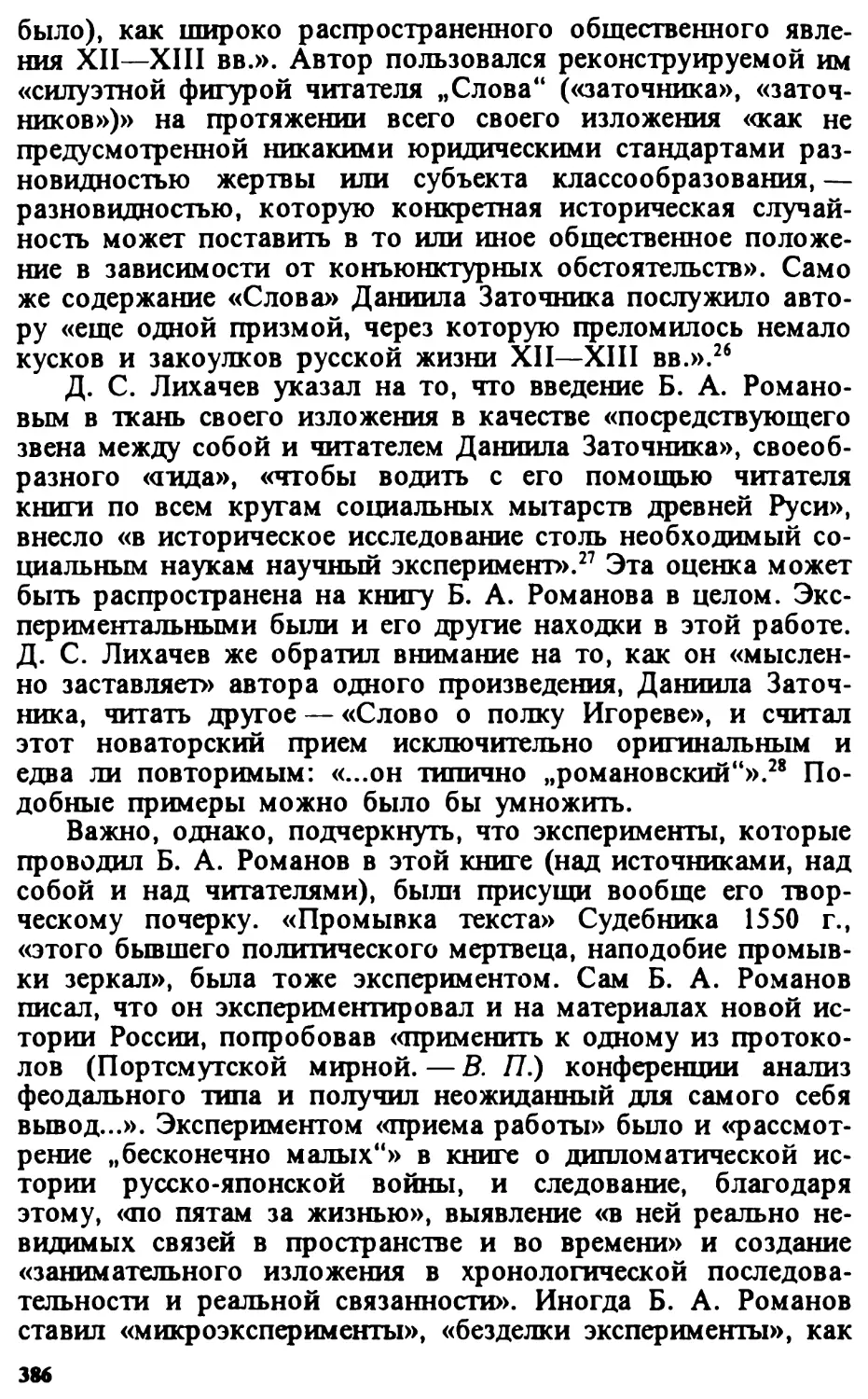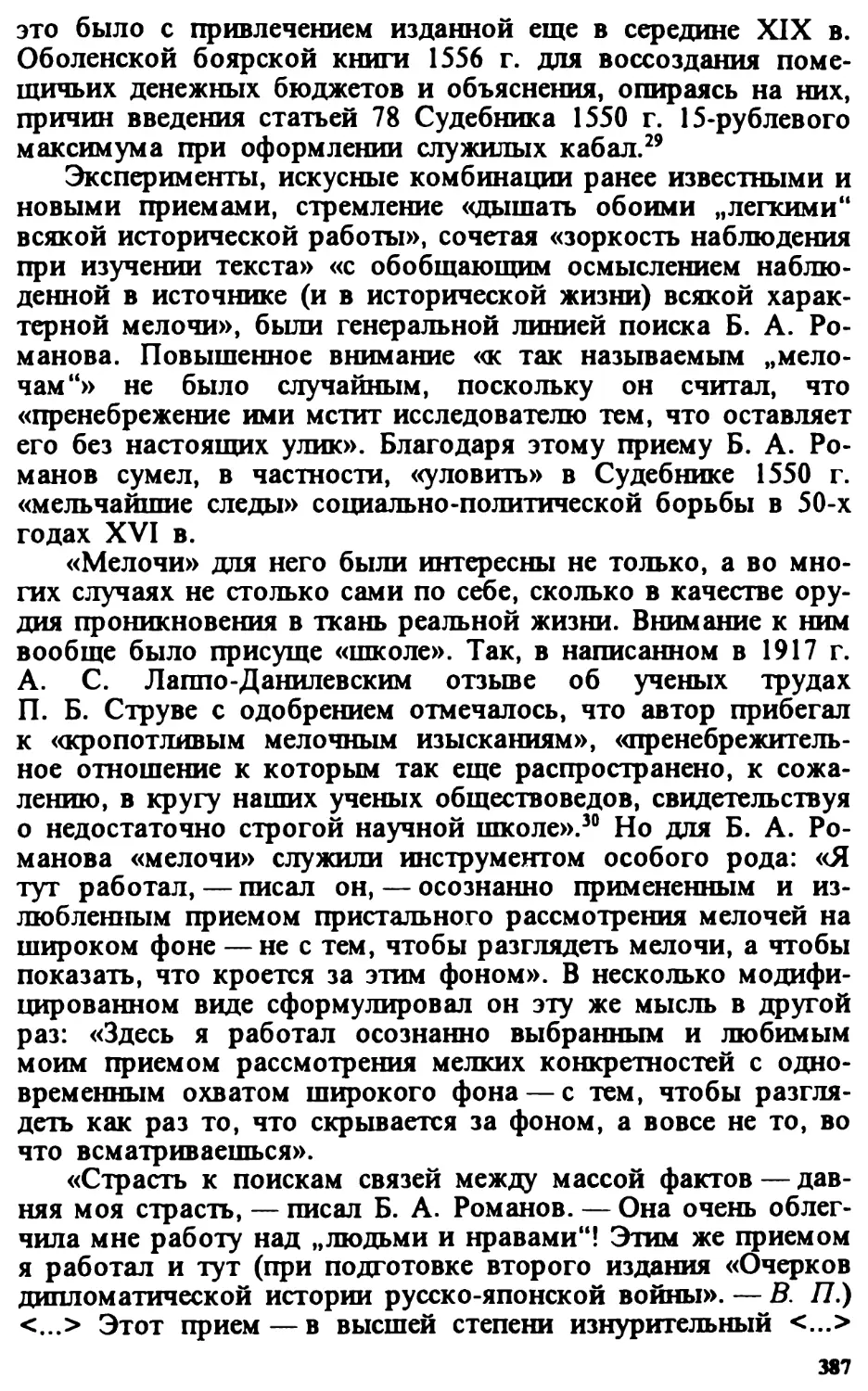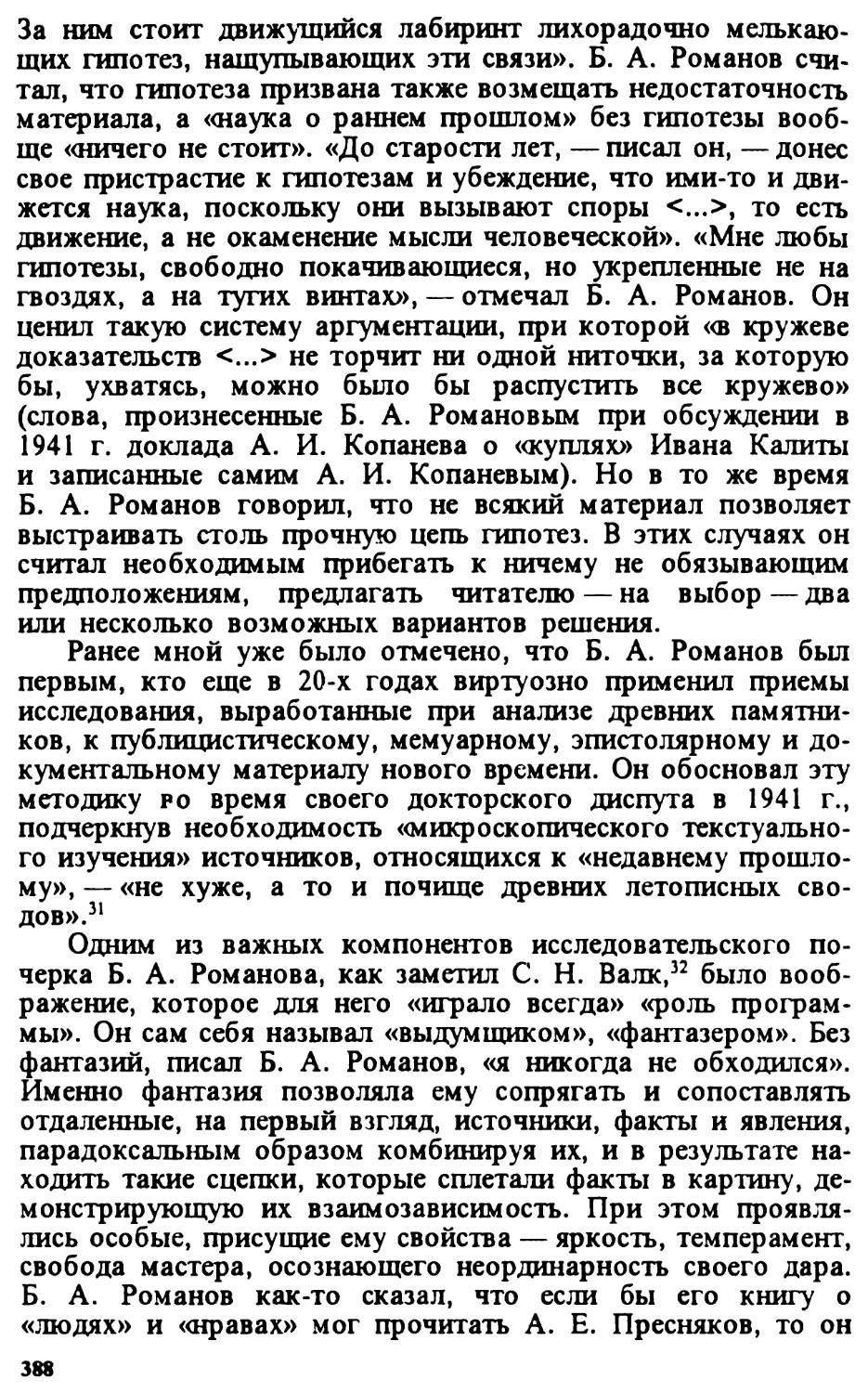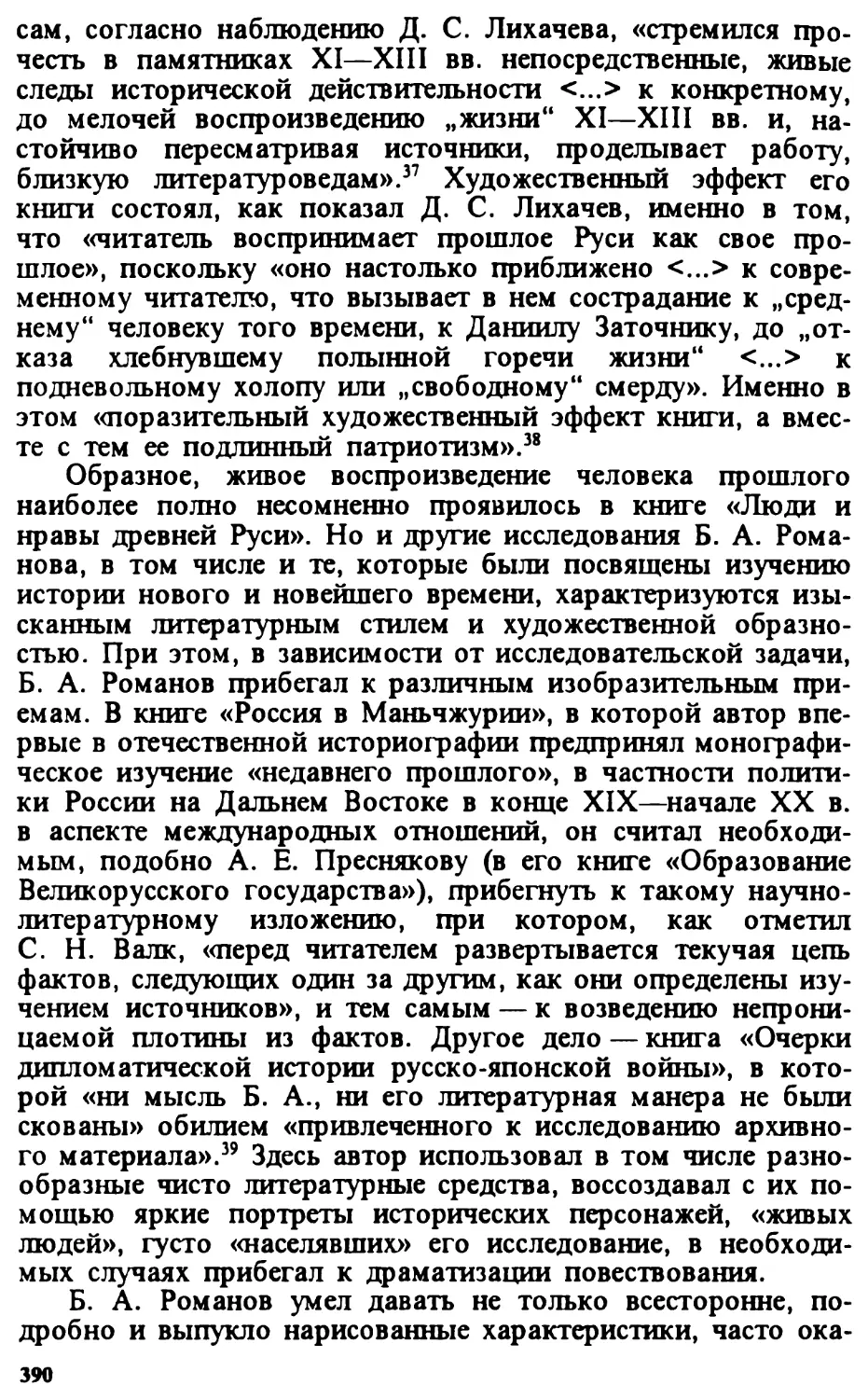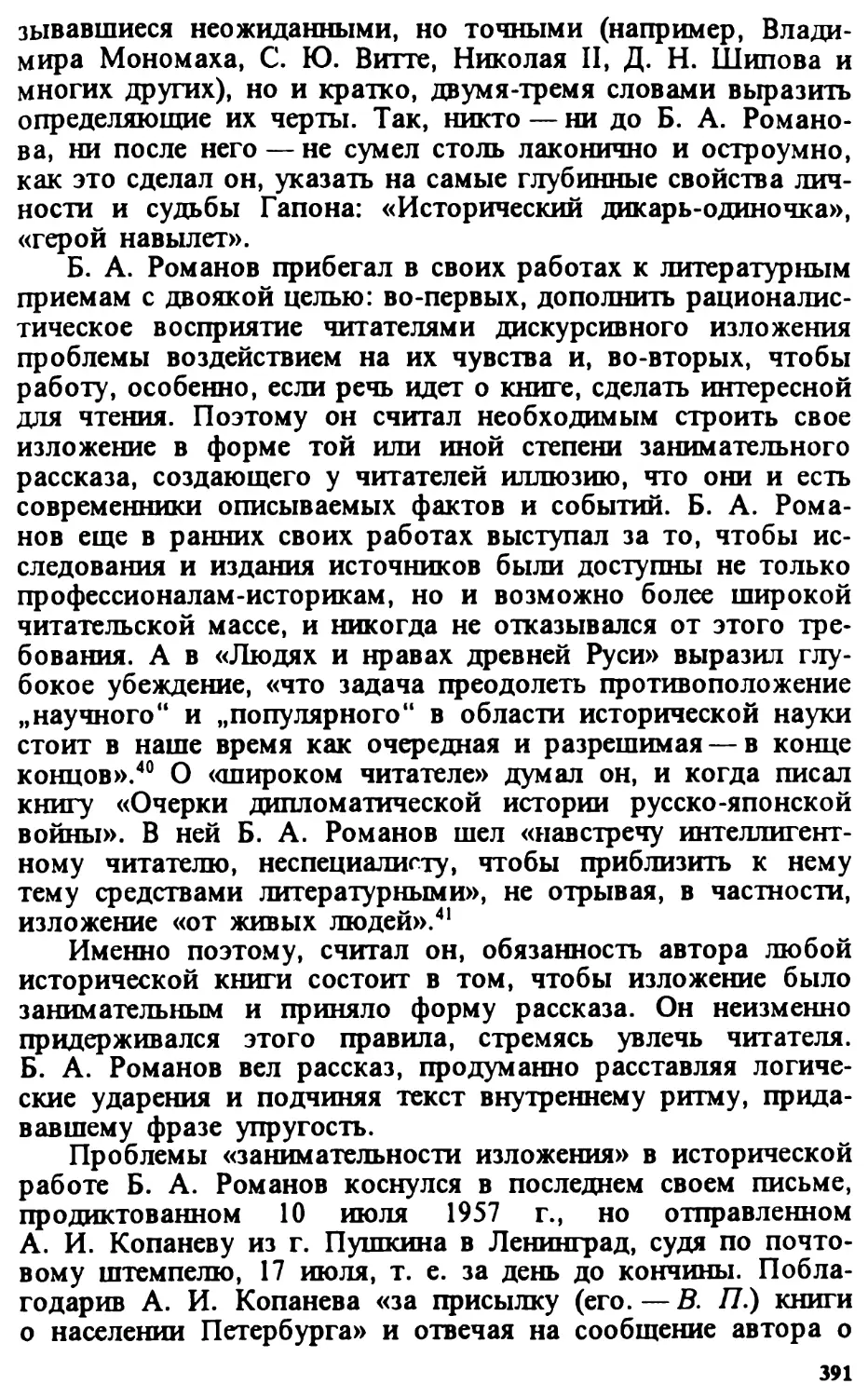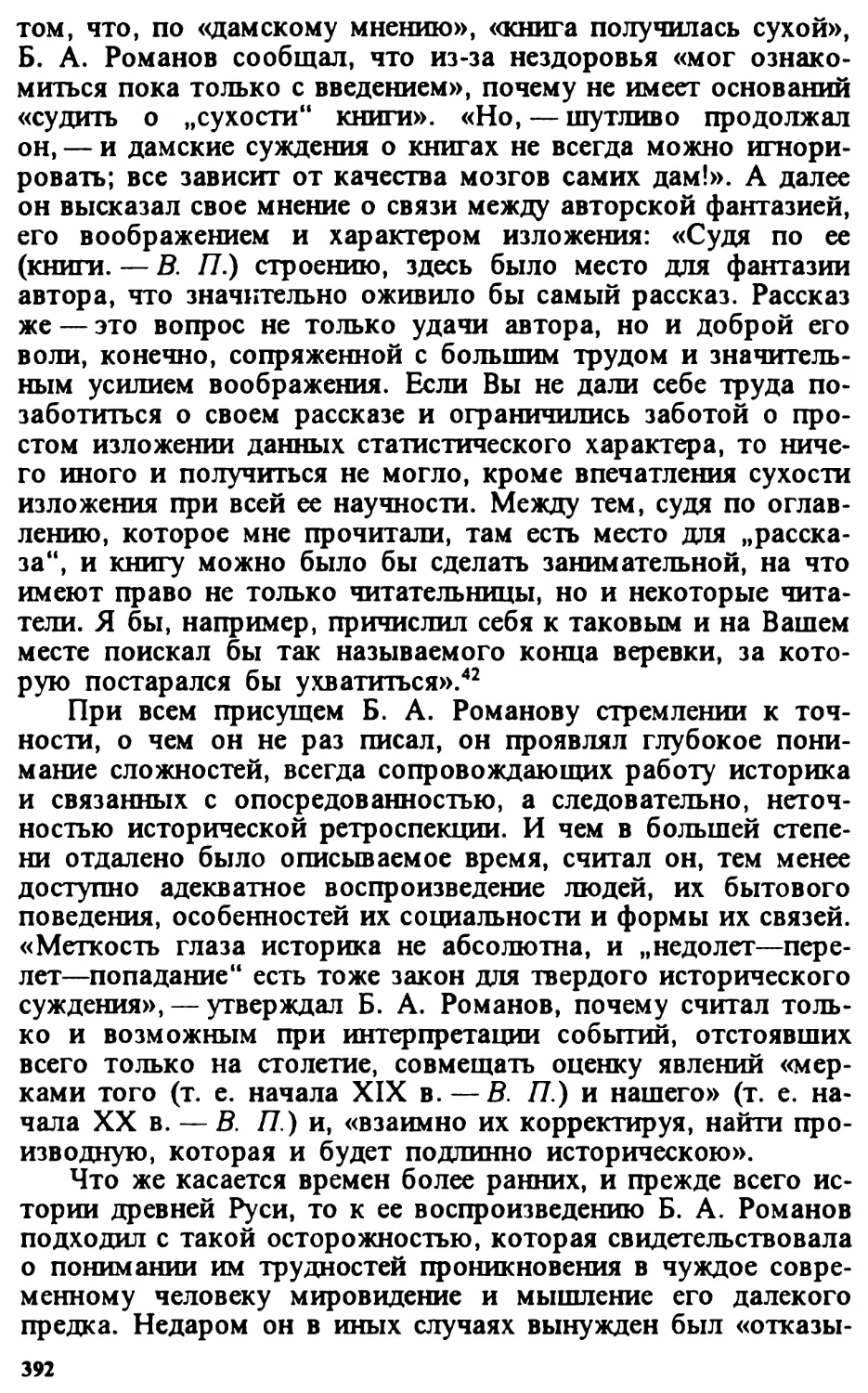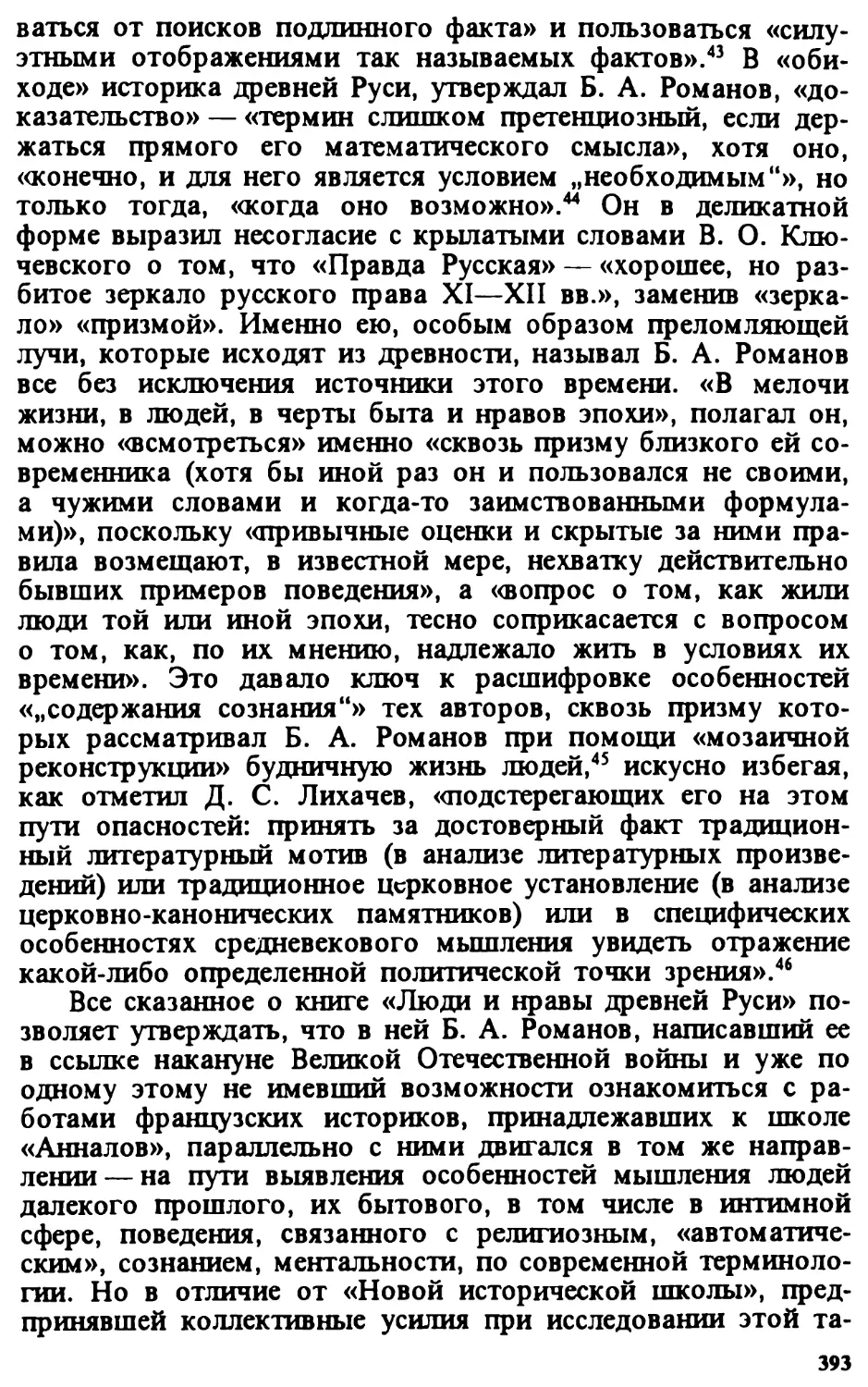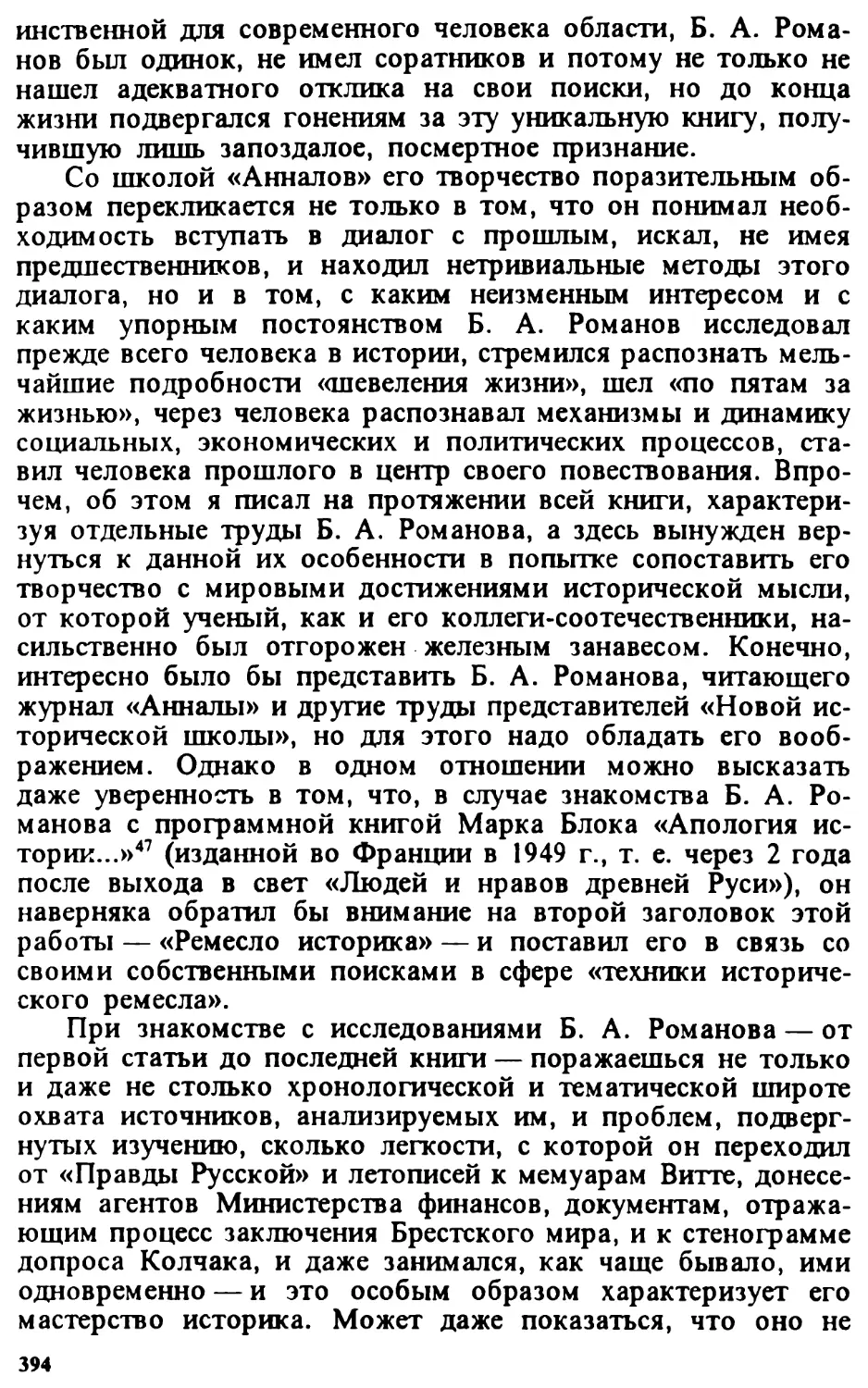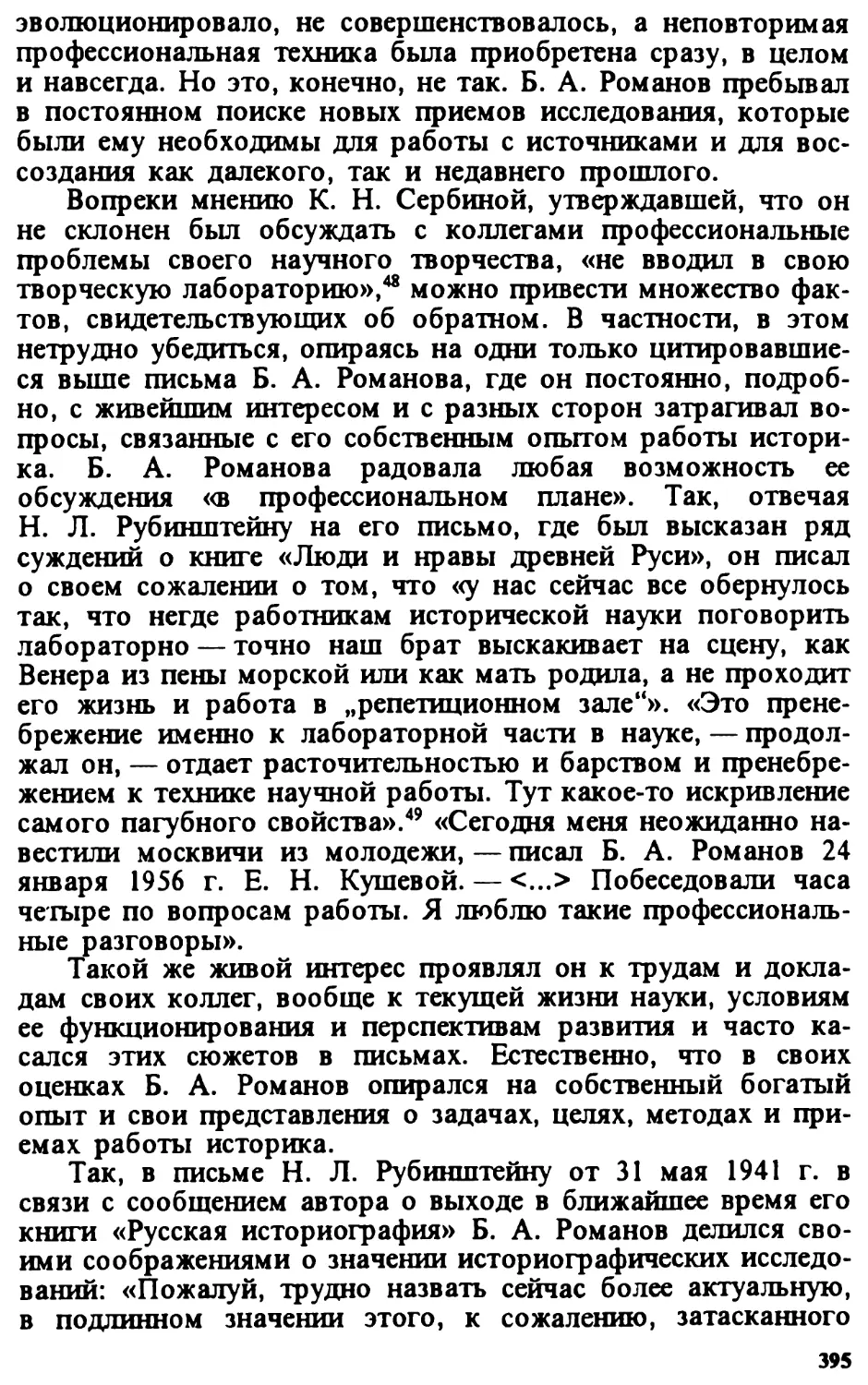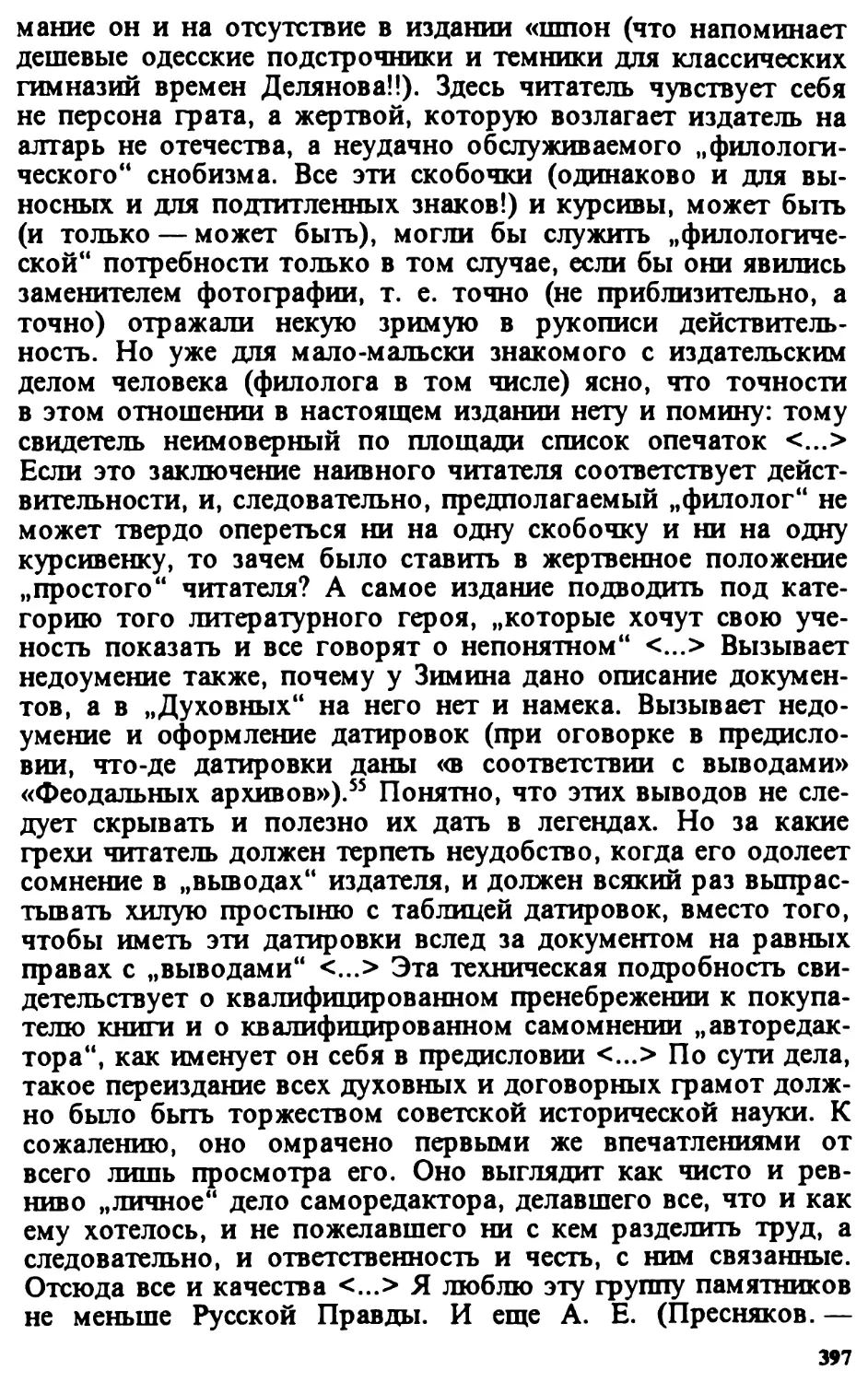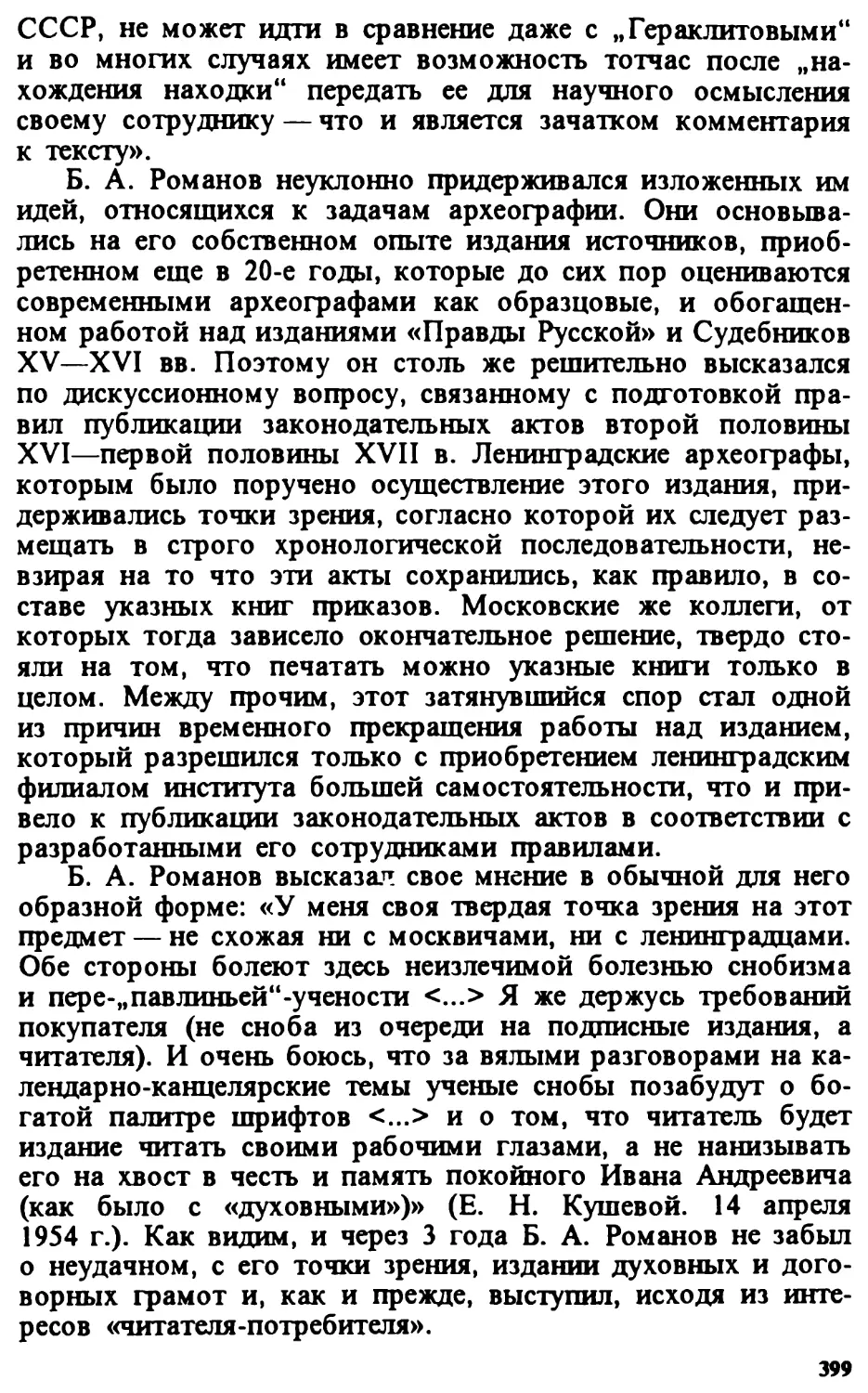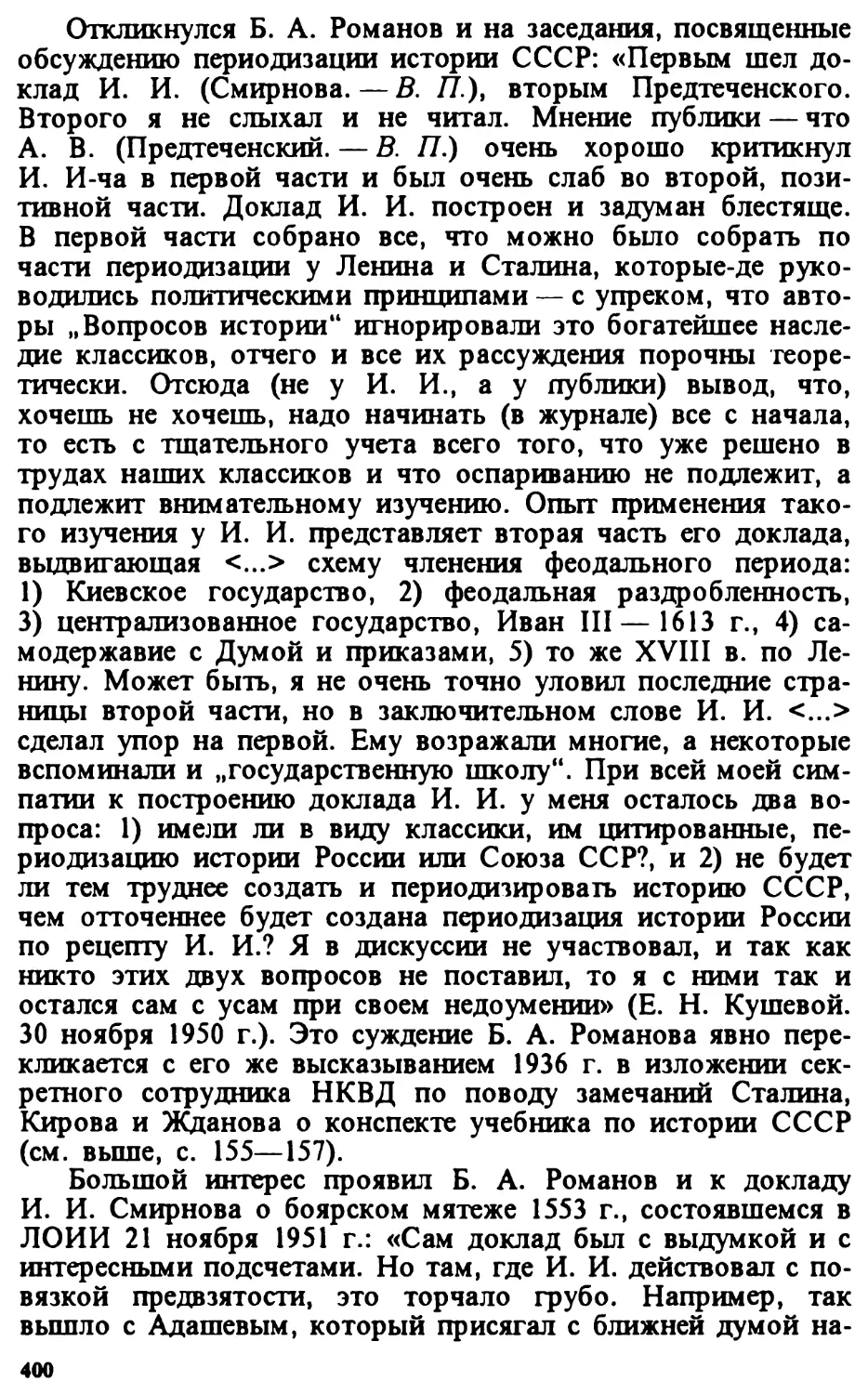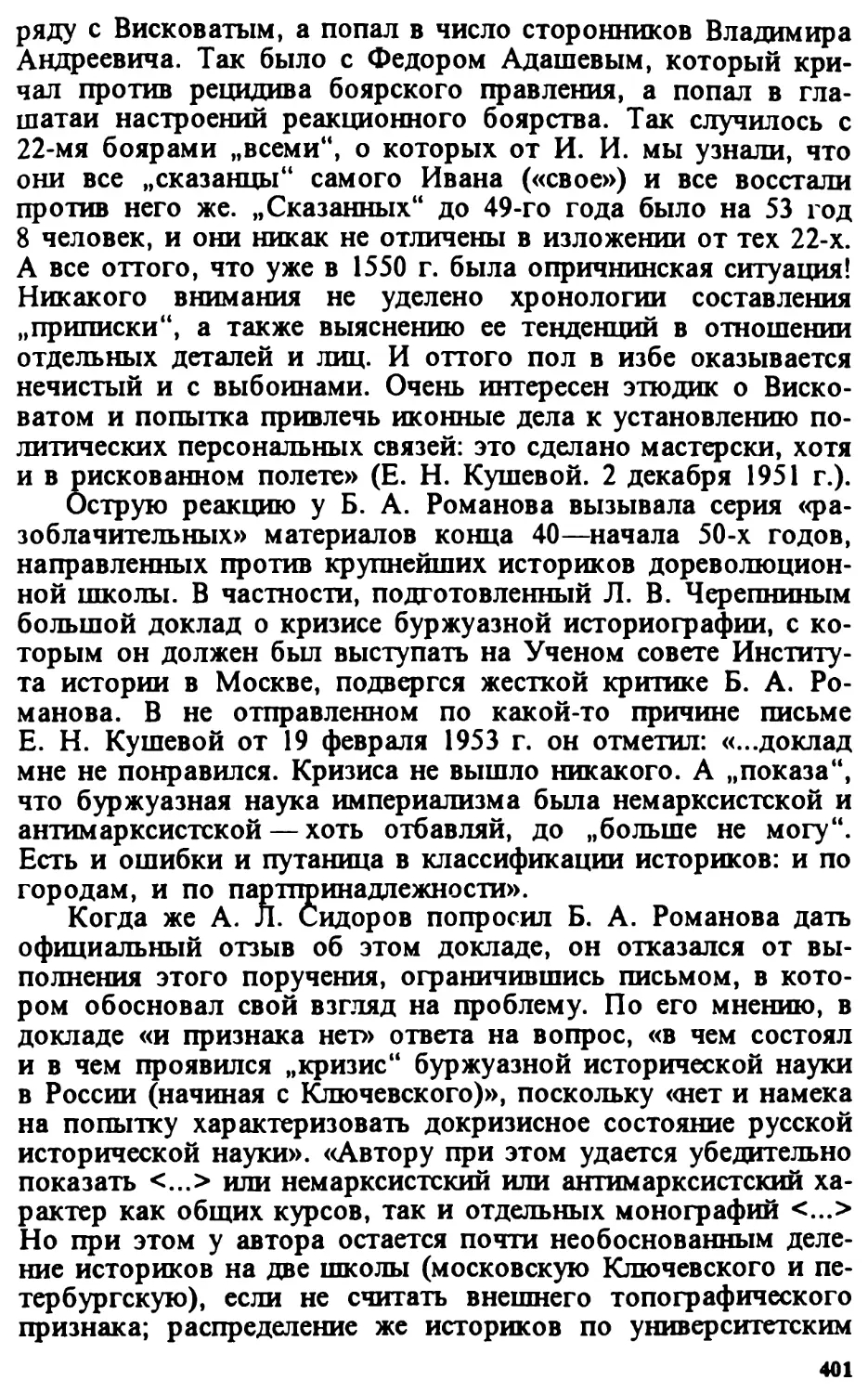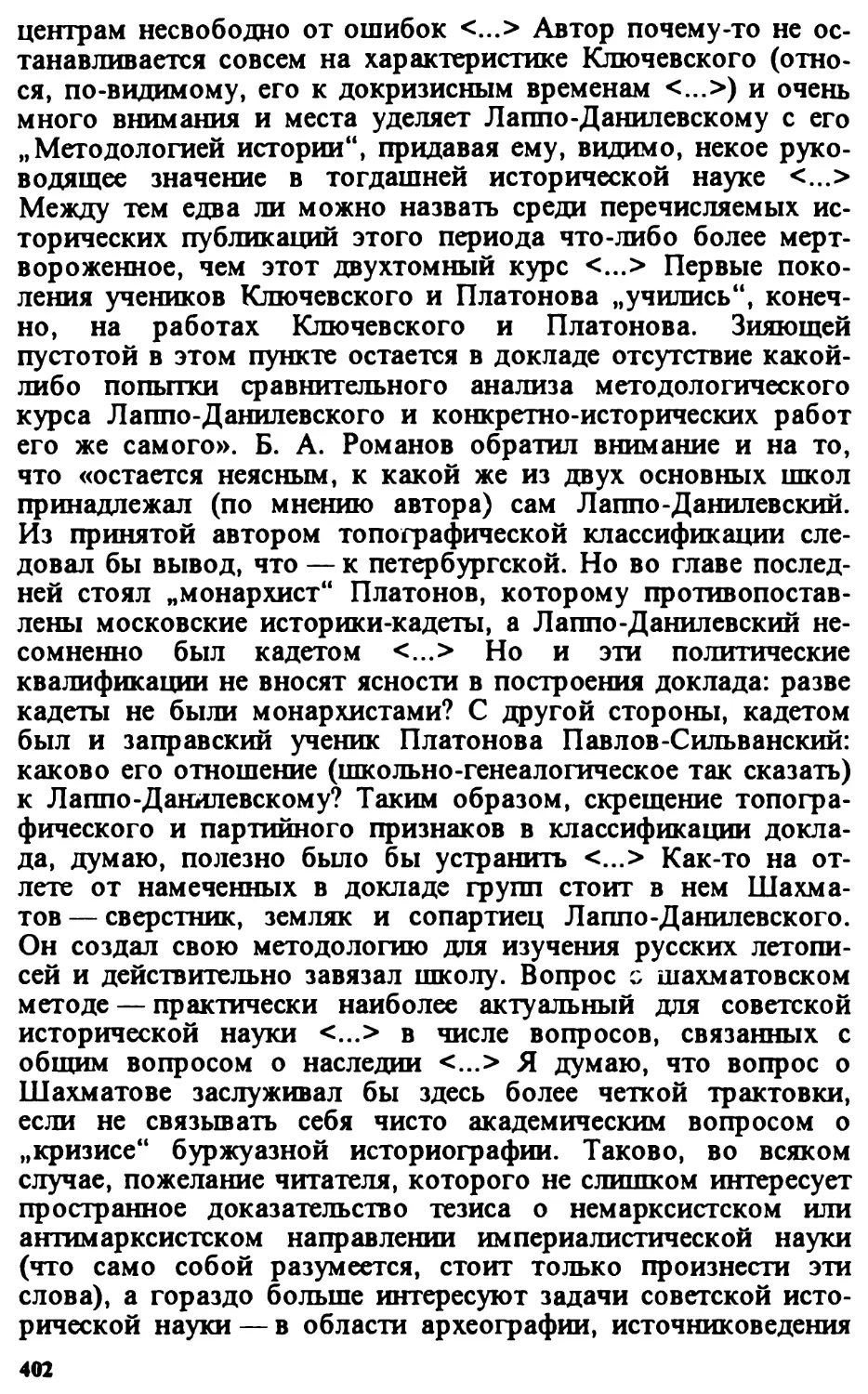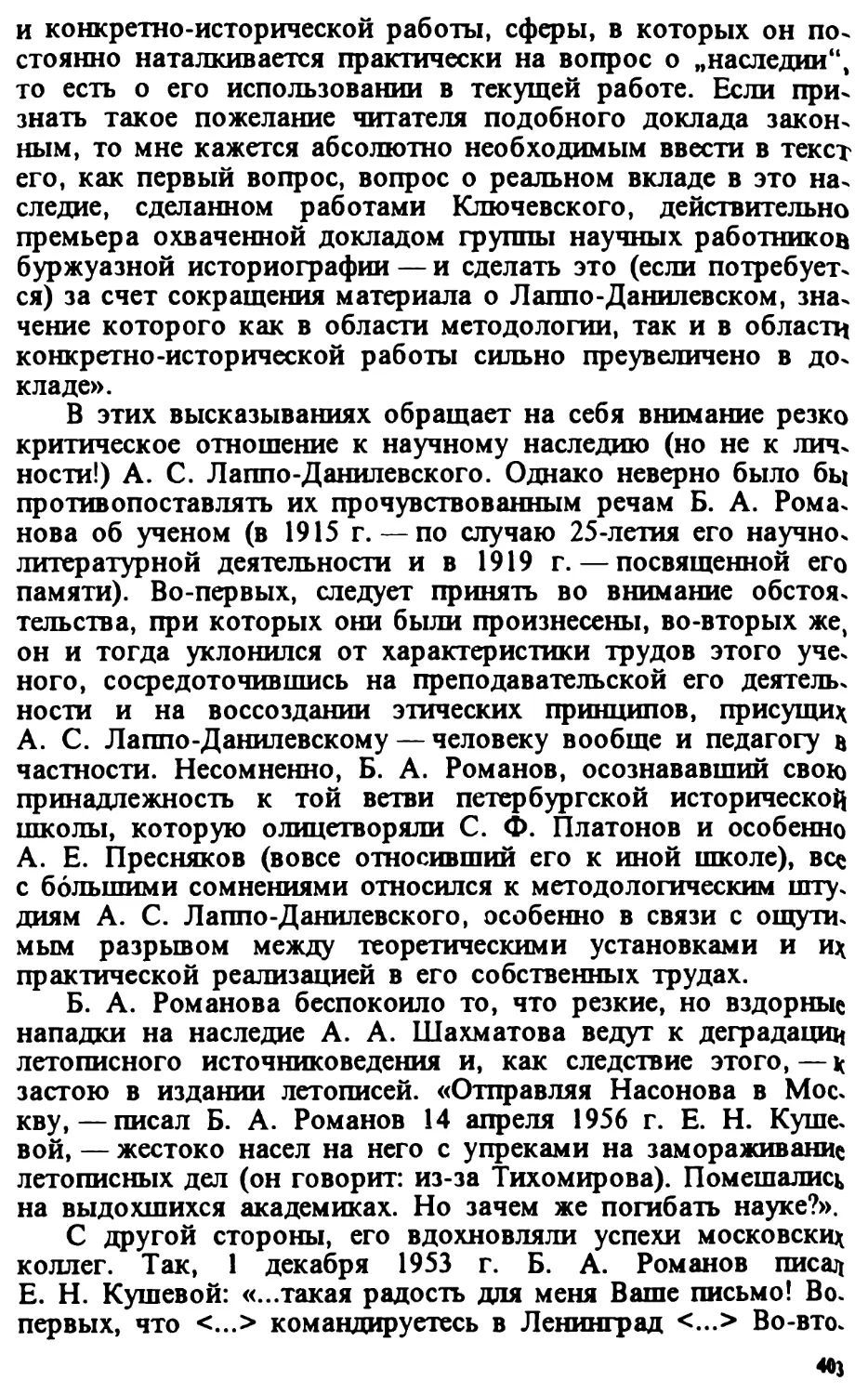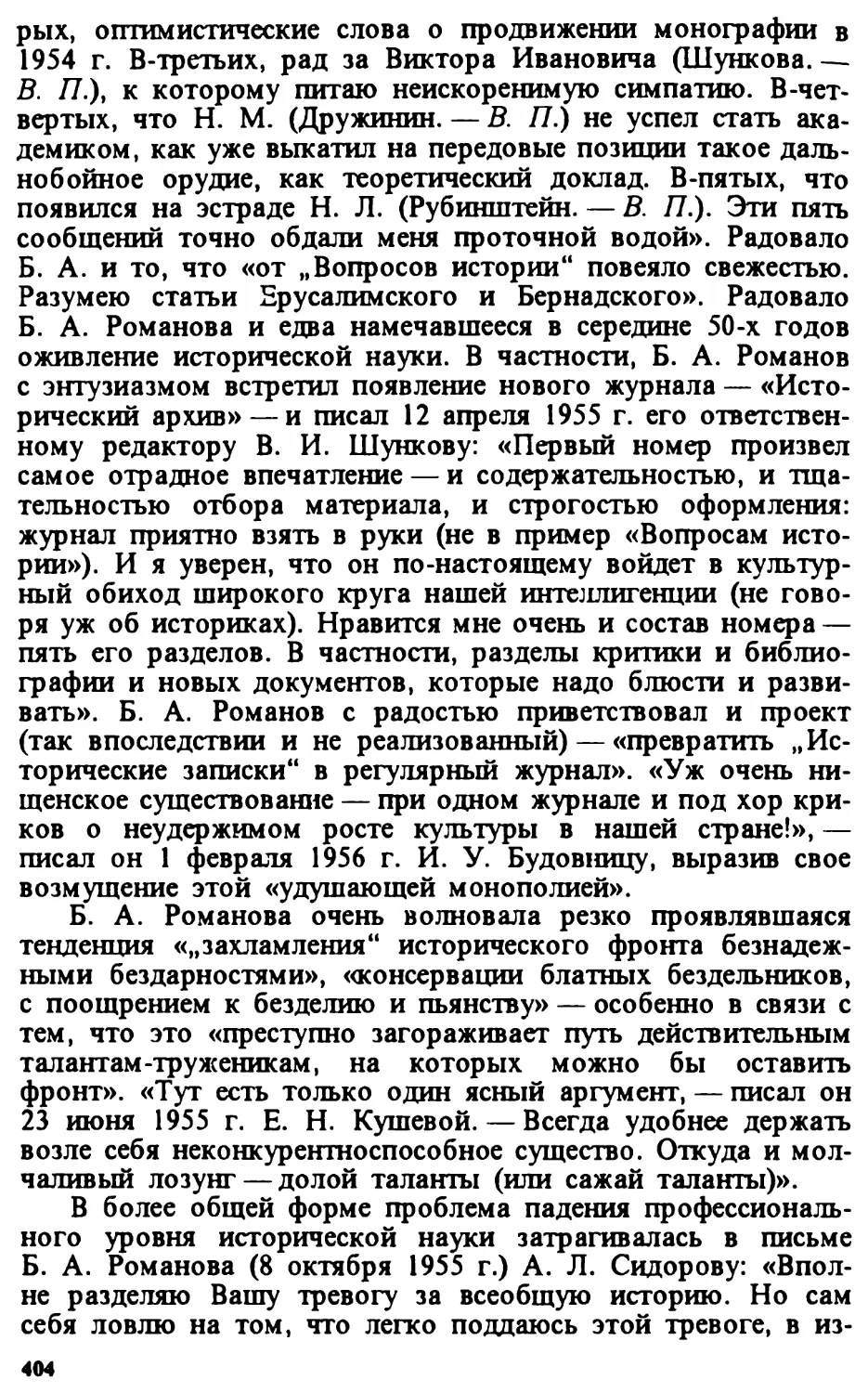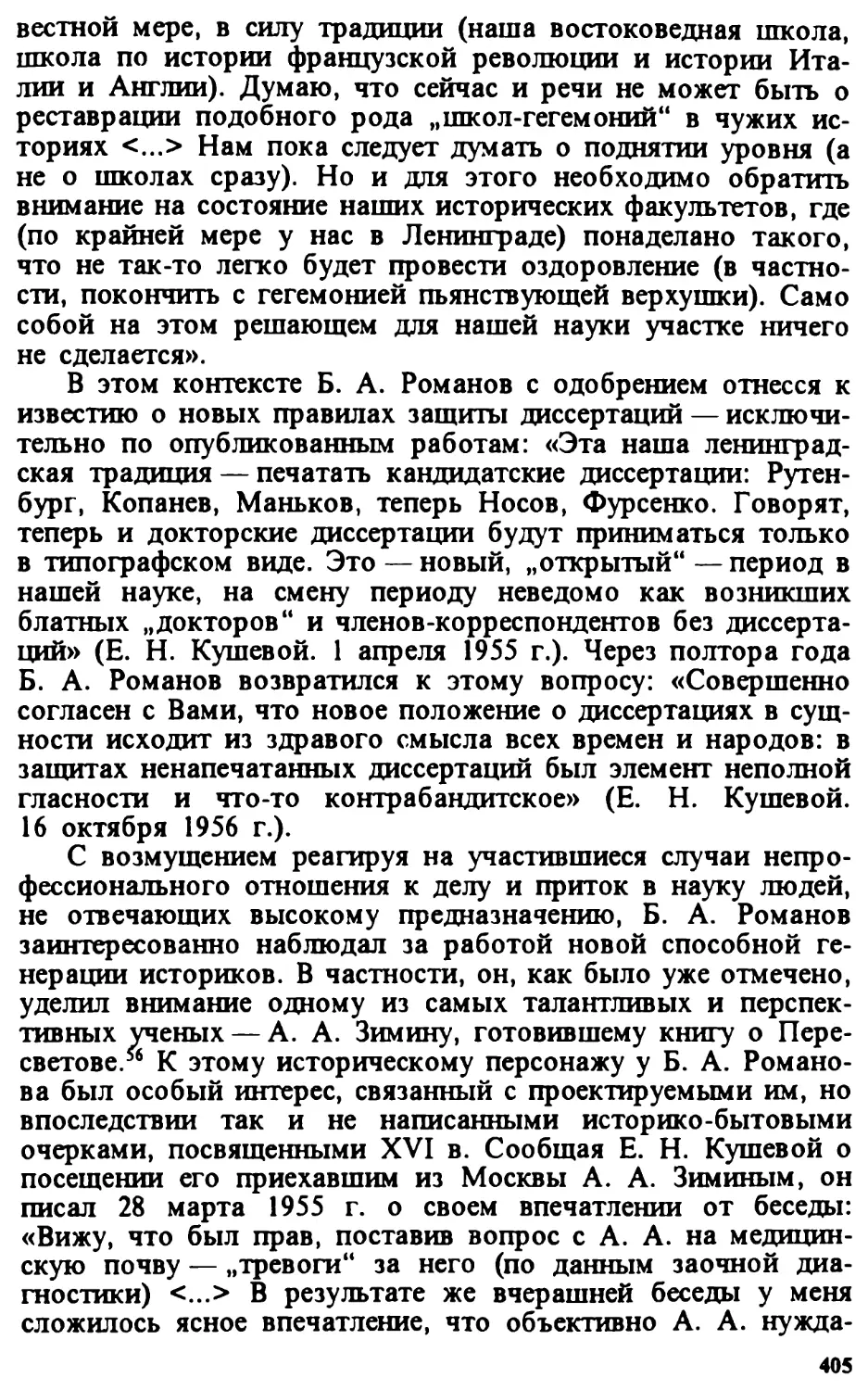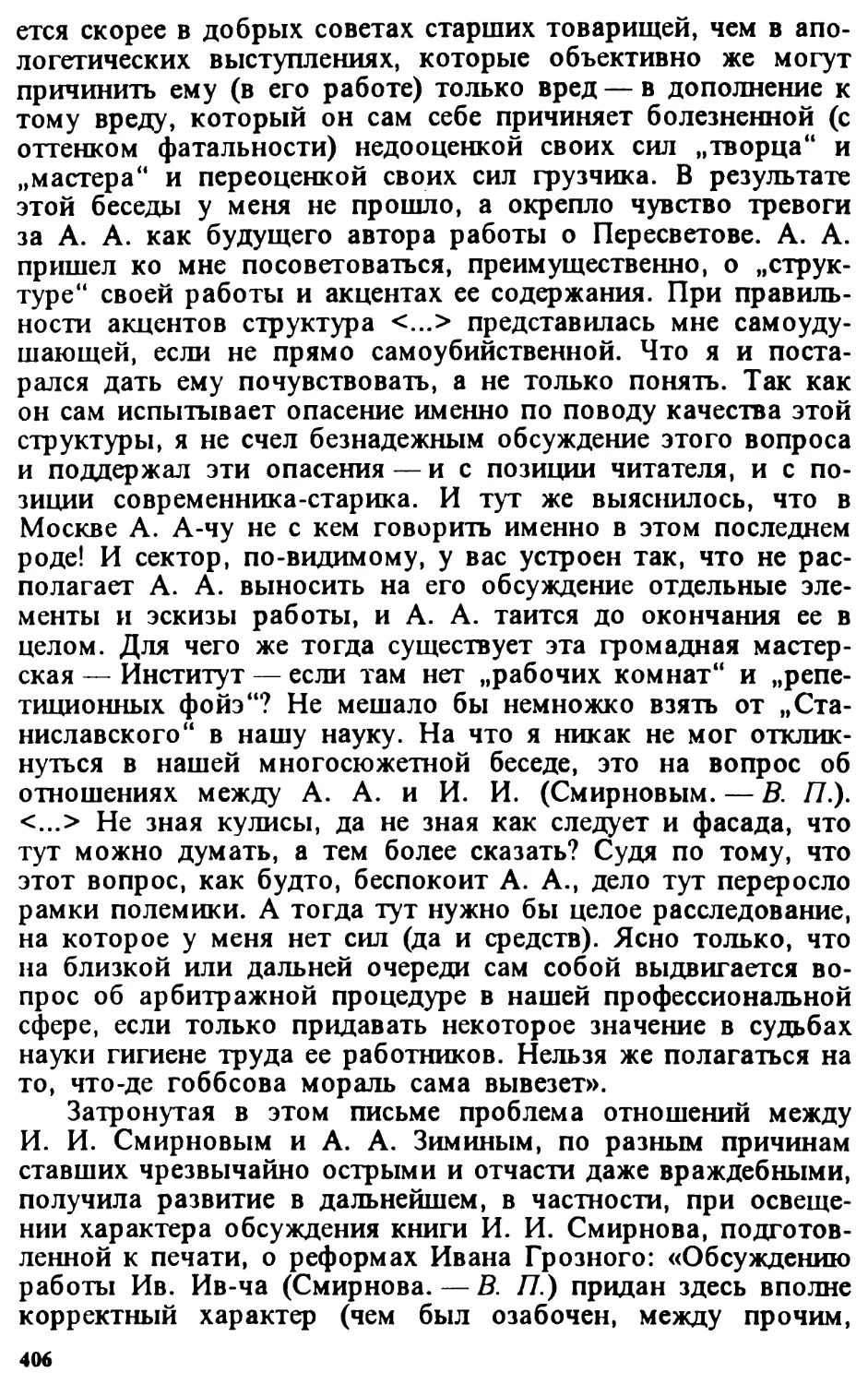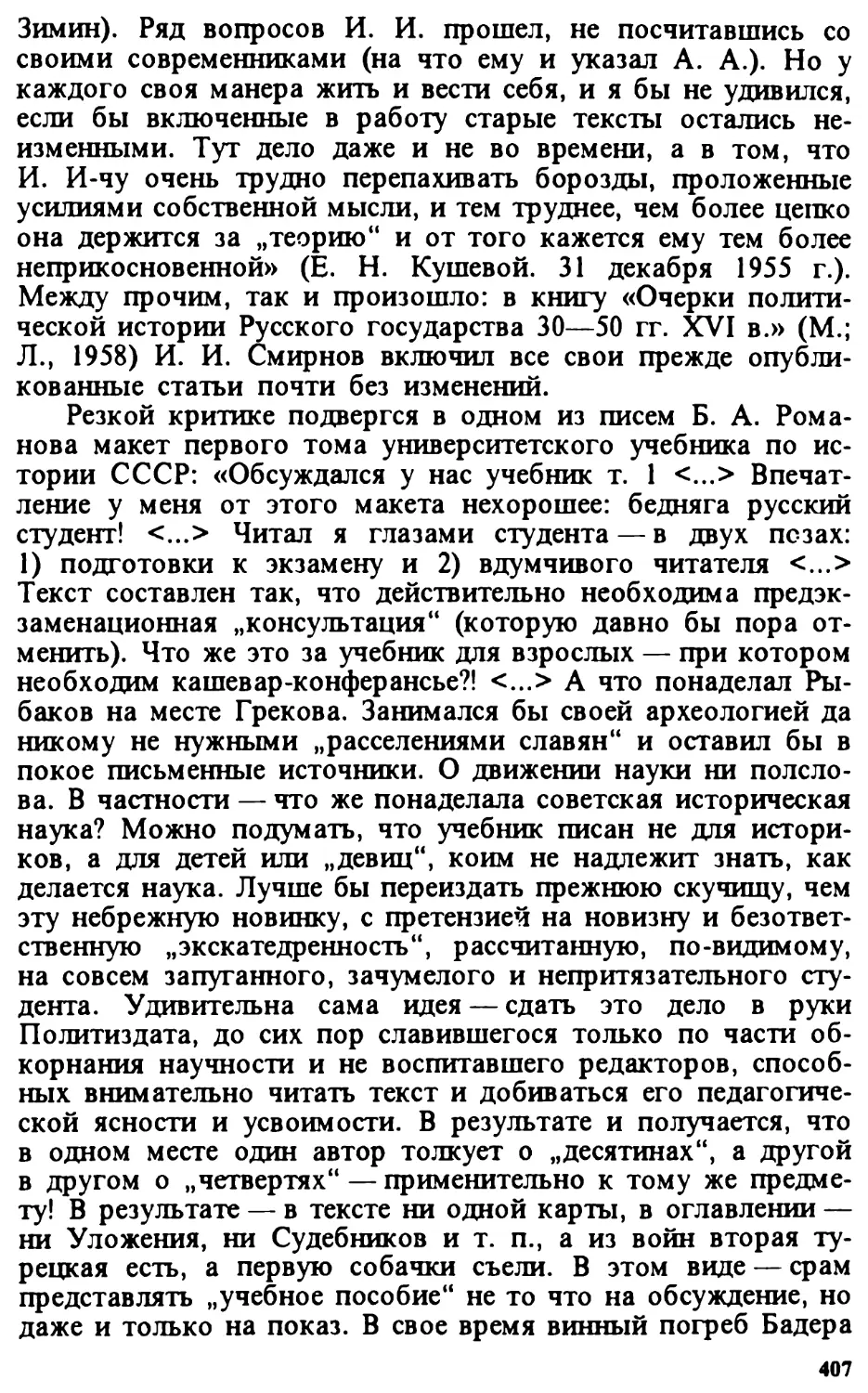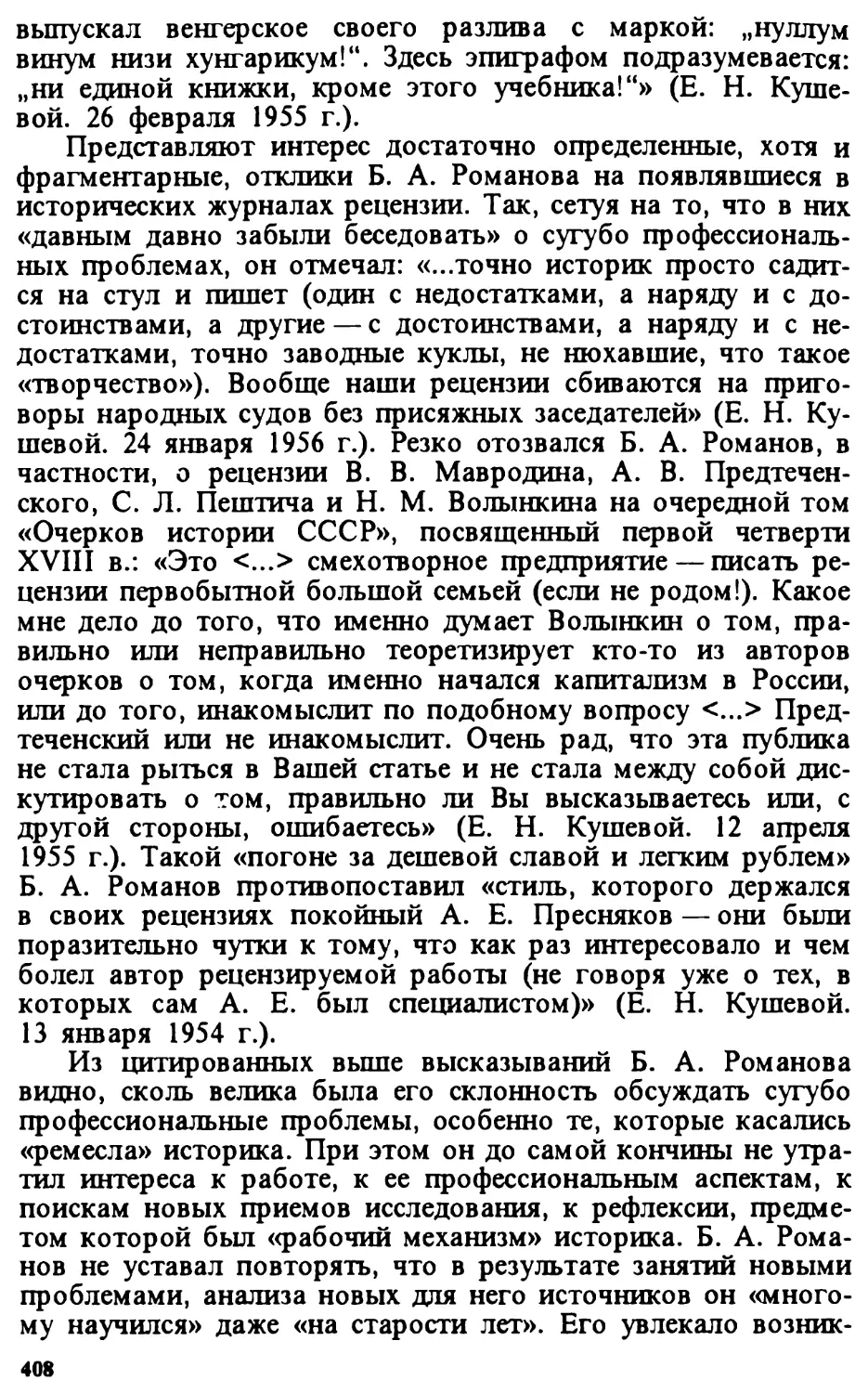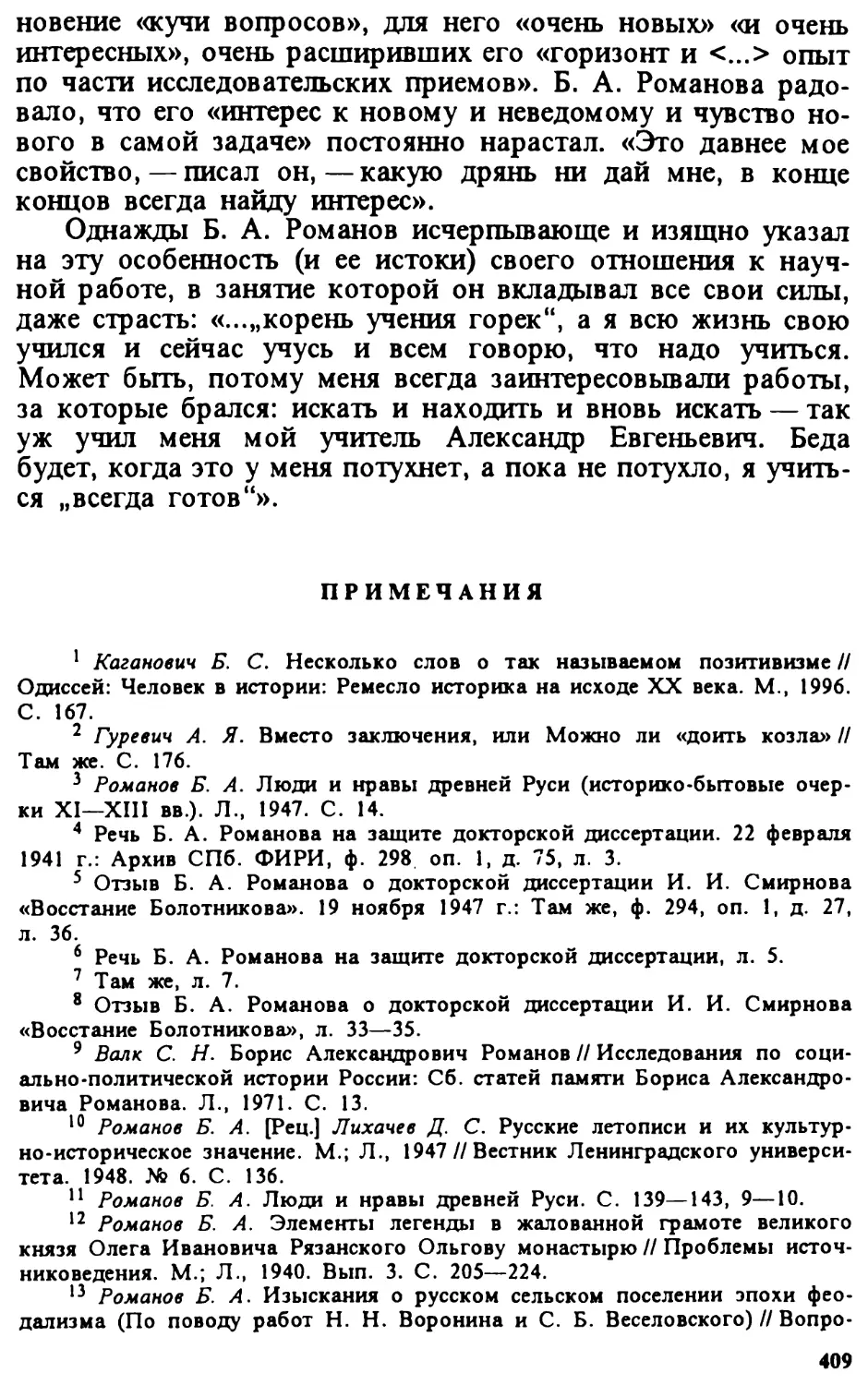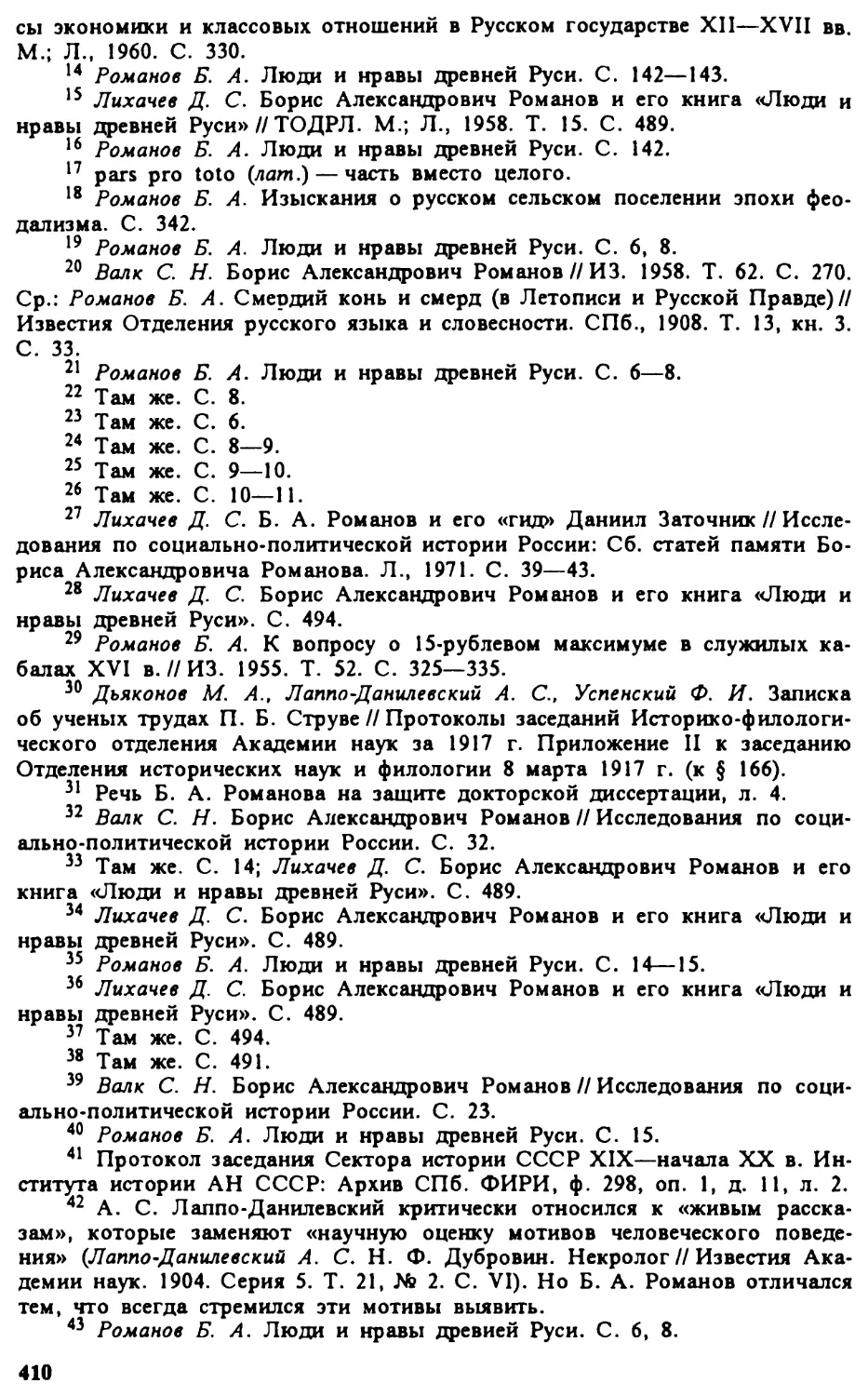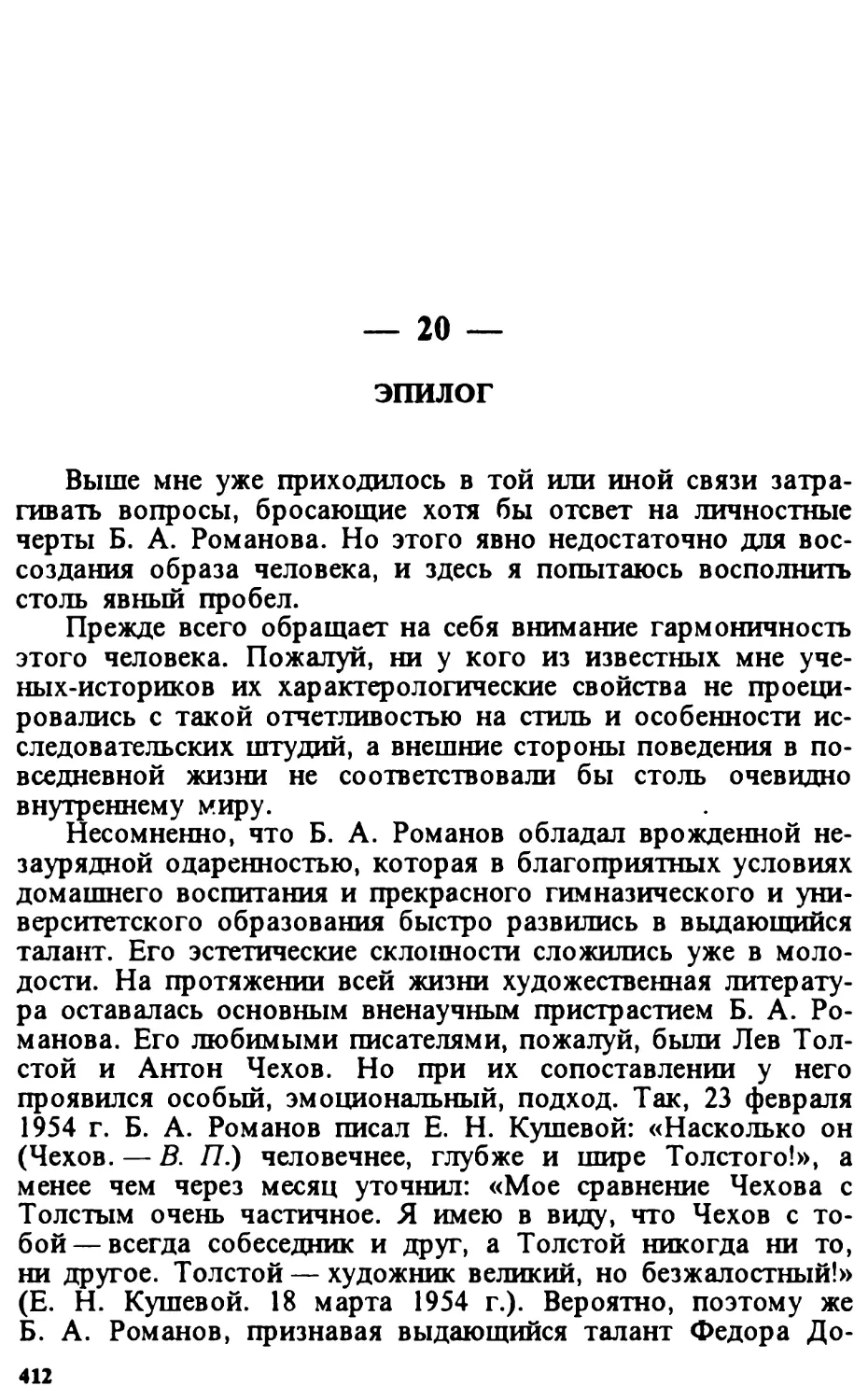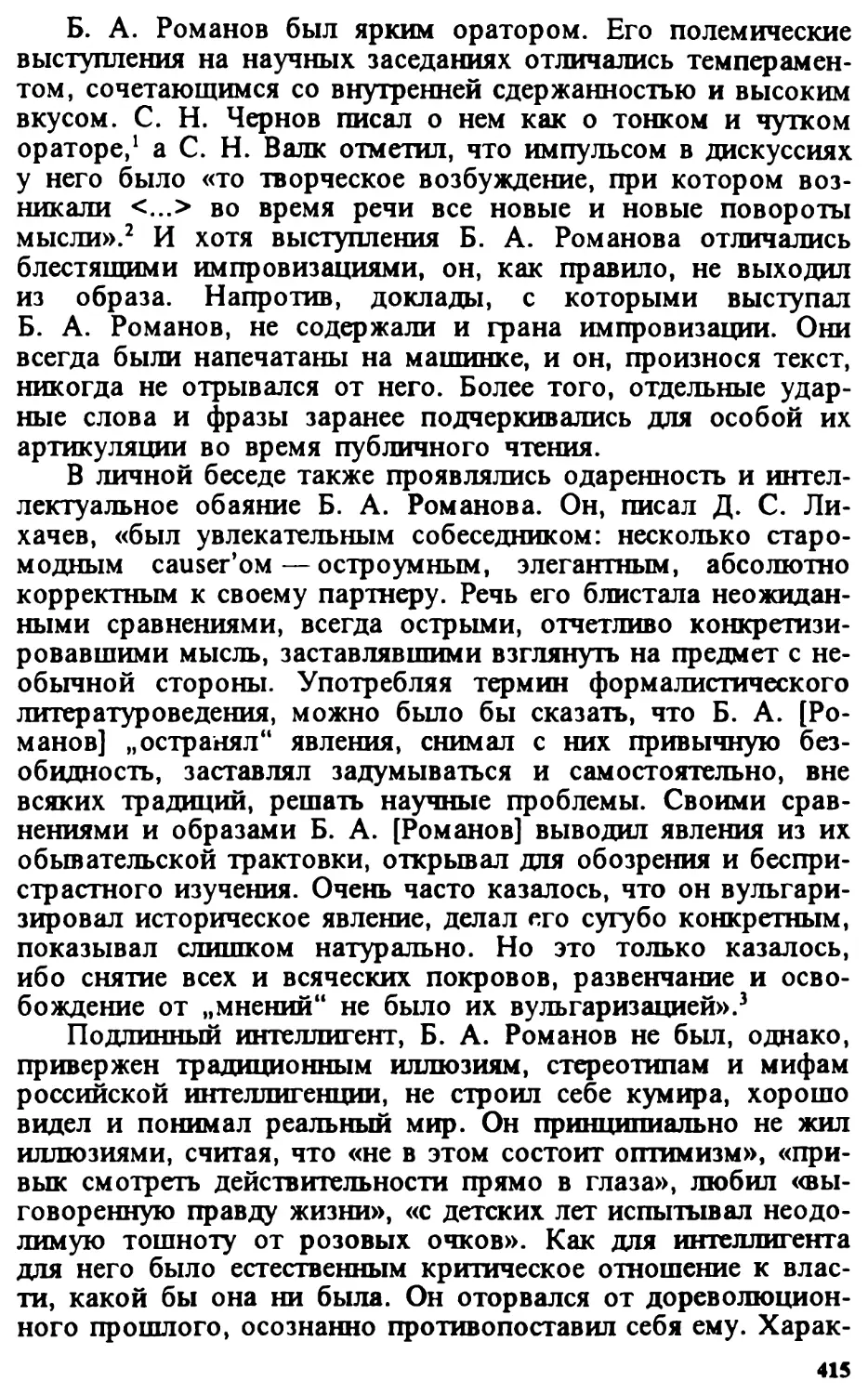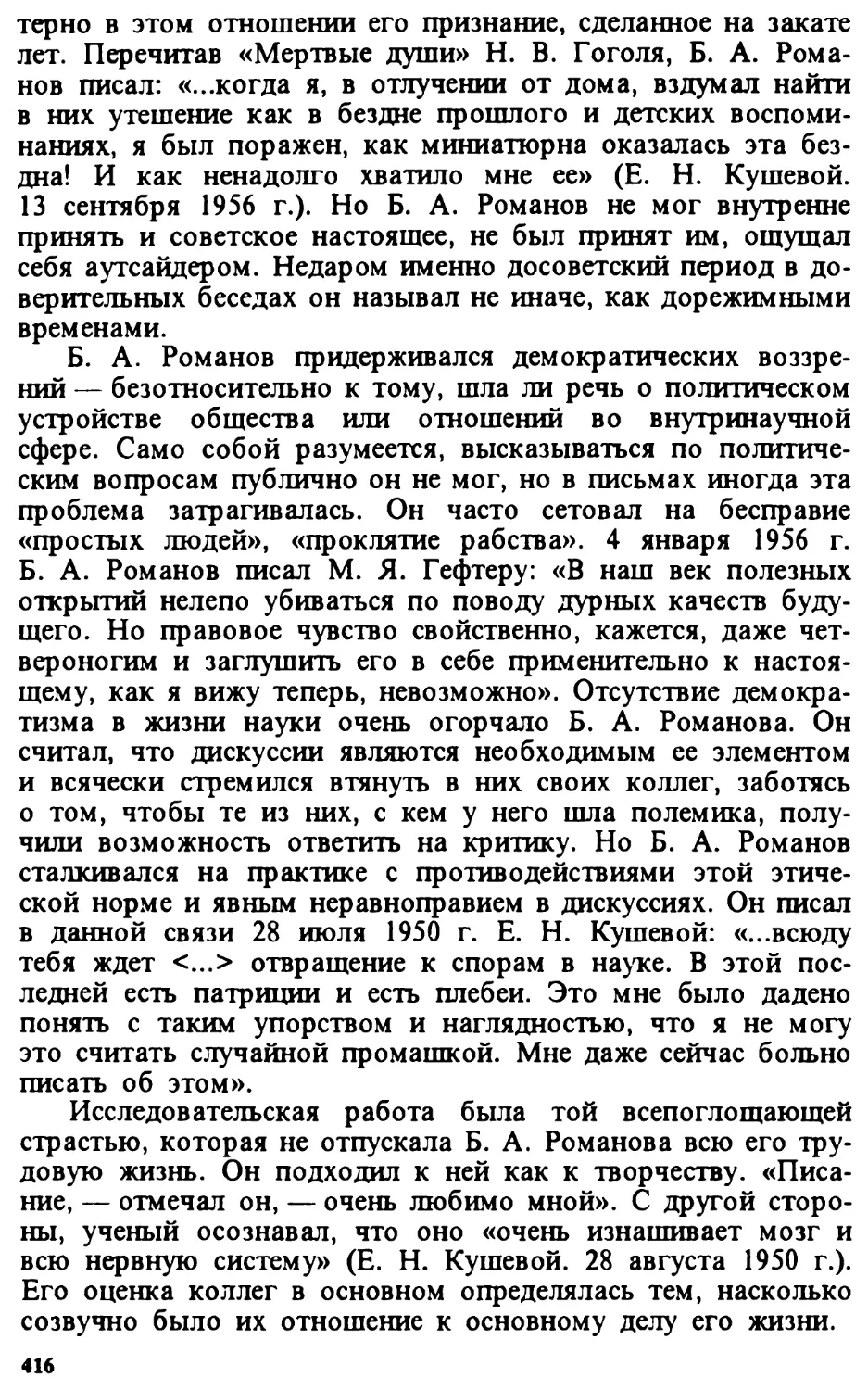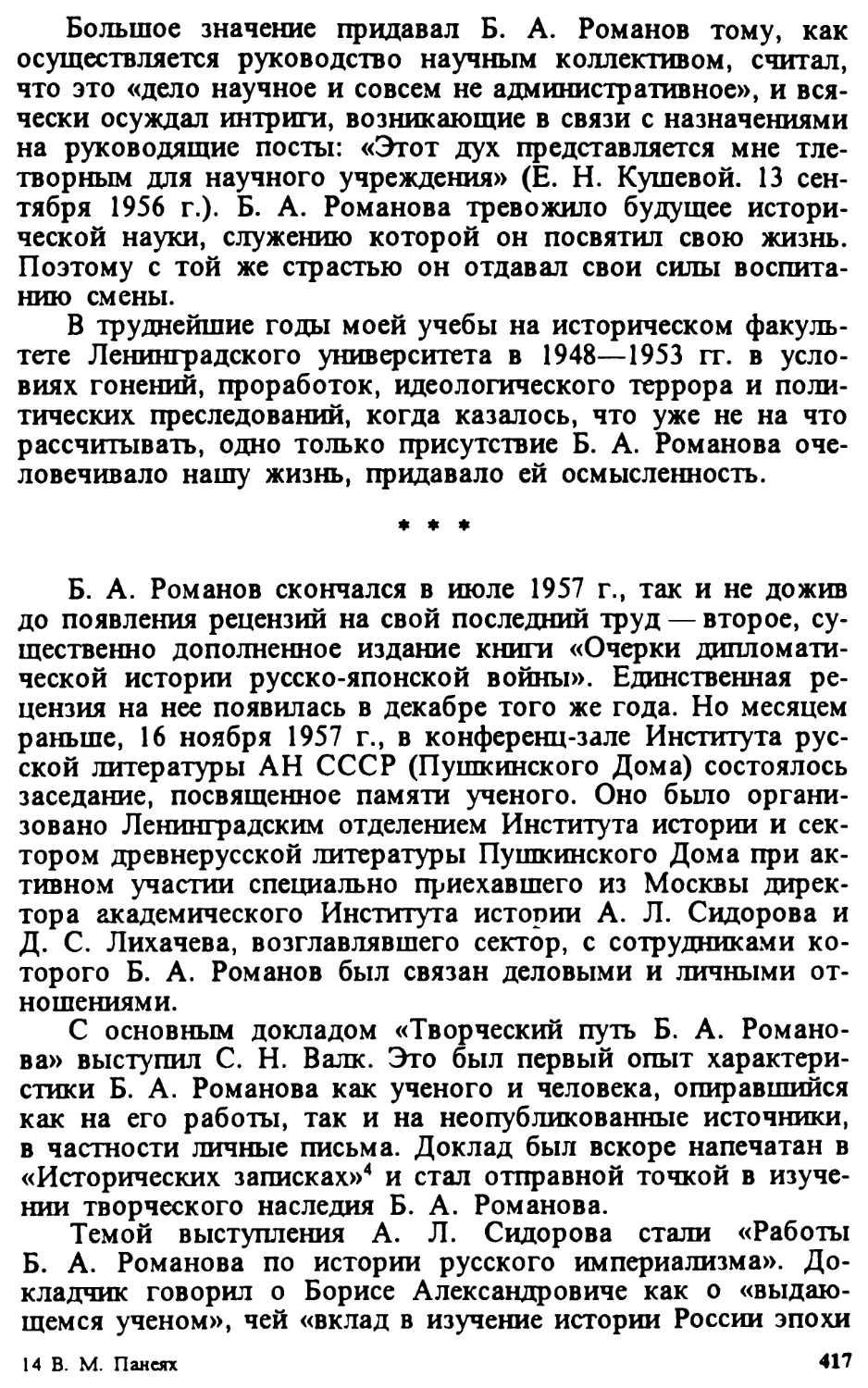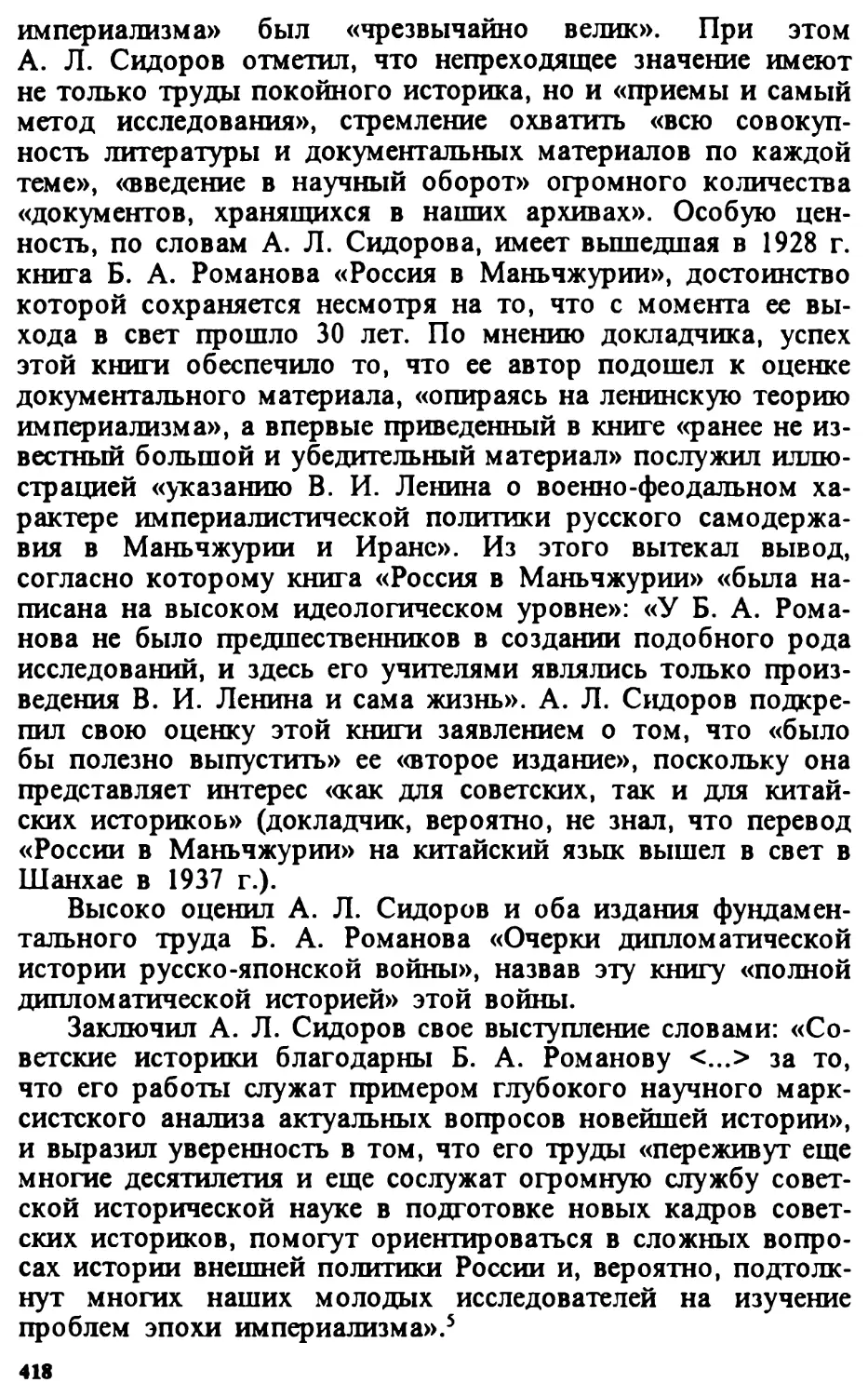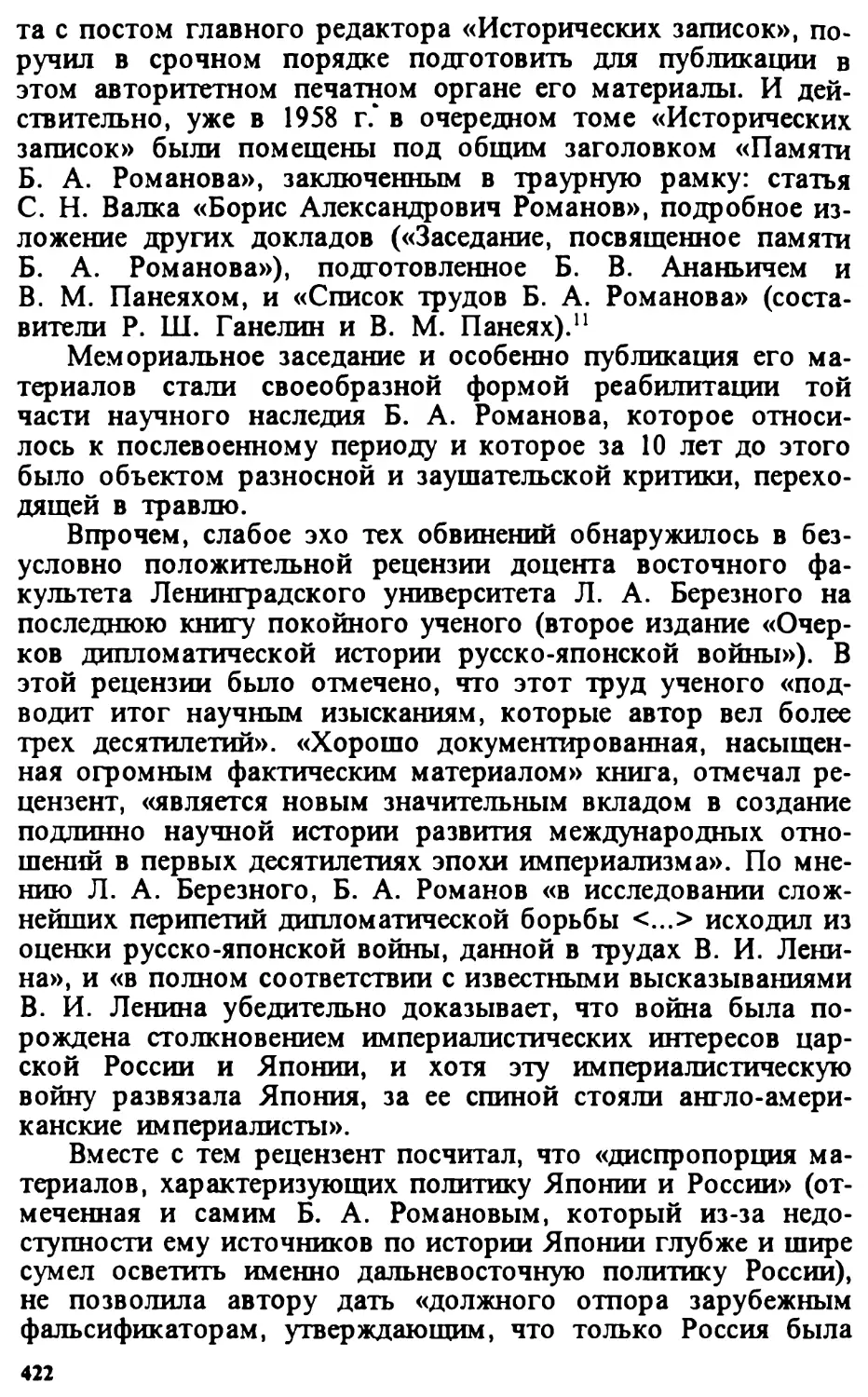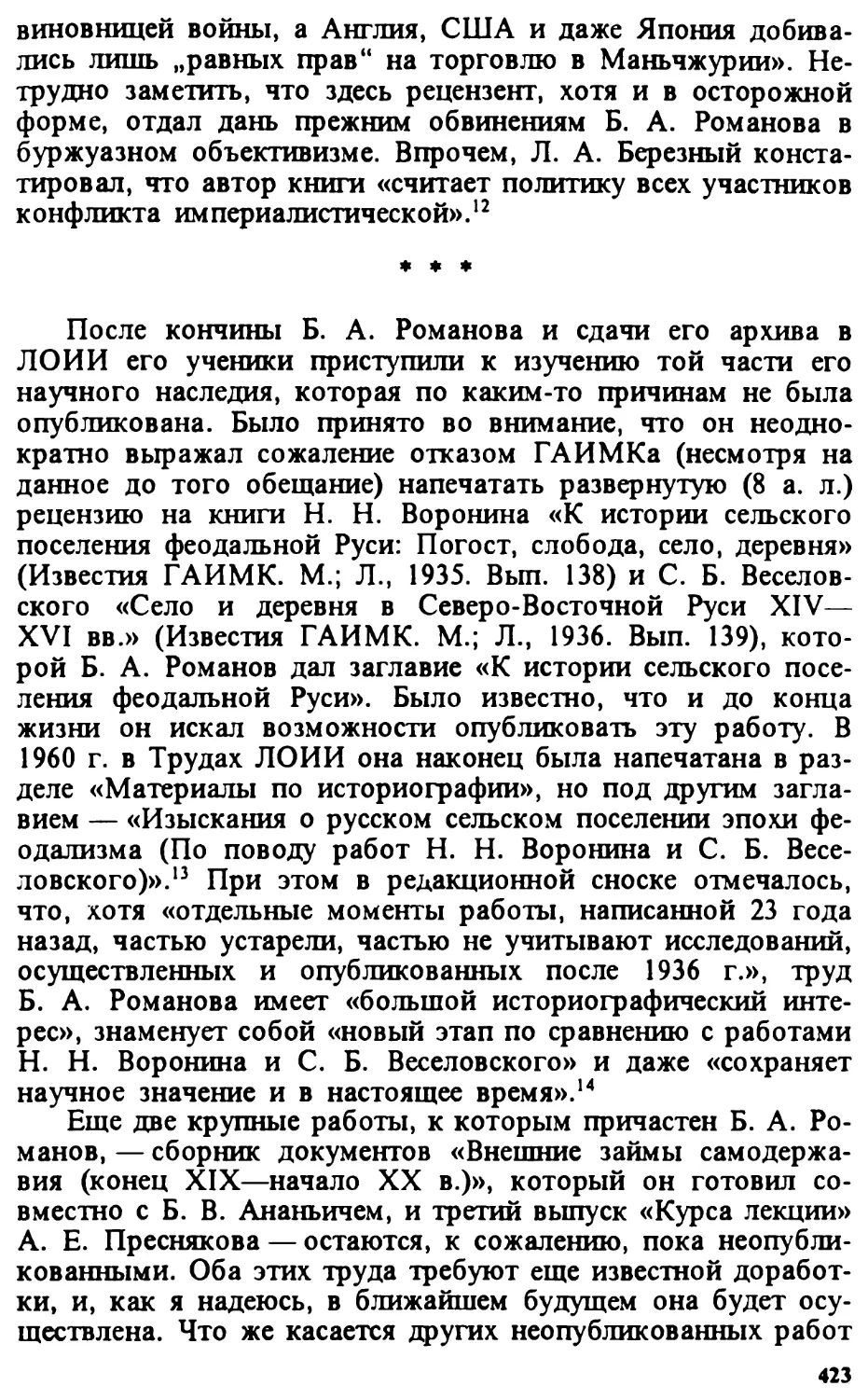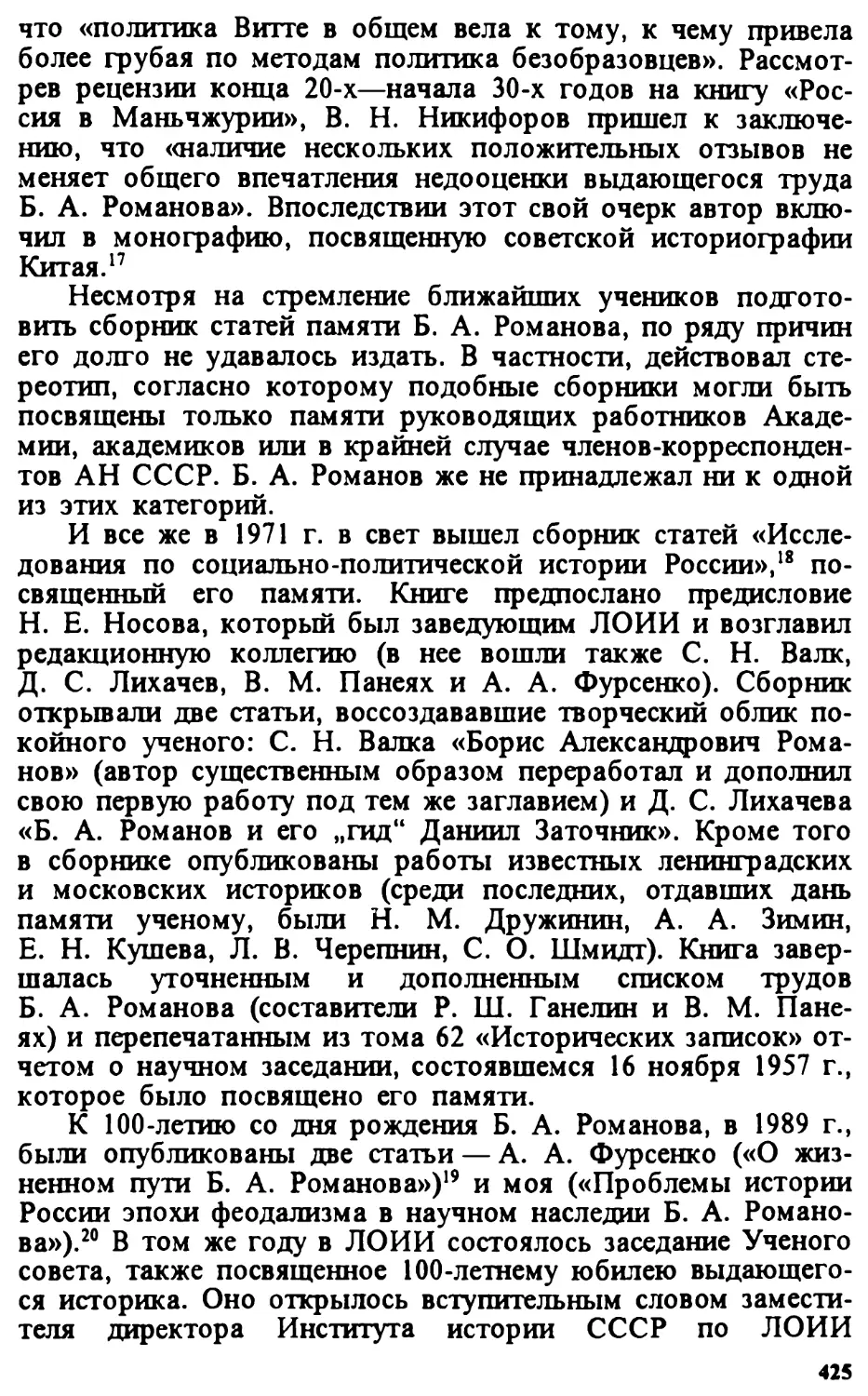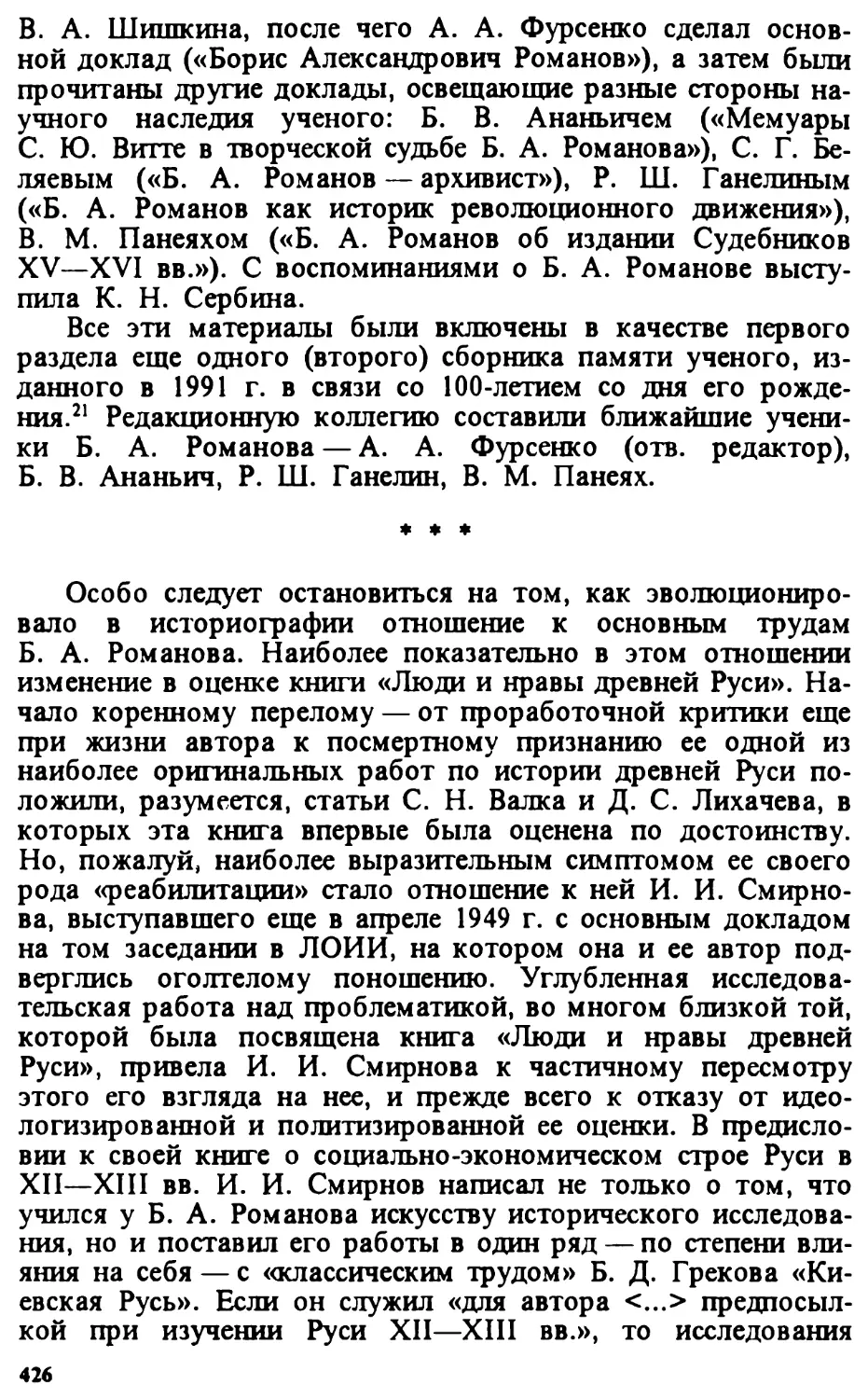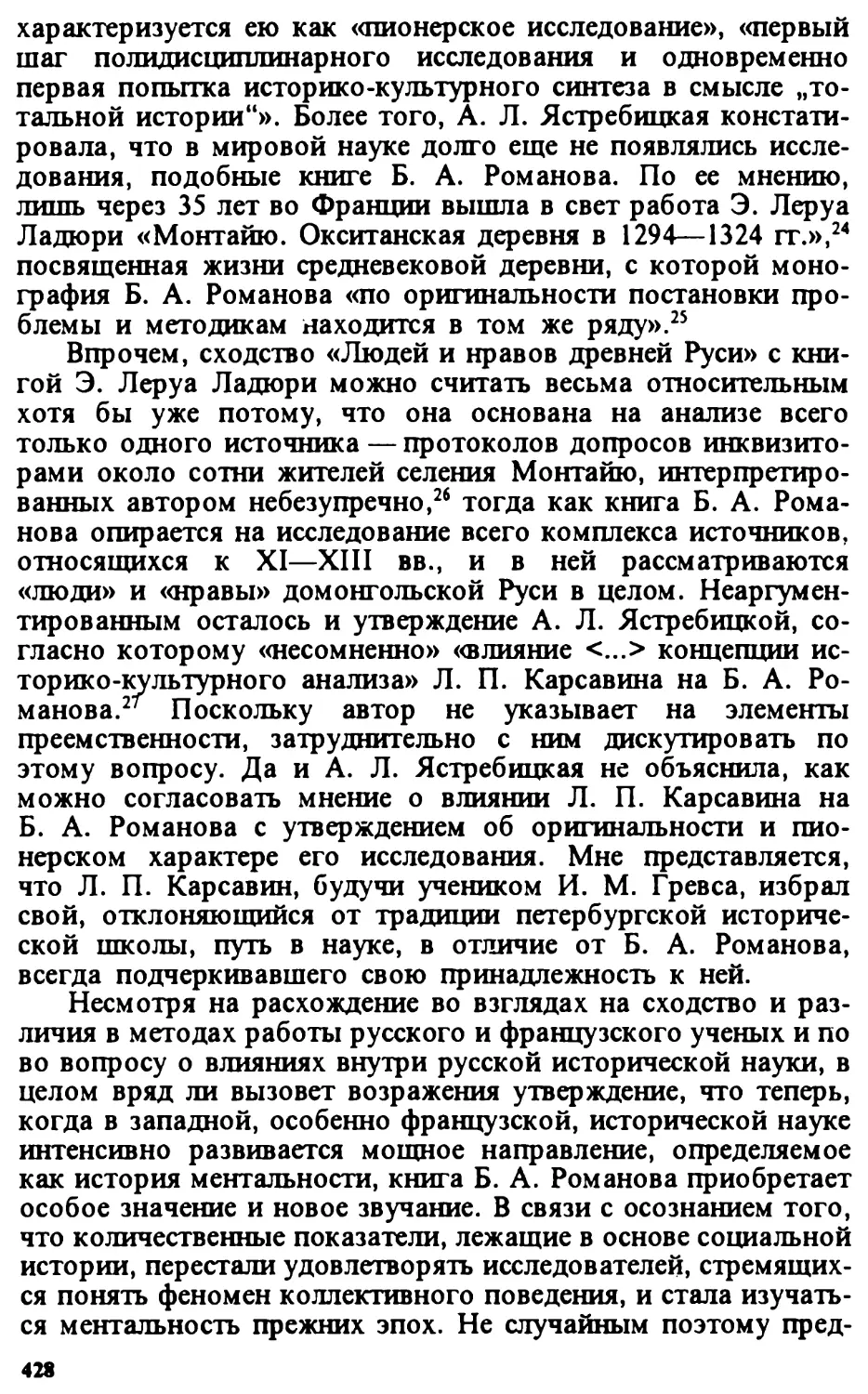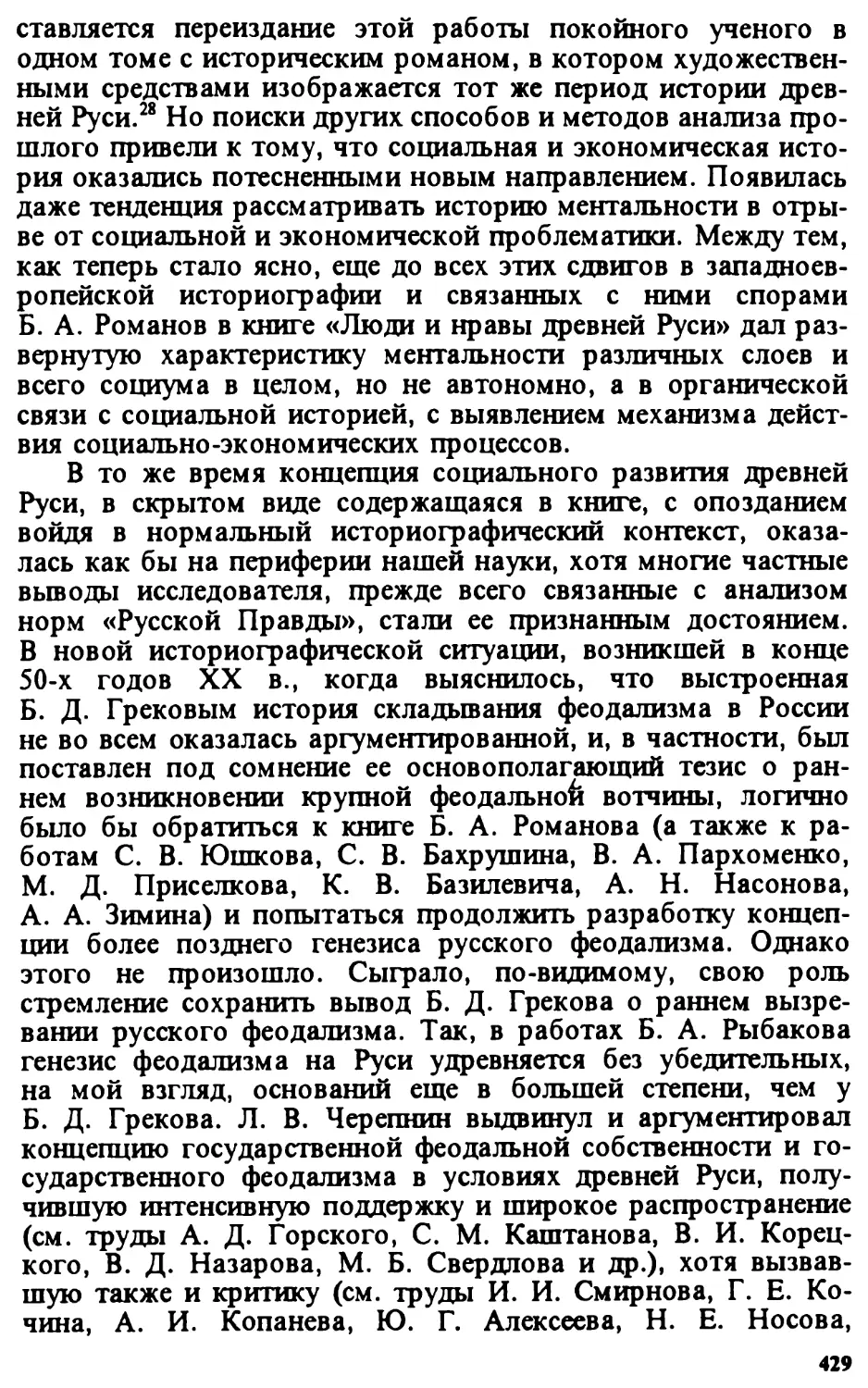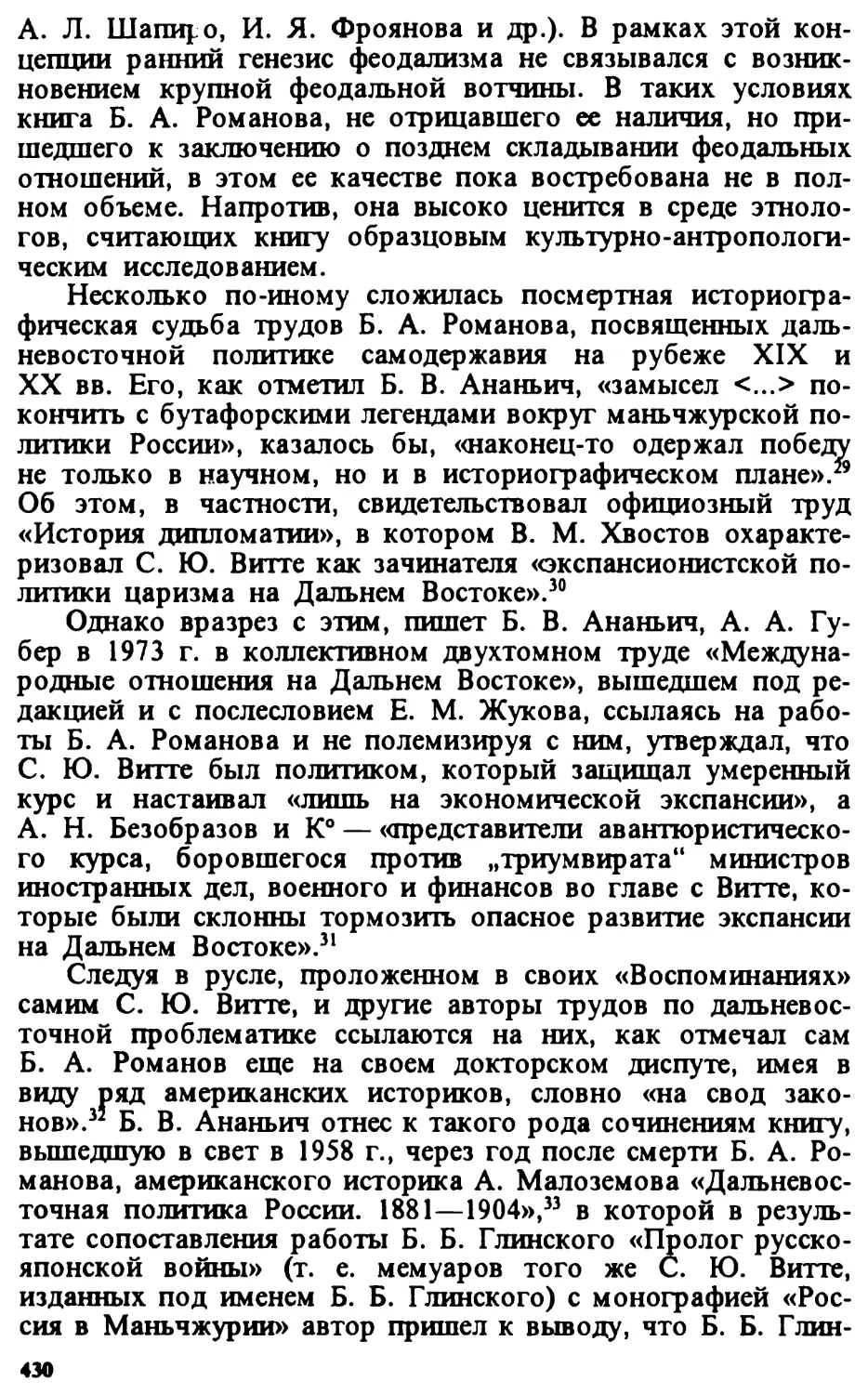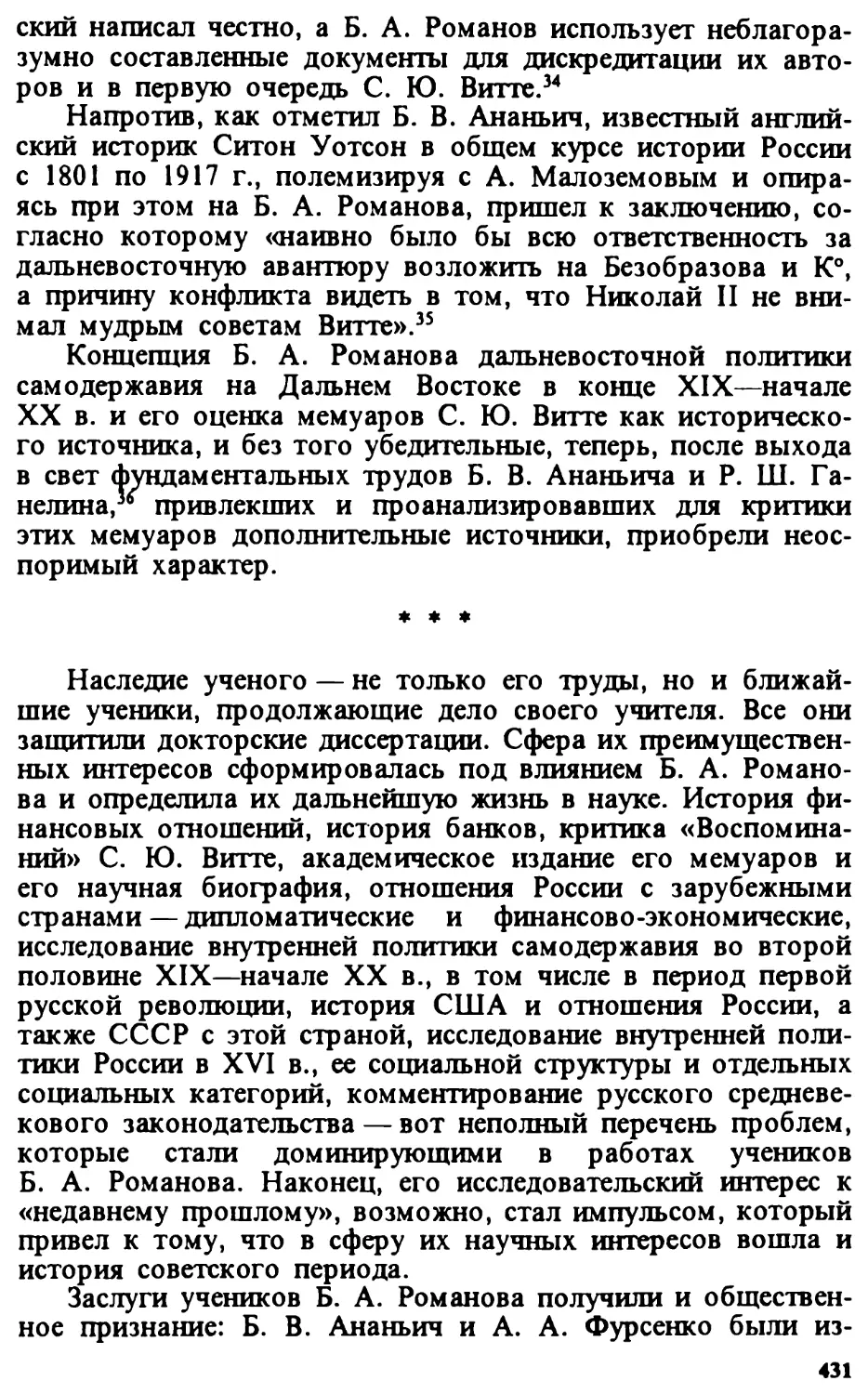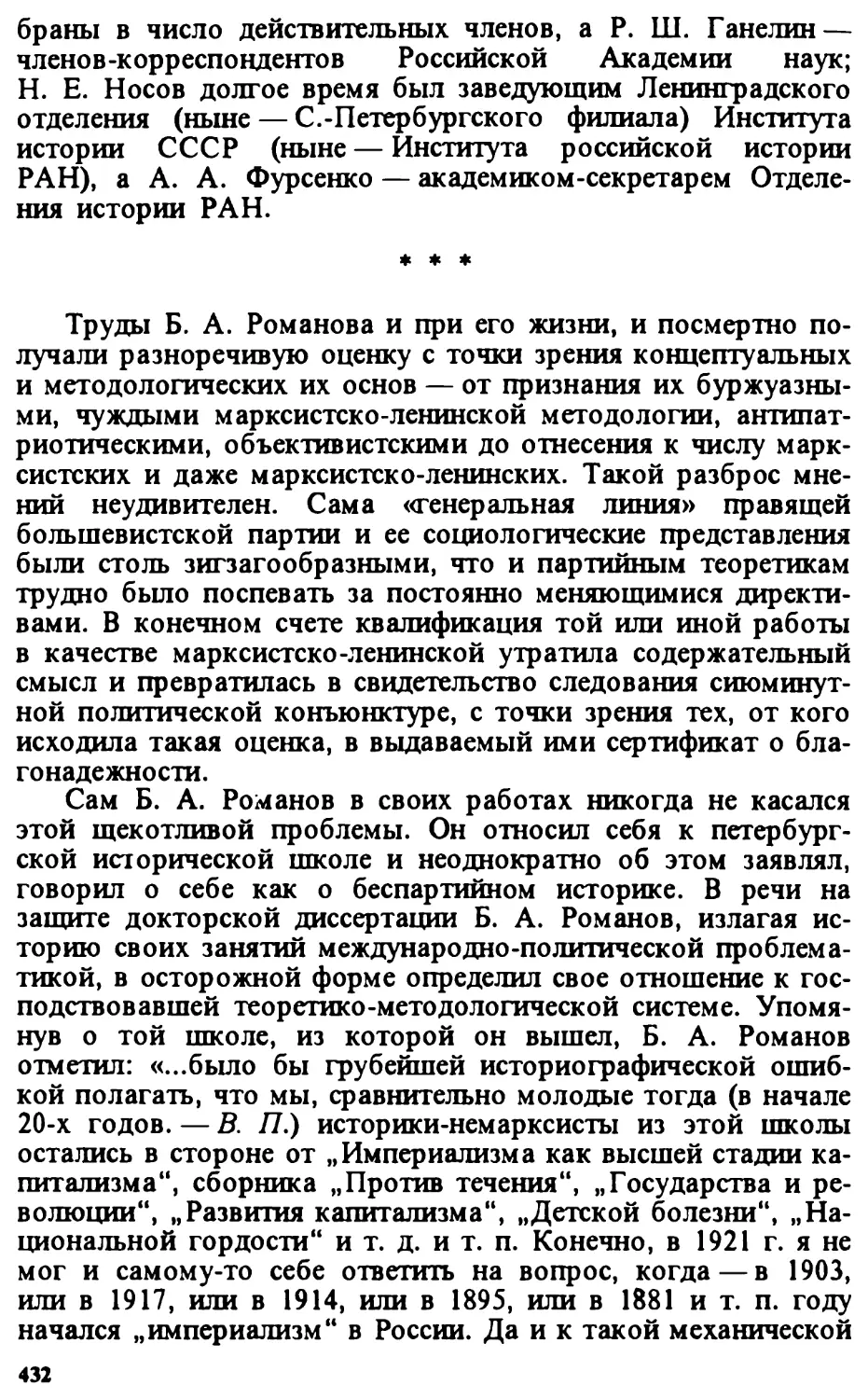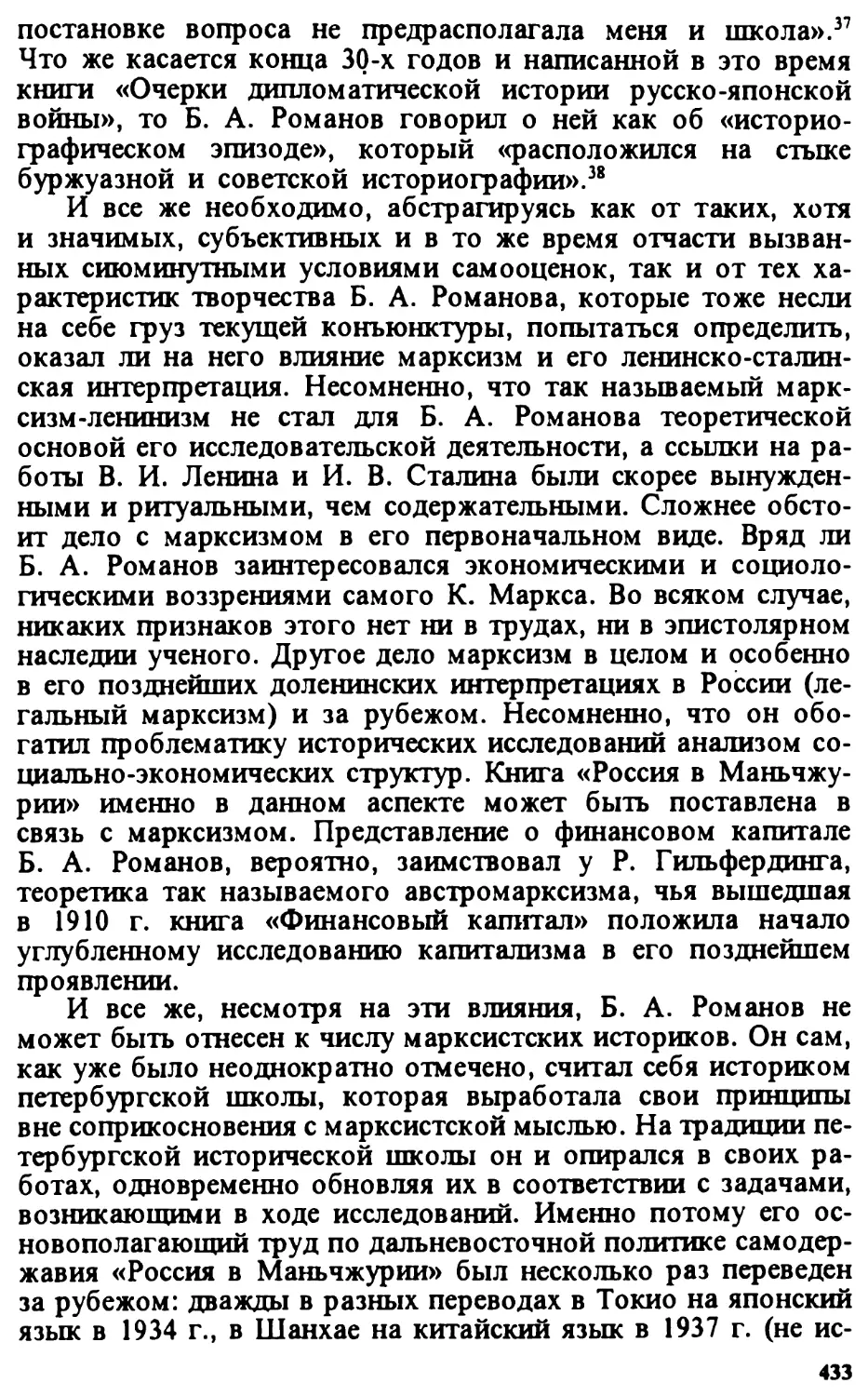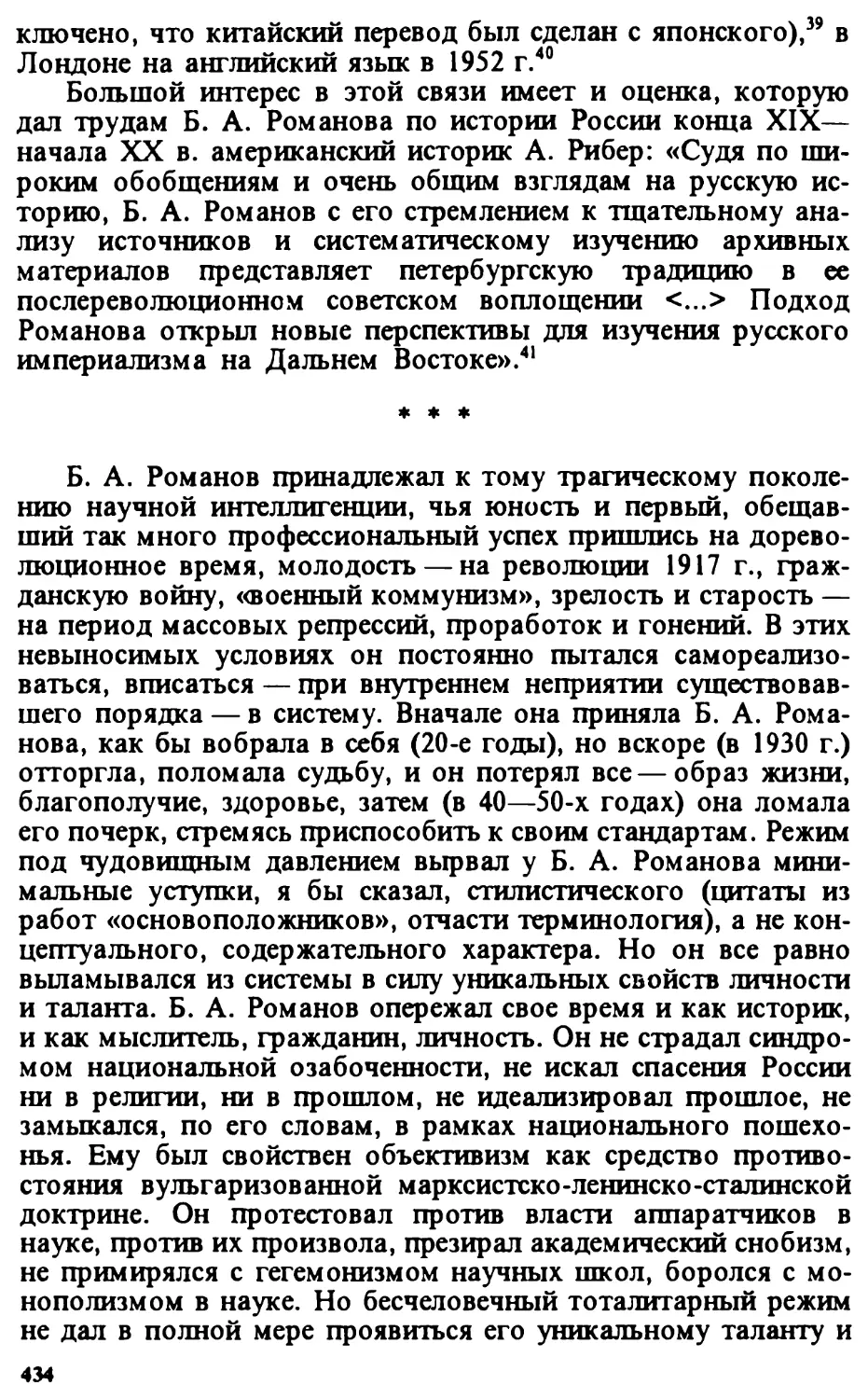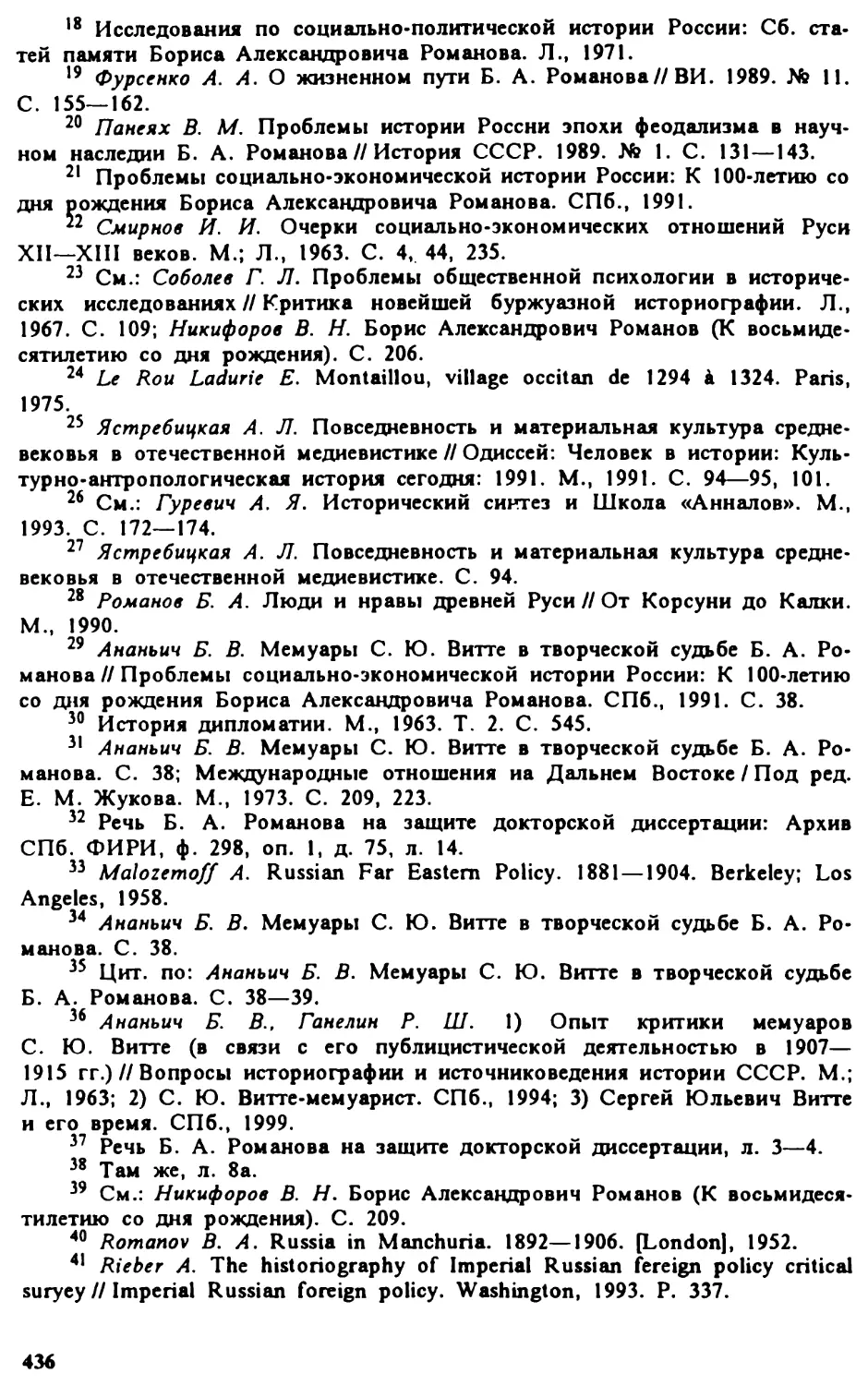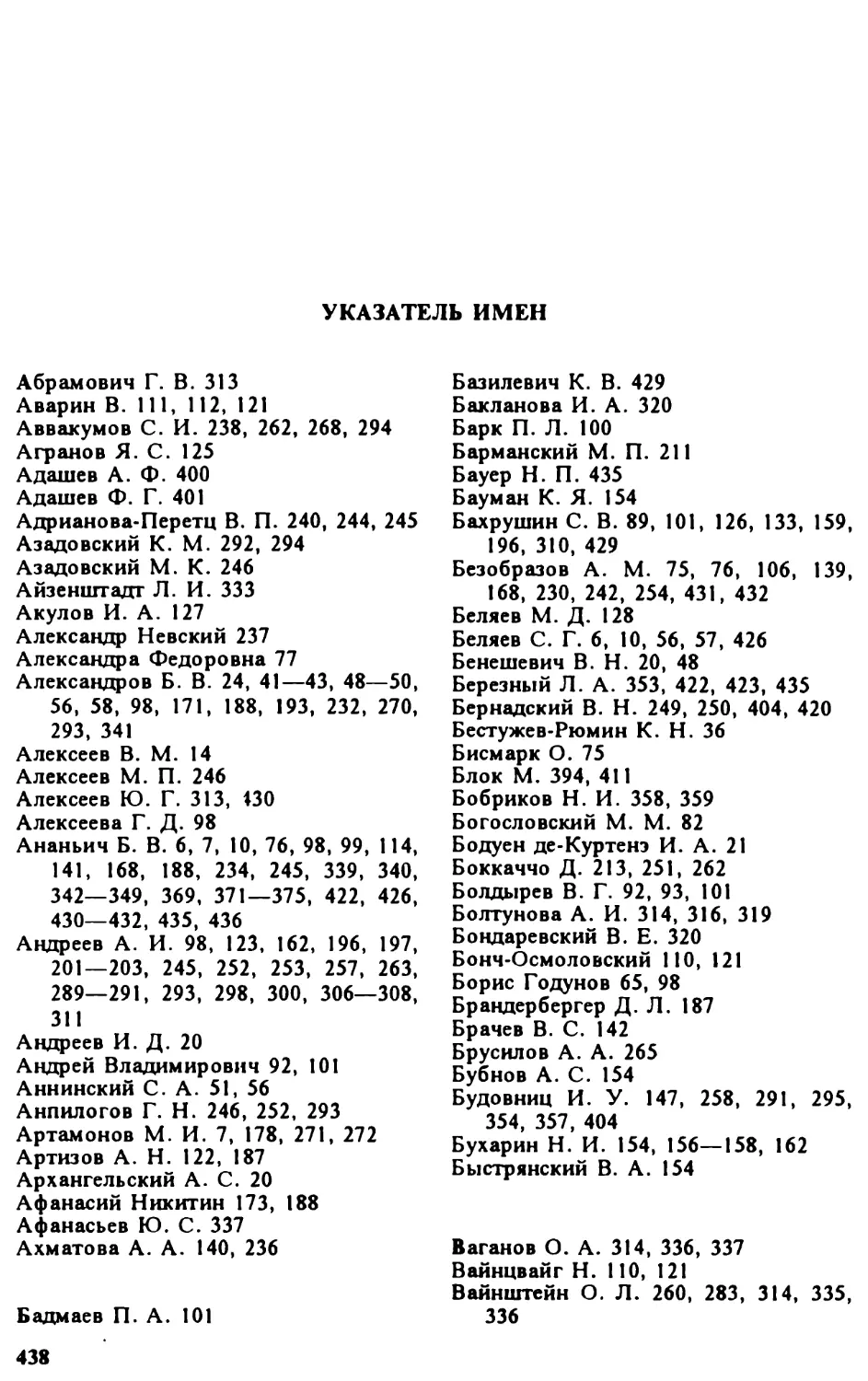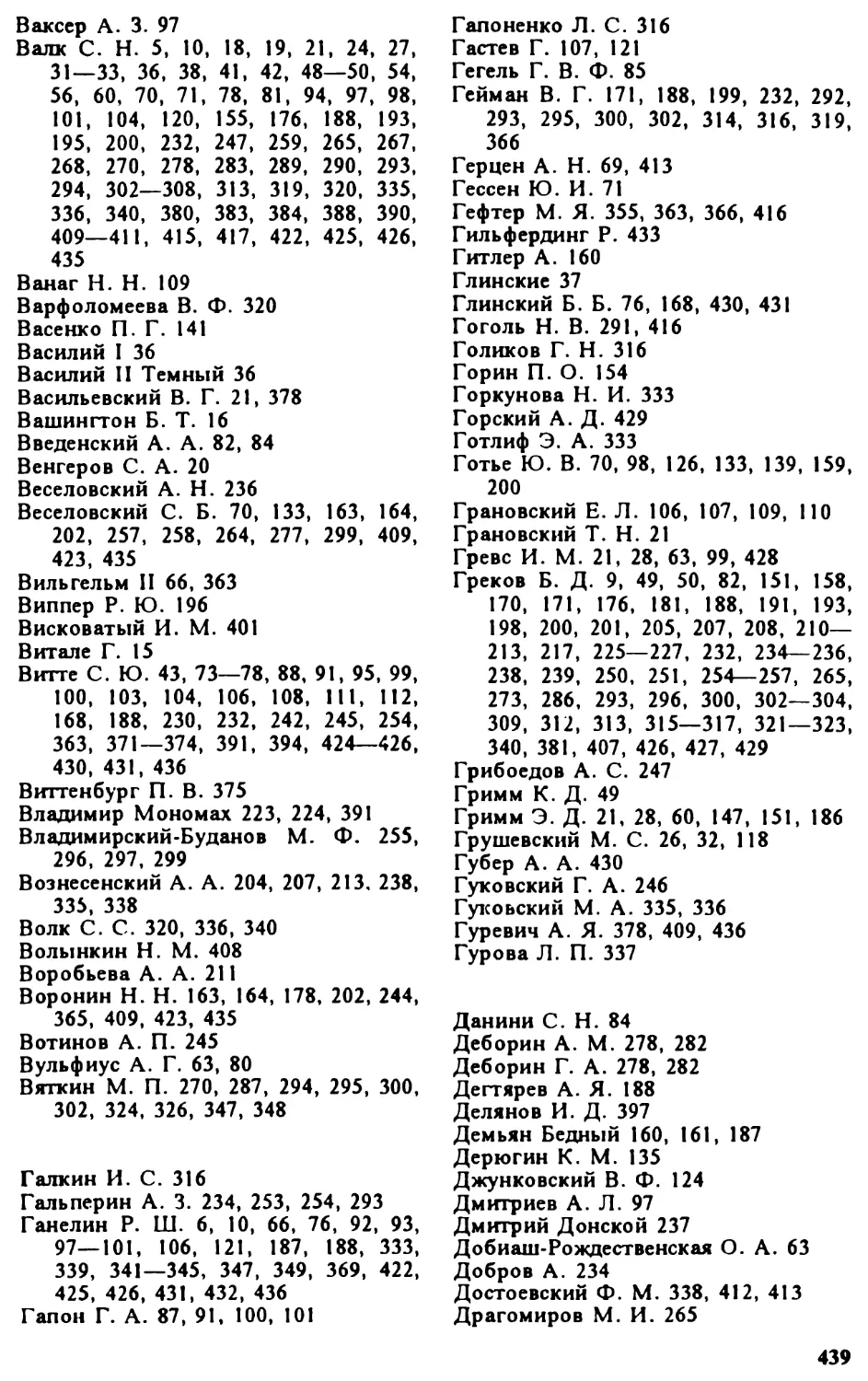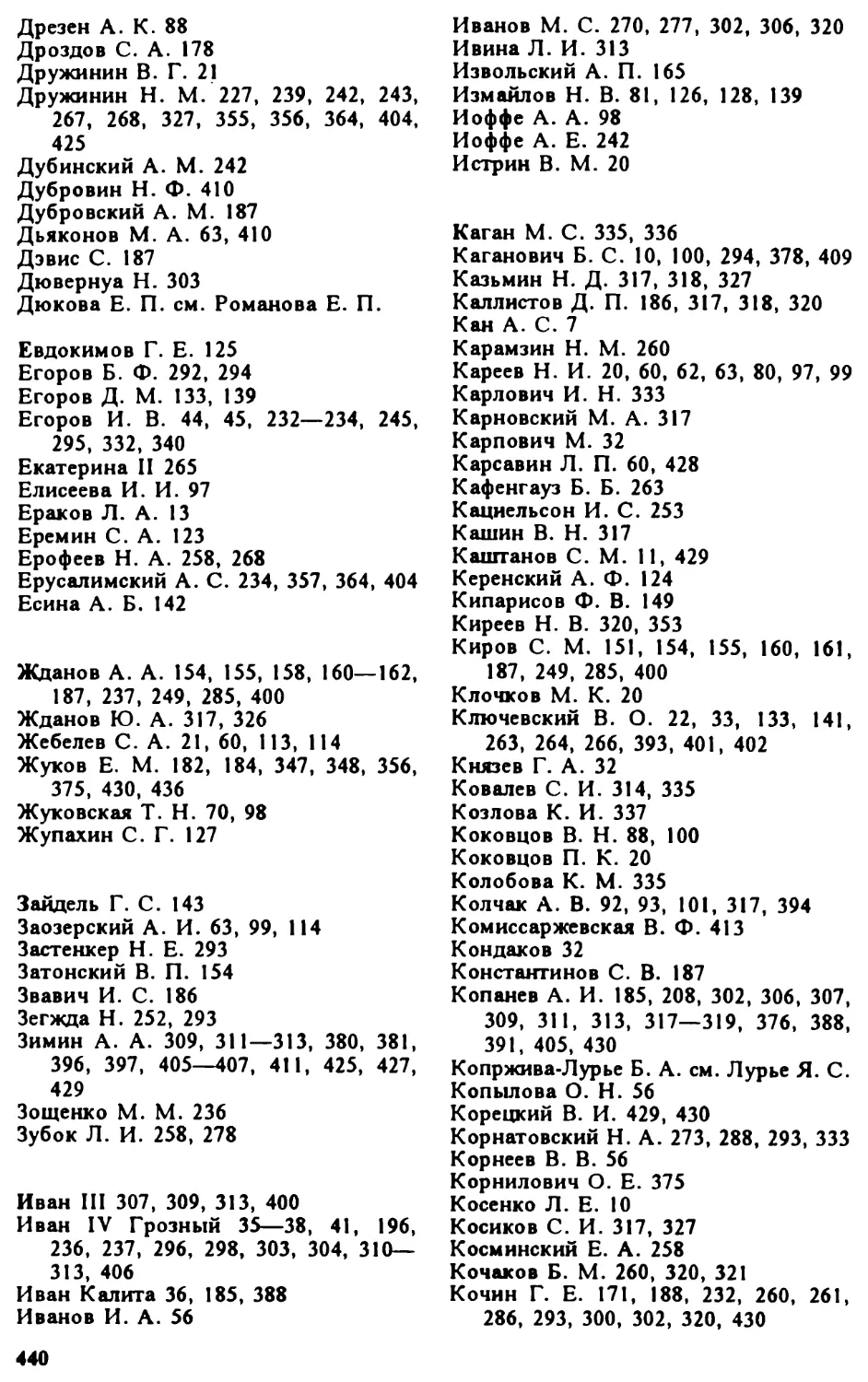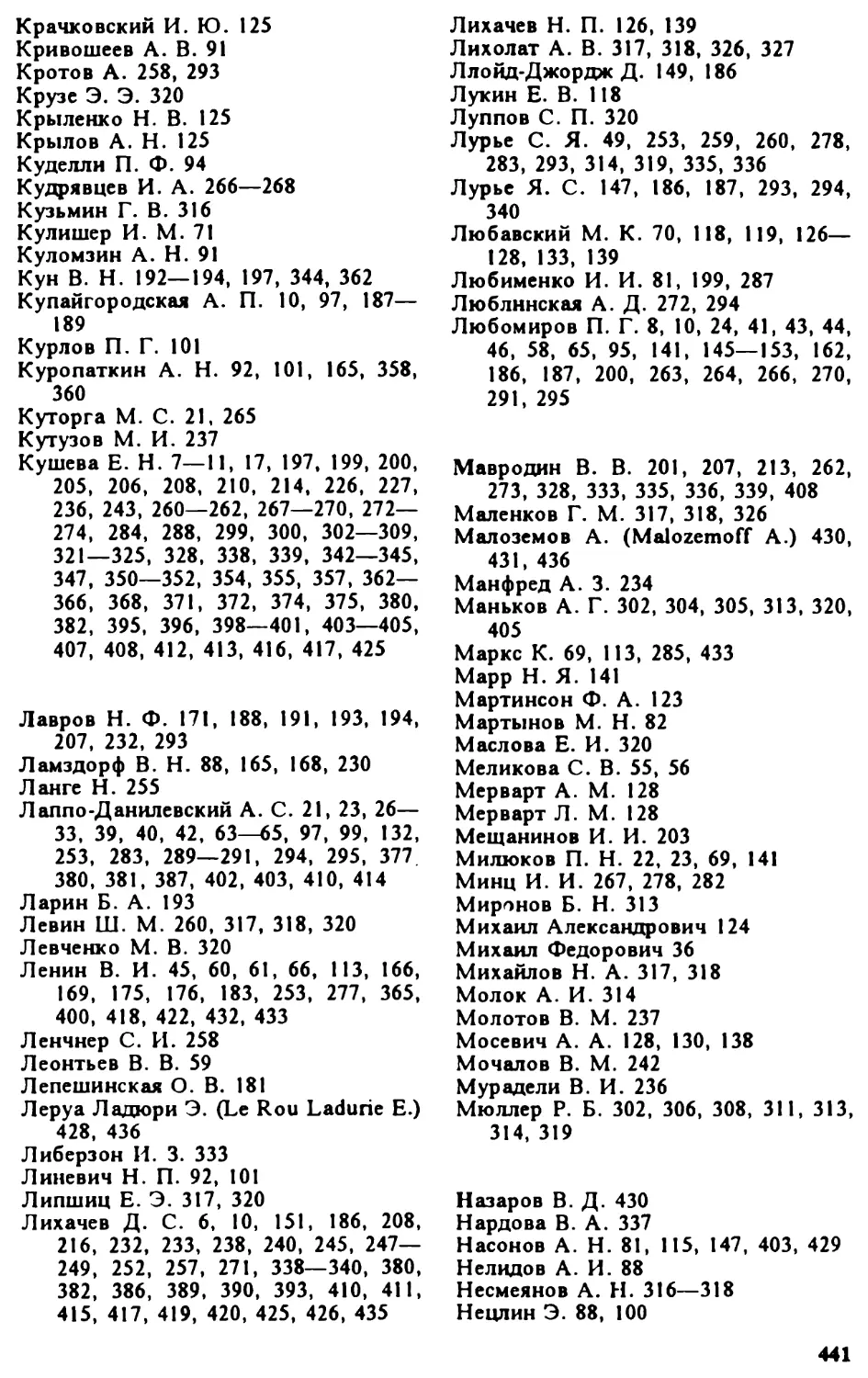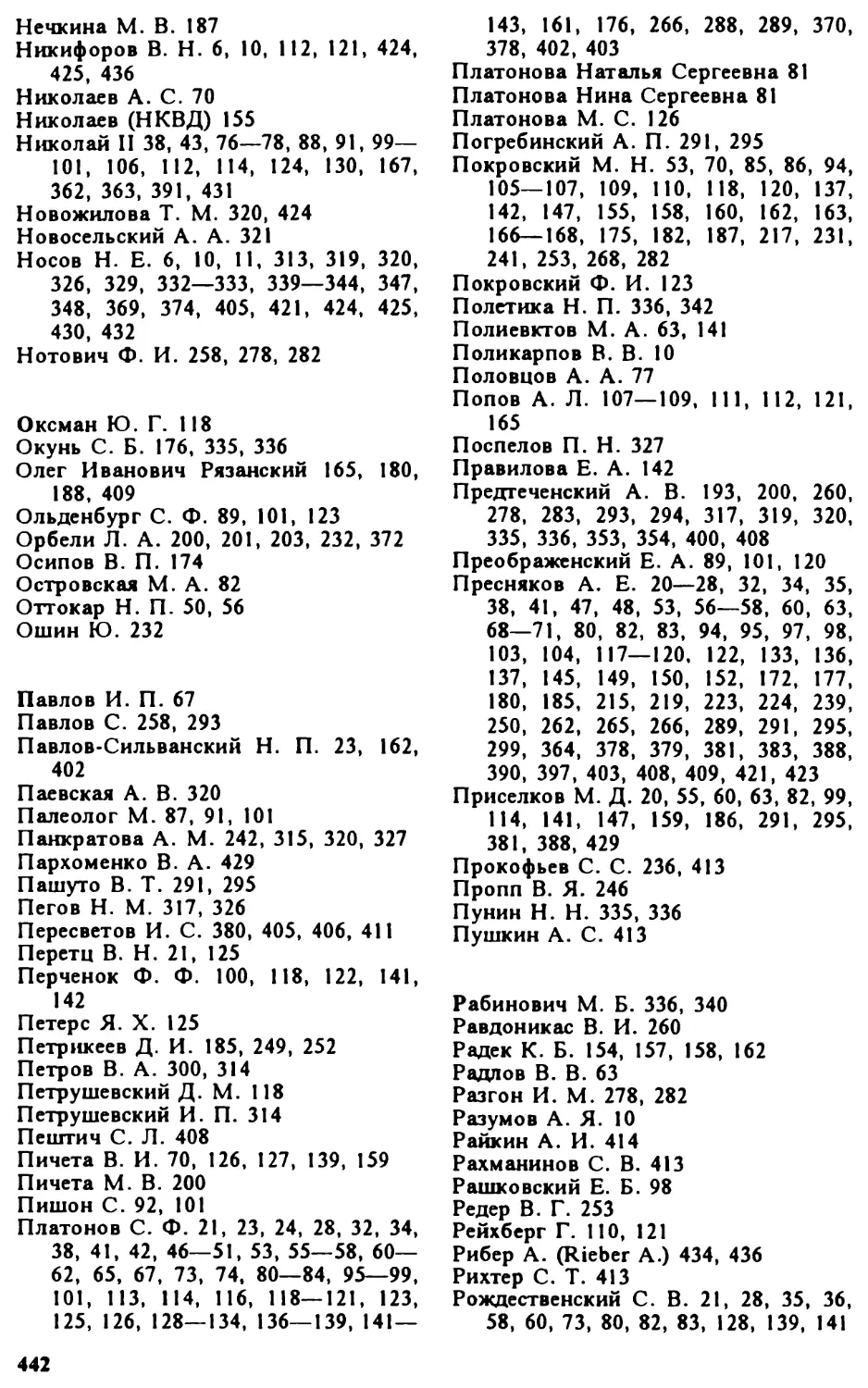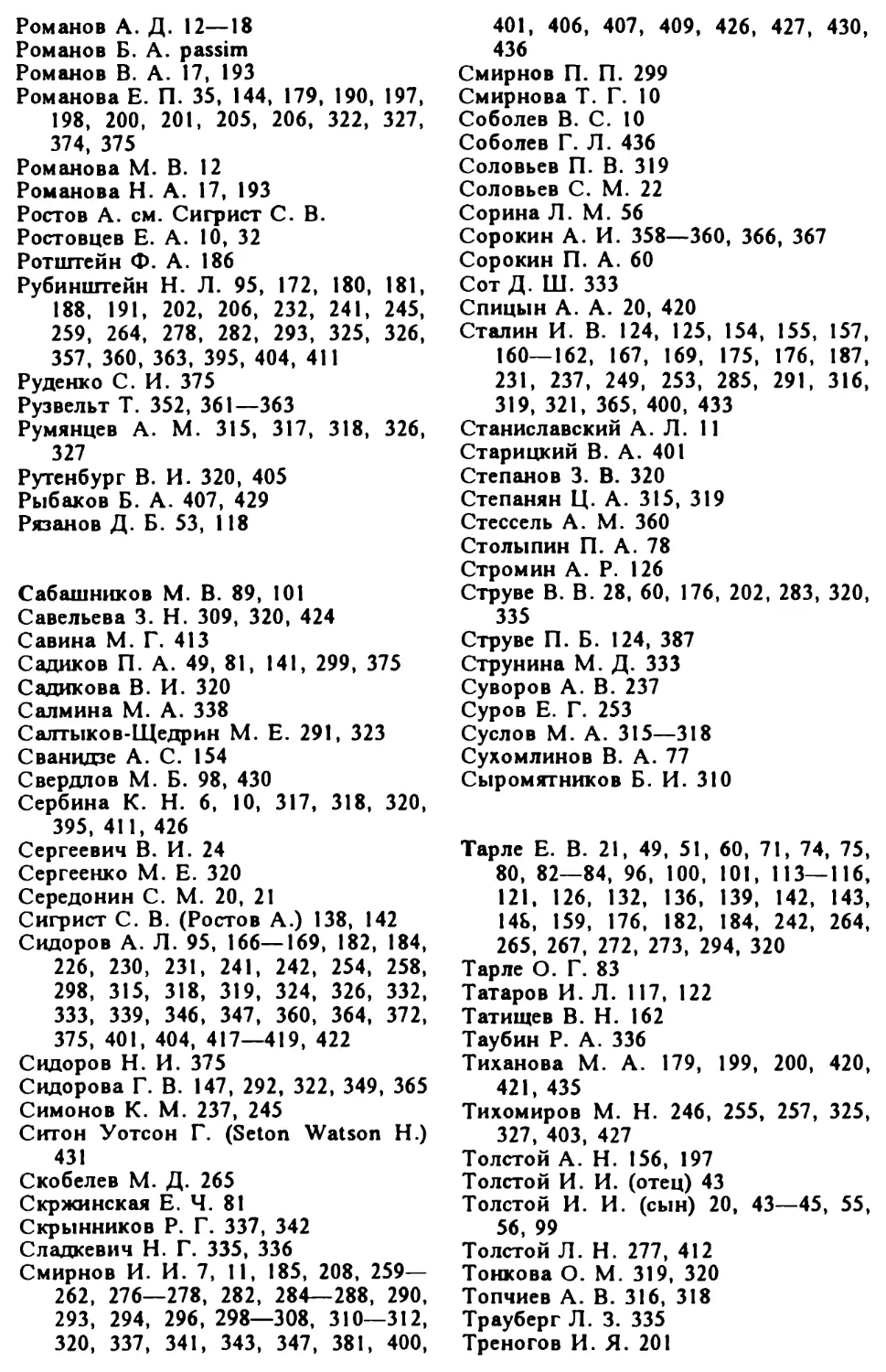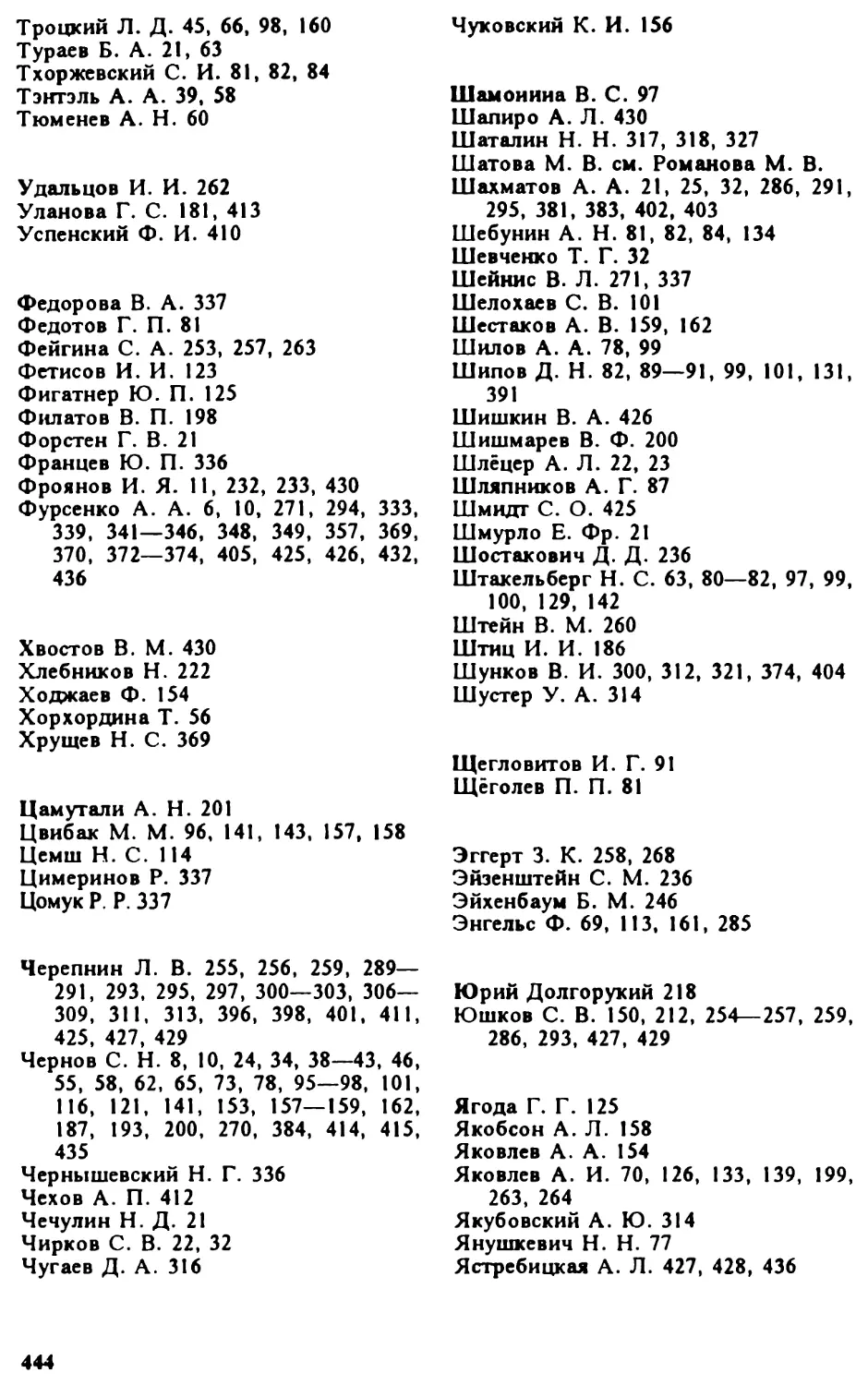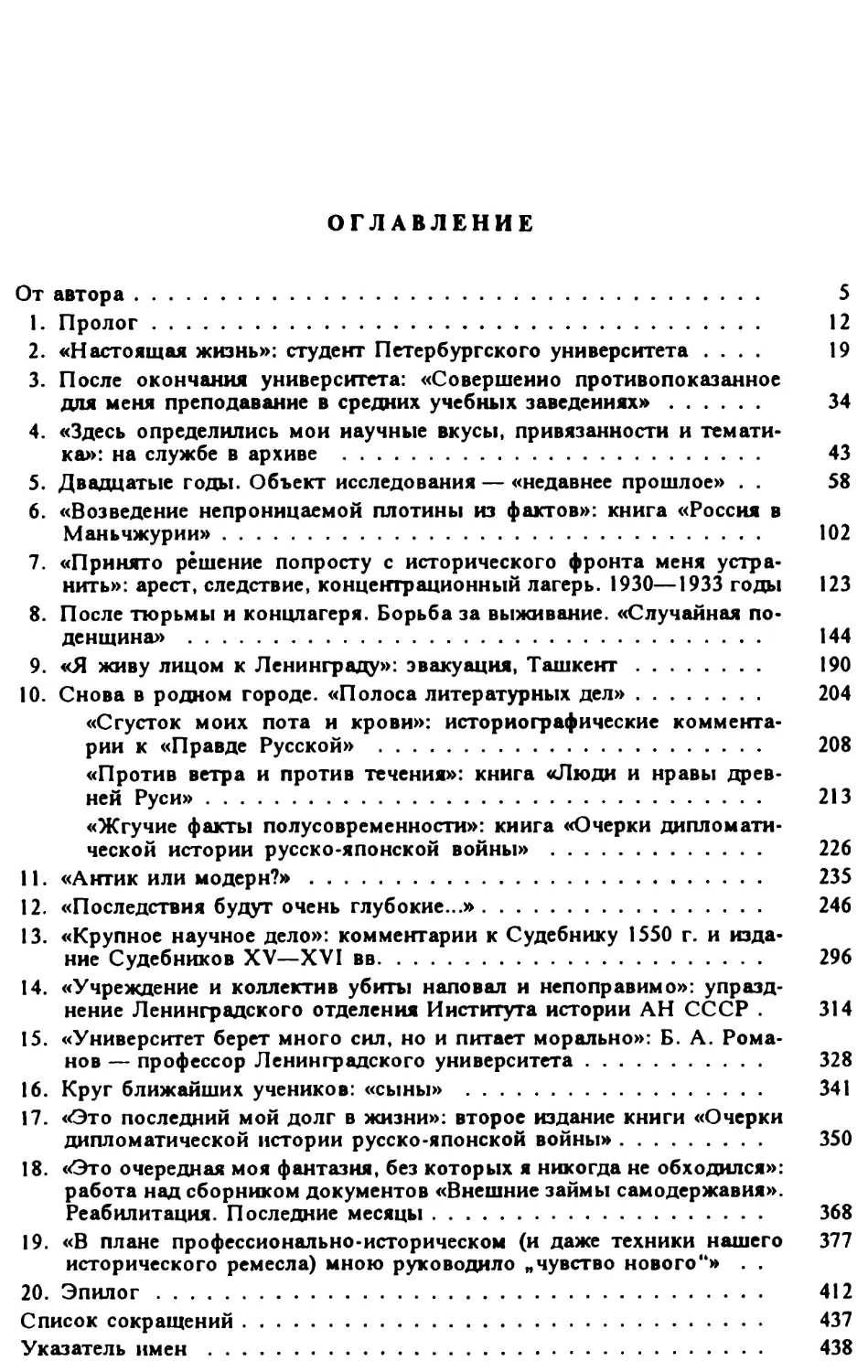Автор: Панеях В.М.
Теги: история история россии биография историка борис романов
ISBN: 5-860007-222-8
Год: 2000
Текст
РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ НАУК
ИНСТИТУТ РОССИЙСКОЙ ИСТОРИИ
С.-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ФИЛИАЛ
В. М. ПАНЕЯХ
ТВОРЧЕСТВО
И СУДЬБА
ИСТОРИКА:
БОРИС АЛЕКСАНДРОВИЧ
РОМАНОВ
С.-ПЕТЕРБУРГ
2000
Б Л. Романов (1951 г.)
В книге освещен жизненный и творческий путь выдающегося историка
Б. А. Романова (1889—1957). Получив профессиональное образование в до-
революционном Петербургском университете как специалист по истории
древней Руси, Б. А. Романов после Октябрьской революции стал активно
разрабатывать проблемы внешней и внутренней политики России конца
XIX—начала XX в. Он оставил глубокий след в историографии. Его перу
принадлежит монография «Россия в Маньчжурии» (1928), «Люди и нравы
древней Руси» (1947), «Очерки дипломатической истории русско-японской
войны» (1947, 1955), комментарии к «Правде Русской» (1940, 1947). «Судеб-
нику 1550 г.» (1952), ряд статей и публикаций источников. Работы
Б. А. Романова основываются на блестящей источниковедческой технике,
отличаются новаторством, отточенным литературным стилем, парадоксаль-
ностью, оригинальностью. Он опережал свое время, в котором ему прихо-
дилось жить и творить (20—50-е годы), — время идеологического гнета,
принудительного единомыслия, проработок и репрессий. Б. А. Романов раз-
делил участь многих представителей петербургской исторической школы,
был репрессирован в 1930 г. по так называемому Академическому делу
1929—1931 гг., отбывал срок заключения на строительстве Беломоро-Бал-
тийского канала, подвергался высылке на 101-й км, гонениям и проработ-
кам, он постоянно ощущал себя аутсайдером советской исторической науки.
Б. А. Романов в период недолгого преподавания в Ленинградском универ-
ситете (1944—1953 гг.) создал свою школу, воспитал замечательных истори-
ков.
Рецензенты:
академик Б. В. АНАНЬИЧ,
доктор исторических наук М. Б. СВЕРДЛОВ
Издание осуществлено при финансовой поддержке
Российского гуманитарного научного фонда
согласно проекту № 00-01-16010д
ISBN 5-860007-222-8
•6л.
ааучнип б'лбшотекь
В- Г. Бздвнсюте
С В. М. Панеях, 2000
© «Дмитрий Буланин», 2000
Ученикам
Бориса Александровича
Романова
ОТ АВТОРА
Когда уходит из жизни крупный ученый, память о нем
хранят его ученики, друзья и коллеги. Но и с их уходом она
постепенно угасает. Для новых поколений их предшествен-
ник предстает только как автор книг и статей — не больше
того. Иногда его труды становятся объектами различных ис-
ториографических интерпретаций. Еще реже — о творческом
пути рассказывают несколько небезошибочных статей. Оста-
ется непроясненным многое, необходимое для понимания не-
повторимой личности.
В какой среде он формировался? Кого он считал своими
учителями? Как складывался его авторский почерк? Каковы
были условия, в которых существовала наука и работал
автор? Как власти относились к нему? Каковы были внешние
влияния? Как автор пережил эпоху террора и идеологиче-
ского гнета? Как он работал над своими книгами, как сло-
жилась их судьба? В чем особенности его профессиональной
техники исследования и мастерства историка? Каков круг его
общения? В чем заключалось его педагогическое мастерство?
Чем он притягивал к себе научную и студенческую моло-
дежь? Обрел ли он при жизни причитающейся ему славы и
общественного признания? В чем, наконец, феномен его лич-
ности?
Эти нелегкие вопросы я задавал себе, когда писал книгу
о Борисе Александровиче Романове (1889—1957). Над ними
мне приходилось задумываться и ранее, вновь и вновь вчи-
тываясь в его работы, вспоминая многие часы и дни об-
щения с ним на протяжении 9 лет, в попытке постигнуть сек-
реты его выдающегося таланта и мастерства. Задача отве-
тить на те же вопросы стояла до того и перед С. Н. Валком,
с которым он учился примерно в одно время в Петербург-
ском университете, вместе работал в Центрархиве (20-е
годы), в Ленинградском отделении Института истории АН
5
СССР (1944—1957 гг.) и в Ленинградском государственном
университете (1944—1950 гг.), и Д. С. Лихачевым, истори-
ком литературы, также в одно время с Б. А. Романовым ра-
ботавшим на историческом факультете и немало общавшим-
ся с ним. Они были первыми, напечатавшими вскоре после
кончины Б. А. Романова замечательные мемориальные ста-
тьи.1 Эти ученые позднее написали еще по статье о нем —
для первого сборника памяти Б. А. Романова (1971 г.).2
Через 11 лет известный московский востоковед и историо-
граф В. Н. Никифоров, который при жизни Б. А. Романова
не был с ним знаком, опубликовал статью, приуроченную к
его 80-летию, в которой охарактеризовал главным образом
труды ученого, посвященные исследованию дальневосточной
политики самодержавия в конце XIX—начале XX в.,3 пере-
печатав ее затем в своей книге.4 Дважды писал об учителе
один из его ближайших учеников А. А. Фурсенко — первый
раз к 100-летию Б. А. Романова,5 затем для второго сборни-
ка статей его памяти (1991 г.).6 В этом же сборнике опубли-
кованы работы и других ближайших учеников Б. А. Рома-
нова, посвященные анализу его творчества, — Б. В. Ананьи-
ча,7 Р. Ш. Ганелина8 и моя,9 а также С. Г. Беляева10 и
К. Н. Сербиной.11 Н. Е. Носов к моменту подготовки этого
сборника, к сожалению, скончался, и потому статья, пред-
ставленная его наследниками, посвящена другой проблема-
тике.12 Но Н. Е. Носов был инициатором и ответственным
редактором первого сборника памяти Б. А. Романова.
Казалось, такое изобилие работ могло бы исчерпать эту
тему. Однако когда я в 1989 г. впервые только лишь при-
коснулся к ней, написав статью «Проблемы истории России
эпохи феодализма в научном наследии Б. А. Романова»,13 то
уже тогда понял, что это не так. Не на все вопросы, пере-
численные в начале этого предисловия, были получены от-
веты. Кроме того, цензурные ограничения не позволили ав-
торам ряда статей осветить те или иные стороны его био-
графии, даже упоминание о которых было под запретом. И
я постепенно стал все более и более углубляться в эту про-
блему, пытаясь постичь секреты выдающегося таланта и мас-
терства Б. А. Романова, воссоздать характерологические
особенности его личности. В результате появилась серия ста-
тей, в которых получили освещение отдельные стороны его
творческой жизни и судьбы: «Б. А. Романов об издании
„Духовных и договорных грамот...“ и задачах археогра-
фии»,14 «Б. А. Романов о типе комментариев к Судебникам
XV—XV вв.»,15 «Борис Александрович Романов (1889—1957).
Трудная судьба ученого»,16 «Борис Александрович Романов:
6
Письма друзьям и коллегам»,17 «Борис Александрович Рома-
нов (1889—1957)»,18 «„Настоящая жизнь": Борис Александро-
вич Романов — студент Петербургского университета. 1906—
1911 годы»,19 «„Люди и нравы древней Руси" Бориса Алек-
сандровича Романова: судьба книги»,20 «Борис
Александрович Романов»,21 «Борис Александрович Романов
и Иван Иванович Смирнов»,22 «Михаил Илларионович Ар-
тамонов и Борис Александрович Романов», «„Россия в
Манчьжурии" Бориса Александровича Романова: судьба
книги».23 Последняя статья написана в соавторстве с
Б. В. Ананьичем. Все они в том или ином виде вошли в на-
стоящую книгу, решение о работе над которой было принято
мной по совету моих друзей — ближайших учеников
Б. А. Романова.
В этой связи прежде всего потребовалось определить круг
источников. Разумеется, одними из важнейших являются
труды ученого. Сам Б. А. Романов писал в другой связи, что
«методологические воззрения» историка «подлежали бы вы-
яснению в первую очередь по опубликованным исследовани-
ям» (А. С. Кану. 3 декабря 1950 г.). Но они лишь в скрытом
виде могут свидетельствовать об этических принципах, кото-
рых придерживался Б. А. Романов применительно к научному
творчеству. В некоторой степени по его работам можно судить
о личностных чертах автора. Однако уже изданные книги и
статьи не предоставляют возможности судить о процессе и
этапах работы над ними. Для этого следовало подвергнуть
анализу рукописи автора, равно как и ту часть научного на-
следия, которая осталась неизданной либо и не предназнача-
лась к опубликованию (внутренние отзывы, тексты речей и вы-
ступлений, отчеты, заявления, докладные записки). Изучены
также документальные материалы (дипломы, трудовые списки
и книжки, справки, выданные Б. А. Романову, списки науч-
ных трудов, автобиографии и т. д.). Наконец, одним из важ-
нейших источников является эпистолярное наследие Б. А. Ро-
манова. Именно по письмам можно в некоторой степени су-
дить о его отношении к ситуации в стране, в науке, в тех
учреждениях, в которых он работал или с которыми тесно со-
прикасался, о том, что Б. А. Романов думал об условиях, в
которых протекала его деятельность ученого и профессора
университета, как он оценивал человеческие и профессиональ-
ные качества коллег, в чем особенность его отношения к дру-
зьям, коллегам и ученикам, наконец, что он писал о своих за-
мыслах и путях их реализации.
Б. А. Романов любил переписываться и всегда находил
для этого время. Так, в неотправленном письме от 19 фев-
7
раля 1953 г. он благодарит Е. Н. Кушеву за письмо и про-
должает: «Эта форма общения на расстоянии мне симпатич-
нее, чем телефон. Говорить труднее...». Он был подлинным
мастером эпистолярного жанра. Б. А. Романов придержи-
вался в переписке определенной тактики. На личные письма,
говорил он, следует отвечать в день их получения, а на де-
ловые — не ранее, чем на следующий день.25 Адресатами
Б. А. Романова были десятки людей. В молодости он писал
от руки, впоследствии, когда была приобретена пишущая ма-
шинка и оказался поврежденным глазной нерв, отстукивал
их, за исключением тех случаев, когда оказывался вне дома
(в санатории, на даче). Именно эта особенность облегчает
доступ к письмам Б. А. Романова, как правило, оставлявше-
го у себя их отпуск. В его фонде (в Архиве С.-Петербург-
ского филиала Института российской истории РАН) сохра-
нились не только те материалы, о которых шла речь выше,
но и сотни таких отпусков писем, относящихся к послевоен-
ному периоду. Архивные ссылки при их цитировании не да-
ются, а в тексте отмечается только адресат и дата. Исполь-
зованы в книге и письма Б. А. Романова, хранящиеся в фон-
дах других архивохранилищ (ОПИ ГИМ, ОР РГБ, ОР РНБ,
ПФА РАН и др.), а также у самих адресатов Б. А. Рома-
нова.
Особо следует остановиться на переписке Б. А. Романова
с Е. Н. Кушевой, работавшей в Институте истории АН
СССР, ученице П. Г. Любомирова и С. Н. Чернова — бли-
жайших, еще со студенческих лет, друзей Б. А. Романова.
Это целый комплекс, представляющий исключительный ин-
терес.26 Первое из сохранившихся его писем ей было отправ-
лено в 1942 г. из Ташкента в хлопковый совхоз, затем (после
возвращения из эвакуации) Б. А. Романов регулярно писал
Е. Н. Кушевой из Ленинграда в Москву — вплоть до 1957 г.
Содержание этих писем весьма разнородно. Но в центре его
внимания неизменно оказываются творческие планы, «отче-
ты» о ходе текущей работы, сообщения о субъективных и
объективных трудностях и препятствиях, суждения о работах
и докладах коллег, описания (иногда подробные) научных
заседаний, обоснование своей позиции в связи с различными
коллизиями научной и общественной жизни, сообщения о ра-
боте учеников, оценка конфликтных ситуаций и позиций сто-
рон, в том числе своей, раздумья по поводу общественной
атмосферы в стране, ее влияния на развитие исторической
науки. Нередко Б. А. Романов прилагал к своим письмам
документы — планы, тексты своих институтских отчетов о
проделанной работе, тексты своих выступлений на заседани-
8
ях, даже свои статьи в стенгазете, сопровождая указаниями,
что он пересылает эти материалы «для архива».
Это обстоятельство и ряд других косвенных признаков
позволяют предположить, что между Б. А. Романовым и
Е. Н. Кушевой была договоренность, согласно которой его
письма к ней заменяли собой дневник и были в то же время
частичным дубликатом архива автора. О том свидетельству-
ет и упоминание в письме к ней об отклоненной журналом
«Вопросы истории» рецензии на издание «Духовных и дого-
ворных грамот великих и удельных князей», текст которой
Б. Д. Греков «возможно сдаст <...> Вам в „архив"» (из дру-
гого письма: «Не было бы странным, чтобы она дошла до
Вас для приобщения к делам»). Такая необычная на первый
взгляд форма ведения «дневника» и хранения архива вполне
объяснима, если принять во внимание трагические страницы
биографии Б. А. Романова. Именно арест Б. А. Романова в
январе 1930 г. привел к тому, что были конфискованы его
бумаги, в том числе готовые, но еще не опубликованные ра-
боты, письма и другие материалы.
Для описания следствия по сфабрикованному «Академи-
ческому делу», по которому проходил Б. А. Романов, были
привлечены материалы, хранящиеся в Архиве Управления
ФСБ по С.-Петербургу и области, в том числе протоколы
допросов и собственноручных показаний, а также реабили-
тационные документы.
Борис Александрович Романов был и остается моим
единственным учителем. Поэтому я работал над книгой и с
энтузиазмом, и с чувством благодарности. При этом я не
предавался иллюзиям, что мне удастся воссоздать его образ
во всей полноте — человека незаурядного, обладавшего вы-
дающимся талантом, интересы которого были многогранны,
а жизнь трагичной. Подобные претензии свидетельствовали
бы лишь о непонимании масштабов его личности и преуве-
личенных представлениях о своих возможностях.
И все же это не в полной мере книга ученика о своем
учителе. Я поставил перед собой в качестве основной
цели — написать работу об ученом, представителе петер-
бургской исторической школы, работавшем на переломе
эпох, сполна испытавшем такие удары судьбы, которые
укоротили его жизнь и не дали возможности всецело реа-
лизовать его потенциал. Поэтому мои собственные воспо-
минания играют в книге лишь минимальную и подчинен-
ную роль, поскольку предпочтение отдавалось более объ-
ективным свидетельствам.
9
Считаю своим приятным долгом выразить искреннюю
благодарность коллегам — Б. С. Кагановичу, А. П. Купай-
городской, В. В. Поликарпову, А. Я. Разумову, Е. А. Рос-
товцеву, Т. Г. Смирновой, В. С. Соболеву, оказавшим мне
помощь при сборе архивных материалов. Не могу не вспом-
нить в этой связи о Е. Н. Кушевой, рассказывавшей мне о
Б. А. Романове и его друзьях — П. Г. Любомирове и
С. Н. Чернове. Многим обязан я также Л. Е. Косенко, осу-
ществившей перепечатку моей рукописи на компьютере. На-
конец, эта книга наверняка не была бы написана, если бы
не неоценимая дружеская поддержка и постоянная помощь
ближайших учеников Б. А. Романова — моих друзей —
Б. В. Ананьича, Р. Ш. Ганелина и А. А. Фурсенко. Много
сделал для увековечения памяти нашего учителя рано скон-
чавшийся его ученик Н. Е. Носов (1924—1985), а его чрез-
вычайно ценные воспоминания о Б. А. Романове весьма по-
могли мне при работе над этой книгой.
ПРИМЕЧАНИЯ
1 Волк С. Н. Борис Александрович Романов//ИЗ. 1958. Т. 62. С. 269—
282; Лихачев Д. С. Борис Александрович Романов и его книга «Люди и
нравы древней Руси»//ТОДРЛ. М.; Л., 1958. Т. 15. С. 486—495 (перепечат-
ка: Прошлое — будущему: статьи и очерки. Л., 1985. С. 469—285).
* Волк С. Н. Борис Александрович Романов // Исследования по соци-
ально-политической истории России: Сб. статей памяти Бориса Александро-
вича Романова. Л., 1971. С. 8—38; Лихачев Д. С. Б. А. Романов и его «гид»
Даниил Заточник//Там же. С. 39—43.
3 Никифоров В. Н. Борис Александрович Романов (К восьмидесятиле-
тию со дня рождения)//Народы Азии и Африки. 1969. № 3. С. 206—210.
4 Никифоров В. Н. Советские историки о проблемах Китая. М.. 1970.
С. 340—345.
5 Фурсенко А. А. О жизненном пути Б. А. Романова//ВИ. 1989. № И.
С. 155—162.
6 Фурсенко А. А. Борис Александрович Романов//Проблемы социаль-
но-экономической истории России: К 100-летию со дня рождения Бориса
Александровича Романова. СПб., 1991. С. 5—18.
7 Ананьич Б. В. Мемуары С. Ю. Витте в творческой судьбе Б. А. Ро-
манова//Там же. С. 30—40.
8 Ганелин Р. Ш. Б. А. Романов — историк революционного движения
в России//Там же. С. 41—53.
9 Панеях В. М. Б. А. Романов об издании Судебников XV—XVI вв. //
Там же. С. 19—29.
10 Беляев С. Г. Б. А. Романов-архивист//Там же. С. 57—62.
11 Сербина К. Н Из воспоминаний о Б. А. Романове//Там же. С. 54—
56.
10
12 Носов Н. Е. Русский город феодальной эпохи: проблемы и пути изу-
чения//Там же. С. 63—71.
13 История СССР. 1989. № 1.
14 Реализм исторического мышления: Проблемы отечественной истории
периода феодализма: Чтения, посвященные памяти А. Л. Станиславского:
Тезисы докладов и сообщений. М., 1991.
15 АЕ за 1990 г. М., 1992.
16 Новая и новейшая история. 1993. № 1.
17 ОИ. 1993. № 3.
18 Историки России XVIII—XX вв.: Архивно-информационный бюлле-
тень № 14: Приложение к журналу «Исторический архив». [М.], 1996.
Вып. 3.
19 Средневековая и новая Россия: Сб. статей: К 60-летию профессора
Игоря Яковлевича Фроянова. СПб., 1996.
20 ТОДРЛ. СПб., 1996. Т. 50.
21 Историческая наука России в XX в. М., 1997.
22 У источника: Сб. статей в честь члена-корреспондента РАН
С. М. Каштанова. М., 1997.
23 С.-Петербургский университет. 1998. № 27 (3494).
24 Россия в XIX—XX вв.: Сб. статей к 70-летию со дня рождения
Р. Ш. Ганелина. СПб., 1998.
23 Так, 27 августа 1950 г. Б. А. Романов писал И. И. Смирнову: «Во-
преки обычаю, отвечаю не в тот же день».
26 Письма Б. А. Романова Е. Н. Кушевой были сданы ею в Архив РАН
вместе с остальной частью ее богатого архива, но я использовал их отпуски.
Часть писем я скопировал еще при ее жизни, благодаря тому, что она раз-
решила мне их взять на некоторое время и даже увезти из Москвы в Ле-
нинград.
ПРОЛОГ
Могли ли предугадать родители жизненный путь и судь-
бу своего сына, названного Борисом, родившегося в Петер-
бурге 29 января (10 февраля) 1889 г., младшего из детей в
семье профессора Института инженеров путей сообщения
Александра Дементьевича Романова и школьного врача
Марии Васильевны (урожденной Шатовой)? В конце 80-х
годов прошлого века люди этого круга едва ли задумыва-
лись о возможности бурных революционных потрясений.
Они не могли даже предположить, что им самим и их детям
придется пережить три революции, последняя из которых
круто изменит все общественные отношения в стране и их
устойчивый и казавшийся благополучным жизненный уклад,
а сын Борис в результате этого подвергнется репрессиям и
гонениям, проведет несколько лет в тюрьме и концентраци-
онном лагере, станет известным ученым, памяти которого
будут посвящаться книги и издаваться сборники статей.
Ничто, казалось бы, не предвещало и выбора Б. А. Ро-
мановым профессии историка. Ведь ни его родители, ни его
родственники не были профессионально связаны с гумани-
тарными науками. Его мать принадлежала к южнорусскому
дворянскому роду, воспитывалась в семье военного, дослу-
жившегося до полковничьего чина. Отец А. Д. Романова
происходил из нижегородских государственных крестьян, в
50—60-х годах XIX в. служил межевщиком в Нижегородской
палате государственных имуществ, а его мать до замужества
была дворовой крепостной? Об отце Б. А. Романова извест-
но существенно больше, чем о его матери.
А. Д. Романов родился в 1853 г. в многодетной семье.
Его биография характерна для людей, вышедших из низов
и поднявшихся в верхи общества в условиях пореформен-
12
ной России исключительно благодаря их талантам и рабо-
тоспособности. Учась в Нижегородской гимназии с
1863 г., А. Д. Романов вынужден был одновременно да-
вать частные уроки, чтобы как-то прожить и помогать
семье родителей. После окончания с золотой медалью гим-
назии А. Д. Романов в 1870 г. стал студентом физико-ма-
тематического факультета Петербургского университета по
математическому разряду, где и получил математическое
образование. В 1874 г. он сразу же по окончании универ-
ситета поступил на 3-й курс Института инженеров путей
сообщения. Можно предположить, что стремление овладеть
другой профессией было связано с бурным ростом желез-
нодорожного строительства в 70—80-е годы, открывавшим
возможность проявить себя человеку и из низов именно
на этом новом поприще. Еще будучи студентом института,
А. Д. Романов принимал участие в строительстве Орен-
бургской железной дороги.
Завершил образование в институте он в 1877 г. и полу-
чил звание гражданского инженера с правом производства
строительных работ и с правом на чин коллежского секре-
таря, после чего А. Д. Романов поступил на службу в
армию, где от рядового вольноопределяющегося I разряда в
запасном батальоне лейб-гвардии Семеновского полка за
2 года прошел путь через чины унтер-офицера, портупей-юн-
кера до подпоручика первого железнодорожного батальона
в Москве.
Уволившись с воинской службы «по прошению» в 1879 г.,
А. Д. Романов начал преподавательскую деятельность в ка-
честве внештатного репетитора в своей второй alma mater,
куда его пригласил его учитель, профессор и заведующий ка-
федрой паровой механики и паровозов Л. А. Браков. Одно-
временно А. Д. Романов работал в Техническо-инспектор-
ском комитете железных дорог. И в дальнейшем он совме-
щал практическую работу в железнодорожном ведомстве с
педагогической и научной деятельностью в Институте инже-
неров путей сообщения. В институте А. Д. Романов сделал
блестящую карьеру, начало которой было положено перево-
дом на должность штатного репетитора. Репетиторы, как и
профессора, получали твердый оклад—вне зависимости от
числа читаемых лекций. В 1887 г. А. Д. Романов переводит-
ся на должность экстраординарного профессора, а в 1896 г.
становится ординарным профессором по кафедре приклад-
ной механики, которую и возглавил. Наконец, по выслуге
25 лет, в 1904 г., он получил звание заслуженного профессо-
ра Института инженеров путей сообщения и чин действи-
13
тельного статского советника. А. Д. Романов читал курс
лекции «Теория паровых машин», «Паровозы», «Подъемные
машины»; два последних лекционных курса были опублико-
ваны. В сфере исследовательской работы А. Д. Романов,
развивая теорию паровозов, разработал метод расчета паро-
возных шатунов и предложил вместо криволинейного графи-
ка силы тяги — параболический.2
Практическая деятельность А. Д. Романова в железнодо-
рожном ведомстве связана была, в частности, с зарубежными
поездками. Так, в 1877 г. его командировали в Германию
для приемки рельсов, тогда же он побывал во Франции и в
Бельгии, а в 1892 г. — в США для изучения вопроса об об-
служивании паровозов сменными бригадами. Возвратился из
Америки А. Д. Романов через Тихий океан и тем самым со-
вершил кругосветное путешествие.
Внешне неожиданной была добровольная отставка
А. Д. Романова, как только им был выслужен необходимый
стаж для получения пенсии. Прекратил свою преподаватель-
скую деятельность в 1909 г. 56-летний преуспевающий про-
фессор и практическую работу—крупный инженер. Можно
предполагать, что им двигали иные интересы, которым он
хотел посвятить себя, освободившись от государственной
службы.
Еще в гимназические времена А. Д. Романова захватила
страсть к овладению языками. Тогда он самостоятельно, без
учителя, начал изучать английский и итальянский. Впослед-
ствии он посвящал освоению иностранных языков все сво-
бодное время, став полиглотом. Реализовывал свой не такой
уж распространенный дар А. Д. Романов во время много-
численных поездок в Европу, Америку, Азию и Северную
Африку, используя для этого отпускное время и командиров-
ки. После же выхода в отставку он проводил многие месяцы
и годы в путешествиях, в ходе которых углублял и расширял
свои знания. Так, летом в 1911 г. А. Д. Романов провел
3 месяца в Ченду — главном городе китайской провинции
Сычуань, где не только изучал китайский язык (вместе с бу-
дущим крупнейшим ученым-китаистом В. М. Алексеевым),
но и попробовал записывать китайскую речь в транскрипции
латинскими буквами, потерпев, по его словам, как это было
и с другими иностранцами, неудачу, после чего, в результате
«нескольких проб, решил остановиться на русском алфавите
как наиболее богатом». Результатом этого опыта стала на-
писанная в 1913 г. брошюра «О транскрипции звуков китай-
ского языка», которая, однако, из-за начавшейся войны была
напечатана в Типографии имп. Академии наук только в
14
1916 г.3 Предпослав своей работе два эпиграфа («Ап inpre-
tentious contribution to knowledge»4 и пушкинскую строку
«Твой труд тебе награда»), А. Д. Романов в кратком преди-
словии обрисовал мотивы, приведшие его к решению выпол-
нить эту работу: «И малый труд, за который пришлось
взяться по собственному побуждению и совершенно беско-
рыстно,— труд, без всяких претензий относительно его зна-
чения, но старательно и любовно выполненный, может до-
ставить большое удовлетворение, независимо от того, что
скажут о нем другие».
Выход в свет этой брошюры застал А. Д. Романова в
Европе, куда он уехал лечиться в 1914 г. и откуда сумел
вернуться только в 1920 г. В постскриптуме к предисло-
вию, написанном в Риме 12 апреля 1915 г., он сообщал,
что «имел случай в Национальной центральной библиотеке
г. Рима ознакомиться с книгой <...>, где автором приме-
нена своя собственная транскрипция и приведен список
односложных слов северного мандаринского наречия», а
затем в Неаполе познакомился с «бароном Гвидо Витале,
профессором китайского и русского языков в тамошнем
Восточном институте». Закончил свой постскриптум
А. Д. Романов прочувственной фразой: «От работы своей
получено мной все, чего только мог желать: душевное
удовлетворение и ряд светлых радужных минут, — и она
совпала у меня со временем обеспеченных и очарователь-
ных переживаний, — с той счастливой порой, когда я, на-
слаждаясь красотами природы и произведениями искусств,
жил преимущественно в области духа, и когда моим мыс-
лям не приводилось испытать никаких помех, ни угнете-
ния, хотя мне пришлось болеть сердцем за пострадавших
от войны и за тех, кто должен был нести на себе ее тя-
жести и терпеть невзгоды». Кроме этой работы А. Д. Ро-
манов подготовил также китайско-русский словарь по пе-
кинскому говору в новой транскрипции и несколько изме-
ненному алфавиту, но он так и не был издан.
Во время своих зарубежных путешествий А. Д. Романов
посещал музеи, выставки, промышленные и просветительские
учреждения. В Дании он заинтересовался одной из высших
народных школ и пришел к заключению, что «для подъема
культуры и распространения образования, то есть для увели-
чения духовного и материального <...> благосостояния, по-
добные школы для взрослых представляют могучее средство
<...> Они служат культурными центрами, оказывающими
воздействие на окрестное население». Интерес к проблемати-
ке, как и в случае с китайским языком, столь далекой от
15
прежних профессиональных занятии А. Д. Романова, был
настолько глубоким, что в 1908 г. он даже напечатал в жур-
нале «Вестник знания» статью «О народных школах в Дании,
Швеции и Финляндии». После летних поездок за границу в
период, когда он еще работал в институте, А. Д. Романов
выступал со своеобразными отчетами. Так, сохранилось от-
печатанное в типографии объявление о его сообщении, на-
меченном на 26 ноября 1906 г., которое должно было состо-
яться в актовом зале.
Совершенное владение иностранными языками позволило
А. Д. Романову проявить еще одну сторону своего дарова-
ния. Он интенсивно занимался переводческой работой, вы-
полнив и издав не только несколько переводов специальной
литературы, касающейся его профессии, но и автобиографию
«Из рабства к благам жизни» Букера Т. Вашингтона (1856—
1915) — чернокожего общественного деятеля США, выдви-
нувшего программу обучения негров сельскохозяйственным
наукам и ремеслам. Сопроводив свой перевод кратким пре-
дисловием, А. Д. Романов писал, что Букеру Вашингтону
«посчастливилось не только выработать из себя человека с
хорошим образованием, но и много сделать для распростра-
нения просвещения между своими соплеменниками», и «чем
больше будет таких тружеников», работающих «над просве-
щением народных масс, тем лучше для остальных классов
общества и вообще для всего человечества». Эти высказыва-
ния А. Д. Романова свидетельствуют о широте его воззре-
ний, неприятии расовых предрассудков и ксенофобии.
Отец Бориса Александровича Романова, таким образом,
был разносторонне образованным человеком, чьи интересы
распространялись на языки, искусство, науку, культуру, фи-
лософию, религию, социологию. Возможно, именно эта куль-
турная домашняя атмосфера способствовала возникновению
у Б. А. Романова интереса к исторической науке.
По приезде А. Д. Романова в 1920 г. из последней, став-
шей длительной, поездки за границу, он, лишенный после ре-
волюции пенсии, вынужден был принять неожиданное для
него приглашение — возобновить преподавание в Институте
инженеров железнодорожного транспорта. Своего сына,
Б. А. Романова, он застал уже давно женатым человеком,
работающим в Центрархиве. Длительные отлучки отца из
дома не могли не сказаться на их отношениях, утративших
прежнюю близость. Но Б. А. Романов высоко ценил его,
любил рассказывать о своей поездке с отцом за границу
(ставшей единственной), считал его незаурядным человеком
16
и неординарной личностью. А. Д. Романов скончался в
1923 г., а его жена пережила мужа на 4 года.
Старший брат Б. А. Романова — Вадим — пошел по сто-
пам отца и стал инженером-путейцем, сестра — Нина — учи-
тельницей.
Петербургская гимназия Человеколюбивого общества
стала школой, где Б. А. Романов получил среднее образова-
ние. Уже здесь, по его воспоминаниям, у него зародился тот
подход, который, развившись, становится одним из принци-
пов его профессиональной работы: «Еще учась по учебнику
Виппера в школе, я приучал себя, что-нибудь изучая, огля-
дывать шире весь горизонт в поисках откликов, сопоставле-
ний и перекликаний» (Е. Н. Кушевой. 16 октября 1954 г.).
Во время летних гимназических каникул 1905 г, накануне
последнего гимназического учебного года, отец взял своего
младшего сына с собой в Европу, как писал сам Б. А. Ро-
манов в одной из своих анкет, «с образовательной целью».5
Они побывали в Германии, Бельгии, Англии, Франции, Ис-
пании, Швейцарии и Австро-Венгрии. Александр Дементье-
вич ввел юношу в самую гущу культурной жизни европей-
ских стран, знакомил с учеными, деятелями культуры, водил
в музеи, университеты и библиотеки. Наибольшее впечатле-
ние на взрослеющего гимназиста произвела Англия — с ее
традициями, демократическими устоями и незыблемым пар-
ламентаризмом.
По возвращении домой после устоявшейся атмосферы За-
пада гимназист Борис Романов сразу окунулся в бурные со-
бытия 1905—1906 гг., коснувшиеся и средних учебных заве-
дений Петербурга. В гимназии Человеколюбивого общества,
как и в других гимназиях, образовался для руководства дви-
жением совет старост, в который входил и ученик выпуск-
ного класса Б. Романов. Совет старост объявлял забастовку
гимназистов, приветствовал введение педагогическим сове-
том гимназии автономии («с глубоким приветом товарищам
педагогам за их смелое и решительное выступление в борьбу
с отживающим режимом») и осудил их вскоре за отмену пед-
советом этой автономии, заявив о «враждебном отношении»
в связи с этим к тем же педагогам.6 Несомненно, эти дейст-
вия, как и представление о самодержавии, только что про-
игравшем войну с Японией, разделялись гимназистом Б. Ро-
мановым, поскольку он входил в этот совет старост.
Закончил гимназию он с золотой медалью через полго-
да— весной 1906 г.
17
1
ПРИМЕЧАНИЯ
1 Здесь и далее биографические данные об А. Д. Романове почерпнуты
из сохранившихся его документов в личном фонде Б. А. Романова (Архив
СПб. ФИРИ, ф. 298, on. 1, д. 1).
2 См.: Ленинградский Институт железнодорожного транспорта им. ака-
демика В. Н. Образцова. 1809—1959. М.. 1960. С. 130.
3 Романов А. Д., инженер, заслуженный профессор. О транскрипции зву-
ков китайского языка. Пг., 1916.
4 «Вклад интерпретаций в познание» (англ.).
5 Архив СПб. ФИРИ, ф. 298, on. 1, д. 5.
6 Волк С. Н. Борис Александрович Романов // Исследования по соци-
ально-политической истории России: Сб. статей памяти Бориса Александро-
вича Романова. Л., 1971. С. 8.
— 2 —
«НАСТОЯЩАЯ ЖИЗНЬ»:
СТУДЕНТ ПЕТЕРБУРГСКОГО УНИВЕРСИТЕТА
В 1906 г. Б. А. Романов поступил в Петербургский уни-
верситет на историческое отделение историко-филологиче-
ского факультета. Как он сам писал, именно здесь, в стенах
Петербургского университета, для него и его сверстников,
куда они «рвались» «каждый из своего уголка, каждый со
своей биографией, со своей „программой**, со своими чая-
ниями, но все <...> с одинаковым напряжением», наступила
«настоящая жизнь».1
Первое же впечатление было, однако, иным: им показа-
лось, что они угодили в настоящий хаос, который привнесла
в университет порожденная революцией 1905—1906 гг. новая
общественная атмосфера. Она, по свидетельству С. Н. Вал-
ка, сделала время их пребывания в Петербургском универси-
тете «самым блестящим периодом во всей почти вековой до-
революционной» его истории.2
В конце лета 1906 г., незадолго до начала занятий
Б. А. Романова на первом курсе, высочайшим указом Прави-
тельствующему сенату о временных правилах восстанавлива-
лась автономия университета, вводилось избрание ректора и
проректора его Советом, а деканов — факультетами? Одно-
временно изменялся и сам порядок получения высшего обра-
зования. Если до того существовала так называемая курсовая
система (возрожденная в послеоктябрьский период), то взамен
ее вводилась предметная система. Факультет устанавливал
лишь обязательный перечень дисциплин, экзамены по кото-
рым необходимо было сдать в любые сроки и в любой после-
довательности. Кроме того, студент должен был получить за-
четы по просеминарию и трем (по выбору) семинариям. Время
пребывания в университете не устанавливалось, посещение
19
лекций было необязательным. По выполнении всех требова-
ний студент получал выпускное свидетельство, дающее право
сдавать государственные экзамены — и снова через любое
число лет. Такая система была востребована революционными
событиями 1905—1906 гг., в которых участвовали и студенты
Петербургского университета, запустившие вследствие этого
свои учебные дела и не имевшие возможности вновь вклю-
читься в учебный процесс, опиравшийся на последовательную
курсовую систему. Но безотносительно к тому, что явилось
непосредственным импульсом к изменению системы универси-
тетского образования, это был шаг вперед в деле подготовки
прежде всего самостоятельно и профессионально мыслящих
специалистов.
Вчерашние гимназисты, как писал Б. А. Романов, очень
быстро поняли: новая, на их глазах складывавшаяся атмо-
сфера «свободного выбора и неподсказанных решений» ста-
вит перед ними задачу «не только присутствовать при „тво-
рении“, не столько чувствовать себя ее жертвами, сколько
самим творить свою жизнь, утверждать свое существование
в мельчайших его подробностях». Немудрено, что в этих ус-
ловиях их «жизненная мускулатура» развивалась «свободно
и здорово».4
Конечно же, одна только система прохождения универси-
тетских курсов, сколь впечатляющей она ни была, оказалась
бы бесплодной, если бы на историко-филологическом факуль-
тете к этому времени не сложился уникальный коллектив пре-
подавателей. Именно с 1906 г. он стал существенно обновлять-
ся за счет прихода ряда приват-доцентов и возвращения ранее
уволенных или ушедших профессоров, поддержавших студен-
ческие требования в 1899 г. Так, 1 сентября 1906 г. вернулся
в качестве приват-доцента по кафедре русской словесности
С. А. Венгеров, прекративший до того здесь работу в 1899 г.;
тогда же пришел на кафедру всеобщей истории приват-доцент
В. Н. Бенешевич; вновь стал преподавать на той же кафедре
маститый профессор Н. И. Кареев, прервавший здесь работу
в 1899 г.; сюда же в 1907 г. приглашается приват-доцент
П. К. Коковцов, а на кафедру истории церкви И. Д. Андреев.
Наконец, со второго года обучения Б. А. Романова (1907 г.)
приват-доцентом по кафедре русской истории становится
А. Е. Пресняков, сыгравший одну из решающих ролей в про-
фессиональном его становлении. Позднее — в 1908—1910 гг.
на факультете начали работать А. С. Архангельский,
В. М. Истрин, М. К. Клочков, М. Д. Приселков, С. М. Сере-
донин, А. А. Спицын, И. И. Толстой. Но и помимо этих
новых и заново приглашенных преподавателей в составе про-
20
фессоров и приват-доцентов историко-филологического фа-
культета оставался к 1906 г. ряд выдающихся ученых —
С. Ф. Платонов, А. С. Лаппо-Данилевский, А. А. Шахматов,
Э. Д. Гримм, И. А. Бодуэн де Куртенэ, И. М. Греве,
С. А. Жебелев, В. Н. Перетц, С. В. Рождественский,
Е. В. Тарле, Б. А. Тураев, Г. В. Форстен и др.5 Какая блестя-
щая плеяда!
К началу XX в. формировавшаяся с 30-х годов XIX в.
петербургская историческая школа достигла своего апогея.
Именно Петербургский университет, наряду с Академией
наук, был тем учреждением, где плодотворно работали ее
самые выдающиеся представители.
Одним из основоположников петербургской историчес-
кой школы по справедливости признается специалист по
античности М. С. Куторга, начавший чтение лекций в Пе-
тербургском университете в 1836 г. М. С. Куторга и его уче-
ники в исследовании во главу угла ставили требование на-
учного критического отношения к источникам и в этом су-
щественным образом расходились при определении задач
изучения истории с профессорами Московского университе-
та, прежде всего с Т. Н. Грановским. Эстафету от М. С. Ку-
торги принял В. Г. Васильевский, крупнейший византинист,
под влиянием которого находились многие ученые более мо-
лодого поколения, в частности С. Ф. Платонов, Н. Д. Чечу-
лин, Е. Фр. Шмурло, С. М. Середонин, В. Г. Дружинин,
А. С. Лаппо-Данилевский. За ними следовали их ученики
С. В. Рождественский, А. Е. Пресняков и др.6
Если М. С. Куторга стоял у истоков петербургской ис-
торической школы, то, как считал С. Н. Валк, «ярким завер-
шением процесса ее создания стало творчество А. Е. Прес-
някова, и никто лучше его не представил основных черт ее
научного облика». А. Е. Преснякову был присущ интерес к
общим вопросам истории и социологии уже в ранние годы
его научной деятельности, но первая его студенческая работа
«в традициях петербургской школы» была посвящена изуче-
нию источника — «летописного памятника».7 А. Е. Пресня-
ков естественно считал себя представителем петербургской
исторической школы и в речи перед своим докторским дис-
путом в 1918 г. определил ее особенности. Доминирующую
черту школы он охарактеризовал как «научный реализм, ска-
зывавшийся прежде всего в конкретном, непосредственном
отношении к источнику и факту — вне зависимости от исто-
риографической традиции», в восстановлении прав источни-
ка и факта, получающих более полное и непосредственное
значение вне подчинения их подбора, анализа и построения
21
какой-либо заранее установленной схеме, вне социологиче-
ского догматизма, вредящего критическому отношению к
источникам. А. Е. Пресняков отметил, что в трудах предста-
вителей так называемой юридической школы, выдающимися
представителями которой были С. М. Соловьев и В. О. Клю-
чевский, при исследовании ими процесса образования Рус-
ского государства в XV в. «теоретический подход к материа-
лу <...> обратил данные первоисточников в ряд иллюстра-
ций готовой, не из них выведенной схемы, защищаемой
историко-социологической доктрины». В результате эти ис-
торики отбирали заведомо менее достоверные источники, в
частности отдавали предпочтение поздним источникам, отка-
зываясь при этом от более ранних, исключительно потому,
что они «лучше иллюстрировали принятую схему», «господ-
ство теоретических построений <...> привело к такому одно-
стороннему подбору данных, при котором отпадало из ком-
плекса все, что не годилось для иллюстрации установленной
схемы, не подтверждало ее предпосылок». Эта система исто-
рического мышления, по мнению А. Е. Преснякова, сложи-
лась «под влиянием немецкой идеалистической философии и
представляет собой отражение гегельянства».8
Петербургская историческая школа фактически была про-
тивопоставлена А. Е. Пресняковым московской, которую он
отождествил с «юридической школой» и которая, в частно-
сти, отличалась большей идеологизированностью, склонно-
стью к систематизации, вследствие чего материал, извлекае-
мый из источников, не играл подобающей ему роли, и под-
ход к нему страдал излишней теоретичностью.9 Дело было,
как справедливо отметил С. В. Чирков, в различном «отно-
шении историков к письменному памятнику и источнику и
тех корнях исследовательской методики, которую можно
обозначать как культуру исследования». При этом тщательно
документированное изложение в трудах петербуржцев, где
«слово „не от источников" расценивалось как слово от лу-
кавого», противостояло намеренному затушевыванию мос-
квичами-историками, особенно В. О. Ключевским, «огром-
ной предварительной работы над источником». Художествен-
но-исторический синтез москвичей противостоял «результату
скрупулезного документального анализа петербуржцев».10
Показательно, что П. Н. Милюков, яркий представитель
московской исторической школы, упрекал петербургских уче-
ных в излишней приверженности к источнику. Он считал,
что эта традиция восходит еще к А. Л. Шлёцеру, который
утверждал, что «русскую историю нельзя писать, не изучив
предварительно критически ее источников». И хотя, по мне-
22
нию П. Н. Милюкова, подход Шлёцера означал «переход от
компиляторов XVIII века к научному изучению истории, к
концу XIX в. он устарел и доживал в Петербурге свой век».
Обращение же петербургских историков к общим проблемам,
по мнению П. Н. Милюкова, стало результатом влияния
московской школы. Он даже вспоминал о своем посещении
в начале 90-х годов XIX в. «кружка русских историков», воз-
никшего еще в 80-х гг. как неформальное объединение науч-
ной молодежи, во главе которого встал С. Ф. Платонов, где
делал доклад, который, как ему представлялось, дал «новый
толчок» к уже проявившемуся «компромиссному» направле-
нию с «сохранением специфических петербургских огово-
рок». Признаки такого компромисса П. Н. Милюков обна-
ружил в известной книге С. Ф. Платонова о Смуте XVII в.,
в которой первая часть посвящена критике источников, а во
второй части изложена история Смуты «по-московски». «Ши-
роко и отвлеченно» могли мыслить также А. С. Лаппо-Да-
нилевский, Н. П. Павлов-Сильванский и А. Е. Пресняков.11
Безотносительно к тому, были ли петербургская и мос-
ковская школы резко противостоящими (как считал
А. Е. Пресняков) или уже в конце XIX в. испытывали вза-
имовлияние (по П. Н. Милюкову), следует признать, что
внутри петербургской исторической школы в начале XX в.
существовало два направления, представленные наиболее яр-
кими их фигурами — С. Ф. Платоновым и А. С. Лаппо-Да-
нилевским. Если для С. Ф. Платонова и его учеников харак-
терен был более «художественный» и в то же время эмпири-
ческий подход к задачам и методам исторического познания,
то А. С. Лаппо-Данилевский и его ученики стремились вы-
работать строгий научный метод исторического исследова-
ния.12
Б. А. Романов высоко ценил оба эти направления, особо
выделяя стоявшего несколько особняком А. Е. Преснякова.
Он стремился воспринять лучшие черты, свойственные петер-
бургской исторической школе, и в силу этого считал для себя
полезным посещение семинариев по русской истории и
С. Ф. Платонова, и А. С. Лаппо-Данилевского, и А. Е. Пре-
снякова.
По личным же склонностям, врожденной интуитивности
натуры, образному мышлению Б. А. Романов безусловно
склонялся к направлению, возглавлявшемуся С. Ф. Платоно-
вым (в орбите которого в то время находился и А. Е. Прес-
няков). Не случайно в его семинарии Б. А. Романов прора-
ботал больше, чем у других преподавателей — 3 года, а в се-
минарии А. С. Лаппо-Данилевского — всего один год.
23
На первом году обучения Б. А. Романов прослушал
общий курс русской истории, читавшийся С. Ф. Платоно-
вым. Через 15 лет, еще при жизни профессора, Б. А. Рома-
нов отмечал «литературную манеру чтения в аудитории» и
«обаяние этой манеры», которое «всегда было заключено в
том, что <...> казалось, что вам читают по тексту, а вы с
удивлением замечали, что перед вами свободная изустная
речь», в процессе которой перед студентами разворачивалась
картина «непрекращавшейся миниатюрной исследователь-
ской разработки частностей, выносившихся на кафедру и там
претерпевавших звуковое гранение».13
В университетские годы ближайшими друзьями Б. А. Ро-
манова стали Б. В. Александров, П. Г. Любомиров и
С. Н. Чернов, с которыми сохранились на всю жизнь дове-
рительные отношения (П. Г. Любомиров умер в 1935 г.,
Б. В. Александров — во время блокады Ленинграда,
С. Н. Чернов погиб в Пушкине в 1942 г. во время немецкой
оккупации). Для семинария С. Ф. Платонова Б. А. Романов
подготовил доклады «Окладные единицы в Московском го-
сударстве», «О приписках к царственной книге и Никонов-
ской летописи».14 Сохранились и наброски его выступления
«Замечания к докладу П. Г. Любомирова о методах
В. И. Сергеевича»15.
Но основными для Б. А. Романова стали все же занятия
у А. Е. Преснякова, которого он всю жизнь называл своим
учителем. Приглашенный в 1907 г. в университет в качестве
приват-доцента, по словам Б. А. Романова, «под прямым
влиянием роста научной требовательности студенческой ау-
дитории», А. Е. Пресняков включился в программу «специ-
альных — не эпизодических, а плановых — курсов по боль-
шим отделам общего курса для студентов, избравших своей
специальностью историю России», которые читались парал-
лельно «с ежегодно повторяемым годичным <...> общим кур-
сом профессора С. Ф. Платонова». Именно в рамках этой
программы А. Е. Пресняков «получил специальный курс Ки-
евской Руси», который состоял из лекций и семинария. В
следующих учебных годах он прочитал такие же курсы по
истории Западной Руси, Литовско-Русского государства, Се-
веро-Восточной Руси и Московского государства.1*
Б. А. Романов сразу же стал слушателем лекций
А. Е. Преснякова и активным участником его семинария, в
котором работал в течение двух учебных лет.17 Более того,
он неожиданно явился к А. Е. Преснякову на дом, что, как
отметил С. Н. Валк, «было необычно по тем временам»,18
чтобы заявить о своем желании заниматься у него. Это не
24
только не оттолкнуло преподавателя от молодого 18-летнего
студента, но послужило отправной точкой, с которой нача-
лось их сближение, переросшее со временем в тесные дру-
жеские отношения, основанные на взаимной глубокой при-
вязанности.
В семинарии А. Е. Преснякова, темой которого были ле-
тописи, Б. А. Романов менее чем через полгода, в первые
месяцы 1908 г., выступил с докладом «Сословия Киевской
Руси».19 Доклад произвел на руководителя настолько боль-
шое впечатление, что он предложил студенту второго года
обучения переработать его в статью, получившую новое за-
главие — «Смердий конь и смерд (В летописи и Русской
правде)». Рекомендуя статью и ее автора, А. Е. Пресняков
писал редактору авторитетного академического журнала
«Известия Отделения русского языка и словесности» акаде-
мику А. А. Шахматову: «В воскресенье к Вам, вероятно,
явится студент Романов и представит Вам статью: о смер-
дьем коне и смерде. Он читал ее со мною и отчасти перера-
ботал ее по моим указаниям. Я и направил его, чтобы он
ее Вам снес. Интересно, как Вы ее найдете».20 А. А. Шахма-
тов нашел статью Б. А. Романова заслуживавшей быстрей-
шего опубликования, и она вышла в свет в том же году,
когда была сдана.21 Несомненно, в ней легко обнаруживается
влияние А. Е. Преснякова, особенно излагавшейся им в лек-
ционном курсе концепции «княжого права» и «княжой защи-
ты». Вместе с тем и сам учитель в вышедшей вскоре книге,22
защищенной в качестве магистерской диссертации, 5 раз со-
слался на статью своего ученика, отметив, в частности,
новое прочтение им текста Лаврентьевской летописи за
1103 г. о Долобском междукняжеском съезде, касающегося
участия смердов в предпринимаемом походе на половцев, и
значение, придаваемое в княжеских спорах смердьим лоша-
дям (без которых, по Б. А. Романову, князья не могли от-
правляться в большие походы).
Уже в первом научном труде Б. А. Романова прогляды-
вают некоторые принципы, ставшие впоследствии элемента-
ми его научного credo: стремление к новаторству, интуиция,
которая проверялась строгим источниковедческим исследова-
нием, стройная логика аргументов, фантазия, позволявшая
сопрягать и сопоставлять отдаленные источники, факты и
явления, осторожность в выводах, кажущихся на первый
взгляд окончательными, сочетающаяся со смелостью гипотез
и предположений, психологический подход при характерис-
тике людских побуждений, художественная образность. Сам
Б. А. Романов отсчитывал с года публикации этой статьи
25
свой путь в науке. Она сразу же обратила на себя внимание
ученых. Достаточно указать, что на эту статью специальной
рецензией откликнулся М. С. Грушевский.23
Симптоматично, что следующей печатной работой
Б. А. Романова стали указатели (имен, авторов и предмет-
ный) к упомянутой выше книге А. Е. Преснякова. По этому
поводу А. Е. Пресняков писал 14 сентября 1908 г.: «Прихо-
дил Романов. Принес корректуру своей статьи. Ему очень
хочется быть причастным к печатанию моих „Очерков** —
предлагал помочь мне в корректуре — и остался очень дово-
лен, когда я предложил ему составить указатель».24 В преди-
словии к книге эта работа особо отмечена автором: «Сер-
дечное спасибо Б. А. Романову, оказавшему мне и книге
моей незаменимую дружескую услугу составлением указате-
лей».25
К роли А. Е. Преснякова в своем становлении как уче-
ного, упоминаниям о его поддержке, о солидарной позиции
с ним Б. А. Романов неоднократно возвращался на протяже-
нии всей жизни.
Стремление учиться у специалистов разных направлений
привело Б. А. Романова в 1909/10 учебном году и «в знаме-
нитый, в свое время, постоянный семинарий Лаппо-Данилев-
ского по дипломатике частных актов Московского перио-
да»,26 тема которого была сформулирована так: «Анализ и
интерпретация актов, касающихся истории прикрепления
крестьян в Московском государстве». До этого Б. А. Рома-
нов вместе с другими только что принятыми на историко-
филологический факультет студентами уже в первый год обу-
чения прослушал курс А. С. Лаппо-Данилевского «Методо-
логия истории». Выступая через 9 лет на его чествовании,
Б. А. Романов поделился своими тогдашними впечатления-
ми неофита, попавшего «прямо с гимназической скамьи» в
самое пекло дисциплины, «о существовании которой едва ли
все у нас знали». Вначале, в первом полугодии — «интерес-
но, понятно, но трудно, так как требует неослабного внима-
ния к каждому слову». Затем — «еще не столько трудно для
понимания, сколько тяжело для того, чтобы перенести»:
«Какой-то странный стыд за наше невежество давил на наше
сознание», и «мы перестали понимать», это «непонимание
как-то углублялось, чем дальше, тем больше». Зато во вто-
ром полугодии студенты к своей выстраданной «умственной
радости» «стали вдруг вновь понимать». Понимать, в част-
ности, что это «было совсем не похоже на другие лекции,
даже философские», где они «видели фасад и не знали чер-
новой работы», в отличие от лекций А. С. Лаппо-Данилев-
26
ского, где «требовалась самодисциплина, упорное внимание,
непрерывная работа ума без надежды на отдых в течение
часа». В аудитории, отмечал Б. А. Романов, «царила какая-
то строгость; во время чтения она ясно сознавалась, как не-
умолимая».27
Именно эти впечатления о курсе лекций А. С. Лаппо-Да-
нилевского привели Б. А. Романова в 1909/10 учебном году
и в его семинарий. Данный выбор был одобрен А. Е. Прес-
няковым, который, следя за работой своего ученика, с из-
вестной долей беспокойства писал: «Интересно, какую репу-
тацию заработает Романов у Лаппо-Данилевского».28 Но эти
опасения оказались неосновательными. Уже в октябре 1909 г.
Б. А. Романов выступил у него с докладом «Летописные из-
вестия о смердах с точки зрения истории прикрепления крес-
тьян», а затем представил исследование «История кабально-
го холопства»29. В самом заглавии работы был некоторый
вызов семинарским традициям: ведь, согласно им, рассмот-
рению должны были подвергаться отдельные разновидности
актов и только. Этот аспект нашел отражение, но лишь в
первой части доклада — «Формуляр служилой кабалы, его
видоизменения и образование формуляра 1680 г.». Вторая же
его часть — «Главные моменты в развитии кабальной зави-
симости»— начиналась словами: «...предшествующие замеча-
ния мои носят характер служебный». Тем самым Б. А. Ро-
манов отвел дипломатике место вспомогательной дисципли-
ны для исторического исследования, и в этом также
содержался элемент вызова, поскольку, по представлению
адептов школы А. С. Лаппо-Данилевского, «изучение акта
переставало <...> быть единственным средством для более
умелого прикладного его использования», и «он начинал
жить (в сознании участников семинария.—В. П.) <...> осо-
бою своей индивидуальной жизнью», с учетом которой ста-
вилась «цель, новая для русской науки», — «дать живую ис-
торию акта», вследствие чего дипломатика могла приобре-
тать «независимое значение».30 К тому же к моменту чтения
доклада Б. А. Романовым вышла в свет статья самого
А. С. Лаппо-Данилевского, посвященная изучению служи-
лых кабал,31 — и это поставило в деликатное положение и
докладчика, и руководителя семинария. По свидетельству
С. Н. Валка, участвовавшего в его обсуждении, «текст само-
го кабального исследования являлся сочетанием точности
мысли и во многом литературной изысканности языка».32
Б. А. Романов изучил около 700 изданных служилых кабал,
составил график о-статистические таблицы, дававшие основы
для суждений о движении общего клаузального состава этого
27
вида частных актов, каждого из элементов клаузул и для за-
ключительного содержательного вывода, согласно которому
в письменный договор кабальной службы проникают две
идеи — фиктивность сделки займа и служба кабального че-
ловека по смерть его господина.
В бумагах Б. А. Романова сохранились и материалы к
его выступлению в семинарии А. С. Лаппо-Данилевского с
возражениями В. В. Струве, прочитавшему доклад о жилых
записях.33 По словам самого Б. А. Романова, он весьма су-
рово критиковал будущего выдающегося востоковеда.
Оценивая общую атмосферу семинария А. С. Лаппо-Да-
нилевского, Б. А. Романов впоследствии писал: в аудитории
Александра Сергеевича «можно получить строгое научное
воспитание и внутренне-культурный закал <...> Там <...> не
дадут мыслить не строго, там научат <...> уважать чужую
мысль; там упорно вяжется культурная традиция, там неуга-
симый очаг честной мысли».34
Кроме семинариев С. Ф. Платонова, А. Е. Преснякова и
А. С. Лаппо-Данилевского Б. А. Романов участвовал также
в работе семинариев С. В. Рождественского (русская исто-
рия), И. М. Гревса (средневековая история Западной Евро-
пы) и Э. Д. Гримма (история древнего Рима).
Несмотря на широкие возможности, предоставляемые фа-
культетом для профессиональной подготовки, студенты-исто-
рики стремились углубить ее вне рамок учебного процесса.
По их инициативе на историческом отделении в 1909 г. был
организован кружок, председателем которого они избрали
А. С. Лаппо-Данилевского, а секретарем Б. А. Романова,
который затем, в 1910 г., стал его казначеем.35 27 января
того же года он впервые посетил Русскую секцию Истори-
ческого общества при Петербургском университете в качест-
ве гостя.36
Университетские профессора стремились привлечь своих
наиболее талантливых студентов к той внеучебной литератур-
ной деятельности, которой они сами руководили. Так,
А. Е. Пресняков, работавший редактором отдела русской ис-
тории энциклопедического словаря «Русская энциклопедия»
издательства «Деятель», пригласил к сотрудничеству Б. А. Ро-
манова. Для «Нового энциклопедического словаря» Брокгауза
и Ефрона, редактором аналогичного отдела которого был
С. В. Рождественский, Б. А. Романов также написал большое
число статей.
Революционная эпоха, начавшаяся в 1905 г., захлестнула,
как уже было отмечено, и студенческие аудитории. Поступив
в университет тогда, когда ее первая волна пошла на спад,
28
Б. А. Романов остался в стороне от студенческих волнений
1906 г. Но в 1908 г. они возобновились. По мере того, как
студенты съезжались после летних каникул, становилось
ясно, что сходки неизбежны, и возникла угроза студенческих
забастовок. 13 января состоялось разрешенное четырехты-
сячное собрание студентов, которое в резолюции, направлен-
ной Совету университета, потребовало отменить запрет ми-
нистра народного просвещения от 3 мая 1908 г. функциони-
рования собрания факультетских старост; обеспечить
свободу науки и образования, восстановить полную свободу
студенческих собраний, организаций и их представительства;
допустить женщин к университетскому образованию, а также
всех лиц, окончивших средние учебные заведения (реальные
училища, семинарии, коммерческие училища, корпуса); отме-
нить процентную норму для евреев; отменить требование
предоставлять свидетельства о политической благонадежно-
сти для приема в университет.37
Ответ Совета университета, заседание которого состоя-
лось уже на следующий день, 14 сентября 1908 г., был вы-
держан в умиротворяющих тонах, но содержал заверение в
том, что он и «впредь будет отстаивать <...> неприкосновен-
ность» университетской автономии, провозглашенной «высо-
чайшим указом 27 августа 1905 г.».38 Совет, однако, не пред-
отвратил студенческую забастовку, которая была объявлена
20 сентября. Аудитории опустели, чтение лекций прекрати-
лось. Кончилось все тем, что в здание университета были
введены городовые. Это было воспринято как унижение для
всех, причастных к нему, — и профессуры, и студенческой
массы.
Б. А. Романов, по-видимому, активного участия в орга-
низации забастовки не принимал, но воздерживался от посе-
щения лекций в силу солидарности с выдвинутыми требова-
ниями. Он, как об этом сообщил позднее, был согласен с
позицией А. С. Лаппо-Данилевского, который, придя на
очередную лекцию, на кафедру не взошел, а предложил 6—7
присутствовавшим студентам, среди которых оказался и
Б. А. Романов, «обменяться взглядами на происходящее».
Б. А. Романов, произнося речь в 1915 г. на юбилее
А. С. Лаппо-Данилевского, сочувственно изложил содержа-
ние его выступления. Ученый поставил «вопрос не о целесо-
образности забастовки, а ее допустимости» в стенах универ-
ситета вообще: «...ничуть не отрицая необходимость протес-
та как момента политической борьбы», он «не считает
возможным делать университет ее ареной», поскольку «нель-
зя объективные культурные ценности нести в жертву иным
29
целям <...> эти ценности должны существовать как таковые,
неприкосновенно и непрерывно», особенно учитывая «дели-
катность культурной традиции и необходимость бережного с
ней обращения <...> хрупкость университета в русской дей-
ствительности». Вспоминая ответ А. С. Лаппо-Данилевскому
присутствовавших студентов, в том числе и свой, Б. А. Ро-
манов изложил его так: «Вас хорошо выслушали и очень хо-
рошо поняли; не хуже, чем Вы — наш ответ, что иначе — не
можем».39
В 1911 г. Б. А. Романов, выполнив все необходимые
формальности, получил выходное свидетельство. В 1911/12
учебном году он сдавал выпускные экзамены или, как тогда
их называли, — «испытания». На оценку «весьма удовлетво-
рительно» он написал сочинение и сдал основные испыта-
ния — по русской истории, древней истории, средневековой
истории, новой истории, истории славян, истории Византии,
истории церкви, истории древней философии; испытание по
истории новой философии было оценено на «удовлетвори-
тельно». Кроме того, Б. А. Романов подвергся дополнитель-
ным испытаниям: логика, психология, введение в языкозна-
ние, методология истории, греческий автор, латинский ав-
тор — «весьма удовлетворительно»; введение в философию —
«удовлетворительно». В качестве дипломного сочинения ему
была зачтена опубликованная статья о смерде и смердьем
коне. В результате экзаменов Б. А. Романов получил Дип-
лом первой степени об окончании историко-филологического
факультета С.-Петербургского университета, датированный
21 декабря 1912 г.40 Декабрем же датируется решение кафед-
ры русской истории об оставлении его при университете для
подготовки к преподавательской деятельности, но без сти-
пендии.41
Свои студенческие годы, свою alma mater, своих профес-
соров Б. А. Романов на протяжении всей жизни вспоминал
с неизменным ностальгическим чувством. Через 3 года после
того, как он покинул студенческую скамью, Б. А. Романов
говорил о своей любви к университету, такому, «каким он
был тогда», «когда мы впервые вошли сюда», что «навсегда
сохранит воспоминания» о нем «как самое яркое, живое,
цельное моральное переживание». Реальная картина студен-
ческих лет стояла перед его мысленным взором: «Длинные
хвосты канцелярских очередей и столовых стояний, пыль
столбом в коридоре, по которому едва продерешься бывало
до библиотеки, там предоконная толкотня с вытянутыми ру-
ками и подчас бесплодная, жар и духота в аудиториях, в ко-
торых никогда не сомневались, что они вместят всех и всем
зо
будет хорошо, несмолкающий гул этого этажа, нескромно
врывавшийся в аудиторию: мы любим и это...».42 Главное же
состояло в том, что, несмотря на пыльные коридоры и душ-
ные аудитории, студенты, сколь ни разнообразны были их
исторические интересы, без труда находили «удовлетворение
в многообразии университетского образования»,43 ценили
«заранее благожелательное отношение к личности».44
Прошло еще более 30 лет, и Б. А. Романов, приветствуя
в 1948 г. С. Н. Валка в день его 60-летия, вновь вспоминал
о годах студенчества, о «достославном университетском ко-
ридоре в главном здании, где сосредоточены были тогда гу-
манитарные факультеты». «И любили же мы этот кори-
дор!— воскликнул он. — Его никак не отмыслишь от наших
студенческих воспоминаний. Тогда в нем было теснее, чем
сейчас. Отапливался он печным способом: кафельные печи
по внутренней стене с круглыми черного железа печами в
простенках наружной стороны; по ней же вытянуты были на
нынешний взгляд совершенно экзотические, желтого дерева,
глухие, неостекленные, двуспального масштаба, двухметро-
вые в длину и аршинные в глубину, низкорослые, вечно за-
пертые, с покатой крышей вместилища, которые, вероятно,
назывались шкафами и несомненно выполняли их роль, а в
просторечии слыли когда бегемотами, когда обормотами или
ноевыми ковчегами». Говорил Б. А. Романов и о «несколько
слабом освещении еще угольных электроламп, дававших
красноватый свет сквозь накапливавшуюся к зимнему полу-
дню пыль коридора».45 За этими бытовыми воспоминаниями
проглядывала тоска по ушедшим в прошлое годам, ушедшим
из жизни университетским профессорам, ближайшим дру-
зьям, которых обретаешь в студенческую пору и которые ос-
таются единственными до кончины.
ПРИМЕЧАНИЯ
1 Романов Б. А. А. С. Л аппо-Данилевский в Университете: (Две речи)//
Русский исторический журнал. 1920. Кн. 6. С. 181 —182.
2 Волк С. Н. Борис Александрович Романов // Исследования по соци-
ально-политической истории России: Сб. статей памяти Бориса Александро-
вича Романова. Л., 1971. С. 8.
3 См.: Ленинградский университет. 1919—1944. М., 1945. С. 64—65.
4 Романов Б. А. А. С. Лаппо-Данилевский в Университете. С. 182.
5 Список профессоров и преподавателей историко-филологического фа-
культета императорского бывшего Петербургского, ныне Петроградского
университета с 1819 г. Пг., б. г.
31
6 Валк С. Н. Историческая наука в Ленинградском университете за 125
лет//Труды юбилейной научной сессии Ленинградского государственного
университета. Секция исторических наук. Л., 1948.
' Там же. С. 56—57.
8 Пресняков А. Е. 1) Речь перед защитой диссертации под заглавием
«Образование Великорусского государства». Пг., 1920. С. 5—6; 2) Образо-
вание Великорусского государства XIII—XV столетий. Пг., 1918. С. 25—26.
5 Пресняков А. Е. Речь перед защитой... С. 6.
10 Чирков С. В. Археография и школы в русской исторической науке
конца XIX—начала XX в.//АЕ за 1989 год. М., 1990. С. 21—27.
11 Милюков П. Н. Воспоминания. М., 1990. Т. 1. С. 161 —162.
12 См.: Валк С. Н. Выступление на объединенном заседании Института
истории и Общества историков-марксистов в феврале 1931 г.//Проблемы
марксизма. 1931. № 3. С. 115. Ср.: Ростовцев Е. А. А. С. Лаппо-Данилев-
ский и С. Ф. Платонов: (К истории личных и научных взаимоотношений)//
Проблемы социального и гуманитарного знания: Сб. научных работ. СПб.,
1999. Вып. 1. С. 128—165.
13 Романов Б. А. [Рец.] Акад. С. Ф. Платонов. Борис Годунов: Образы
прошлого. Пг., 1921//Дела и дни: Исторический журнал. 1921. Кн. 2.
С. 213.
14 Архив СПб. ФИРИ, ф. 298, on. 1, д. 22.
15 Там же, д. 23.
Романов Б. А. От редакции И Пресняков А. Е. Лекции по русской ис-
тории: Киевская Русь. М., 1938. Т. 1. С. V.
17 См. записную рабочую книжку А. Е. Преснякова, на обложке кото-
рой рукой ее владельца написано: «Темы. Библиографические заметки к
практич. занятиям». На листе, датированном 19 сентября 1909 г., автографы
участников семинария, в том числе Б. А. Романова («Борис Романов»),
Кондакова, Михаила Карповича, Георгия Князева. На листе, датированном
1909—1910 гг., снова автограф Б. А. Романова (Архив СПб. ФИРИ, ф. 193,
on. 1, д. 123, л. 1—2, 17).
18 Волк С. Н. Борис Александрович Романов//ИЗ. 1958. Т. 62. С. 269.
19 Сохранился черновик и беловик этого доклада (Архив СПб. ФИРИ,
ф. 298, on. 1, д. 19).
20 А. Е. Пресняков — А. А. Шахматову, 14 марта 1908 г.: ПФА РАН,
ф. 134, оп. 3, д. 1234, л. 57—57 об.
21 Известия Отделения русского языка и словесности. СПб., 1908. Т. 13.
22 Пресняков А. Е. Княжое право в Древней Руси: Очерки по истории
X—XII столетий. СПб., 1909.
23 Грушевский М. С. [Рец.] Романов Б. А. Смердш конь и смерд (в ле-
тописи и Русской Правде) // Записки наукового товариства 1мени Шевченка.
Льв1В, 1909. Т. 89, кн. 3. С. 184—185.
24 Архив СПб. ФИРИ, ф. 193, оп. 2, д. 9, л. 202.
25 Пресняков А. Е. Княжое право в Древней Руси. С. VIII.
26 Романов Б. А. Сигизмунд Натанович Валк [Речь на 60-летнем юбилее
С. Н. Валка] И Валк С. Н. Избранные труды по археографии: Научное на-
следие. СПб., 1991. С. 330.
27 Романов Б. А. А. С. Лаппо-Данилевский в Университете. С. 182—
183.
28 Цит. по: Валк С. Н. Борис Александрович Романов // Исследования
по социально-политической истории России. С. 13.
29 Архив СПб. ФИРИ, ф. 298, on. 1, д. 25.
30 Валк С. Н. Воспоминания ученика//Русский исторический журнал.
1920. Кн. 6. С. 192.
32
31 Л anno-Данилевский А. С. Служилые кабалы позднейшего типа//Сб.
статей, посвященных В. О. Ключевскому. М., 1909. С. 719—764.
32 Волк С. Н. Борис Александрович Романов // Исследования по соци-
ально-политической истории России. С. 14.
33 Архив СПб. ФИРИ, ф. 298, on. 1, д. 24.
34 Романов Б. А. А. С. Л аппо-Данилевский в Университете. С. 186.
35 Отчет о состоянии и деятельности императорского С.-Петербургского
университета за 1911 год. СПб., 1912. С. 134; Валк С. Н. Борис Александ-
рович Романов//Исследования по социально-политической истории России.
С. 14.
36 Историческое обозрение. СПб., 1911. Т. 16. Отд. II. С. 21.
37 Протоколы заседаний Совета Императорского С.-Петербургского
университета за 1908 год. СПб., 1909. № 64. С. 167—169.
3® Там же. С. 171.
39 Романов Б. А. А. С. Лаппо-Данилевский в Университете. С. 185.
40 Архив СПб. ФИРИ, ф. 298, on. 1, д. 2.
41 Там же, д. 6.
42 Романов Б. А. А. С. Лаппо-Данилевский в Университете. С. 181.
43 Там же. С. 186.
44 Там же. С. 185.
45 Романов Б. А. Сигизмунд Натанович Валк. С. 329.
2 В. М. Панеях
ПОСЛЕ ОКОНЧАНИЯ УНИВЕРСИТЕТА:
«СОВЕРШЕННО ПРОТИВОПОКАЗАННОЕ ДЛЯ МЕНЯ
ПРЕПОДАВАНИЕ В СРЕДНИХ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЯХ»
Оставление Б. А. Романова в университете для подготов-
ки к профессорской деятельности имело некоторую подопле-
ку, неприятную как для него, так и для его учителя.
А. Е. Пресняков, будучи приват-доцентом, знал, что судьба
его учеников всецело зависит от С. Ф. Платонова, профес-
сора, заведующего кафедрой, который только и мог прини-
мать решение по этому вопросу. Близость Б. А. Романова к
С. Ф. Платонову и незаурядные академические успехи этого
студента не могли вызвать и доли сомнения в том, как ре-
шится его судьба. И все же, очевидно, для А. Е. Преснякова
не все было ясно. Поэтому 29 мая 1913 г. он отправил
С. Ф. Платонову письмо, в котором в осторожной форме
интересовался судьбой своих учеников: «Чернов и Романов
окончили государственные экзамены; оба конечно по перво-
му разряду. Ведь с осени они оба — Ваши „оставленные" —
не так ли? Не зная, говорили ли Вы с ними, я их не решался
спросить об этом».1 Возможно все же, в этом вопросе содер-
жался и элемент лукавства. А. Е. Пресняков не мог оста-
ваться в стороне и в полном неведении. Его огорчало не
только то, что они выходили теперь из-под его формальной
опеки, но и лишение Б. А. Романова стипендии. Сам
Б. А. Романов, также обескураженный, впоследствии объяс-
нял это тем, что С. Ф. Платонов оставлял со стипендией
только своих непосредственных учеников. Таким образом, он
оказался перед необходимостью начинать трудовую жизнь в
качестве учителя гимназий и хотя бы временно прервать
столь успешно начатую исследовательскую работу.
34
Б. А. Романов и приступил к преподаванию в частной
сенской гимназии Михельсон и почти сразу же также в гим-
азии Таганцевой, предварительно оформив документы, не-
бходимые для утверждения в звании учителя. А. Е. Прес-
няков, узнав, что Б. А. Романов взял себе 11 уроков, посчи-
ал, что это «многовато».2 Однако вскоре Б. А. Романов
ришел к выводу, что преподавание в средних учебных за-
едениях «совершенно противопоказано» для него, и тяго-
ился этим видом деятельности, хотя именно она служила
му основным источником денежных средств. Вместе с тем
реподавание в гимназии привело к важнейшему изменению
его личной жизни и судьбе. Едва проработав год, он решил
сениться на своей ученице, Елене Павловне Дюковой. Об
том он считал необходимым поставить в известность своего
чителя, который тут же написал жене (25 июня 1913 г.): «А
егодня заходил Романов, сообщил мне, что женится, но не
аныпе, как через год», ей надо «хоть гимназию кончить,
еперь она в 8-й класс переходит, оттого он и отказался пре-
юдавать там. Может быть, это и глупо. Но ей-Богу хорошо,
ели в самом деле искренно, а видимо, что так. А подвел
[еня Романов. Я было все кончил в энциклопедии, а он
[еня, по влюбленности своей, надул с Ив. Грозным; придет-
я мне самому его написать»?
Они обвенчались 26 мая 1914 г., едва Е. П. Дюкова за-
ершила гимназический курс.4 Для этого пришлось испраши-
ать разрешение духовных властей, так как она не достигла
ще совершеннолетия. Этот брак оказался прочным, хотя и
•ездетным. Е. П. Романова скончалась в октябре 1977 г.,
[ережив своего мужа на 20 лет.
Женитьба привела к тому, что Б. А. Романову пришлось
думать об обеспечении семьи, и он вынужден был увеличить
вою нагрузку в гимназии. В 1915 г. он был приглашен на
►аботу в Смольный институт, в 1916 г. оставил гимназию
Лихельсон. Средняя школа отнимала у Б. А. Романова
(ного времени и сил. В одной из автобиографий он писал,
[то «обстоятельства личной жизни грозили вообще прекра-
цению научной работы». Это сказалось и на ходе магистер-
ских испытаний. Прошло предусмотренных для их сдачи
I года, а Б. А. Романов даже еще не приступил к ним. В
914 г. срок был продлен по 15 сентября 1915 г? 23 мая
[915 г. Б. А. Романов успешно сдал первый магистерский
жзамен — по истории церкви.6 Для дальнейших магистер-
ских испытаний необходимо было время, и профессор
2. В. Рождественский в официальном письме от имени ка-
федры русской истории, направленном тогдашнему ректору
35
Петроградского университета Э. Д. Гримму, хорошо знавше-
му Б. А. Романова по своему семинарию, просил о продле-
нии срока его оставления при университете, обосновывая хо-
датайство тем, что «в силу тяжелых семейных и материаль-
ных условий», вынудивших Б. А. Романова нагрузить себя
уроками в школе, он не смог своевременно сдать магистер-
ские экзамены. С. В. Рождественский отмечал, что Б. А. Ро-
манов является «одним из наиболее трудолюбивых и способ-
ных молодых людей, оставленных на кафедре русской исто-
рии», что в печати появился ряд его работ, что, наконец, он
ведет «некоторые специальные исследования» по изучению
Московского лицевого свода и «проблем истории Великого
Новгорода».7 И все же Б. А. Романову так и не удалось
сдать остальные экзамены, хотя срок еще дважды продлевал-
ся— по 1 января 1917 г., а затем и до 1 января 1918 г.8
Несмотря на занятость преподаванием в гимназиях,
Б. А. Романов продолжал начатое еще на старших курсах уни-
верситета сотрудничество в энциклопедических словарях —
«Новом энциклопедическом» Ф. А. Брокгауза и И. А. Ефро-
на, для которого им было написано 25 статей, и в «Русской
энциклопедии» издательства «Деятель», где он являлся авто-
ром 58 статей. В словаре Брокгауза и Ефрона редактором по
отделу русской истории был С. В. Рождественский, для кото-
рого, по свидетельству С. Н. Валка, Б. А. Романов «явился
тогда одним из самых желанных и основных авторов ряда
важнейших статей».9 Этот словарь носил академический ха-
рактер, в силу чего статьи были хотя и сжатыми, но все же
представляли собой своеобразные монографии, основанные на
самостоятельном анализе источников и в то же время давав-
шие возможность проявиться особенностям авторского почер-
ка. С. В. Рождественский охотно поручил Б. А. Романову на-
писать ряд ключевых статей по русской истории допетровско-
го периода, в том числе таких ответственных, как «Иван
Калита», «Василий I», «Василий II Темный», «Иван IV Гроз-
ный», «Михаил Федорович» и др.
Особенно сложной стала задача подготовить статью
«Иоан IV Васильевич Грозный», автором которой в
предыдущем (первом) издании словаря был К. Н. Бестужев-
Рюмин. Б. А. Романов подошел к ней с полной ответствен-
ностью, но и с осознанием того, что это должен быть абсо-
лютно независимый от предшественника текст. Здесь про-
явился и столь характерный для него, особенно в
последующие годы, новаторский подход. Б. А. Романов по-
пытался объяснить некоторые особенности личности Ивана
IV психологическими мотивами, в частности условиями, в
36
которых протекало его детство и взросление, отсутствием
«семейной ласки», страданиями «до перепуга от насилий в
окружающей среде в житейские будни», вовлечением «юного
великого князя» в те жестокие меры, которыми пришедшие
к власти Глинские устраняли соперников. Глинские, согласно
Б. А. Романову, воспитывали у Ивана «литературные вкусы
и читательскую нетерпеливость», которые, развившись, при-
вели к тому, что в «дворцовой и митрополичьей библиотеке»
он «книгу не прочитывал», а «вычитывал» из нее «все, что
могло обосновать его власть и величие прирожденного сана
в противовес личному бессилию перед захватом власти боя-
рами». «Репутация» же «начитаннейшего человека XVI в. и
богатейшей памяти» объяснены в статье тем, что Ивану
«легко и обильно давались цитаты, не всегда точные».
«Переутонченной и извращенной эгоцентричностью, израни
питавшейся» в Иване IV «условиями среды и обстановки»,
объяснил Б. А. Романов удивлявшее современников его
«чюдное разумение». Страсть же к «драматическому эффек-
ту, к искусственному углублению данного переживания»
автор вывел из резких переходов «от распоясанного будня к
позирующему торжеству в детстве».
Б. А. Романов выразительными красками описал станов-
ление Ивана IV как государственного деятеля: «Обладая не-
большой, но неистощимой энергией воображения, при досуге
и уединенности душевной жизни, И[ван] любил писать, его
влекло к образу. Получив московскую власть, плохо органи-
зованную, как и сам, И[ван] перешел к воплощению образов
в действительность. Идеи богоустановленности и неограни-
ченности самодержавной власти, которой вольно казнить и
миловать своих холопей-подданных и надлежит самой все
„строить**, были накрепко усвоены И[ваном], преследовали
его, стоило ему лишь взяться за перо, и осуществлялись им
позднее с безудержной ненавистью ко всему, что пыталось
поставить его в зависимость от права, обычая или влияния
окружающей среды. Ряд столкновений с последней на почве
личного понимания власти и ее применения создал в вооб-
ражении И[вана] образ царя, непризнанного и гонимого в
своей стране, тщетно ищущего себе пристанища, образ, ко-
торый И[ван] во вторую половину царствования настолько
любил, что искренне верил в его реальность».10
Эта проницательная и впечатляющая психологическая ха-
рактеристика Ивана IV сочетается в статье Б. А. Романова
о нем с лаконичным описанием основных этапов его жизни
и царствования, тщательным и последовательным изложени-
ем фактов, естественным образом складывавшихся в обоб-
37
щенную картину внутренней и внешней политики Русского
государства этого периода. Таким образом, 8 столбцов убо-
ристым шрифтом (петитом) в книге большого формата стали
своеобразным шедевром молодого автора, опубликовавшего
до этого лишь одну научную статью и некоторое количество
относительно коротких энциклопедических заметок. Недаром
старшие коллеги обратили на нее внимание, а С. Ф. Плато-
нов предсказал ее автору, что он напишет в будущем книгу
об Иване Грозном.
Более упрощенные задачи стояли перед авторами «Рус-
ской энциклопедии», так как статьи в ней должны были
быть более короткими и скупыми по содержанию. Поскольку
ее исторический отдел возглавлял А. Е. Пресняков, то и
Б. А. Романов естественным образом стал здесь его одним
из самых активных сотрудников. Более чем через 35 лет, в
1948 г., вспоминая период, когда он и его молодые коллеги
«систематически работали в энциклопедических словарях под
редакцией» их «учителей», Б. А. Романов говорил, выступая
на 60-летнем юбилее С. Н. Валка: «Это ведь была целая по-
лоса в жизни и отличная дополнительная научная школа, в
частности школа собственно письма и выработки стиля».11
Впрочем, работа по заказам энциклопедических словарей да-
вала молодым талантливым людям возможность получить и
дополнительный заработок.
Сотрудничество с редакцией энциклопедического слова-
ря Брокгауза и Ефрона в сочетании с накопленным уже
Б. А. Романовым опытом преподавания в средней школе
привели его к идее создания нового учебника для гимна-
зий. Издательство словаря предложило ему подготовить
план книги. Б. А. Романов взялся за это новое для себя
дело и написал план-проспект учебника, который, по его
замыслу, должен был состоять из трех частей и охваты-
вать всю историю России — от начала и до царствования
Николая II.12 Но по каким-то причинам на этом все и за-
кончилось.
Начавшаяся в 1914 г. мировая («германская») война не
могла, конечно, не потрясти и Б. А. Романова, и тот круг
начинающих свой путь в науке молодых людей, к которому
он принадлежал. Они были далеки от той шовинистической
мутной волны, которая захлестнула широкие слои российско-
го общества. Можно с большой долей определенности утвер-
ждать, что те воззрения, о которых писал позднее С. Н. Чер-
нов, один из его ближайших друзей, Б. А. Романов разделял
в полном объеме. Эти утонченные представители русской ин-
теллигенции понимали, что «война не кончится скоро», а
за
«личные биографии всех так или иначе сплетаются с нею»,
вследствие чего «под ногами для занятий прежней прочной
почвы нет: нет прежде всего спокойного академического на-
строения». Для этого круга русских историков не составляло
секрета, что с каждой новой военной неудачей «гнулся внут-
ренний фронт», а «боязнь разгрома на войне сплеталась с
проблесками надежды, что эти неудачи приведут к разреше-
нию внутреннего кризиса». «Никто из нас, — писал далее
С. Н. Чернов, —этих неудач не хотел, никто не рассчитывал
на них строить выход из политического тупика, но чувство-
валось ясно, что власть не в силах отклонить общественную
помощь и что факт принятия этой помощи приведет к нала-
живанию новых отношений с теми кругами, которые ее
дают, а через то к ослаблению правительственного гнета во-
обще». С. Н. Чернов констатировал, что осенью 1915 г., «в
эпоху ликвидации весенних и летних заигрываний власти с
обществом, в эпоху страшных тревог за внешний фронт и
полного незнания, чего ждать на внутреннем фронте, когда
тревоги и незнания было, пожалуй, еще больше, чем весною
и летом», они «работали меньше и хуже, чем обычно».13
Именно в этих тяжелых условиях в среде молодых уче-
ных зрела все же мысль отметить на заседании Историчес-
кого кружка при Петербургском университете, которым с
самого его создания руководил А. С. Лаппо-Данилевский,
25-летие его научно-литературной деятельности. Очередное
его заседание проходило в помещении Исторического семи-
нария 27 октября 1915 г. Когда же возникла идея, что кто-то
из молодых «русских историков, не ставших его учениками
по преимуществу», произнесет речь, то, как отмечал
С. Н. Чернов, «недолги были размышления, после которых
мы все сошлись на Б. А. Романове как тонком и чутком
ораторе-историке. Недолги были и его колебания». При этом
«каждое слово в речи Б. А. по ее им составлении прошло
через одобрение в нашей тесной дружеской среде русских ис-
ториков — не учеников А. С. [Лаппо-Данилевского] в осо-
бом значении этого слова». Вспоминая этот вечер,
С. Н. Чернов описал его очень подробно. Вначале один из
старейшин кружка, медиевист А. А. Тэнтэль неожиданно для
А. С. Лаппо-Данилевского от лица кружка «приветствовал
его своей небольшой и очень прочувствованной и теплой
речью. А. С. [Лаппо-Данилевский] поблагодарил его и хотел
перейти к протоколу предыдущего заседания», но «вдруг раз-
дались слова Б. А. [Романова]: „Глубокоуважаемый Алек-
сандр Сергеевич!"».14
39
Признавшись в том, что ему всегда трудно было «при-
нудить себя говорить на людях» и в то же время «легко было
получить от» него «согласие приветствовать» юбиляра «се-
годня», Б. А. Романов сказал, что дал его «под тем непре-
менным» для него самого «условием, чтобы сказать»
А. С. Лаппо-Данилевскому «и то, чего никогда никто» ему
«не говорил до сих пор, и никто, вероятно, никогда не ска-
жет после». Приветственная речь действительно была яркой,
необычайной по форме и очень откровенной. Она внешне
была как бы автобиографичной, оратор рассказывал юбиля-
ру, какие драматические переживания испытывал студент-
первокурсник на лекциях А. С. Лаппо-Данилевского по ме-
тодологии истории, затем на экзамене, затем, на следующей
фазе знакомства, участвуя в его практических занятиях по
истории крестьян, наконец — на заседаниях Исторического
кружка. Б. А. Романов очертил далее этические принципы,
которыми руководствовался юбиляр в преподавании и в
жизни.15
С. Н. Чернов выразительно охарактеризовал то впечат-
ление, которое произвела речь Б. А. Романова на слуша-
телей и на самого А. С. Лаппо-Данилевского: «Как хоро-
шо было сидеть рядом с Б. А. в эти минуты и слушать
его прекрасную речь, всею душою чувствовать чрезвычай-
ную удачу ее построения, воплощения в ее тоне и словах
наших общих мыслей и настроений. Дерзкая в своей пря-
моте, она создавала неожиданное настроение в массе слу-
шателей. Сам А. С. был смущен и потрясен ею. Когда
Б. А. кончил, он как-то необычно, будто рассерженный
или очень обескураженный, повышенным тоном не сказал,
а почти закричал: „Ну, что же я вам за все это могу ска-
зать?! Только то, что я еще более буду чувствовать себя
связанным со всеми вами!“... И перешел к протоколу за-
седания. В этой речи талантливо нарисован образ А. С.,
как он раскрывался тем из специалистов по русской исто-
рии, которые не стали его учениками в особом смысле
этого слова».16 Сам Б. А. Романов считал свою речь «от-
кликом на влияние университетской школы».
Уже один этот эпизод показывает, что в короткий период
между окончанием университета и потрясениями 1917 г., не-
смотря на общие и личные обстоятельства, препятствовав-
шие сдаче им магистерских экзаменов в полном объеме,
Б. А. Романов не порывал со своей alma mater, а его узкий
дружеский круг не только не распался, а даже еще более
сплотился. Все они были в тревожном ожидании того, что
поражение на фронтах войны может раскидать их надолго,
40
если не навсегда, так как не исключалась возможность отме-
ны всех отсрочек призыва по высшим научным заведениям.
Сложившаяся еще в студенческие годы «глубокая, хотя и
своеобразная личная связь» Б. В. Александрова, П. Г. Лю-
бомирова, Б. А. Романова и С. Н. Чернова с С. Ф. Плато-
новым, называвшим эту группу своей «дружиной» и которой,
как вспоминали в 1918 г. Б. В. Александров и Б. А. Рома-
нов, он верит, по его словам, «как себе», сохранялась и в
послеуниверситетские годы. Они, помимо того что встреча-
лись в университете, часто бывали у С. Ф. Платонова дома
на Каменноостровском проспекте.17 До женитьбы Б. А. Ро-
манова в семье С. Ф. Платоновых его даже считали возмож-
ным женихом одной из дочерей. Показателем близости
Б. А. Романова к С. Ф. Платонову было и составление им
списка его трудов для сборника статей, ему посвященных.18
Что же касается отношений Б. А. Романова с
А. Е. Пресняковым, то они в эти годы становились все
более близкими. Учитель был в курсе всех жизненных обсто-
ятельств своего ученика. Б. А. Романов часто и запросто
приходил к нему домой, обедал у него, советовался по раз-
личным вопросам.
Жизнь между тем в связи с войной, распутинщиной, на-
раставшим социальным и политическим кризисом все услож-
нялась. Б. А. Романов, как и его друзья, с напряжением сле-
дил за обстановкой, с тревогой обсуждая с ними перспекти-
вы и формы его разрешения. Разразившаяся Февральская
революция вряд ли оказалась для них неожиданной.
ПРИМЕЧАНИЯ
1 А. Е. Пресняков — С. Ф. Платонову. 29 мая [1913 г.]: ОР РНБ,
ф. 585, on. 1, ч. 2, д. 3945, л. 35 об.—36.
2 А. Е. Пресняков — жене. 25 мая 1912 г.: Архив СПб. ФИРИ, ф. 193,
оп. 2. д. 10, л. 142.
* А. Е. Пресняков — жене. 25 июня 1913 г.: Там же, л. 135 об.—136.
4 Архив СПб. ФИРИ, ф. 298, on. 1, д. 2.
5 Там же, д. 6, л. 1.
6 Там же, д. 3.
7 Цит. по: Валк С. Н. Борис Александрович Романов // Исследования
по социально-политической истории России: Сб. статей памяти Бориса
Александровича Романова. Л., 1971. С. 15—16.
8 Архив СПб. ФИРИ, ф. 298, on. 1, д. 6, л. 1.
9 Валк С. Н. Борис Александрович Романов//ИЗ. 1958. Т. 62. С. 171.
10 Б. Р[оманов]. Иоан IV Васильевич Грозный//Новый энциклопеди-
ческий словарь Ф. А. Брокгауза и И. А. Ефрона. Т. 20. Стб. 119—120.
41
11 Романов Б. А. Сигизмунд Натанович Валк [Речь на 60-летнем юбилее
С. Н. Валка] И Валк С. Н. Избранные труды по археографии: Научное на-
следие. СПб., 1991. С. 328.
12 Архив СПб. ФИРИ, ф. 298, on. 1, д. 28.
13 Чернов С. Н. [Рец.] Русский исторический журнал. 1920. Кн. 6//Дела
и дни. 1922. Кн. 3. С. 178—179.
14 Там же. С. 179.
15 Романов Б. А. А. С. Лаппо-Данилевский в Университете (Две речи)//
Русский исторический журнал. 1920. Кн. 6. С. 181 —186.
16 Чернов С. Н. [Рец.] Русский исторический журнал... С. 179.
17 См.: Б. А. Романов и Б. В. Александров — С. Ф. Платонову. 21 ав-
густа 1918 г.: ОР РНБ, ф. 585, on. 1, ч. 2, д. 2069, л. 1, 3 об.—4.
18 Список трудов С. Ф. Платонова / Составитель Б. А. Романов//Сб.
статей, посвященных С. Ф. Платонову. СПб., 1911. С. IX—XVII.
«ЗДЕСЬ ОПРЕДЕЛИЛИСЬ МОИ НАУЧНЫЕ ВКУСЫ,
ПРИВЯЗАННОСТИ И ТЕМАТИКА»:
НА СЛУЖБЕ В АРХИВЕ
Падение царского режима в феврале—марте 1917 г. вряд
ли стало неожиданным для Б. А. Романова и того узкого
дружеского круга молодых русских историков, в который
кроме него еще со студенческих лет входили Б. В. Александ-
ров, П. Г. Любомиров и С. Н. Чернов. Еще будучи гимна-
зистом выпускного класса, он считал самодержавный режим
изжившим себя, а в конце 1916 г. он вместе с друзьями, по
рассказам самого Б. А. Романова, обсуждал возможные ва-
рианты выхода России из жесточайшего общенационального
кризиса, возникшего вследствие бездарной внутренней и
внешней политики властей, окончательно подорвавшей свою
социальную базу распутинщиной. Шел разговор, в частно-
сти, о возможности и желательности созыва Учредительного
собрания, необходимость которого горячо отстаивалась
С. Н. Черновым. Так что отречение Николая II было вос-
принято ими со смешанными чувствами — и облегчением, и
тревогой, которая не могла не усиливаться в связи с неиз-
бежными в условиях революции выдвижением на поверх-
ность политической жизни крайне радикальных элементов,
хаосом и непредсказуемой стихией социального движения.
Демократизация в политической сфере отвечала чаяниям
Б. А. Романова. Возможно, что ему были близки настро-
ения, охватившие И. И. Толстого, филолога-классика, при-
ват-доцента Петроградского университета, сына известного
либерального общественного деятеля и ученого-нумизмата,
графа И. И. Толстого, почти до самой смерти в 1916 г. за-
нимавшего пост петроградского городского головы, а до
того, в правительстве С. Ю. Витте, министра просвещения.
43
Молодой ученый, который был старше Б. А. Романова на
9 лет, писал 6 марта 1917 г.: «...я захвачен весь, внутренно,
происшедшими и происходящими событиями. Действитель-
ность кажется мне подчас сказкой. Торжество демократии
свершившийся факт. Перед значительностью и ценностью,
глубочайшей ценностью этого факта, бледнеют все те мелкие
подробности переворота, которыми занята мысль и внима-
ние современников <...> Совершился переворот, возвраще-
ние к старому невозможно: но не кончена борьба. Против
демоса скоро восстанут, я в этом уверен, самые разнообраз-
ные силы»?
Б. А. Романов бесспорно понимал, что его работа в
Смольном институте, в котором накануне февральских собы-
тий, 29 января, на него было «возложено временное испол-
нение обязанностей инспектора классов»,2 вскоре должна за-
кончиться. Он с усмешкой рассказывал, как о курьезе, о воз-
мущенной реакции директрисы Смольного института на
вдруг возникшие непомерные, с ее точки зрения, запросы
горничных, неожиданно для нее потребовавших выдачи до-
полнительной смены деликатных предметов нижнего белья.
С сентября 1917 г. Б. А. Романов стал работать в гимназии
Мушниковой, преобразованной в 1918 г. в советскую трудо-
вую школу № 28 Советского района Петрограда. Он по-
прежнему тяготился необходимостью преподавания в сред-
них учебных заведениях. Радуясь за П. Г. Любомирова,
именно в 1917 г. защитившего в Петроградском университе-
те магистерскую диссертацию, он не мог не сравнивать свою
судьбу с положением друга. Безрадостность перспективы
очень угнетала его. На диспуте и «после диспута»3 Б. А. Ро-
манов последний раз перед более чем годичным перерывом
встретился с С. Ф. Платоновым, который, как видно, не
предложил ему какую-либо работу в университете или в
Женском педагогическом институте.
К сожалению, не сохранилась сколько-нибудь достовер-
ная информация об отношении Б. А. Романова к деятельно-
сти временных правительств в 1917 г. и политических пред-
почтениях в это время. Правда, его университетский одно-
курсник И. В. Егоров, примкнувший к большевикам,
написал в своих воспоминаниях об их споре ранней осенью
1917 г. Б. А. Романов, утверждает И. В. Егоров, высказался
якобы против выхода России из войны, которая, согласно
этому свидетельству, по его мнению, должна быть доведена
до победного конца, тем более, что «союзники помогут пере-
формировать и заново перевооружить русскую армию, что
Германия и ее союзники истощены». Смысл этой беседы все
44
3tce не вполне ясен. Независимых подтверждении относитель-
но содержания этого разговора нет. Встреча И. В. Егорова
с Б. А. Романовым произошла в Бюро обзоров повременной
Печати при Временном правительстве, где последний недолго
работал/
О реакции Б. А. Романова на октябрьский переворот в
Петрограде также нет никаких хронологически близких к
этому событию документальных, мемуарных или эпистоляр-
ных свидетельств. Имеется лишь устное известие, переданное
Нерез ряд лиц и потому непроверяемое, согласно которому
Б. А. Романов якобы говорил, что новая власть не продер-
жится долго.
Интересно в этой связи мнение И. И. Толстого о со-
бытиях октября 1917 г. Он считал, что «знамя, под кото-
рым происходит движение, является лишь обманчивой вы-
веской, часто не отвечающей, не передающей скрытого со-
держания данного исторического явления». «Конечно, —
Писал он 16 ноября 1917 г., — мы переживаем сейчас мо-
мент террора: причудливым образом „свобода народа*4
Приняла форму „произвола большевиков**. Вероятно, дейст-
вуют и немецкие деньги; но квалифицировать „октябрь-
ский переворот** просто названием „авантюра** вряд ли
возможно: масса народа идет все же за большевиками,
Прелыденная лозунгами всенародного мира, мира народов
И прекращения мировой братоубийственной войны. Но,
<...> в действительности, в диктатуре Ленина—Троцкого
<...> эусский народ изживает, так кажется мне, элементы
Царского произвола, заветы былого царского самодержа-
вия. Слишком поздно получил наш народ свободу: не
рано, а слишком поздно! <...> Чтобы дойти до нее, дей-
ствительно „завоевать свободу**, надо сперва изжить опья-
нение произволом».5 Возможно, Б. А. Романов тогда ча-
стично был согласен с этими соображениями.
Правда, через 6 лет он писал по-иному. В 1924 г., отве-
чая в общей для всех служащих Центрархива, где он тогда
работал, анкете на стандартный вопрос об отношении к ок-
тябрьскому перевороту, он писал: «Активного участия не
принимал. Находился во время переворота в Петрограде. В
школе, где работал (б. гимназия Мушниковой), решительно
выступил против саботажа и забастовки по поводу разгона
Учредительного собрания, в способность коего, как и всех
буржуазных партий, вывести страну из войны не верил,
выход же из войны считал тогда абсолютно необходимым,
столь же как и образование активной революционной влас-
ти, гстовой всеми средствами отстоять подлинную самосто-
45
ятельность страны, порабощенной странами Антанты, на ос-
нове радикальной перестройки государственного аппарата и
общественных отношений и экономики и создания револю-
ционной армии. Отношение мое тогда к Октябрьскому пере-
вороту было, как к единственному, что еще оставалось,
чтобы стране выжить и не стать жертвой дикой реакции и
рабства»?
Нарочитость всей этой словесной конструкции не вызы-
вает сомнений. О какой дикой реакции и рабстве могла идти
речь в 1917 г.? Анахронизмом для этого времени были и
слова о революционной армии. Пожалуй, лишь факт выступ-
ления Б. А. Романова против саботажа и забастовки, как
легко тогда проверяемый, может быть признан достоверным,
но мотивы, исходя из которых им было принято такое ре-
шение, остаются неясными. Ничего не известно и о том, как
пережил Б. А. Романов первый год пролетарской диктатуры.
Он работал в 1917/18 учебном году в гимназии Мушниковой,
в апреле 1918 г. также стал преподавать историю и общест-
венные науки на I пехотных командных курсах Красной
Армии. Этот факт его биографии остается неясным. Каким
образом ему удалось получить такую работу, что его побу-
дило дать на нее согласие? Можно высказать лишь предпо-
ложение, что она давала некоторые средства к существова-
нию и надежду на защиту в условиях полного беззакония.
И. И. Толстой писал 20 апреля 1918 г. о страшной дорого-
визне, о том, что ему едва удается свести концы с концами,
что ему «пришлось прибегнуть к единственно возможному
средству — распродаже части имущества». «Неуверенность в
завтрашнем дне, вечная угроза личному существованию, за-
боты об изыскании средств к существованию <...> невозмож-
ность отдаться серьезной научной работе — вот обстановка,
в которой нелепо тратится жизненная <...> энергия».7
События, последовавшие после октябрьского переворо-
та в Петрограде, не только разрушили налаженный образ
жизни, но и привели к распаду дружеского круга
Б. А. Романова: П. Г. Любомиров и С. Н. Чернов уеха-
ли из Петрограда в Саратов, где стали преподавать в уни-
верситете. На долгое время прервалась связь с С. Ф. Пла-
тоновым. Б. А. Романов писал ему в конце августа
1918 г.: «...этот более чем год <...> раскорчевал нашу
жизнь»8.
Но 1 июля 1918 г. произошел резкий перелом в его судь-
бе, наложивший отпечаток на всю его дальнейшую профес-
сиональную деятельность и восстановивший, в частности,
контакты с С. Ф. Платоновым: Б. А. Романов в числе дру-
46
гих молодых ученых был приглашен на работу в нарождаю-
щееся архивное ведомство Петрограда.
Еще до октября 1917 г. стихийное уничтожение докумен-
тальных свидетельств о прошлом в ликвидируемых учрежде-
ниях самодержавного режима специалисты-историки воспри-
нимали, по словам А. Е. Преснякова, «как глубоко личную
трагедию». И уже в марте 1917 г. «встрепенулись лучшие
силы работников на ниве исторического изучения и архив-
ного дела»,9 которые и организовали Союз российских ар-
хивных деятелей. Именно в недрах этой общественной орга-
низации возникла идея централизации архивного дела, была
осознана необходимость законодательных основ формирова-
ния единого архива и преодоления узкой ведомственности.
По существу еще до октября 1917 г. были разработаны прин-
ципы организации архивного дела. Об этом подробно писал
уже после октябрьского переворота в Петрограде
А. Е. Пресняков, указывавший на ведущую роль Союза рос-
сийских архивных деятелей: «Союз сразу же поставил на оче-
редь не только охрану архивных ценностей, но и широкие
организационные задачи. Конечной целью Союза стало со-
здание авторитетного и полномочного органа по руководст-
ву постановкой архивного дела в России, органа, который
имел бы общее, государственное значение. Подготовляя ко-
ренную реформу управления архивным делом в направлении
его централизации, Союз наметил ряд существенных задач
для разработки принципов и методов архивоведения и про-
ведения их в жизнь, программу издания соответственных
трудов справочного и научного характера, а также для уст-
ройства курсов лекций по теоретической и практической
подготовке архивных работников».10
Однако реализовать эти насущные задачи в условиях
хаоса и сумятицы 1917 г. Союзу не удалось.11 Октябрьский
переворот лишь многократно усилил вандализм в отношении
архивных ценностей, придав ему идеологическое обоснова-
ние: на документы стали смотреть как на элементы старого
строя, подлежавшего разрушению.12 Назначенные в крупней-
шие архивохранилища большевистские комиссары поставили
их под свой контроль и организовали в ноябре 1917—февра-
ле 1918 г. издание серии тайных дипломатических докумен-
тов, имевших большое политическое значение, но отличав-
шееся элементарной безграмотностью.13 Попытки научной
общественности как-то повлиять на возникшие споры о судь-
бе архивов увенчались частичным успехом: 1 июня Совнар-
ком принял декрет «О реорганизации и централизации ар-
хивного дела в РСФСР». Для руководства всей системой ар-
47
кив о в было создано Главное управление архивным делом
(Главархив). Его руководителем стал член большевистской
партии с 1917 г. Д. Б. Рязанов, отличавшийся широтой и
самостоятельностью взглядов. В эмиграции он по поручению
немецких социал-демократов занимался поисками рукописей
Маркса и Энгельса, пытался осуществлять их первичную
классификацию и имел вследствие этого некоторый практи-
ческий опыт архивной работы.
Декрет был воспринят представителями «старой» школы
историков как долгожданное решение, призванное стать ос-
новой для реформы архивного дела в интересах науки в
целом, исторической науки — в частности. В. Н. Бенешевич
даже назвал этот декрет «декларацией прав науки в архи-
ве».14 Именно поэтому С. Ф. Платонов ответил согласием на
неожиданное для него предложение взять на себя руководст-
во Петроградским отделением Главархива в качестве замес-
тителя Д. Б. Рязанова. Несмотря на его резко отрицательное
отношение к новым властям и неверие в успех социализма,
С. Ф. Платонов с удивлением обнаружил, что на него
«вдруг начался спрос». «Я встал рядом (и в согласии) с
„левым с[оциал]-д[емократом]“ и „революционным марксис-
том" Рязановым-Гольденбахом, который ведет <...> управле-
ние,— писал он 20 июля 1918 г. — Это ученый, порядочный
и добрый еврей, революционер-теоретик, к которому все
члены управления относятся с признанием и расположением.
После упорной двухмесячной работы в Петербурге и Москве
мы наладили Главное и два областных архивных управления
<...> Благодаря уму и такту Рязанова дело попало в ученые
руки, руководится коллегиями и руководствуется только ин-
тересами дела безо всякой политики. Много архивов спасено
и охранено, много работников возвращено к делу и обеспе-
чено. После суеты строительства чувствуешь себя удовлетво-
ренным и не боишься дальнейших осложнений. Они, конеч-
но, неизбежны. Но историки их не убоялись, и, слава Богу,
все встали к делу».15
А. Е. Пресняков стал главным инспектором Петроград-
ского отделения Главархива, отвечающим за выявление,
учет, охрану и размещение тех архивных фондов, которым
грозило уничтожение. Вслед за ними в архив пришла бле-
стящая плеяда их коллег и учеников, часть которых рабо-
тала в университете, часть — в других учреждениях, в том
числе и в средних учебных заведениях. Поэтому привлече-
ние Б. А. Романова, Б. В. Александрова, С. Н. Валка,
К. Д. Гримма, а затем П. А. Садикова, Е. В. Тарле,
Б. Д. Грекова, С. Я. Лурье и ряда других исследователей
48
для работы в петроградском архивном ведомстве было
вполне естественным. Большевистской власти пришлось
пока примириться с тем, что новое и ответственнейшее
дело будет осуществляться силами беспартийных ученых,
большая часть которых определенно стояла в оппозиции к
новой власти. Но иного выхода у нее и не было: она не
располагала партийными, профессионально подготовленны-
ми кадрами, способными возглавить и повседневно прово-
дить реформу.
Б. А. Романов воспринял свое приглашение на работу в
архив с воодушевлением и энтузиазмом. Будучи фактически
оторванным на протяжении долгих 8 лет от науки, он наде-
ялся, что именно здесь ему удастся вернуться к исследова-
тельской работе. В составленном Б. А. Романовым (подпи-
санном также Б. В. Александровым) письме к С. Ф. Плато-
нову это его настроение выражено ярко и с обычной для
него эмоциональностью: «...ярость нашей работы поддержи-
валась тем давно жданным чувством, что мы вьем гнездо для
себя и своей научной работы, и то обстоятельство, что соб-
ственными руками и по своему плану из пустого места через
хаос создаем космос от А до Ижицы, было особенно нам
драгоценно». Увлеченность молодых ученых, «воодушевлен-
ных именно научными задачами „Архивного возрождения**»,
«исходной мыслью» об участии в «научной реорганизации
архивного дела», сразу же вошла в противоречие с советски-
ми реалиями второй половины 1918 г. Они считали, что
сама постановка архивного дела в этот начальный момент
противоречит «исходной мысли о научной» его «организа-
ции». Отсюда возникли и опасения, что они рискуют «по-
пасть маленькой кучкой» профессионалов «в скопище людей,
неспособных отнестись к этому делу bona fide и с чистым
чувством».16 Неразбериха отчасти была вызвана тем, что, по
свидетельству С. Н. Валка, также стоявшего у истоков Глав-
архива, к тому времени, когда Б. А. Романов пришел сюда
работать, «существовали лишь предназначенные, но не обо-
рудованные еще даже стеллажами помещения в здании быв-
шего Сената да раскиданные по разным местам города
фонды, которые еще предстояло перевезти в образовываемый
советский архив».17
Местом службы Б. А. Романова стало 2-е отделение V
(впоследствии — экономической) секции Единого государст-
венного архивного фонда (ЕГАФ), где были сосредоточены
архивы Министерств финансов, торговли и промышленнос-
ти, Государственного контроля, банков. Уже 10 июля 1918 г.
Б. А. Романов был назначен на должность заведующего 1-го
49
отдела (финансы) 2-го отделения, а 13 ноября ему поручает-
ся также заведование архивом Общей канцелярии министра
финансов.18 Б. А. Романов быстро освоился с новым для
него делом и сразу же стал предпринимать усилия по воссо-
зданию в полном виде архива Общей канцелярии министра
финансов. Он стремился возвратить те его части, которые в
результате эвакуации оказались в Москве. Б. А. Романов
писал в этой связи в своем докладе: «Утрата или даже порча
документов <...> была бы чрезвычайным бедствием для рус-
ской исторической науки и легла бы целиком на мою ответ-
ственность, если бы мною не сделано было все возможное
для ее предотвращения».19
Но основные усилия в эти месяцы были направлены на
другое. Как отмечал С. Н. Валк, «в опустевшее здание Се-
ната свозили сотни тысяч дел, часто в полном беспорядке,
из раскиданных по всем частям города зданий», в силу чего
«даже на самое элементарное упорядочение свозимого ухо-
дили все силы, и Б.А., подобно многим другим, в первые
времена был занят в значительной мере даже чисто физиче-
ской работой, в не меньшей мере, чем простые архивные слу-
жители».20 Возможно, эти непомерные нагрузки и тяжелей-
ший быт в условиях «военного коммунизма», с одной сторо-
ны, и тяга к университетскому преподаванию, которую
Б. А. Романов испытывал вот уже на протяжении 8 лет, —
с другой побудили его в 1919 г. принять приглашение рек-
тора недавно (в 1916 г.) организованного Пермского универ-
ситета (первоначально в качестве филиала Петроградского)
известного историка-медиевиста Н. П. Оттокара, который,
переехав из Петрограда, комплектовал это новое учебное за-
ведение в значительной степени из своих питерских коллег
— молодых ученых, среди которых был, в частности,
Б. Д. Греков. Одновременно с Б. А. Романовым подобное
же приглашение получил и Б. В. Александров. По просьбе
Н. П. Оттокара С. Ф. Платонов подготовил рекомендатель-
ное письмо, в котором сообщал, что о Б. А. Романове
может дать «отзыв только самый благоприятный». «Считаю
Б. А., — писал он, — человеком талантливым и умным», об-
ладающим «большими специальными знаниями и острою
ученою наблюдательностью». С. Ф. Платонов отметил, что
Б. А. Романов «излагает свои темы живо и связно, без длин-
ноты в речи, но с внутренней обстоятельностью». Правда,
«Б. А. печатал мало», но «последние годы не могли способ-
ствовать развитию спокойной ученой деятельности, литера-
турной производительности и публикованию ученых работ».
Статья же «Смердий конь и смерд» «показывает, что от него
50
можно ожидать остроумнейших изыскании». Кроме того,
Б. А. Романов «способен в равной мере и к кропотливым
библиографическим и архивным работам». В заключение
С. Ф. Платонов выразил убеждение в том, что «в своих бу-
дущих семинариях он способен явиться разносторонним ру-
ководителем, живым и увлекательным».2*
Этот весьма лестный отзыв, однако, не понадобился
Б. А. Романову, так как он не имел возможности сразу же
выехать в Пермь и продолжил работу в архиве, которая ста-
новится его основной службой вплоть до ноября 1929 г. С
1919 по 1924 г. главой 2-го отделения экономической секции
ЕГАФ, где все время работал Б. А. Романов, был
Е. В. Тарле, с которым у него сложились добрые, не только
служебные отношения.
Подводя итоги полуторагодичной тяжелой работы по
организации архивного дела на новых принципах, С. Ан-
нинский писал в 1920 г.: «Обширный и свежий кадр вы-
сококвалифицированных работников под руководством
крупнейших специалистов исторической науки и архивове-
дения охотно взялся за дело, не боясь ни черной, ни фи-
зической работы, внося сознательную и бодрую инициати-
ву даже в черновые задания первого слоя. Результаты ока-
зались чрезвычайно значительными <...>, количество
перевезенных материалов» достигло к концу 1919 г. «21
миллиона единиц хранения».22 «Сознание единения, чувство
живого общего дела, своего рода единодушие в самопо-
жертвовании» давали «новые силы» «в неизбежно трудных
условиях современности». «Последние силы» отдавали
«труду» «голодные и холодные люди, утомленные мораль-
но и физически, день изо дня в пыли и духоте летом и
при температуре ниже 0° зимой».23
И после 1920 г. Б. А. Романов продолжал свою подвиж-
ническую работу по архивному строительству. В 1921 г. в
здании архива Палаты мер и весов он обнаружил архив Ма-
нуфактур-коллегии и стал им заведовать, так же как и архи-
вами Главной палаты мер и весов (с 20 ноября 1919 г.), Гор-
ного департамента, Вольного экономического общества.
Кроме этих архивов, которые Б. А. Романов разыскал, при-
нял на хранение и описал, он участвовал в принятии на учет
и хранение архивов Департамента государственного казна-
чейства, Государственной комиссии погашения долгов, обна-
ружил на Фарфоровом заводе в 1923 г. в процессе собирания
тогда разрозненного фонда Горного департамента дела ар-
хива Департамента торговли и мануфактур.24 Помимо целе-
направленного поиска в Петрограде Б. А. Романов стремил-
51
ся распространить его на Москву и другие города, в част-
ности на Рыбинск и Нижний Новгород, куда были эвакуи-
рованы некоторые ведомственные архивы. Он с огорчением
убедился, что все дела, вывезенные в Рыбинск, погибли. В
архиве Наркоминдела Б. А. Романов обнаружил отдельные
дела архива Общей канцелярии министра финансов, который
его особенно интересовал в профессиональном плане. Имен-
но этот фонд он описывал с особой тщательностью и по за-
вершении написал в 1920 г. специальный очерк «Архив
Общей канцелярии министра финансов», который, однако,
не был опубликован.25
Когда при Ленинградском отделении Центрархива (заме-
нившего собой Главархив в 1921 г.) были организованы ар-
хивные курсы, Б. А. Романов стал вести на них практиче-
ские занятия.
Итак, Б. А. Романов вместе со своими молодыми кол-
легами под руководством их университетских учителей
стремились реализовать в архиве ту программу, с которой
они пришли в него работать: создание абсолютно нового,
прежде всего научного учреждения, целью которого стало
бы не только собирание всего документального наследия,
обеспечение его сохранности, научное описание, но и, как
результат всей этой деятельности, — основанная на строгих
археографических принципах публикация источников ново-
го и новейшего времени. Само собой разумелось, что до-
ступ к архивам и к абсолютно всем фондам должен был
быть открытым. Вдохновленный именно этими задачами,
Б. А. Романов вслед за своими учителями и пошел рабо-
тать в советское учреждение, полагая, что он будет слу-
жить сугубо беспартийному и внеполитическому делу.
Впрочем, на первых порах эти цели совпадали с теми за-
дачами, которые стояли перед новыми властями, ибо пуб-
ликация таких документов и объективное исследование
внутренней и внешней политики последних русских царей
неизбежно приводило к выводу о непреодолимом кризисе
самодержавия накануне революции. Привлечение для рабо-
ты в архивах историков, получивших солидную источнико-
ведческую подготовку в дореволюционных университетах,
даже тех из них, кто, возможно, относился враждебно к
большевикам, служило этой цели.
Но надежды этих историков на известную автономию
и возможность решения сугубо научных задач, чем дальше,
тем в меньшей степени стали соответствовать линии боль-
шевистских властей, стремившихся превратить архивы в
боевое политическое орудие нового режима. В середине
52
1920 г. руководителем Главархива взамен Д. Б. Рязанова,
поддерживаемого «старыми» учеными-архивистами, был на-
значен М. Н. Покровский, и это имело далеко идущие от-
рицательные последствия. Еще в марте 1920 г. специально
образованная комиссия по пересмотру личного состава
Петроградского отделения Центрархива предписала уво-
лить десятки его сотрудников, руководствуясь только по-
литическими критериями. Вне архивного ведомства оказа-
лись выдающиеся профессионалы, мотивом увольнения ко-
торых было то, что их отнесли к категории «чуждых
советской власти, ненадежных элементов».26 Правда, перво-
начально С. Ф. Платонов и А. Е. Пресняков оставались
во главе Петроградского отделения Главархива, но продол-
жавшаяся «чистка» и все увеличивающееся вмешательство
органов ЧК (затем ОГПУ) вынудили их в 1923 г. подать
в отставку, обоснованную ими «ненормальностью того по-
ложения, в какое поставлено заведование Петроградским
отделением Центрархива, лишенное, притом не персональ-
но, а принципиально, доверия и полномочий, необходимых
для ответственного ведения дела». На их место были по-
ставлены партийные кадры.27
Б. А. Романов, однако, не был уволен из архива и не
ушел из него вслед за старшими коллегами. Вероятно, он на-
деялся, что на его участке работы удастся устоять на преж-
них позициях. Б. А. Романова удерживала в архиве и интен-
сивно развернувшаяся его собственная исследовательская и
публикаторская деятельность. Наконец, немаловажное значе-
ние имело и то обстоятельство, что архив как государствен-
ное учреждение обеспечивал, особенно с начала нэпа, своим
сотрудникам более высокий жизненный стандарт, чем, на-
пример, в Академии наук.
Тяжелым ударом для архивов стало и совместное поста-
новление весной 1921 г. Президиума ВСНХ, Наркомпроса и
Наркомата рабоче-крестьянской инспекции, предоставлявшее
Особой комиссии, ввиду «переживаемого бумажной промыш-
ленностью сырьевого кризиса», «права изъятия на всей тер-
ритории РСФСР тряпья, архивных материалов, старой бума-
ги и обрезков, не представляющих исторической или деловой
ценности».28 Правда, Б. А. Романов по мере своих сил стре-
мился противостоять этой порочной линии. Так, он резко
возражал против решений разборочных комиссий об уничто-
жении ряда дел, якобы не подлежавших хранению. В част-
ности, в одном из отзывов на акт разборочной комиссии
Б. А. Романов писал: «Ознакомившись на месте с материа-
лами, предложенными к уничтожению <...>, полагаю необ-
53
ходимым предложить хранить <...> дела о секретных суммах,
поступающих на основании высочайших повелении <...>,
дела о расходах на известное е. и. в. употребление. По
моему мнению, дела эти следует хранить совершенно неза-
висимо от того, представляют ли интерес те или другие от-
дельные расходования из названных сумм, имея в виду
общий интерес как к вопросу о бесконтрольных расходах по
высочайшему повелению вообще, так и к истории отдельных
секретных фондов этого порядка».29 Когда же в марте 1925 г.
Б. А. Романов был командирован в Москву на I Съезд ар-
хивных деятелей РСФСР,30 он был там включен в комиссию
по выработке резолюции по докладу «О поверочной и раз-
борочной комиссии».31
К середине 20-х годов Б. А. Романов вообще стал
одним из ведущих и авторитетнейших сотрудников Центр-
архива в Ленинграде, стремившихся, несмотря на линию
по его политизации, поддерживать в нем высокий уровень
профессионализма и научности. В 1925 г. он был назначен
заместителем управляющего экономической секции, а также
заместителем управляющего архивохранилищем народного
хозяйства, быта, культуры и права, а в 1928 г. на него
возлагается «ответственность и наблюдение за 1-м эконо-
мическим отделом». Б. А. Романов был привлечен и к
ряду общих для архивного ведомства дел. В 1925 г.
он стал членом нескольких комиссий: поверочной — при
Управлении Ленинградского отделения Центрархива, пла-
новой— при Уполномоченном Центрархива РСФСР в Ле-
нинграде и центральной разборочной?2
Губительное наводнение осенью 1924 г. привело к затоп-
лению хранилища экономической секции. Роль Б. А. Рома-
нова в ликвидации его последствий была тем более велика,
что он с 15 декабря 1924 по 17 июля 1925 г. исполнял обя-
занности управляющего 2-м отделением секции.33 И хотя су-
шить документы приходилось доморощенным способом, под
его умелым и энергичным руководством удалось спасти по-
страдавшие фонды.
Во второй половине 20-х годов все нараставшая «боль-
шевизация» архивов и вмешательство в его работу каратель-
ных органов приводят к превращению их в политическое
оружие партии. В руководящий состав приходят партийные
функционеры. С. Н. Валк в наброске к статье о Б. А. Рома-
нове (не включенном в ее текст) об этом писал: «В архивном
ведомстве, по сравнению с первыми годами его существова-
ния, состав сотрудников претерпевал все более и более силь-
ные изменения. Из первоначального блестящего университет-
54
ского состава уходили в новых создавшихся условиях то
вольно, а то и невольно одни и другие. Особенный и по-
следний крупный уход произошел в 1929 г., когда и события,
происшедшие в Академии наук, открыли удобную возмож-
ность перехода туда именно для пополнения там высшего со-
става сотрудников».34
Что касается Б. А. Романова, то он до последнего стре-
мился удержаться в составе сотрудников архива, поскольку
его собственная исследовательская работа по-прежнему в по-
давляющем большинстве случаев основывалась на хранящих-
ся в нем материалах. Но условия там становились все более
невыносимыми. По свидетельству С. Н. Чернова, в архиве
наступила «новая эра, вызываемая гонением на спецов и
даже их изгнанием», вследствие чего «сейчас Б. А. надо спа-
сать». С. Н. Чернов в январе 1929 г. писал С. Ф. Платоно-
ву, что ему «стоило большого труда уговорить Б. А. вообще
расстаться с Центрархивом» и что ему «очень бы хотелось»,
чтобы его «труд не прошел даром».35
Истекло, однако, еще 10 с половиной месяцев и только
в ноябре 1929 г. Б. А. Романов решился наконец покинуть
Центрархив, в котором проработал более 11 лет. Но он от-
клонил настойчивые предложения перейти в Академию наук,
а принял приглашение М. Д. Приселкова, возглавившего не-
задолго до этого историко-бытовой отдел Русского музея,
стать ученым секретарем отдела. Об архиве, несмотря ни на
что, он вспоминал впоследствии с чувством благодарности и
с полным осознанием значения работы в нем для своего ста-
новления как историка. Выступая на юбилейном заседании
Архивного отдела МВД 31 мая 1948 г., Б. А. Романов гово-
рил, что именно в архиве он «сложился как историк»:
«...здесь определились мои научные вкусы, привязанности и
тематика, и добрые 3/4 моих работ связаны с фондами ле-
нинградских архивов, побудивших меня надолго порвать с
тематикой древностей и одному из первых в моем поколении
круто повернуть на разработку проблем новейшей истории,
о чем я, разумеется, и сейчас не жалею, а наоборот, благо-
словляю тот день, который проделал со мной крутой пово-
рот».36
ПРИМЕЧАНИЯ
1 Меликова С. В., Толстой И. И. «Любовь, купленная страданиями».
Роман в письмах//Звезда. 1996. № 9. С. 152.
55
2 Трудовой список Б. А. Романова: Архив СПб. ФИРИ, ф. 298, on. 1,
д. 6, л. 17.
3 Б. А. Романов и Б. В. Александров — С. Ф. Платонову. 21 августа
1918 г.: ОР РНБ, ф. 585, on. 1, д. 2069, л. 1 (почерк Б. А. Романова).
4 Егоров И. В. От монархии к Октябрю: Воспоминания. [Л.,] 1980.
С. 227.
3 Меликова С. В., Толстой И. И. «Любовь, купленная страданиями».
С. 158.
6 Цит. по: Валк С. Н. Борис Александрович Романов // Исследования
по социально-политической истории России: Сб. статей памяти Бориса
Александровича Романова. Л., 1971. С. 16.
7 Меликова С. В., Толстой И. И. «Любовь, купленная страданиями».
С. 165—166.
8 Б. А. Романов и Б. В. Александров — С. Ф. Платонову. 21 вгуста
1918 г.: ОР РНБ, ф. 585, on. 1, д. 2069, л. 1.
9 Пресняков А. Е. Реформа архивного дела в России//Русский истори-
ческий журнал. 1918. Кн. 5. С. 206—207.
10 Там же. С. 209.
11 См.: Хорхордина Т. История Отечества и архивы. 1917—1980-е гг.
М., 1994. С. 6—34.
12 Там же. С. 34—38.
13 Там же. С. 39.
14 Аннинский С. Первая конференция архивных деятелей Петрограда.
25—28 мая 1920 года//Дела и дни. 1920. Кн. 1. С. 381.
13 «Безо всякой политики» (Письмо С. Ф. Платонова И. А. Иванову.
Июль 1918 г.) / Вступительная статья и подготовка текста к публикации
Л. М. Сориной//Отечественные архивы. 1998. № 4. С. 80—82. И. А. Ива-
нов до середины 1918 г. возглавлял Тверскую ученую архивную комиссию.
16 Б. А. Романов и Б. В. Александров — С. Ф. Платонову. 21 августа
1918 г.: ОР РНБ, ф. 585, on. 1, д. 2069, л. 1 об.
17 Валк С. Н. Борис Александрович Романов. С. 17. Подробно о служ-
бе Б. А. Романова в Главархиве (впоследствии переименованном в Це игр ар-
хив) см.: Беляев С. Г. Б. А. Романов-архивист//Проблемы социально-эко-
номической истории России: К 100-летию со дня рождения Бориса Алек-
сандровича Романова. СПб., 1991. С. 57—62.
^8 Трудовой список Б. А. Романова: Архив СПб. ФИРИ, ф. 298, on. 1,
д. 6, л. 18.
19 Цит. по: Беляев С. Г. Б. А. Романов-архивист. С. 58.
20 Валк С. Н. Борис Александрович Романов//ИЗ. 1958. Т. 62. С. 272.
21 С. Ф. Платонов — Н. П. Отгокару. 17 декабря 1918 г.: ОР РНБ,
ф. 585, on. 1, д. 1866 (черновой автограф). Неизвестно, было ли это письмо
отправлено.
22 Аннинский С. Первая конференция архивных деятелей Петрограда.
С. 373.
23 Там же. С. 383—384.
24 Беляев С. Г. Б. А. Романов-архивист. С. 58.
25 Там же. С. 58—59.
26 Хорхордина Т. История Отечества и архивы. С. 94—95.
27 Корнеев В. Е., Копылова О. Н. Архивист в тоталитарном обществе:
борьба за «чистоту» архивных кадров (1920—1930-е годы)//Отечественные
архивы. 1993. № 5. С. 31.
28 См.: Хорхордина Т. История Отечества и архивы. С. 82.
29 Цит. по: Беляев С. Г. Б. А. Романов-архивист. С. 59. Именно эти
материалы впоследствии послужили Б. А. Романову в качестве важного ис-
56
точника для воссоздания истории дальневосточной политики самодержавия
(см.: Романов Б. А. «Лихуичангский фонд»: (Из истории русской империа-
листической политики на Дальнем Востоке)//Борьба классов. 1924. № 1—2.
С. 77—126).
30 Трудовой список Б. А. Романова: Архив СПб. ФИРИ, ф. 298, on. 1,
д. 6, л. 19.
31 Беляев С. Г. Б. А. Романов-архивист. С. 59.
32 Трудовой список Б. А. Романова: Архив СПб. ФИРИ, ф. 298, on. 1,
д. 6, л. 19—21.
33 Беляев С. Г. Б. А. Романов-архивист. С. 59.
34 Архив СПб. ФИРИ, ф. 297, on. 1, д. 102, л. 34.
35 С. Н. Чернов — С. Ф. Платонову. 2 января 1929 г.: ОР РНБ, ф. 585,
on. 1, д. 4541, л. 46—46 об.
36 Архив СПб. ФИРИ, ф. 298, on. 1, д. 99, л. 1 об.
— 5 —
ДВАДЦАТЫЕ ГОДЫ. ОБЪЕКТ ИССЛЕДОВАНИЯ —
«НЕДАВНЕЕ ПРОШЛОЕ»
Работой только в архиве, сколь ни велико было ее зна-
чение для Б. А. Романова, именно здесь стремившегося реа-
лизовать себя в науке, его жаждущая деятельности натура
ограничиться не могла. Поэтому он с радостью принял пред-
ложение войти в состав преподавателей Петроградского уни-
верситета. Правда, именно в 1919 г. историко-филологический
факультет был преобразован в Факультет общественных наук,
но преподавание истории в нем пока не прекращалось. Ини-
циатива приглашения Б. А. Романова исходила от С. В. Рож-
дественского, С. Ф. Платонова и А. Е. Преснякова. Они пред-
ложили факультету избрать его на должность ассистента при
Историческом семинарии по русской истории. В представле-
нии отмечалось, что с Историческим семинарием Б. А. Рома-
нов был связан в его еще студенческие годы, в частности,
«вместе со своими ближайшими товарищами» П. Г. Любоми-
ровым, С. Н. Черновым, Б. В. Александровым и А. А. Тэнтэ-
лем» он много сделал для собирания библиотеки семинария,
постоянно участвовал в работах студенческого Исторического
кружка, тесно сотрудничавшего с семинарием, а после окон-
чания университета «всегда поддерживал живую связь с семи-
нарием и его библиотекой». В конце представления указыва-
лось и на то, что Б. А. Романов «можно сказать научно вырос
вместе с нашим семинарием».1 Он был избран ассистентом
1 ноября 1919 г.2
Исторический семинарий, функционировавший и ранее в
составе историко-филологического факультета, имел свою
библиотеку. В его помещениях проходили занятия (лекции,
семинарии), собрания кружка. Он был также своего рода
центром для научных дружеских бесед. Б. А. Романов после
58
начала преподавания в университете вскоре стал заведовать
этим Историческим семинарием, впоследствии переименован-
ным в Исторический кабинет. Он продолжал эту работу и
после того, как ввиду отсутствия средств она перестала опла-
чиваться университетом, заявив, что «готов сохранить за
собой» эти «обязанности <...> и в той же мере уделять на
это время, как прежде», пока у него будет «возможность»?
На факультете Б. А. Романов в₽л просеминарские прак-
тические занятия пропедевтического типа на первом курсе, а
также по новой истории России. На старших курсах его се-
минарские занятия начиная с 1922 г. были посвящены изуче-
нию промышленности России в XVIII в. по данным архива
Мануфактур-коллегии, который он сам обнаружил в 1921 г.
Обосновывая выбор темы семинария, Б. А. Романов писал,
что «руководствовался целью поставить молодых людей, го-
товящихся к исторической работе, лицом к лицу с живым
цельным архивным фондом». Участники семинария должны
были разобрать и каталогизировать фонд. Лишь затем было
«приступлено к изучению отдельных разновидностей доку-
ментов» с целью ознакомления всей группы с его содержа-
нием. При этом «каждый участник получил для пробного об-
следования какую-нибудь разновидность документа», по изу-
чению которого «представлял отчет». Лишь после такой
работы «предварительного и коллективного характера» каж-
дый участник семинария получал «право на обработку како-
го-нибудь научного вопроса в соответствии со своим личным
интересом». Б. А. Романов считал, что такую подготовку
должны пройти «не только исследователи документального
материала, но и труженики-хранители архивных сокровищ»,
которых он называл «работниками-кочегарами» архивов и
обучение которых считал одной из основных своих задач.
Одним из участником этого семинария был студент В. В. Ле-
онтьев, будущий лауреат Нобелевской премии по экономике,
который в 1925 г. писал в curriculum vitae, что в 1922—
1923 гг. «работал под руководством проф. Б. А. Романова в
Центр архиве по изучению материалов вновь открытого ар-
хива Мануфактур-коллегии».4
Собственный исследовательский интерес Б. А. Романова
перемещался именно в это время в сторону новой и новей-
шей истории России, он стал задумываться над тем, как го-
товить специалистов по ранее не являвшейся предметом изу-
чения и преподавания проблематике, придя к выводу, что
«только <...> на архивном материале и нужно ставить под-
готовку молодых сил». Б. А. Романов обратил внимание на
то, что, «привыкнув смолоду к канонической жалобе „на ску-
59
дость материала" для других эпох, молодой человек остается
совершенно непредупрежденным и безоружным относительно
такой ситуации, где нужно уметь выбрать важное и отбро-
сить второстепенное среди громады исторических данных, с
какой имеем дело в новое время». На это «мало до сих пор
обращалось внимания в преподавании русской истории». Те-
перь же необходимо было научить «не теряться в море ма-
териалов», чем и стал заниматься Б. А. Романов на своих
семинариях.5 Позднее он объявил семинарий по дальневос-
точной политике России в XIX—XX вв. Эта работа в Пет-
роградском университете была успешной, и 1 октября 1921 г.
Б. А. Романов был утвержден Государственным ученым со-
ветом в должности доцента по кафедре «История России».6
Кроме учебной работы он брал на себя и научно-организа-
ционные обязанности. В частности, с 1921 г. Б. А. Романов
являлся секретарем предметной комиссии Общественно-педа-
гогического отделения Факультета общественных наук Пет-
роградского университета.
Когда же ранней осенью 1921 г. при университете по ини-
циативе «старой» профессуры начал функционировать Исто-
рический научно-исследовательский институт, Б. А. Романов
был принят и в его состав — в качестве сотрудника I разряда,
а в мае 1922 г. вошел в Совет Института и стал его секретарем,
затем, в связи с образованием секций, в июне, был избран и
секретарем Секции русской истории. Директором этого инсти-
тута стал А. Е. Пресняков, а его заместителем — Э. Д. Гримм,
поэтому вполне естественно, что Б. А. Романов также занял в
его составе важные научно-административные посты. В Совет
института вошли выдающиеся представители «старой» школы
С. А. Жебелев, Н. И. Кареев, Н. И. Карсавин, С. Ф. Плато-
нов, М. Д. Приселков, С. В. Рождественский, Е. В. Тарле,
П. А. Сорокин, позднее в него были избраны С. Н. Валк,
В. В. Струве, А. Н. Тюменев. Так что здесь Б. А. Романов
оказался в привычном для него еще со студенческих лет кругу
общения и принял в работе института активное участие, вы-
ступая с докладами на заседаниях секции и в Общем собрании.
К сожалению, у этого института оказалась короткая жизнь: в
1923 г. он был закрыт по понятной причине — его посчитали
«гнездом» «буржуазной» науки.
Эта акция стала одним из этапов наступления партийно-
советских властей в сфере преподавания общественных наук.
Согласно директивам В. И. Ленина 1920 г., было предпри-
нято идеологическое наступление, выразившееся в ряде огра-
ничительных мер, направленных на выработку твердых учеб-
ных программ, введение порядка, согласно которому работ-
60
ники высшей школы обязывались сдавать специальные экза-
мены, подтверждающие знание ими марксистской литерату-
ры. 19 ноября 1920 г. Ленин подписал «Постановление о со-
здании комиссии для коренного пересмотра учебных планов
и методов преподавания общественных наук в высших учеб-
ных заведениях РСФСР», а в декабре члены этой комиссии
опубликовали обращение «К народам России», в котором
провозглашалось распространение диктатуры пролетариата
на сферу научного преподавания и изучения. И хотя одно-
временно Лениным были даны заверения о поддержке науч-
но-исследовательской работы, на деле это свелось только к
элементарному и скудному продовольственному снабжению.
Что же касается свободы научного творчества и самоорга-
низации ученых сообществ, то в этой области идеологиче-
ское и административное давление быстро нарастало.7
Для Петроградского университета 1923 г. стал тяжелым
не только потому, что был закрыт Исторический научно-ис-
следовательский институт. В нем, как и в архивном ведом-
стве, происходила «чистка», завершившаяся в 1924 г. Пар-
тийно-советские власти проводили жесткую селекцию, стали
привлекать для работы партийные кадры, плохо подготов-
ленные и мало квалифицированные, но следующие марксист-
ско-ленинской доктрине. Они стали вытеснять с факультета
тех, кто не соответствовал задачам .«идеологического воспи-
тания» студенчества. С. Ф. Платонов в осторожной форме
писал, что «преобразованный в последние годы Университет
уже не есть тот университет, которому принадлежала» вся
его «учено-преподавательская деятельность: в нем, по извест-
ной пословице, „новые птицы — новые песни"».8
Б. А. Романов еще несколько лет сумел продержаться на
факультете, но 1927 г. положил предел его университетскому
преподаванию в 20-х годах. Он был отчислен из состава со-
трудников университета вместе с рядом других его коллег,
проработав еще год после вынужденного ухода С. Ф. Пла-
тонова. Хотя Б. А. Романов преподавал там 8 лет, обста-
новка была столь сложной, а качественный состав студентов,
отбиравшихся по классовому принципу, столь невысоким,
что у него тогда так и не образовалась сколько-нибудь ус-
тойчивая группа учеников.
Работа в архиве и в университете в период «военного
коммунизма» протекала в исключительно трудных бытовых
условиях. Лишения затронули все слои населения Петрогра-
61
да. В городе год от года нарастал голод. Даже С. Ф. Пла-
тонов, занимавший важный пост в'системе Главархива, ис-
пытывал нужду, не говоря уже о самом Б. А. Романове и
его товарищах, о чем Б. А. Романов сообщил в Саратов
С. Н. Чернову, который в конце 1919 г. послал им посылки
с сухарями.9 Впрочем, дочь С. Ф. Платонова писала, что их
семья не голодала: «Мы не голодали, но зябли, пока не при-
менились к местным условиям и не поставили <...> железную
печку с трубой». В не отапливаемых ею комнатах темпера-
тура «доходила до —8° в сильные морозы».10
Наиболее тягостным было зимнее время. Профессор
Н. И. Кареев вспоминал, что зима 1917/1918 г. стала одной
из самых тяжелых в его жизни, но еще более гнетущей была
следующая зима, а далее положение особенно ухудшилось.
По его словам, «весь внешний строй жизни изменился до
крайней степени»: «Вспоминается холод, тьма, недоедание,
безденежье и невозможность многое достать и за деньги <...>
Было даже такое время», когда Н. И. Кареев с женой «при-
носил по нескольку поленьев в заплечных мешках <...> А
тьма! Бывали времена, когда электричества или совсем не
было, или пользоваться им можно было только в очень ко-
роткие часы, да и керосину не всегда можно было достать.
С питанием дело обстояло также очень плохо. Хлеб выда-
вался только по карточкам в небольшом количестве, дохо-
дившем иногда до одной четверти или даже восьмушки
фунта в сутки, а не то вместо хлеба отпускался овес, кото-
рый приходилось парить и дважды пропускать через мясо-
рубку, чтобы делать из него нечто вроде каши. По целым
неделям мы не ели никаких жиров, хотя бы растительных,
не говоря уже о каком-либо мясе, если не считать жесткой
и сухой конины. Чай и кофей заменялись всякими суррога-
тами <...> без сахара, вместо которого не всегда можно
было достать и сахарин <...> Плохо было и с платьем, и с
бельем, и особенно с обувью. Старое изнашивалось, а нового
было купить или не на что, или негде».11
Голод и эпидемии (грипп, холера, сыпной тиф, дизенте-
рия) привели к катастрофическим * масштабам смертности.
Бегство части жителей в деревню, мобилизация на фронты
гражданской войны, эвакуация предприятий в восточные
районы страны — все это наряду со смертностью привело к
снижению численности населения более чем в 3 раза.12 Прав-
да, в 1920 г. профессорам стали выдавать «академический
паек» через Комиссию по улучшению быта ученых.
Учебная жизнь в университете почти полностью расстро-
илась: «Аудитории не топились, посещались очень малым ко-
62
личеством слушателей, — отмечал Н. И. Кареев. — Не толь-
ко во время гражданской войны, но и позднее, когда дела
заметно поправились и аудитории стали наполняться, все-
таки и профессора, и студенты зимою сидели здесь в теплом
верхнем платье, в шапках, в валенках или в другой теплой
обуви. Не до учения было и молодежи, большая часть кото-
рой до четырех часов дня была где-либо на службе и на дру-
гих заработках, вечерние же занятия не всегда были возмож-
ны, потому что очень часто не было никакого освещения».13
В годы гражданской войны университет понес невосполни-
мые потери: умерли такие корифеи науки, как А. А. Шахма-
тов, А. С. Лаппо-Данилевский, М. А. Дьяконов, Б. А. Ту-
раев, В. В. Радлов, многие другие.
И все же профессора и студенты, заинтересованные в по-
лучении полноценного образования, стремились найти такие
формы обучения, которые помогли бы в какой-то степени пре-
одолевать возникшие в условиях гражданской войны и разру-
хи препятствия. Как вспоминала Н. С. Штакельберг, «поне-
многу образовалась традиция перенесения лекций и занятий
на квартиру того или другого профессора, что многих очень
скоро познакомило друг с другом и сблизило. Работали на
дому у профессоров А. Е. Преснякова, А. И. Заозерского,
М. А. Полиевктова, И. М. Гревса, О. А. Добиаш-Рождест-
венской и многих других. Почти все профессора историко-фи-
лологического факультета (в том числе А. Г. Вульфиус,
М. Д. Приселков) принимали экзамены у студентов и обсуж-
дали с магистрантами их работы тоже у себя на дому».14
♦ ♦ ♦
Служба в архиве была для Б. А. Романова важна сама
по себе как объект приложения его сил и энергии, не нахо-
дивших применения в предшествующие годы. Но он шел
туда, рассчитывая именно там возобновить свою научную
работу. Однако в тяжелых условиях гражданской войны и
«военного коммунизма» это было едва ли возможно. Кроме
того, лавина дел, захлестнувшая всех сотрудников архива в
первые годы архивного строительства, не оставляла времени
для углубленного творческого труда. Начавшаяся в 1919 г.
преподавательская деятельность в университете также потре-
бовала значительных усилий. Таким образом, тяга к научно-
му, исследовательскому творчеству, нарастая, не находила
осуществления.
Для реализации этого стремления Б. А. Романову необ-
ходимо было решить для себя по меньшей мере две задачи:
63
определить хотя бы на обозримую перспективу проблемати-
ку будущей работы и обозначить свою линию политическо-
го, социального и профессионального поведения в новых ус-
ловиях, порожденных Октябрьской революцией.
Что касается тематики исследований, то у Б. А. Романо-
ва на первых порах возникли с этим серьезные трудности.
Вероятно, уже с поступлением на работу в архив он решил,
что в ближайшее время не вернется к той узкой специаль-
ности, которую получил в университете, — истории средневе-
ковой России. Во всяком случае, в бумагах Б. А. Романова
нет даже и следов хотя бы каких-нибудь его попыток начать
исследования в этой области. Но проходили год за годом, а
новой проблематики для своей научной работы он так и не
определил. Пока же Б. А. Романов печатно отдал дань
прежним, наметившимся еще в студенческие времена интере-
сам и личным привязанностям. В 1920 г. в 6-й книге «Рус-
ского исторического журнала», посвященной памяти
А. С. Лаппо-Данилевского, он опубликовал текст двух своих
речей: первой, произнесенной в 1915 г. на заседании Исто-
рического кружка при Петербургском университете, на кото-
ром происходило чествование А. С. Лаппо-Данилевского по
случаю 25-летия его научно-литературной деятельности, и
второй, читанной 15 апреля 1919 г. на юбилейном (10-летие
существования) заседании этого кружка, «роковым образом»
обратившемся «в поминание».15
Отметив в этой второй речи, что, по его мнению, только
на заседаниях Исторического кружка А. С. Лаппо-Данилев-
ский «попадал в обстановку такого сочетания свободы и не-
обходимости, которое искупало затрату времени и, иной раз,
скуку и делало из председательствования здесь для него как
бы отдых», Б. А. Романов отчасти противопоставил эти за-
седания семинариям А. С. Лаппо-Данилевского, где его от-
ношение «к участникам осложнялось и подгибалось под тя-
жестью точно продуманного и неумолимо проводимого ре-
жима, который был продиктован учительским долгом».
Отдав дань памяти «любимому и чтимому руководителю
кружка», Б. А. Романов высказал убеждение в том, что
«долг перед ушедшим — уберечь Кружок от распада и под-
держивать его научную жизнь», а «усвоение ему имени
А. С. Лаппо-Данилевского было бы лучшим знаком <...>
благодарности и любви к покойному». Это предложение тут
же и было единогласно принято участниками кружка. Впро-
чем, Б. А. Романов проницательно отметил, что, насколько
«поиски преемника А. С-чу» будут мучительными, настолько
«трудно будет положение преемника», и «в этом смысле
64
А. С. оставил по себе плохое наследство — неподвижный, не-
изгладимый в памяти, властно очерченный зрительный
образ: заслонить его легче дерзнуть, чем суметь до конца его
выдержать».16
Вся эта речь, как и выступление 1915 г., пронизана нос-
тальгическими воспоминаниями о Петербургском универси-
тете, в атмосфере которого студенты — современники
Б. А. Романова под влиянием, в частности, А. С. Лаппо-Да-
нилевского «нечувствительно оказывались в стихии душевно-
го равновесия и моральной устойчивости, безулыбчивого и
незлобивого подхода к предметам повседневного наблюдения
и научного изучения». В этом небольшом тексте Б. А. Рома-
нов снова показал себя как мастер психологического портре-
та, срисованного со своего современника и опирающегося
только на собственные наблюдения и память. Обращает на
себя внимание то, что эта ностальгия обращена лишь к лич-
ности недавно скончавшегося ученого и к узкой сфере про-
фессионального общения с ним — во время учебы на исто-
рико-филологическом факультете или в последующие годы,
но отнюдь не к прошлому в целом.
Те же чувства отразила и рецензия Б. А. Романова на
книгу С. Ф. Платонова «Борис Годунов», напечатанная в
следующем, 1921 г.17 С. Н. Валк выразительно охарактеризо-
вал эту статью: «...она вся проникнута отзвуками еще живых
университетских впечатлений от личности Платонова, от по-
коряющей манеры чтения им лекций и литературных при-
емов его письма. Даже и там, где Б. А. был готов усомнить-
ся в изложении Платоновым „трагедии" Бориса Годунова, он
облекает свое несогласие в форму воображаемых размышле-
ний почтительного читателя платоновской книги».18 Пожа-
луй, в этой рецензии ее автор реализовал свое намерение,
высказанное еще в 1918 г. в письме к С. Ф. Платонову,
когда он писал, что связь с ним «платоновской дружины» не
прервалась, хотя из всей «дружины» «осталось только двое»
(П. Г. Любомиров и С. Н. Чернов были уже в Саратове),
так как не прервалась «та глубокая, хотя и своеобразная
личная связь, которая сложилась у дружины» с С. Ф. Пла-
тоновым: «В ней было и остается многое, почти все, невы-
сказанным: как раз то в ней, что было каждым из нас по-
своему в свое время выстрадано и тем прочнее завоевано
<...> мы все еще, и уже издавна, лелеем мысль как-нибудь
при случае выразить в точных и полной эмоциональной
жизни терминах существо и живые подробности этого куска
нашей биографии и Вашей творческо-учительской жизни».19
3 В. М. Панеях
65
Вероятно, в 1920 г. эта связь могла быть уже отчасти по-
колебленной, после того, как Б. А. Романов неожиданно
опубликовал рецензию на сборник документов о Брест-Ли-
товской мирной конференции. 0 В ней автор затронул весь
комплекс проблем, отраженных в этом издании и вообще
связанных с не успевшим еще остыть накалом политической
борьбы вокруг мира с Германией. Б. А. Романов указал, в
частности, на бытовавший в 1918 г. взгляд на него: «Каза-
лось, Брестский мир открывал длительную эпоху экономи-
ческого порабощения и национального унижения России; ап-
парат советской диктатуры становится как бы аппаратом
юнкерской Германии на предмет расхищения и эксплуатации
богатств живой силы страны, а в случае его непригодности
был бы, может быть, и иным, но в тех же целях». Вопреки
этим расхожим взглядам и внутрипартийным, а также меж-
партийным разногласиям, рецензент пришел к ответственно-
му для историка, принадлежавшего к тому кругу, который
осуждал Брестский мир, выводу, что «в тот момент только
незначительная кучка людей и во главе ее Ленин уверенно
держали курс на пресловутую „передышку** и поставили
ставку на эфемерность Брестской „петли** — и оказались
правы». Таким образом, Б. А. Романов признал, что Брест-
ский мир был единственным и вынужденным выходом из
того положения, в какое попала страна в то время. Теперь
же, продолжал он, «„Брестский этап** пройден и, как этап,
становится достоянием истории». Несмотря на эту послед-
нюю констатацию, Б. А. Романов ясно понимал, что рецен-
зируемые «исторические материалы» идут навстречу «выстра-
данному животрепещущему интересу современников этого
„далекого прошлого**». Р. Ш. Ганелин справедливо, как
представляется, отметил, что «историк старой школы» «про-
сто и ясно выразил <...> суть дела».21 Б. А. Романов не ук-
лонился от оценки щекотливого и острого сюжета, связанно-
го с возможностью «предварительного соглашения между
Советской властью и Вильгельмом II». При этом он опирал-
ся на вводную статью Л. Д. Троцкого, озаглавленную
«Брестский этап» и содержавшую «объяснение и обоснование
брестской политики Советского правительства».
Верный своим общедемократическим убеждениям,
Б. А. Романов квалифицировал рецензируемый сборник как
«документированный отчет власти перед страной», хотя при
его издании она, конечно же, ставила перед собой совершен-
но иные цели.
Этой рецензией Б. А. Романов вступал на опасный для
его репутации в глазах ряда представителей старой академи-
66
ческой интеллигенции путь. Само занятие ближайшим про-
шлым для человека этого круга не могло вызвать сочувст-
вия, тем более, если объектом исследования становилась со-
ветская история. Что же касается одобрения Б. А. Романо-
вым Брестского мира, то настроения ряда его коллег
отражает письмо С. Ф. Платонова И. А. Иванову от 20 де-
кабря 1917 г., т. е. незадолго до его заключения: «Не думал
я, что наши поколения увидят такую катастрофу русского
государства и общества. В успех „социализма" верят, по сло-
вам одного немца, только дети или сумасшедшие; историк
же верить не может. Он ждет только нищеты и периода за-
висимости, когда „выход" будет идти в Берлин, как раньше
шел в Орду».22
Б. А. Романов же, вопреки подобным мнениям, впервые
после многих лет молчания выступив в печати, действовал
осознанно и, возможно, даже в некотором смысле демонстра-
тивно. Во-первых, он несомненно пришел к выводу о право-
те властей в этой ситуации и не считал необходимым скры-
вать свою позицию во имя корпоративной солидарности. Во-
вторых же, Б. А. Романов тем самым как бы декларировал
свое намерение заняться в ближайшем будущем новой и но-
вейшей историей России.
Означает ли эта статья-рецензия и активная включен-
ность Б. А. Романова в возникшие после октября 1917 г.
формы служебной и преподавательской деятельности, что он
безоговорочно принял новую власть, одобрял ее действия,
оказывал ей поддержку? Ответ на этот вопрос не может быть
однозначным.
С одной стороны, именно она, как считал Б. А. Романов,
спасла Россию от хаоса и угрозы распада, порожденных кри-
зисом и загниванием самодержавия, противником которого
он был еще с гимназических времен, и заключение Брестско-
го мира было одной из важных акций советской власти в
этом направлении. Кроме того, революция избавила
Б. А. Романова от противопоказанной ему, как он считал,
работы в средних учебных заведениях. С другой же стороны,
воспитанный в демократическом духе, он не мог одобрить
устанавливающийся порядок вещей. Но все, кто не уехал в
эмиграцию и не был выслан из страны, даже такие непри-
миримые противники новой власти, как, например, знамени-
тый академик И. П. Павлов, в той или иной мере содейст-
вовали ее укреплению, работая в «советских» учреждениях,
будь это научная лаборатория, высшее учебное заведение,
школа или архив. В этих противоречивых условиях в доре-
волюционной научной интеллигенции произошло расслоение.
67
Применительно к исторической науке та ее часть, которая
работала в учреждениях Академии наук, сохранявшей до
1929 г., несмотря на государственное финансирование и дав-
ление властей, некоторые элементы все убывающей автоно-
мии, была сторонницей соблюдения старых, прочно утвер-
дившихся норм жизни науки, не желавшей принимать во вни-
мание новые реалии не только установившегося режима, но
и самой жизни. Эти ученые, в частности, отрицательно от-
носились к вторжению новой проблематики, расширению
хронологических рамок исследований и включению в них
даже второй половины XIX в., не говоря уже о XX в. Дру-
гая ее часть, по преимуществу молодые ученые, но не только
они, не соглашалась с этими ограничениями, считала их
устаревшими.
Одним из первых среди них был Б. А. Романов. Но
чтобы реализовать свою мечту — возобновить исследователь-
скую работу и публикацию ее результатов, ему надо было
выработать такое политическое поведение, которое свиде-
тельствовало бы о его лояльности новой власти. Вероятно,
рецензия на сборник документов о брестских переговорах
была шагом и в этом направлении.
Конечно, Б. А. Романов в этой своей позиции не был
одинок. Примером для него, как и прежде, служил
А. Е. Пресняков, который в том же 1920 г. в том же жур-
нале и в том же его номере выступил со знаменательной и
нашумевшей статьей «Обзоры пережитого». Констатировав,
что человечество переживает беспрецедентно «глубокий и
всесторонний кризис», бурно завершающий «вековое пере-
рождение общественных отношений и давно начавшийся рас-
пад основных форм старой культуры», он пришел к выводу,
что «ходкая тема „пересмотра всех ценностей"» стала «под-
линной трагической реальностью». А. Е. Пресняков увидел,
что «на развалинах изжитой», с его точки зрения, «старины
вырастает новая жизнь». Одной из характернейших особен-
ностей «нашей революции», и самой существенной, как счи-
тал А. Е. Пресняков, было «ее все нараставшее „углубле-
ние"», обусловленное «планомерным подчинением стихийной
игры революционных сил сознательному партийному руко-
водству, которое, покоряя эти силы и дисциплинируя массы,
достигло крупных результатов в форме так называемой „дик-
татуры пролетариата" и всемерно стремится расширить и
укрепить свою базу пробуждением и культивированием со-
знательности в этой народной массе»; в преодолении стихий-
ности и состоит «основная задача революционной эпохи». С
другой стороны, «в массе населения, впервые пробужденной
68
к самодеятельности и самоопределению», «идет упорное и
жадное искание просвещения, обучения, осмысления возник-
ших вопросов, словом, жажда „сознательности"». А. Е. Пре-
сняков утверждал, что «силой, организующей стихийные ре-
волюционные порывы масс, явилась партийная работа рус-
ской социал-демократии, которая пережила за годы
революции сложную расстройку и перерождение ее крепкого
партийного ядра в партию „коммунистическую"». «Будущей
кабинетной работе историка-исследователя» и предстоит, со-
гласно А. Е. Преснякову, «уяснить <...> элемент историче-
ской неизбежности в ходе нашей революции, понять и учесть
те силы и тенденции нараставшего брожения, помимо кото-
рых невозможно было ориентироваться в бурно развертывав-
шихся событиях».
Что же касается влияния «хода событий на перестройку
и углубление воззрений наиболее ответственных и наиболее
сознательных руководителей общественного движения», а
также «второстепенных деятелей или хотя бы наблюдателей
из интеллигентской среды», то, по мнению А. Е. Пресняко-
ва, «во всех общественных слоях, на всех уровнях культуры
найдутся носители идейного и эмоционального перелома в
отклик на огромные переживания революционной эпохи, а
найдутся и представители иного типа — те, что „ничего не
забыли и ничему не научились"». Автор отрицательно ото-
звался также о тех деятелях временных правительств 1917 г.,
которые, удовлетворившись распадом «старой власти», «кру-
шением самодержавия», «на деле пытались не руководить
движением, а сдержать его, приостановить всякое творческое
дело „до Учредительного собрания", этой — при данных
условиях — доктринерской фикции». «Не только для полити-
ческого деятеля Милюкова, но и для Милюкова историка»
«прошли бесследно» «глубокие переживания Герцена и гени-
альные анализы прошлых революционных опытов Карла
Маркса». Напротив, теоретики русской революции, учитывая
ее особенности, пошли «на пересмотр ряда положений, ка-
завшихся общепринятыми», почему «социологическое насле-
дие Карла Маркса и Энгельса — анализ революционных кри-
зисов, пережитых Западной Европой в 19 веке», — «потребо-
вало дополнения и частичного пересмотра».23
Можно предположить, что, какие бы прагматические
цели ни преследовали А. Е. Пресняков и Б. А. Романов сво-
ими публикациями 1920 г., у них был естественный и осо-
бенно плодотворный для историков интерес к текущей исто-
рии, без понимания которой, без ее сопоставления с собы-
тиями прошлого невозможны типологические наблюдения и
69
обобщения, относящиеся к этому прошлому, в первую оче-
редь— к недавнему прошлому.24
Конечно, такое косвенное одобрение политики властей не
могло пройти незамеченным в академических кругах. Еще в
декабре 1918 г. Ю. В. Готье отметил в своем дневнике:
«Провел вечер у Яковлева, сначала с Пресняковым и Нико-
лаевым, потом вдвоем с Яковлевым <...> Говорили и о пе-
тербуржцах (с А. И. Яковлевым. — В. П.); думается, что они
страдают своего рода дальтонизмом в отношении большеви-
ков; они в своем брошенном Петрограде искренне думают,
что с ними можно говорить о созидательной работе, тогда
как мы уверены, что такая работа при этой власти немыс-
лима».25 Впрочем, и московские представители «старой» ис-
торической науки (сам Ю. В. Готье, М. К. Любавский,
С. Б. Веселовский, В. И. Пичета и др.) активно сотруднича-
ли с большевистскими властями в деле архивного строитель-
ства. Иначе и невозможна была бы любая исследовательская
деятельность, преподавание в университетах и т. д. По суще-
ству, расхождения касались того, допустимо ли столь реши-
тельное сотрудничество с властью, которое продемонстриро-
вал А. Е. Пресняков. Так, когда в 1922 г. в США была
опубликована его статья, освещающая деятельность новых
научных организаций,26 она, по свидетельству С. Н. Валка,
не понравилась многим его коллегам, отрицательно отнес-
шимся «к высокой оценке происходивших в стране процессов
в области организации новой сети научно-исторических уч-
реждений, архивов, журналов».27
Означает ли позиция А. Е. Преснякова (а также
Б. А. Романова), что он тем самым решительно и безогово-
рочно встал на сторону советской власти, как обычно трак-
туется28 его политическое поведение? Полагаю, что на этот
вопрос следует ответить отрицательно. Он поддерживал ее,
как справедливо отметила Т. Н. Жуковская, «в гуманисти-
ческом стремлении демократически настроенного интеллиген-
та спасать культуру, перенести в реорганизованные и обнов-
ленные академические подразделения и учебные аудитории
как можно больше от старой культурной традиции», «при-
нося в жертву ради этого свои научные интересы».29 Но в
наследии А. Е. Преснякова нет и намека на одобрение им
идеологического наступления режима, репрессий, подавления
интеллектуальной свободы вообще, независимой прессы, в
том числе исторических журналов — в частности.
Что же касается расхожей точки зрения, у истоков кото-
рой стоял М. Н. Покровский, согласно которой А. Е. Прес-
няков после революции «сделался марксистом», то этому
70
противоречит и анализ его научного творчества,30 и его
самооценка.31
♦ ♦ ♦
Несмотря на явно обозначенное стремление заняться но-
вейшей историей России, Б. А. Романов не сразу нашел про-
блематику, которая отвечала бы его интересам и основыва-
лась бы на тех архивных фондах, которыми он ведал и ко-
торые обрабатывал. Поэтому в 1921 г. он стал сотрудничать
с Ученой комиссией при Петроградском губернском совете
профсоюзов, занимавшейся собиранием документов по исто-
рии труда в России, работавшей под председательствованием
С. Ф. Платонова и при участии И. М. Кулишера,
А. Е. Преснякова, Е. В. Тарле. Заместителем председателя
комиссии был Ю. И. Гессен, который сам инициировал по-
иски архивных материалов и предлагал темы для статей. Ко-
миссия издавала «Архив истории труда в России», в 1-м и
2-м номерах которого за 1921 г. Б. А. Романов опубликовал
две статьи, написанные по материалам Департамента поли-
ции Исполнительной Министерства внутренних дел, хранив-
шимся вне тех фондов, которыми он ведал. Ясно поэтому,
что статьи были заказными.
В них Б. А. Романов вторгся в проблематику, не связан-
ную с его прежними научными интересами и касавшуюся
социально-экономической истории России начала XIX в.
Статья «Эпизод из хозяйственной жизни крепостной вотчины
19-го века»32 начинается с определения значимости этой про-
блематики в исторической ретроспективе. «По мере того, как
„крестьянский вопрос** в нашей историографии, — писал
Б. А. Романов, — из атмосферы печали и воздыхания пере-
мещался на почву экономического исследования, все печаль-
нее давали себя чувствовать случайность и неполнота мате-
риала, на котором один за другим строятся отдельные вы-
воды и цельные теории относительно больших вопросов не
только истории собственно крестьянства, но и русского ис-
торического процесса в целом». Стремясь преодолеть этот
отрицательный момент, Б. А. Романов, верный традициям
петербургской исторической школы, построил свое исследо-
вание на прочном источниковедческом фундаменте. Источни-
ку, на котором оно базировалось, он дал точную и в то же
время образную (соответствующую литературному стилю ав-
тора) характеристику: его «формальная особенность <...> со-
стоит в том, что он при всей его единичности поступает в
распоряжение исследователя в сопутствии как бы критичес-
71
кого аппарата, точно постройка с не распущенным еще тех-
ническим штабом, над ней работавшим, или труп в окруже-
нии всего медицинского персонала, последовательно вступав-
шего в лечение больного, и участников последнего консилиу-
ма, поставившего ему скорбный диагноз. Эта стройная
многоголосица, без примеси причитаний, дает возможность
двояко оценить раскрывающееся в ней явление мерками того
и нашего века и помогает, взаимно их корректируя, найти
производную, которая и будет подлинно историческою: как
известно читателю, меткость глаза историка не абсолютна и
„недолет—перелет—попадание“ есть тоже закон и для твер-
дого исторического суждения».
Объектом реалистического анализа в статье стало дело о
разорении в начале XIX в. двух вотчин — крупнопоместной
и мелкопоместной, и на его основе Б. А. Романов произвел
«реконструкцию хозяйственного быта крепостных вотчин,
взятых в опеку», впечатляюще охарактеризовав положение
крестьян и в той и в другой вотчине, одна из которой была
барщинной, а другая — оброчной, и в то же время взаимо-
зависимость помещичьего и крестьянского хозяйств.
Б. А. Романов в этой статье проявился как подлинный
новатор, поскольку, как писал С. Н. Валк, его очерк «был
первым в ряду <...> исторических исследований, посвящен-
ных изучению хозяйственного строя крепостной вотчины —
предмета, которым досоветская <...> буржуазная историогра-
фия почти совсем не занималась и который получил такое
разностороннее освещение в последующие годы...».33 По ана-
логичным материалам была написана и вторая, небольшая,
статья — об освобождении беглых бродяг от крепостной ра-
боты.34
♦ ♦ ♦
Конец зимы и весна 1921 г. были для Б. А. Романова
особенно трудным временем. В Петрограде было тревожно
из-за Кронштадтского «мятежа», этого быстро подавленного
восстания, направленного против политики «военного ком-
мунизма» (18 февраля—18 марта). Город полнился паниче-
скими слухами, имевшими под собой вполне реальные осно-
вания. Во время и после восстания шли массовые аресты и
расстрелы, жестоко разгонялись митинги. На этот общий не-
благоприятный фон накладывались события, происходившие
в Петроградском отделении Центрархива, где в марте рабо-
тала специально образованная комиссия, занимавшаяся
«чисткой» служащих архива. Резко обострилась ситуация и
72
в университете, где «красные» «профессора» повели агрессив-
ное наступление на преподавателей* старой школы. К тому
же именно в марте в здании бывшего Министерства финан-
сов, где хранился архив Общей канцелярии его министра, ко-
торый находился в ведении Б. А. Романова, возник пожар,
едва не закончившийся гибелью этого фонда. Возможно, что
он опасался обвинений в диверсии или в саботаже. С другой
стороны, Б. А. Романова беспокоила вероятная отрицатель-
ная реакция близких ему старших коллег, в частности
С. Ф. Платонова, С. В. Рождественского и ряда других, в
связи с недавним появлением его рецензии на сборник доку-
ментов о Брестском мире. Все эти факторы переплелись и
пересеклись в одной точке и сильно повлияли на психологи-
ческое состояние Б. А. Романова: у него произошел нервный
срыв. Об этом свидетельствовало его письмо (несохранив-
шееся) в Саратов к С. Н. Чернову, который 20 апреля
1921 г. запросил о его состоянии С. Ф. Платонова: «Было
боязно за него и стыдно перед ним его читать. Впечатление
осталось такое, что он дошел до какого-то предела. Оно под-
черкивает несколькими словами длительность тяжелого со-
стояния Б. А., но не дает возможности ни разобраться в нем,
ни предположить, сколько времени оно продолжается».
С. Н. Чернов и другой близкий друг Б. А. Романова,
П. Г. Любомиров, «порешили тащить Б. А. сюда, в Сара-
тов»; «переезд Б. А. к нам в Саратов будет для него живи-
телен», «в условиях университетского преподавания он бы-
стро оправится», затем же, «если он захочет, всегда сможет
вернуться в Петроград». Правда, С. Н. Чернов предполо-
жил, что С. Ф. Платонову будет нелегко «способствовать
отъезду от себя такого яркого и талантливого человека, как
Б. А., расставаться с которым всегда бывает <...> тяжело»,
но при этом заверил, что им и П. Г. Любомировым «руко-
водит одно стремление — облегчить положение богато ода-
ренного, но не умеющего жить Б. А.».35 По некоторым кос-
венным признакам можно предположить, что Б. А. Романов
действительно уехал к друзьям в Саратов, но не для работы,
а чтобы отдохнуть.
А ближе к концу 1921 г. произошло событие, которое
сыграло решающую роль в дальнейшей его творческой судь-
бе: в Берлине вышел в свет первый том «Воспоминаний»
С. Ю. Витте,36 охватывавший период с 1894 по 1905 г. Для
Б. А. Романова это издание (вскоре оно было перепечатано
в России) определило одну из магистральных тем до самого
конца жизни. Он только недавно завершил углубленную ра-
боту по изучению находящегося в его распоряжении архив-
73
ного материала — по преимуществу фонд Канцелярии мини-
стра финансов, которым и был С. Ю. Витте. Мемуары пи-
сались главным образом с целью оправдания им своей по-
литики, приведшей к русско-японской войне 1904—1905 гг. и
Портсмутскому миру 1905 г. Прочитав первый том,
Б. А. Романов сразу же убедился, что наложенные на «Вос-
поминания» документальные материалы коренным образом
противоречили выстраиваемой Витте концепции.
Вероятно, именно уже в конце 1921 г. он принял решение
серьезно заняться этой проблемой. Но оно встретило насто-
роженное отношение его старших коллег. Наметился «тема-
тический, а затем, может быть, не только тематический
отрыв» от «школы». Для подавляющей части ее представи-
телей эта новая проблематика оказалась неприемлемой:
«...это была „современность**, „политика**, все что угодно, но
только не история», — отмечал Б. А. Романов в речи на док-
торской защите в феврале 1941 г., излагая аргументацию тех,
кто отрицательно отнесся к исследованию недавнего прошло-
го. Даже А. Е. Пресняков в отношении к его «планам в мо-
мент их возникновения» занял позицию «настороженного и
опасливого нейтралитета». И только «Е. В. Тар ле был един-
ственным, кто еще в 1921 г., в начале <...> подготовитель-
ных работ в этом направлении, решительно высказался за
законность этой темы — дальневосточная политика цариз-
ма— в „академическом“ плане».37
Конечно и сам Б. А. Романов понимал, что его недавно
возникшие новые научные интересы «никак не выводимы,
потому что никак не связаны» с его университетской шко-
лой: «Ни тематика этой школы, ни хронологический диапа-
зон ее интересов, ни ее техника, ни ее методология не за-
ключали в себе ничего подталкивающего или располагающе-
го к теме, подобно моей», — отмечал он. Более того,
продолжал Б. А. Романов, «если бы в 1906—1917 гг. мне
кто-нибудь сказал, что я когда-нибудь свяжу себя с между-
народно-политическими сюжетами, я категорически отверг
бы это предсказание, как фантастическое».38
И все же уже 12 июня 1922 г. он прочитал первый доклад
по своей новой проблематике, и не где-нибудь, а на первом
заседании Секции русской истории Исторического научно-ис-
следовательского института при Петроградском университе-
те, посвященном чествованию С. Ф. Платонова по поводу
40-летия со дня окончания им Петербургского университета.
Доклад «Витте и концессия на р. Ялу» был в самом конце
1922 г. опубликован в расширенном виде в «Сборнике статей
по русской истории, посвященных С. Ф. Платонову» с пока-
74
за тельным подзаголовком: «Документальный комментарий к
„Воспоминаниям“ гр. С. Ю. Витте».39 Обращает на себя вни-
мание то обстоятельство, что три четверти этого сборника
занимают исследования по истории России до конца XVII в.,
а история России XIX в. стала объектом изучения всего в
двух статьях, и только статья Б. А. Романова касалась конца
XIX—начала XX в., почему ей и было, согласно хронологии,
отведено последнее место—вслед за работой Е. В. Тарле о
русско-германских отношениях и отставке Бисмарка.
Уже в этой первой статье о дальневосточной политике
самодержавия на рубеже веков Б. А. Романов по достоин-
ству оценил мемуары Витте как исторический источник. От-
метив, что ранее к «удовлетворительному пониманию» этого
крупнейшего политического деятеля «не было ключа», он
констатировал: «Теперь в „Воспоминаниях" можно найти
целую связку», тем более, что «в <...> ворохе фотографиче-
ских снимков Витте дает себя изучить с изумительной откро-
венностью, оставаясь незащищенным даже и подобием лите-
ратурного прикрытия», а «множество фактических мелочей
и мелочных замечаний, даже психологических мелочностей и
житейских условностей придают этой книге исторически по-
требную бытовую насыщенность». Мастерски оперируя
этими ключами, Б. А. Романов впервые в литературе нари-
совал впечатляющий социально-психологический портрет
Витте и кратко охарактеризовал политическую и экономи-
ческую его программу, а также отчасти и его политическую
биографию. Но, разумеется, он не ограничился этим, а пос-
ледовательно, на обширном документальном материале, ис-
следовал политику самодержавия на пути к русско-японской
войне, выявил позиции самого Витте и А. М. Безобразова и
их роли в ее развязывании. Отвергая концепцию Витте и
объяснение им «всех „зол и бед“, постигших Россию в 1903—
1906 гг.», «безобразовщиной», Б. А. Романов показал, что
историк не может поддаться «на такое сужение постановки
вопроса»: «Последний перегон к русско-японской войне дей-
ствительно начинается с безобразовского полустанка, —
писал он. — Но следствие должно быть направлено на узло-
вую станцию отправления, где всем движением управлял еще
Витте».
Итак, эта первая статья Б. А. Романова, посвященная
дальневосточной политике самодержавия, оказалась тем се-
менем, из которого проросли вначале побеги, а затем, очень
скоро, целое дерево — монография, всесторонне обосновав-
шая новаторскую его концепцию. В этой же статье был сде-
лан прорыв в сфере источниковедческой критики мемуаров
75
Витте. В частности, Б. А. Романов высказал гипотезу, со-
гласно которой книга «Пролог русско-японской войны. Ма-
териалы из архива гр. С. Ю. Витте. С предисловием и под
редакцией Б. Б. Глинского» (Пг., 1Я6) являлась как бы час-
тью мемуаров С. Ю. Витте, написанной вместе с рядом его
литературных помощников. Б. В. Ананьич и Р. Ш. Ганелин,
ученики Б. А. Романова, обнаружили после кончины их учи-
теля ее рукопись и полностью подтвердили его наблюдение.40
В том же году (1922-м), когда была опубликована эта
статья, в ноябре—декабре, Б. А. Романов написал, а затем
прочитал в качестве доклада в Общем собрании Истори-
ческого научно-исследовательского института еще одну рабо-
ту, посвященную источниковедческой критике мемуаров
С. Ю. Витте, — «Витте накануне русско-японской войны».
Она была опубликована в 1923 г. с тем же подзаголовком,
что и предыдущая: «Документальный комментарий к „Вос-
поминаниям" гр. С. Ю. Витте».41 Одновременно с ней вышла
в свет статья «Концессия на Ялу. К характеристике личной
политики Николая II»,42 которая стала результатом перера-
ботки и дополнения статьи «Витте и концессия на р. Ялу».
Наконец, в следующем, 1924 г., была издана еще одна ста-
тья— «Лихунчангский фонд», в подстрочной сноске к кото-
рой указывалось, что и она «носит характер» документаль-
ного комментария к «Воспоминаниям» С. Ю. Витте.43
В этой последней работе Б. А. Романов впрямую иссле-
довал проблему, которая получила в мемуарах широкое ос-
вещение, — по формулировке самого Витте, о «виновниках
злосчастной войны». Критическому рассмотрению подвер-
глась концепция Витте, согласно которой перед «японской
войной» как бы конкурировали две переплетавшиеся полити-
ки, Николая — захватническая и его — мирная: «Николай —
Порт-Артур — Ялу — захват Маньчжурии — война: это од-
но. Витте — союз с Китаем — дорога — эвакуация Маньчжу-
рии — соглашение с Японией: это другое».44 Б. А. Романов,
напротив, показал, что политика Витте и линия Безобразова,
поддержанного Николаем II, по существу и в стратегическом
отношении неразличимы, если не считать, что методы Без-
образова были более грубыми. Конечно, Витте, считавший,
что русско-японская война стала едва ли не первым в цепи
факторов, приведших к губительному кризису Российской
империи, стремился всячески приукрасить свою роль в исто-
рии ее развязывания, для чего, собственно, и были написаны
его мемуары. Б. А. Романов, в частности, уличил Витте в
обмане в вопросе о взятках для подкупов китайских дипло-
матов. Витте утверждал, что только однажды дал взятку с
76
целью избежания кровопролития в связи с захватом Россией
Порт-Артура. Б. А. Романов же привел документы особого
секретного фонда, созданного для подкупа китайских офици-
альных лиц (и спасенные им от сдачи в макулатуру), так на-
зываемого «Лихунчангского фонда», и показал, что деньги
из него выдавались 5 раз, а умолчание Витте об этом яви-
лось показателем его стремления изобразить «подкуп только
как вынужденное средство для ликвидации чужого „ребяче-
ства“».45
Итак, в 1922—1924 гг. была опубликована серия статей
Б. А. Романова, объединенных общей целью — дать доку-
ментальный комментарий к «Воспоминаниям» С. Ю. Витте
и тем самым осуществить их источниковедческую критику.
Он сознавал, что этот мемуарный источник заслуживал бы
того, чтобы продолжить кропотливую работу в этом направ-
лении. Б. А. Романов понимал, что. отдельные выступления,
в частности его собственные в этих первых статьях, не со-
здают «еще перекрестного огня, под которым бесповоротно
падали бы версии Витте и крепли бы им противопоставляе-
мые», так как «перестрелка еще только в начале», и «потре-
буется еще очень большая и кропотливая работа не одного
историка для критической проверки и оценки сообщений
Витте, много поправок будет к ним внесено, известное коли-
чество их будет, может быть, опровергнуто вовсе; но и эти
комментарии, и эти поправки, и эти опровержения будут ле-
питься одни за другими» к первым двум томам мемуаров
Витте, «как разновременные пристройки к одному основному
корпусу».
Профессиональный интерес Б. А. Романова к этим мему-
арам подогревался еще и интересом современника к «недав-
нему прошлому», решительным неприятием старого режима
в целом, ярко проявившимся, в частности, в его рецензии на
два тома журнала «Красный архив». В ней он на основании
анализа дневника А. А. Половцова констатировал «совер-
шенное разложение правящей верхушки», о чем свидетельст-
вовала также серия писем и телеграмм Александры и Нико-
лая II последних месяцев режима, превосходящая «все ожи-
дания читателя» «патологической стороной», тем более, что
переписка ген. В. А. Сухомлинова с Н. Н. Янушкевичем
«дает изумительную иллюстрацию, в параллель с семейной
перепиской Романовых, той пустыни, которая царила в лич-
ном составе правящих классов».46 Б. А. Романов уделил
такое пристальное внимание «Воспоминаниям» Витте, в част-
ности, из-за осознания того, что «едва ли кому удастся с
таким бесповоротным успехом» «так перетряхнуть отошед-
77
шую старую правящую Россию, как это сделал ее кровней-
ший сын».
Сердцевиной «недавнего прошлого» естественным обра-
зом для Б. А. Романова была революция и ее предпосылки,
гигантская катастрофа старой монархии. «Воспоминания»
Витте, как обоснованно считал ученый, и «слагаются в ответ
на вопрос о причинах как бы уже состоявшейся революци-
онной гибели Всероссийской Империи и ее политически свя-
зующего центра — династии со всей правящей средой. Даль-
ний Восток, с политикой, приведшей к войне; русско-японская
война, которая только и могла кончиться поражением, вы-
звавшим революцию „наружуПортсмутский мир, все же
прекративший войну к моменту наибольшего подъема рево-
люционного движения; октябрьский манифест», который
«мог бы вывести с пути потрясений; но <...> царь, опираясь
на Союз русского народа и предоставив Столыпину факти-
чески аннулировать октябрьский манифест, и, изменив вы-
борный закон, обратить Государственную думу в послушный
департамент при председателе Совета министров, погнал
страну ко второй революции и катастрофе».47
Объектом своего преимущественного исследовательского
интереса Б. А. Романов и избрал исходные предпосылки ре-
волюций — дальневосточную политику самодержавия, рус-
ско-японскую войну и связанные с этой линией события. Он
ясно понимал, что, поставив перед собой столь сложную за-
дачу, он, «не имея предшественников в науке»,48 обрекает
себя на роль первопроходца. Столкнувшись на этом пути
сразу же с предубеждением в среде историков-профессиона-
лов старой школы, Б. А. Романов стремился обосновать
свой (и не только свой, а и С. Н. Валка, А. А. Шилова,
С. Н. Чернова) выбор. Он констатировал, что историко-ре-
волюционная проблематика в ее широком аспекте никогда
не была «предметом систематического изучения и, главное,
свободного преподавания», не имела «кафедры» и не обра-
зовала «школы» и даже «органически» не связана «с общим
процессом русского исторического развития»,49 и решительно
противопоставил этому предвзятому, с его точки зрения,
взгляду свое собственное видение проблемы: «Что бы ни го-
ворилось о „чрезмерной" близости этого периода (истории
России XX в. — В. П.) к „современности", о невозможности
рассматривать его в „надлежащей" исторической перспективе
и с „полным" научным беспристрастием и т. д. и т. п., —
историческая наука стоит лицом к лицу, даже в университет-
ском преподавании, с неотступным требованием: дать по-
строение русского развития в эти годы, пусть это построение
78
сколько угодно меняется впоследствии под влиянием новых
и новых открытий, точек зрения, глубины изучения». Поэто-
му, «чем скорее, богаче и критически доброкачественнее пой-
дет издание капитальных документов названного периода,
документов, остававшихся скрытыми, пока они считались за-
служивающими тайны и политически запретными для исто-
рика, — тем быстрее, успешнее и научнее будет идти работа
исторического исследования и построения, удержать от ко-
торой меньше всего может недостаток исторического мате-
риала или неустановленность фактов».50 В этих полемических
строках легко угадываются те возражения, которые довелось
услышать Б. А. Романову в связи с нарушением им тради-
ций, которые, по его представлению, становились анахрониз-
мами, мешавшими поступательному развитию исторической
науки. При всем при этом он был озабочен тем, что поста-
вил себя «с темой о дальневосточной политике царизма
эпохи империализма» в отношениях со старшими представи-
телями петербургской исторической школы «в одинокое, аут-
сайдерское положение».51
Б. А. Романов, однако, всячески отвергал обвинения в
том, что он вторгается в сферу политики. Он не считал, что
при исследовании истории России конца XIX—начала XX в.
перед ним стоит политическая задача — писать «некролог у
изголовья еще не остывшего тела». Учитывая «стойкость ис-
пущенных» российской монархией «и упорно задерживаю-
щихся в человеческом сознании идеологических испарений»,52
он стремился вскрыть оставшиеся тайными пружины «недав-
него прошлого» и осуществить намерение включить «в поле
исторического наблюдения и изучения» те его стороны, ко-
торые прежде были «окутаны наиболее густым покровом ле-
генды», с тем, однако, условием, чтобы не включиться в «ли-
хорадочную погоню за сенсацией», а добросовестно «уста-
навливать факты, не только окутанные легендой, но и
просто неведомые историку, не окутанные даже и леген-
дой».53 При решении этой исследовательской задачи, отмечал
Б. А. Романов, ему «пригодились <...> острота и изощрен-
ность документального зрения и изучения, в которых шко-
лили» его поколение «учителя с самой школьной скамьи».
Принимаясь за изучение «оставленного современниками со-
бытий публицистического, мемуарного, эпистолярного <...>
и ассортим оптированного документального материала»,
Б. А. Романов «не сомневался в сугубой необходимости не-
примиримо-критического к нему отношения <...> микроско-
пического текстуального изучения — не хуже, а то и почище
древних летописных сводов». «Развуалирование <...> импе-
79
риалистической сущности» внешней политики самодержавия
становилось для Б. А. Романова «тем более маниакальной
целью критического исследования, чем больше приходилось
тут познавать (и не сразу распознавать) сознательного и бес-
сознательного завуалирования сути вещей». Достигалось это,
по признанию Б. А. Романова, процитировавшего слова
А. Е. Преснякова, «упорным и упрямым, неуклонным и ме-
лочным „восстановлением прав источника и факта"»,54 т. е.
благодаря следованию принципам Петербургской историче-
ской школы.
♦ ♦ ♦
Б. А. Романов принадлежал к тому молодому поколению
представителей этой школы, которое «в пору крайней <...>
заброшенности, подавленности и расстройства»^ петербург-
ской академической среды, в трудных условиях начала 20-х
годов немало способствовало возрождению и развитию оте-
чественной историографии. Фактически в Петрограде—Ле-
нинграде в 20-е годы складывалось своеобразное направле-
ние в исторической науке, опиравшееся на петербургские
академические традиции, но претендовавшее на особое
место. Его представители значительно расширили хроноло-
гические рамки исследования и стали заниматься историей
XIX—XX вв. Жизнеспособность этого направления прояви-
лась и в создании многочисленных научных кружков, интен-
сивно работавших в традициях школы и часто собиравших-
ся, как это было и в дореволюционное время, на квартирах
их участников. Особая роль среди неформальных научных
объединений в Петрограде (затем Ленинграде) в то время
принадлежала «Кружку молодых историков», состоявшему
преимущественно из учеников С. Ф. Платонова, Е. В. Тар-
ле, Н. И. Кареева, А. Г. Вульфиуса, А. Е. Преснякова,
С. В. Рождественского, — преподавателей или «оставлен-
ных» для подготовки к научной деятельности и профессор-
скому званию. Б. А. Романов и вошел в состав его участни-
ков. Подавляющее большинство постоянных членов кружка
было арестовано ОГПУ в 1929—1930 гг. по так называемому
Академическому делу. Их показания во время следствия,
подвергнутые источниковедческой критике, а также воспоми-
нания одной из участниц кружка и даже инициаторов его
создания историка и библиографа Н. С. Штакельберг дают
возможность восстановить общую картину его деятельно-
сти.56 Кружок никак не был оформлен, не велись протоколы
его заседаний. Функции председателя часто выполнял один
80
из его организаторов С. И. Тхоржевский. Состав кружков-
цев не был строго определен. Он начал работать либо в
самом конце 1920 или в январе 1921 г. и просуществовал до
конца 1927 или начала 1928 г.
Заседания кружка преимущественно проходили на квар-
тире Н. С. Штакельберг, а также в университете — в поме-
щении Исторического семинария, которым заведовал
Б. А. Романов, Клубе научных работников (наб. Мойки,
д. 94), где С. И. Тхоржевскии занимал пост секретаря, в
Доме ученых (ул. Халтурина, до того и ныне — Миллионная
ул., д. 27), у дочерей С. Ф. Платонова, живших вместе с
отцом, в квартирах других участников кружка, в частности
несколько раз—у Б. А. Романова. Заседания проводились
по пятницам. Обычно собиралось 20—30 молодых ученых.
Они не только выступали с докладами и обсуждали их, но
и обменивались новостями, устраивали вечеринки и чаепи-
тия.
«На первое заседание кружка каждый из его участни-
ков,— вспоминала Н. С. Штакельберг,—принес с собой ку-
сочек сахару, кусочек хлеба и полено. В нашей гостиной
было в 1921 г. два градуса мороза*, дров у нас было мало
<...> Я сделала все, от меня зависящее, чтобы гостиная и
столовая выглядели уютно. Не было необходимости оста-
ваться в пальто, как почти везде зимой 1920—1921 года: в
Университете, в Публичной библиотеке, в частных домах. И
одно это сразу придало праздничный вид нашему собра-
нию».57 «Со временем, — отмечала далее Н. С. Штакель-
берг, — уже вносились для устройства вечеринок не продук-
ты, а какая-то скромная, чтобы никого не стеснять, сумма
денег».58
В кружке преобладали молодые ученые, занимавшиеся ис-
торией России, но были также историки Западной Европы,
историки права и литературоведы. Две дочери С. Ф. Плато-
нова — Наталья Сергеевна и Нина Сергеевна — были непре-
менными участниками заседаний кружка. Посещал кружок и
муж Натальи Сергеевны литературовед Н. В. Измайлов,
ставший впоследствии известным пушкинистом. Среди более
или менее постоянных посетителей кружка, оставивших за-
метный след в науке и представлявших традиции петербург-
ской исторической школы, помимо уже упомянутых можно
назвать С. Н. Валка, А. Н. Шебунина, П. А. Садикова,
А. Н. Насонова, Е. Ч. Скржинскую, И. И. Любименко.
На заседаниях кружка эпизодически бывали Г. П. Федо-
тов, в 20-х годах эмигрировавший, П. П. Щеголев, а из про-
фессоров — С. Ф. Платонов, Е. В. Тарле, С. В. Рождествен-
81
ский, Б. Д. Греков, А. Е. Пресняков, М. Д. Приселков.
Иногда отмечались юбилеи — Е. В. Тарле, московского про-
фессора М. М. Богословского, а также праздновалось избра-
ние его в 1921 г. действительным членом Академии наук.
«В общем, политическое лицо кружка было лицом рус-
ской интеллигенции тех лет, — писала Н. С. Штакельберг, —
большая часть боялась и красных и белых и „тщилась уце-
леть в катавасии44. Большинство из нас были невинны в от-
ношении марксизма. Формально среди членов кружка можно
было насчитать людей разных партий. А. Н. Шебунин —
меньшевик, М. Н. Мартынов—эсер, С. И. Тхоржевский и
М. А. Островская близки к кадетам, А. А. Введенский бли-
зок к большевикам <...> Все мы принадлежали к третьему
сословию — трудящейся интеллигенции, с некоторыми нюан-
сами в смысле общественного и имущественного положения,
и все хотели найти свое место в науке и в жизни».59 Таким
образом, кружковцы придерживались разных политических
взглядов, как и представители университетской профессуры,
участвовавшие в заседаниях кружка. Е. В. Тарле, например,
по своим убеждениям был далек от С. Ф. Платонова. Одна-
ко это не мешало им действовать сообща и поддерживать
одаренных молодых ученых.
Из профессоров, как писала Н. С. Штакельберг, участни-
ки кружка больше всего любили Е. В. Тарле.60 Он присутст-
вовал на вечеринках, рассказывал за чайным столом о своих
поездках за границу, о новых книгах, публиковавшихся там.
Но основной формой работы «Кружка молодых истори-
ков» были научные заседания, на которых читались доклады,
затем детально обсуждавшиеся. Так, Б. А. Романов 1 июля
1921 г. выступил в помещении Исторического семинария с
докладом о мемуарах Д. Н. Шипова «Воспоминания и думы
о пережитом», изданных в Москве в 1918 г.61 Этот доклад
был вскоре опубликован в виде рецензии,62 хотя ее содержа-
ние далеко выходило за рамки этого жанра: в ней давался
политический и социально-психологический портрет лидера
правого крыла российского либерализма.
Б. А. Романов участвовал в работе «Кружка молодых ис-
ториков» лишь до середины 20-х годов. Затем он перестал
посещать его заседания, считая себя переросшим его уровень,
а над оставшимися подшучивал, называя их молодыми ста-
ричками.63
Кружки были тесно связаны с историческими журналами,
выходившими в Петрограде в первой половине 20-х годов, в
особенности с такими изданиями, как «Дела и дни», «Русское
прошлое», «Анналы», «Русский исторический журнал», в ре-
82
датировании которых принимали участие А. Е. Пресняков,
Е. В. Тарле, С. Ф. Платонов, С. В. Рождественский. Почти
все, что обсуждалось в кружке, печаталось в них, в том числе
и работы Б. А. Романова.
Заметную роль в культурной и научной жизни Петрогра-
да—Ленинграда играл так называемый салон Е. В. Тарле,
который возник в начале 20-х годов и где коллеги собира-
лись по средам. Этот способ неформального общения возник
еще до революции и возродился, вероятно, с началом нэпа.
Всех гостей обычно приглашал лично Е. В. Тарле, в числе
их бывал, хотя и нечасто, Б. А. Романов. Помимо обсужде-
ния общих вопросов на этих средах- зачитывались рефераты.
Фамилия Б. А. Романова нередко упоминалась в письмах
Е. В. Тарле из Парижа жене — О. Г. Тарле. Так, 24 августа
1924 г. он спрашивал: «Был ли у тебя Борис Александро-
вич?»; 2 сентября того же года интересовался, получила ли
она «что-нибудь от Бориса Александровича, у которого есть
доверенность на получение моего жалования»; 31 октября
просил передать Б. А. Романову, что «Национальный архив
хочет обмениваться своими печатными изданиями (инвента-
рями и т. п.) с нашим архивом», и спросить его, «что им
сказать?»; 20 июня 1925 г. сообщал о получении им пригла-
шения «лично от министра народного просвещения» Фран-
ции «на завтрашнее торжественное открытие Президентом
республики Музея великой войны» — в качестве представите-
ля ряда организаций, в том числе Центрархива — и просил
сказать об этом Б. А. Романову: «...пусть архив за себя по-
радуется, он у нас честолюбив». В начале октября 1929 г.
Е. В. Тарле отправил Б. А. Романову в адрес Центрархива
небольшой газетный некролог «Памяти А. Е. Преснякова».
Уведомляя об этом 9 октября свою жену, он просил ее по-
звонить Б. А. Романову и обсудить вопрос, какой газете
предложить этот некролог: «Может быть, в „Вечернюю крас-
ную газету“?». Из Парижа же Е. В. Тарле поручал жене при-
гласить Б. А. Романова на первую после его возвращения в
Ленинград «среду».64 Е. В. Тарле, который был старше
Б. А. Романова на 15 лет, безусловно выделял его среди ис-
ториков этого поколения. Четыре его работы были напеча-
таны в журнале «Анналы», фактическим редактором которо-
го был Е. В. Тарле (в трех из четырех вышедших его кни-
гах). Даже в таком специфическом источнике, каким
являются следственные показания Е. В. Тарле во время
«Академического дела» 1929—1931 гг., Б. А. Романов зани-
мает особое место. Так, в собственноручных показаниях от
29 мая 1930 г. он «поместил» Б. А. Романова (наряду с
83
С. И. Тхоржевским, А. А. Введенским, С. Н. Данини,
А. Н. Шебуниным) «в высшую категорию» «по признаку
большей или меньшей умственной зрелости».65 В сводном
протоколе показаний, датированном 29 июня 1930 г., зафик-
сировано, что он, Е. В. Тарле, «отметил способности, науч-
ные и политические, Тхоржевского, Романова и Шебуни-
на».66 Смысл этих показаний не нес на себе никакой полити-
ческой нагрузки, приведенное мнение не относится к
категории вынужденного саморазоблачения. Так что можно
считать их отражающими действительную точку зрения
Е. В. Тарле.
♦ ♦ ♦
Первые четыре статьи Б. А. Романова, объединенные
общей задачей — дать документальный комментарий к «Вос-
поминаниям» С. Ю. Витте, были опубликованы в 1922—
1924 гг. либо в эпизодических сборниках, либо в периоди-
ческих изданиях, вскоре прекративших свое существование.
Но ученый осознавал, что эти мемуары заслуживали бы
того, чтобы продолжить кропотливую работу по их критике.
Он и задумал написать пропедевтическую,67 по его термино-
логии, книгу, которая стала бы первым — источниковедче-
ским — этапом к созданию широкого исследовательского по-
лотна, посвященного дальневосточной политике царизма в
конце XIX—начале XX в. Такая последовательность работы
над проблемой соответствовала традициям петербургской ис-
торической школы. Ближайшим плодотворным примером
для него в этом отношении был С. Ф. Платонов, фундамен-
тальному труду которого, посвященному исследованию
Смуты начала XVII в., предшествовала книга, в которой
анализировались древнерусские сказания и повести о Смут-
ном времени как исторический источник.
Впрочем, задуманную книгу Б. А. Романову так и не
удалось написать. Уже в январе 1923 г. он с горечью отме-
чал, что не в состоянии опубликовать готовую главу этой
книги «ввиду невозможных условий, в которые ставит мос-
ковское архивное ведомство такого рода публикации, руко-
водствуясь соображениями государственной монополии на
исторические сведения, почерпываемые в архивах и могущие
дать доход ведомству», и поставил свою дальнейшую работу
над монографией в прямую зависимость «от такого положе-
ния».68 Б. А. Романов был решительным противником «ли-
тературной монополии», считая, что «при отсутствии конку-
ренции» ее «отрицательные последствия» «может <...> не-
84
сколько парализовать» «только строгая критика», и поэтому
пытался противопоставить практике, при которой журнал
(или ведомство), в частности «Красный архив», являясь «мо-
нопольным обладателем всех архивных сокровищ и власт-
ным хозяином „тайн“ недавнего прошлого», волен «откры-
вать эти тайны читающей публике и охранять их от взоров
деятеля исторической науки — по своему собственному усмо-
трению»,69 свое собственное общедемократическое представ-
ление о свободе научного творчества на основе свободного
доступа к архивным материалам и свободы печати.
При этом вряд ли Б. А. Романов был прав, когда писал
именно о материальных побуждениях ведомства, мешавшего
публикации его работ. Он и сам пересмотрел это свое мне-
ние. Как известно, вскоре после завершения гражданской
войны начала формироваться новая историческая школа, ос-
новные постулаты которой были провозглашены М. Н. По-
кровским, получившим профессиональное образование в
Московском университете. В противоположность принципам
петербургской исторической школы, она основывалась не на
анализе источников и установленных в результате него фак-
тах, а на заранее заданной схеме, доктрине, теоретических
построениях. Этим своим качеством новая историческая
школа внешне походила на московскую, но теория, положен-
ная в ее основу, была резко противопоставлена исторической
науке дореволюционного периода, а следовательно, этой сто-
роной— обеим школам: и петербургской, и московской. На
смену гегельянству, позитивизму и неокантианству пришел
марксизм в ленинской (а затем и сталинской) трактовке, в
большой степени, правда, опиравшийся на спекулятивно ин-
терпретированную диалектику Гегеля.
Вся история у М. Н. Покровского была жестко детерми-
нирована теориями развития торгового капитала и классо-
вой борьбы. Выросшая из недр революции и ожесточенней-
шей гражданской войны, школа М. Н. Покровского пере-
толковывала не ею установленные факты в духе классовой
ненависти и непримиримости, искала классовый смысл и по-
буждения в деяниях не только крупных исторических фигур,
но и рядовых людей, отвергала государственность прежних
эпох, национальные и общечеловеческие ценности, позитив-
ный опыт прошлого, если речь не шла о борьбе пролетариа-
та против буржуазии и царизма. Сам М. Н. Покровский и
адепты его школы перенесли классовую борьбу и на сферу
исторической науки, направив ее острие в условиях Петро-
града—Ленинграда против петербургской исторической
школы и ее представителей, которые подвергались третиро-
85
ванию как выразители «дворянской и буржуазной» идеоло-
гии. В середине 20-х годов он начал решительную кампанию
за монопольное утверждение в науке своей школы и обру-
шивался с ожесточенной критикой на тех, кто стоял на его
пути. Решающее влияние М. Н. Покровского определялось,
в частности, тем, что он занимал ключевые посты в новых
институциональных структурах исторической науки: был за-
местителем наркома просвещения, руководил Коммунисти-
ческой академией, Институтом красной профессуры, Общест-
вом историков-марксистов.
Этим и были вызваны трудности, с которыми столкнулся
Б. А. Романов при публикации своих работ, посвященных
предыстории и истории русско-японской войны, так как сто-
ронники школы М. Н. Покровского считали, что он вторгся
в их заповедную зону. Возникла крайне неблагоприятная си-
туация для представителей «старой» школы вообще, для
Б. А. Романова и других его коллег, занявшихся «недавней
историей», — в особенности. Став аутсайдером в отношениях
с нею из-за неприятия этой школой новой проблематики, ис-
следованием которой он активно занялся, Б. А. Романов «со
своими работами» «о дальневосточной политике царизма» «в
столь же аутсайдорском положении оказался <...> и в отно-
шении к Покровскому». «Для этого фланга, — говорил
Б. А. Романов в речи на докторском диспуте,—не сущест-
вовало ни моих работ, ни меня». Он настороженно воспри-
нимал «упорные слухи о том, что историей русско-японской
войны занимается в Москве такой-то из учеников Покров-
ского, или затем (во второй половине 20-х гг.) сам
М. Н. Покровский».70
С прекращением издания таких замечательных журналов,
как «Анналы» (в 1924 г.), «Былое» (в 1926 г.), «Дела и дни»
(в 1922 г.), «Русский исторический журнал» (в 1922 г.), вы-
званным наступлением М. Н. Покровского на «буржуазную
историческую науку», оказалось, что Б. А. Романову негде
публиковать свои исследования. В 1925 г. у него не вышло
из печати ни одной статьи, в 1926 г. он был вынужден на-
печатать статью об основных моментах в русской политике
на Дальнем Востоке в 1892—1925 гг. не в специализирован-
ном, а литературно-художественном региональном журнале
«Сибирские огни»,71 написанная в том же году статья «Меж-
дународно-финансовые отношения России во время русско-
японской войны. 1904—1906 гг.», принятая к напечатанию в
журнале «Историк-марксист», так и осталась неизданной. В
1927 г. Б. А. Романов не смог опубликовать ни одной своей
статьи. Этот новый этап своей научной биографии, когда к
86
тому же «наступил внешний крах — отпала возможность за-
думанной пропедевтической книги», Б. А. Романов оценивал
как «период подвальной одинокой кустарщины в теоретиче-
ском и кочегарщины в техническом отношении» и констати-
ровал, что ему «оставалась лишь публикаторская роль», а
журнал «Красный архив», являвшийся органом Центрархива,
лишь «в ведомственном порядке принимал» его «докумен-
тальные публикации». Конечно, «собирательство и публика-
тор ство материалов служило <...> утешением», хотя и «со-
всем бесперспективного свойства».72
Впрочем, сам Б. А. Романов еще в 1923 г. предвидел, что
«доступность государственных архивных документов», отно-
сящихся к концу XIX—началу XX в., «вероятная наличность
частных архивных же материалов (переписки и др.) и рас-
пространенность интереса к недавнему прошлому в кругу ис-
ториков-специалистов повлекут к опубликованию и обработ-
ке документальных данных по все тому же „поводу*4»?3 И в
этой важной сфере деятельности Б. А. Романова все внима-
ние публикатора было сосредоточено на источниках, с раз-
ных сторон характеризующих революцию и ее предпосыл-
ки.74
Им, в частности, были изданы документы, посвященные
октябрьским стачкам 1916 г. в Петрограде.75 Само название
этой публикации — «Канун семнадцатого года», да еще взя-
тое в кавычки, свидетельствовало, что она напрямую связана
с недавно вышедшей в свет одноименной книгой активного
участника октябрьских событий А. Г. Шляпникова, с опо-
рой на материалы которой была написана Б. А. Романовым
вступительная статья. Характеризуя провокацию со стороны
Министерства внутренних дел, связанную с событиями 17—
20 октября, он опирался на листовку Петроградского коми-
тета большевиков, опубликованную Шляпниковым, и днев-
ник французского посла М. Палеолога, имевшего сведения
об этом от директоров-французов завода «Рено». В интер-
претации Б. А. Романова, события октября 1916 г. свиде-
тельстовали о том, что в верхних эшелонах власти вполне
ощущали назревание краха. Этому же периоду, но в аспекте
финансового положения России перед Октябрьской револю-
цией, были посвящены еще 2 публикации.76
В юбилейном 1925 г. Б. А. Романов издал серию из
6 публикаций, посвященных первой русской революции: о
позиции крупной буржуазии Петербурга в январе 1905 г.,77
о забастовке на Путиловском заводе и роли Галона,78 об ос-
вещении администрацией Путиловского завода событий ян-
варя—августа 1905 г.,79 о ткацкой фабрике Чешера в
87
1905 г.,80 о переговорах В. Н. Коковцова в самый разгар ре-
волюции о зарубежном займе,81 о докладах В. Н. Коковцова
Николаю II в связи с событиями 9 января.82 Эта же пробле-
матика— события начала революции 1905 г. — стала пред-
метом документальной публикации в 1929 г.83
Важное место в археографической деятельности Б. А. Ро-
манова занимают источники, непосредственно относящиеся к
объекту его углубленной исследовательской работы — даль-
невосточной политике самодержавия. Так, в 1926 г. он издал
подборку документов о безобразовском кружке,84 а в 1928 г.
написал содержательное предисловие к изданным А. К. Дре-
зеном документам, отражавшим ход военного совещания 24
мая 1905 г. у императора в Царском Селе по вопросу о «не-
медленном» заключении мира с Японией.85 Проблема полу-
чения иностранных займов нашла освещение в опубликован-
ной Б. А. Романовым переписке В. Н. Коковцова с директо-
ром Парижско-Нидерландского банка Эдуардом Нецлиным.86
Вершиной работы Б. А. Романова в сфере эдиционной
археографии в это время стало издание им в 1926 г. под гри-
фом Центрархива двух сборников документов — «Рабочий
вопрос в комиссии В. Н. Коковцова в 1905 г.» со вступи-
тельной статьей «Комиссия В. Н. Коковцова и крупная бур-
жуазия в 1905 г.»87 и «Русские финансы и европейская биржа
в 1904—1906 гг.».88 В первом из этих сборников опублико-
ваны материалы, почерпнутые из фонда Министерства фи-
нансов, относящиеся к тщетным попыткам правительства
под влиянием январских событии 1905 г. в Петербурге пред-
принять ряд малозначительных мер по организации больнич-
ных касс и по сокращению рабочего дня 10 часами. Эта про-
блема до Б. А. Романова была совсем обойденной в
исторической литературе.89
Что же касается сборника документов «Русские финансы
и европейская биржа», то его издание дало источниковую
базу для исследования финансовой истории России в начале
XX в., в частности проблемы заграничных займов в услови-
ях русско-японской войны и первой русской революции. В
сборнике были помещены переписка между министрами
С. Ю. Витте, В. Н. Коковцовым, В. Н. Ламздорфом, по-
слом России во Франции А. И. Нелидовым, а также их пере-
писка с агентами, зарубежными банкирами, всеподданнейшие
доклады Коковцова и ряд других материалов. Видимо, дели-
катность вопроса о царских займах в период, когда еще шли
переговоры о них советского правительства с кредиторами,
привела к тому, что Центрархив привлек к написанию пре-
дисловия видного советского государственного и партийного
88
деятеля, занимавшегося профессионально экономическими
проблемами, Е. А. Преображенского.
Еще один сборник документов — «Россия на Дальнем
Востоке. 1892—1916 гг.», подготовленный Б. А. Романовым,
так и не вышел в свет. Когда сборник уже был набран на
три четверти, возник конфликт между издательством
«Кобуч» и Институтом живых восточных языков, издатель-
ство которого готово было допечатать книгу, а Правление
Института — принять книгу в серию своих издании при ус-
ловии передачи ему ее даром. «Кобуч» же претендовал на
пропорциональный раздел экземпляров. Б. А. Романов
17 апреля 1926 г. обратился за содействием «в деле спасе-
ния» его книги к влиятельному академику С. Ф. Ольденбур-
гу, к тому же непременному секретарю Академии наук, в
убеждении, что его «полслова в этом деле могут иметь гро-
мадное значение» в «авторской судьбе» составителя, напо-
мнив С. Ф. Ольденбургу, что не раз испытывал его «доброе
отношение» к себе «в течение этих тяжелых лет».90
Но конфликт так и не был урегулирован, и набор, веро-
ятно, был рассыпан. Через 6 лет об этом сборнике вспомнил
известный книгоиздатель М. В. Сабашников, с которым
Б. А. Романов, очевидно, вел переговоры во второй полови-
не 20-х годов, о его издании после того, как убедился в не-
возможности достичь компромисса между «Кобуч» и Инсти-
тутом живых восточных языков. Сабашников в середине
1932 г. запрашивал С. В. Бахрушина, проходившего по
«Академическому делу» и отбывавшего ссылку в Семипала-
тинске, о судьбе Б. А. Романова. 6 июля 1932 г. С. В. Бах-
рушин в ответ на этот запрос писал: «Автора „Русско-япон-
ской войны" не ищите: он в таком же положении, как я, а
может быть, хуже».91 Скорее всего, оригинал сборника был
конфискован при аресте Б. А. Романова в январе 1930 г.
Важнейшей стороной научно-литературной работы
Б. А. Романова в 20-х годах было рецензирование выходя-
щих книг, документальных публикаций, дневников, мемуаров
и журналов в целом. Особый интерес представляют его от-
зывы о мемуарах и дневниках. Как правило, их анализ ста-
новился основанием, на котором выстраивались социально-
психологические и политические портреты самих мемуарис-
тов. Выше уже шла речь о характеристике С. Ю. Витте,
данной Б. А. Романовым в рецензии на его «Воспоминания».
Не менее выразительная картина была нарисована им в от-
зыве на книгу лидера правого крыла российского либерализ-
ма, известного земского деятеля Д. Н. Шипова «Воспомина-
ния и думы о пережитом».92 Б. А. Романов увидел в Шипове
89
политика, занимавшего «в генеалогическом древе русской
широкой интеллигенции и политических деятелей <...> свое
и <...> не боковое место», — вопреки первому впечатлению
от чтения его «Воспоминаний» о его исключительности и
одинокости. Исходя из того, что мемуары являются автопо-
ртретом мемуариста, Б. А. Романов, проанализировав их,
выстроил на их основе «уменьшенный автопортрет
Д. Н. Шипова», расходящийся во многом с оригиналом —
самими «Воспоминаниями». Он показал, что за внешней
цельностью мировосприятия и политического поведения
Шипов предстает как весьма противоречивая личность, ко-
торой свойственна психическая глухота, «вернее, некоторая
туговатость на ухо, счастливо используемая инстинктом
самосохранения». Его «собственная совесть, внутреннее уст-
роение <...> личности» в его «психическом складе господ-
ствует безраздельно», но это совмещается с глубоким, теоре-
тически обоснованным недоверием «к человеческой лично-
сти». А «в таком сочетании совесть человеческая является не
живым действующим началом, а предметом любовного, за-
ботливого попечения, ревнивого охранения от искушений и
испытании». «Как старый режим, в российской его разновид-
ности, доживал свои годы с помощью исключительных по-
ложении, так этот психический тип спасал себя режимом
„чрезвычайной охраны" сознания — от ясной и неумолимой
постановки убийственных для него вопросов, а когда они
ставились жизнью в упор и в полном объеме — воспринимал
их лишь в двух измерениях и давал сбивчивые, почти исклю-
чающие друг друга, ответы», — констатировал Б. А. Рома-
нов.
«Миропонимание» Шипова или, как назвал его Б. А. Ро-
манов, «земское евангелие Шипов а» > покоилось на отрицании
идеи народовластия, вытекавшем из толстовской интерпрета-
ции евангельского нравственного учения, в силу чего, по
убеждению мемуариста, именно наследственная монархия,
противостоящая господствующему в мире злу, «остается наи-
более целесообразным орудием осуществления этической,
примирительной и объединительной задачи государства, тем
более действительным, чем теснее единение власти с наро-
дом». В силу убеждения в том, что в России (как и в Англии)
в народе доминирующими являются религиозно-нравствен-
ные устремления, Шипов в 1905 г. категорически отказывал-
ся признать «„левую опасность", т. е. признать, что за „ле-
выми негосударственными элементами" действительно стоят
грозные силы и острое недовольство, готовые сейчас опро-
кинуть существующий общественный строй». «„Левые", сто-
90
ящие левее кадетов (все за одной скобкой), для него как бы
не существуют <...> Это просто „негосударственные элемен-
ты"», с которыми «Шипов предоставляет расправиться <...>
„строгими мерами" и непарламентским способом — каде-
там». Таким образом, на основании анализа мемуаров Ши-
пова Б. А. Романов пришел к выводу, что «такие люди не
выдерживают испытаний, когда попадают в обстановку, тре-
бующую ясных ответов и безоговорочных жертв».93
С такой же источниковедческой тщательностью и психо-
логической проникновенностью Б. А. Романов анализировал
дневник французского посла в России М. Палеолога,94 кото-
рый в изданном виде представлял собой «цельное произве-
дение со всеми признаками тщательной литературной отдел-
ки», составленное «на основании первоначального дневника
по возвращении автора во Францию» и «рассчитанное на
вкусы среднего французского читателя и притом читателя
уже одержавшей победу страны». Автора дневника, как от-
метил Б. А. Романов, «смущало <...> что самодержавие не-
совместимо с протяжением России, с развитием ее экономи-
ческой мощи и что „в положительном знании и в практиче-
ском проявлении верховной власти" Николай явно не на
высоте своего положения», хотя высшие сановники И. Г. Ще-
гловитов, А. Н. Куломзин, А. В. Кривошеев и убеждали
посла в том, что гарантией против революции служит незыб-
лемость монархических убеждений народа. Б. А. Романов,
оперируя «словечками» из дневников Палеолога, воспроизвел
эти уверенные высказывания, свидетельствовавшие об отсут-
ствии в правящей элите понимания надвигающейся опасно-
сти революционного взрыва. В дневнике М. Палеолога, как
и в «Воспоминаниях» С. Ю. Витте, Б. А. Романов черпал
материал для характеристики Николая II. В частности, он
отметил такую выразительную черту последнего русского
царя, как «мистическую покорность судьбе и уверенность в
собственном неудачничестве», уверенность в обреченности
«на страшные испытания», хотя это смирение сочеталось в
нем со злорадством, проявившемся в том, с «каким блеском
иронической радости в глазах» Николай II говорил за за-
втраком в присутствии в том числе и французского посла о
смерти Витте.95
Когда в 1925 г. были изданы мемуары Талона, Б. А. Ро-
манов откликнулся на них краткой, но выразительной рецен-
зией,96 в которой отнес его к типу «исторических дикарей-
одиночек», хотя и признал, что этого «героя навылет»
«никак не выбросишь из русской жизни вообще и рабочего
движения в частности, как совсем не случайную, а, наоборот,
91
характернейшую черту этой жизни и этого движения в усло-
виях старой императорской России». Не прошел Б. А. Рома-
нов и мимо дневников великого князя Андрея Владимирови-
ча, А. Н. Куропаткина и Н. П. Линевича, отметив их изда-
ние краткими рецензиями.97
Представляют интерес и источниковедческие наблюдения
ученого при сопоставлении им в рецензии на первый сборник
материалов «Пятый год» и переиздание «Известий Московско-
го совета рабочих депутатов» за 1905 г.98 своеобразного «го-
родского дневника, каким и являются листки „Известий"», с
которого «дохнёт на читателя ближе всего и только» «мяту-
щимся в восстании городом (во всем его единстве)», и воспо-
минаний, «да еще написанных много лет спустя», могущих
«сообщить больше деталей, передать переживания и настро-
ения отдельных лиц и групп с их субъективной стороны».
Оценил Б. А. Романов в своих рецензиях и источники
послеоктябрьского периода, отражающие, в частности, такой
деликатный сюжет, как колчаковщина. И здесь он проявил
исключительную проницательность при интерпретации стено-
граммы показаний А. В. Колчака перед Чрезвычайной след-
ственной комиссией в сопоставлении с воспоминаниями ге-
нерала В. Г. Болдырева, являвшегося соперником Колчака
при избрании диктатора, а также доклада члена французской
военной миссии в Петрограде Питона, объехавшего сразу
после Октября 1917 г. ряд сибирских городов.99 Стенограмму
показаний Колчака Б. А. Романов, как установил Р. Ш. Га-
нелин, интерпретировал, исходя из выявленной им цели до-
проса — «дать <...> историю не только колчаковщины, но и
автобиографию самого Колчака <...> Стенограмма дает
почти связный рассказ о жизни допрашивавшегося, начиная
с детских лет, рассказ, изредка перебиваемый вопросами чле-
нов комиссии, но отнюдь не обрываемый бесповоротно.
Только на последнем дне допроса резко отразилось в этом
смысле нервное желание допрашивающих ввиду предстояв-
шего в этот день расстрела Колчака забежать несколько впе-
ред и выяснить хоть некоторые подробности периода дикта-
туры, до которого только-только успел дойти в своем рас-
сказе Колчак накануне. Ввиду такой особенности „допрос"
дает четкий автопортрет Колчака; рассказ свой он вел, по
признанию председателя комиссии, с достаточной откровен-
ностью и полным достоинством, зная об ожидавшей его
участи, не ища поводов снискать себе снисхождение врага и
отнюдь не бравируя».100 Б. А. Романов четко показал, что
Колчак не был политиком, о чем свидетельствует «любая
страница его на редкость цельных показаний», а неприятие
92
им Октябрьской революции восходит к его военному про-
шлому: «Существенно важно для понимания Колчака то, что
с первых же шагов его работы по возрождению русского
флота после разгрома в 1904—1905 гг. она протекала под
знаком твердо усвоенной мысли о неизбежности вести всю
боевую подготовку вооруженных сил России в расчете на ми-
ровую войну в союзе с Антантой против Германии. Эта
мысль и вошла немаловажным слагаемым в его психический
комплекс, и он был естественным противником Октябрьской
революции», поскольку она непосредственно вела к выходу
из войны с Германией. Поэтому «и в дальнейшем перед Кол-
чаком не перестает стоять на первом плане необходимость
личного участия в борьбе с германской коалицией в рядах
Антанты, где бы временно ни протянулся этот воображае-
мый германский фронт».
В воспоминаниях генерала Болдырева Б. А. Романов
нашел «подтверждение тому, что рассказывает» Колчак «о
своем участии в перевороте», тем более убедительное, что ме-
муарист, отразив в них свое отношение к нему как к соперни-
ку, показал «кухню переворота <...> с мыслимыми вообще по-
дробностями» и «с максимальной личной невыгодностью для
Колчака». Основываясь на этих важных наблюдениях
Б. А. Романова, Р. Ш. Ганелин с полным основанием пришел
к выводу, что он «создал целомудренно реалистический и объ-
ективный исторический портрет Колчака, не поддавшись гос-
подствовавшему тогда чувству классовой ненависти».101
Б. А. Романов использовал любую возможность для про-
должения своей научно-литературной работы. Когда было
прекращено издание так называемых буржуазных органов
печати, он переключился на «советские» издания. В единст-
венном, вышедшем в 1924 г. номере журнала — органе Пет-
роградского отделения Центрархива «Борьба классов» (изда-
ние которого не было продолжено по финансовым мотивам)
он поместил свое исследование и две рецензии. Уже на вто-
рой год издания другого журнала Центрархива — «Красный
архив» (1923 г.) Б. А. Романов выступил в нем с изданием
источников; всего же вплоть до 1928 г. он печатался в этом
журнале, специализировавшемся на публикации архивных
материалов, 9 раз. Когда в 1922 г. Петроградский (позднее
Ленинградский) истпарт приступил к выпуску журнала
«Красная летопись», Б. А. Романов стал, правда, не сразу, а
с 1924 г., непременным его автором, преимущественно кри-
тико-библиографического отдела, выступив на его страницах
12 раз. Такому активному его сотрудничеству в «Красной ле-
тописи» способствовало то обстоятельство, что редактором
93
журнала была давний (с 1903 г.) член большевистской пар-
тии П. Ф. Куделли, которая, по свидетельству С. Н. Валка,
была большой почитательницей научно-литературного та-
ланта Б. А. Романова.102
Когда в 1927 г. было образовано Ленинградское отделе-
ние Института истории в составе РАНИОНа, во главе этого
научного учреждения встал А. Е. Пресняков, который сразу
же пригласил туда на работу по совместительству Б. А. Ро-
манова (основным местом его службы оставался Центрар-
хив), ставшего секретарем отделения и руководителем секции
истории России, который намеревался возглавить работу по
выявлению архивных фондов (особенно фабрично-заводских
архивов), дать их описание за период первой мировой вой-
ны — в общероссийском масштабе и специально в масштабах
Петрограда. Б. А. Романов сразу же развил здесь бурную де-
ятельность в той области, которая была магистральной для
него с 1921 г. Так, уже 1 февраля 1927 г. он предлагал про-
читать здесь доклад «Международно-финансовые отношения
России во время русско-японской войны. 1904—1906 гг.», ко-
торый в качестве статьи предназначался в 1926 г. для жур-
нала «Историк-марксист», но не был, как уже отмечалось,
напечатан (из-за прекращения его издания). 18 февраля
Б. А. Романов прочитал в институте другой доклад — «За-
хват Порт-Артура».
Впрочем, время деятельности РАНИОНа было недолгим.
Ленинградское отделение Института истории было присоеди-
нено к Ленинградскому отделению Института марксизма, а
затем, в 1929 г., преобразовалось в Ленинградское отделение
Института истории Коммунистической академии (ЛОКА).
Б. А. Романов и в этом научном учреждении в начале марта
1929 г. прочел доклад «Что делало политику русского само-
державия на Дальнем Востоке в 1894—1904 гг. боевой?». Со-
хранились лишь тезисы этого доклада.103 Однако, по призна-
нию самого Б. А. Романова (в одной из автобиографий), в
условиях, когда его концепция российского империализма
резко расходилась с «установками» М. Н. Покровского, ру-
ководство Института истории при ЛОКА предложило ему
осенью 1929 г. переключиться на другие темы, а затем и
вовсе вывело его из штата.
1920-е годы стали периодом, когда научные и личные
контакты Б. А. Романова с коллегами постоянно расширя-
лись. Центрархив, университет, исследовательские институты
94
(при Петроградском университете, при РАНИОНе, при
JIOKA), научные журналы, «Кружок молодых историков»
были теми сообществами, в коллективах которых и завязы-
вались новые профессиональные связи. Руководя одним из
подразделении архива, Б. А. Романов сталкивался с приез-
жавшими в Петроград (Ленинград) для работы в нем учены-
ми, чаще всего молодыми. Именно тогда он познакомился с
Н. Л. Рубинштейном и А. Л. Сидоровым. Самые тесные и
все более крепнувшие отношения связывали Б. А. Романова
с его учителем А. Е. Пресняковым. Вероятно, без преувели-
чения можно утверждать, что они переросли в необычайную
взаимную привязанность. В 1923 г. Б. А. Романов посвятил
свою статью «Витте накануне русско-японской войны»
«дорогому учителю Александру Евгеньевичу Преснякову — к
30-летию ученой деятельности». По-прежнему важную роль в
жизни Б. А. Романова играли его давние друзья П. Г. Лю-
бомиров и С. Н. Чернов, работавшие в Саратове, но часто
и подолгу бывавшие в Петрограде (Ленинграде). Обычно
они приезжали, сменяя друг друга, и жили у Б. А. Романо-
ва— иногда по полгода. Сам он нередко ездил в команди-
ровки в Москву, где возникали новые знакомства.
Вместе с тем отношения с С. Ф. Платоновым постепенно
видоизменялись. Еще в 1922 г. Б. А. Романов составил спи-
сок трудов С. Ф. Платонова для второго сборника в его
честь, 4 что свидетельствовало о большой степени близости
между ними. Но она сменялась периодами отчуждения. Ска-
зывалось отрицательное отношение С. Ф. Платонова к заня-
тиям Б. А. Романова «недавним прошлым», активное его со-
трудничество в органах печати, создаваемых государственны-
ми и партийными властями, таких, например, как «Книга и
революция», «Красный архив», «Красная летопись», «Борьба
классов». Б. А. Романов, поддерживаемый А. Е. Пресняко-
вым, считал, что профессиональный историк не может не
публиковать результаты своих исследований и в создавшихся
условиях важно, не где он печатается, а то, являются ли они
политически и теоретически неангажированными или служат
конъюнктурному идеологическому обоснованию режима.
Б. А. Романов был явно обижен неодобрительным отноше-
нием С. Ф. Платонова к его научным занятиям. Признаком
серьезных трений между ними, обеспокоившим друзей
Б. А. Романова из бывшей «платоновской дружины», явля-
ется письмо С. Н. Чернова из Саратова к С. Ф. Платонову
от 11 марта 1926 г., в котором он вспоминает об одном тя-
желом моменте их «последней встречи»: «Вы говорили мне
о своих впечатлениях от него (Б. А. Романова. — В. П.) и
95
тех разговорах, что о нем идут. Я осторожно расспрашивал
о нем Павла Григорьевича (Любомирова. — В. П.)> мораль-
ная строгость которого мне слишком хорошо известна. И я
рад сказать, что его впечатления от Бориса такие же, как и
у меня, что перемены в Борисе, и по его мнению, нет. Я
очень дорожу этими впечатлениями П. Г. еще и потому, что
он и в прошлом, и в этом году подолгу живал с Борисом —
я-то видывал Бориса урывками в Саратове и Москве. П. Г.,
в частности, много говорил о тех чувствах уважения и
любви, которые по-прежнему живут в душе Бориса к Вам,
об его очень острой реакции на всякое к Вам недоброжела-
тельство или даже видимое проявление невнимания. П. Г. от-
мечал и „самостоятельность“ Бориса в служебных делах, и
деловую строгость всего его поведения. Не рождает ли Борис
неблагоприятные о себе суждения своей мне издавна извест-
ной слабостью „делать из мухи слона"?».105
Как представляется, в свете изложенных в этом письме
обстоятельств, особенно подчеркивании самостоятельности
Б. А. Романова в служебных делах и деловой строгости
всего его поведения, выглядит не невероятным и, более того,
отчасти проясняющим туманные намеки С. Н. Чернова
фрагмент собственноручных показаний Е. В. Тарле 29 мая
1930 г. во время следствия по сфабрикованному «Академи-
ческому делу»: «Относительно Романова произошло следую-
щее. Платонов выразил неудовольствие по тому поводу, что
Романов у него не бывает вовсе, тогда как раньше бывал, и
что он это делает оттого, что его начальник по Центрархиву
Цвибак — ему это посещение Платонова ставит на вид. Так
как этого на самом деле не было, то Романов пошел к Пла-
тонову и объяснился с ним. С тех пор, со времени этого объ-
яснения, отношения между Романовым и Платоновым стали
гораздо более близкими, чем были до того времени...».106 В
другом своем собственноручном показании (от 16 июня
1930 г.) Е. В. Тарле писал о том же, но в несколько других
выражениях: «...когда Романов перестал у него (С. Ф. Пла-
тонова. — В. П.) бывать, то он очень злобно и раздраженно
просил и меня, и других передать Романову, что это Романов
потому не бывает, чтобы угодить своему начальнику по ар-
хиву, коммунисту. И Романов поехал к нему и объяснялся
по этому поводу. Но, например, Романов и после этого объ-
яснения бывал у Платонова не тогда, когда другие <...> а в
другое время».107
Так что, вполне вероятно, что взаимоотношения между
Б. А. Романовым и С. Ф. Платоновым характеризовались
временами взаимным раздражением, временами — новым
96
сближением. Ясно, однако, одно — они утратили былую до-
верительность. А в конце 1928—начале 1929 г. эти отноше-
ния вновь . обострились. Причиной послужили реакция
С. Ф. Платонова на выход в свет первой книги Б. А. Рома-
нова и его определенная линия, приведшая к неизбранию
А. Е. Преснякова в число академиков.
ПРИМЕЧАНИЯ
1 Цит. по: Валк С. Н. Борис Александрович Романов И Исследования
по социально-политической истории России: Сб. статей памяти Бориса
Александровича Романова. Л., 1971. С. 24.
2 Архив СПб. ФИРИ, ф. 298, on. 1, д. 6, л. 1.
3 Валк С. Н. Борис Александрович Романов. С. 24.
4 Елисеева И. И., Дмитриев А. Л. Памяти Василия Васильевича Леон-
тьева//Известия С.-Петербургского университета экономики и финансов.
1999. № 2. С. 159.
3 Отчет научного сотрудника I разряда Исторического научно-исследо-
вательского института при Петроградском университете Б. А. Романова за
1922 г.: Архив СПб. ФИРИ, ф. 193, оп. 3, д. 5, л. 31—31 об.
6 Трудовой список Б. А. Романова: Архив СПб. ФИРИ, ф. 298, on. 1,
Д. 6.
7 Подробно см.: Купайгородская А. П. Краткая история Объединенного
совета научных учреждений и высших учебных заведений Петрограда
(1917—1922)//Россия в XIX—XX вв.: Сб. статей к 70-летию со дня рожде-
ния Р. Ш. Ганелина. СПб., 1998. С. 323—332.
8 Платонов С. Ф. Автобиографическая записка//Академическое дело
1929—1931 гг. Документы и материалы следственного дела, сфабрикованно-
го ОГПУ. Вып. 1. Дело по обвинению академика С. Ф. Платонова. СПб.,
1993. С. 284.
9 С. Н. Чернов — С. Ф. Платонову. 27 декабря 1919 г.: ОР РНБ,
ф. 585, on. 1, ч. 2, д. 4540, л. 11 —13 об.
10 Н. С. Платонова—В. С. Шамониной. 28 марта 1920 г. Цит. по:
Брачев В. С. Русский историк Сергей Федорович Платонов. СПб., 1995.
Ч. 2. С. 231.
11 Кареев Н. И. Прожитое и пережитое. Л., 1990. С. 271—273.
12 Ваксер А. 3. Политические и экономические катаклизмы в России XX
века и население Петрограда—Ленинграда—Санкт-Петербурга//Россия в
XIX—XX вв.: Сб. статей к 70-летию со дня рождения Р. Ш. Ганелина.
СПб., 1998. С. 347—348.
13 Кареев Н. И. Прожитое и пережитое. С. 274.
14 Штакельберг Н. С. «Кружок молодых историков» и «Академическое
дело» / Предисловие, послесловие и публикация Б. В. Ананьича; Примеча-
ния Е. А. Правиловой//In memoriam: Исторический сборник памяти
Ф. Ф. Перченка. М.; СПб., 1995. С. 31.
15 Романов Б. А. А. С. Лаппо-Данилевский в Университете (Две речи)//
Русский исторический журнал. 1920. Кн. 6. С. 181 —188.
16 И действительно, недолгое существование кружка имени
А. С. Лаппо-Данилевского свидетельствовало о том, что достойной замены
4 В. М. Палеях
97
найти не удалось. Внутри кружка выявились разногласия. А сцементировать
его работу А. И. Андреев, де-факто вставший во главе его, так и не сумел.
Романов Б. А. [Рец.] Платонов С. Ф. Борис Годунов. Пг., 1921 //
Дела и дни. 1921. Кн. 2. С. 212—223.
18 Валк С. Н. Борис Александрович Романов. С. 18.
19 Б. А. Романов и Б. В. Александров — С. Ф. Платонову: ОР РНБ,
ф. 585, on. 1, ч. 2, д. 2069, л. 3 об.—4.
20 Романов Б. А. [Рец.] Мирные переговоры в Брест-Литовске с 22/9 де-
кабря 1917 по 3 марта (18 февраля) 1918 г. Пленарные заседания. Заседания
Политической комиссии. Полный текст стенограмм под редакцией и с при-
мечаниями А. А. Иоффе (В. Крымского) с предисловием Л. Д. Троцкого.
Издание Наркоминдел. М., 1920. Т. 1 //Дела и дни. 1920. Кн. 1. С. 473—
476.
21 Ганелин Р. Ш. Б. А. Романов — историк революционного движения
в России//Проблемы социально-экономической истории России: К 100-
летию со дня рождения Бориса Александровича Романова. СПб., 1991.
С. 42.
22 Отечественные архивы. 1998. № 4. С. 81.
23 Пресняков А. Е. Обзоры пережитого//Дела и дни. 1920. Кн. 1.
С. 346—351.
24 См.: Рашковский Е. Б. Историк как свидетель, или Об источниках
исторического познания//ВФ. 1998. № 2. С. 38—39.
Готье Ю. В. Мои заметки//ВИ. 1991. № 12. С. 157.
26 Presniakov A. Historical Research in Russia during Revolutionary crises//
The American Historical Review. 1922. Vol. 28. N 2. P. 248—252.
27 Алексеева Г Д. Историческая наука в России после победы Октябрь-
ской революции//Россия в XX веке: Судьба исторической науки. М., 1996.
С. 44—45.
28 См. например: Свердлов М. Б. А. Е. Пресняков (1870—1929): жизнь
и творчество // Пресняков А. Е. Княжое право в древней Руси: очерки по
истории X—XII столетий; Лекции по русской истории: Киевская Русь. М.,
1993. С. 538.
29 Жуковская Т. Н. А. Е. Пресняков и марксизм: опыт историографи-
ческой демифологизации//Россия в XIX—XX вв.: Сб. статей к 70-летию со
дня рождения Р. Ш. Ганелина. СПб., 1998. С. 32.
50 Там же. С. 28—40.
31. Там же. С. 37.
32 Романов Б. А. Эпизод из хозяйственной жизни крепостной вотчины
19-го века (По документам архива Департамента полиции Исполнительной
Министерства внутренних дел)//Архив истории труда в России. Пг., 1921.
Кн. 1. С. 124—145.
33 Валк С. Н. Борис Александрович Романов. С. 18.
34 Романов Б. А. К вопросу об освобождении беглых бродяг от крепост-
ной работы//Архив истории труда в России. Пг., 1921. Кн. 2. С. 145—148.
*5 С. Н. Чернов — С. Ф. Платонову. 14 апреля 1921 г.: ОР РНБ,
ф. 585, on. 1, ч. 2, д. 4540, л. 39—40.
36 См.: Ананьин Б. В. Мемуары С. Ю. Витте в творческой судьбе
Б. А. Романова//Проблемы социально-экономической истории России: К
100-летию со дня рождения Бориса Александровича Романова. СПб., 1991.
С. 30—40.
37 Речь Б. А. Романова на защите докторской диссертации. 22 февраля
1941 г.: Архив СПб. ФИРИ, ф. 298, on. 1, д. 75, л. 2, 5.
38 Там же, л. 1.
98
39 Романов Б. А. Витте и концессия на р. Ялу (Документальный ком-
ментарии к «Воспоминаниям» гр. С. Ю. Витте) // Сб. статей по русской ис-
тории, посвященных С. Ф. Платонову. Пб., 1922. С. 425—459.
40 См.: Ананьин Б. В., Ганелин Р. Ш. Опыт критики мемуаров
С. Ю. Витте (в связи с его публицистической деятельностью в 1907—
1915 гг.)//Вопросы истории и источниковедения истории СССР. М.; Л.,
1963. С. 323—326. См. также: Ананьин Б. В., Ганелин Р. Ш. С. Ю. Витте —
мемуарист. СПб., 1994. С. 36—38.
41 Романов Б. А. Витте накануне русско-японской войны (Документаль-
ный комментарий к «Воспоминаниям» гр. С. Ю. Витте) // Россия и Запад.
Пг., 1923. Кн. 1. С. 140—167.
42 Романов Б. А. Концессия на Ялу. К характеристике личной политики
Николая II//Русское прошлое. 1923. Кн. 1. С. 87—108.
43 Романов Б. А. «Лихунчангский фонд»: (Из истории русской импери-
алистической политики на Дальнем Востоке)//Борьба классов. 1924. № 1—
2. С. 77—126.
44 Там же. С. 82.
45 Там же. Подробно см.: Ананьин Б. В. Мемуары С. Ю. Витте в твор-
ческой судьбе Б. А. Романова. С. 33.
46 Романов Б. А. [Рец.] Новые документы последних лет (Красный
архив. 1923. Т. 3 и 4)//Анналы. 1924. Т. 4. С. 323—329.
47 Романов Б. А. [Рец.] С. Ю. Витте, граф. Воспоминания. М.; Пг.,
1923. Т. 1—2//Книга и революция. 1923. № 3 (26). С. 54—56.
48 Речь Б. А. Романова на защите докторской диссертации, л. 3.
49 Романов Б. А. [Рец.] Шилов А. А. Что читать по истории русского
революционного движения? Указатель важнейших книг, брошюр и журналь-
ных статей. Пб., 1922 //Былое. 1922, № 20. С. 295.
50 Романов Б. А. [Рец.] Красный архив. 1922. Т. 1//Красная летопись.
1923. № 7. С. 411.
51 Речь Б. А. Романова на защите докторской диссертации, л. 2.
52 Там же, л. 3.
53 Цитируется фрагмент неопубликованной рецензии Б. А. Романова на
журнал «Красный архив», № 2 за 1922 г. (Архив СПб. ФИРИ, ф. 298, on. 1,
д. 39), часть которой в качестве рецензии на издание дневника А. Н. Ку-
ропаткина была напечатана в журнале «Анналы» (1923. № 3).
54 Речь Б. А. Романова на защите докторской диссертации, л. 3—5.
55 Романов Б. А. [Рец.] Русский исторический журнал. 1918. Кн. 5; Рус-
ский исторический журнал. 1920. Кн. 6; Русский исторический журнал. 1921.
Кн. 7//Книга и революция. 1922. № 3 (15). С. 59.
56 Штакельберг Н. С. «Кружок молодых историков» и «Академическое
дело». С. 19—77.
57 Там же. С. 35—36.
58 Там же. С. 38.
59 Там же. С. 42—43.
60 Там же. С. 36.
61 Архив СПб. ФИРИ, ф. 298, on. 1, д. 35.
62 Романов Б. А. [Рец.] Шипов Д. Н. Воспоминания и думы о пережи-
том. М., 1918//Дела и дни. 1922. Кн. 3. С. J19—235.
63 «Кружок молодых историков» был не единственным в эти годы не-
формальным научным объединением, связанным с традициями петербург-
ской исторической школы. Известен еще ряд кружков: кружок памяти
А. С. Лаппо-Данилевского, кружок А. И. Заозерского, кружок Н. И. Ка-
реева, кружок М. Д. Приселхова, кружок И. М. Гревса, кружок «Новый
Арзамас», кружок И. И. Толстого и др. (см.: Ананьин Б. В. О воспомина-
99
ниях Н. С. Штакельберг//In memoriam: Исторический сборник памяти
Ф. Ф. Перченка. М.; СПб., 1995. С. 77—86).
64 Архив РАН, ф. 627, оп. 4, д. 146, л. 26, 44, 134; д. 147, л. 138;
д. 151, л. 38. Эти данные мне любезно сообщил Б. С. Каганович.
65 Академическое дело 1929—1931 гг. Документы и материалы следст-
венного дела, сфабрикованного ОГПУ. Вып. 2, ч. 1. Дело по обвинению
академика Е. В. Тарле. СПб., 1998. С. 199.
66 Там же. Ч. 2. С. 385.
67 Речь Б. А. Романова иа защите докторской диссертации, л. 6.
68 Отчет о деятельности научного сотрудника I разряда Исследователь-
ского исторического института при Петроградском университете Б. А. Рома-
нова за 1922 г. Январь 1923 г.: Архив СПб. ФИРИ, ф. 193, оп. 3, д. 5, л. 32.
69 Цитируется фрагмент неопубликованной рецензии Б. А. Романова на
журнал «Красный архив», № 2 за 1922 г. (Архив СПб. ФИРИ, ф. 298, on. 1,
д. 39), часть которой в качестве рецензии на издание дневника А. Н. Ку-
ропаткина была напечатана в журнале «Анналы» (1923. № 3).
70 Речь Б. А. Романова на защите докторской диссертации, л. 2—3.
71 Романов Б. А. Основные моменты в русской политике на Дальнем
Востоке в 1892—1925 гг.//Сибирские огни. 1926. № 4. С. 98—116.
72 Речь Б. А. Романова на защите докторской диссертации, л. 2, 3, 6.
73 Романов Б. А. [Рец.] С. Ю. Витте, граф. Воспоминания... С. 54.
74 Подробно см.: Ганелин Р. Ш. Б. А. Романов — историк революцион-
ного движения в России. С. 41—51.
75 Романов Б. А. «Канун семнадцатого года» (Материалы об октябрь-
ских стачках 1916 г. в Петрограде)//Красная летопись. 1924. № 2. С. 202—
217.
76 Романов Б. А. 1) Финансовое положение России перед Октябрьской
революцией//Красный архив. 1927. № 6 (25). С. 3—33; 2) Доклад
П. Л. Барка Николаю II о росписи доходов и расходов на 1917 г.//Крас-
ный архив. 1926. № 4 (17). С. 51—69.
77 Романов Б. А. Петербургская крупная буржуазия в январские дни
1905 г.//Красная летопись. 1925. № 1 (12). С. 47—56.
78 Романов Б. А. К характеристике Галона (Некоторые данные о забас-
товке на Путиловском заводе в 1905 г.)//Красная летопись. 1925. № 2 (13).
С. 37—48.
79 Романов Б. А. Путиловский завод в январе—августе 1905 г. в освеще-
нии заводской администрации//Красная летопись. 1925. № 3 (14). С. 175—
178.
80 Романов Б. А. 1905 год на ткацкой фабрике Чешера//Первая русская
революция в Петербурге 1905 г. Л., 1925. Сб. 2. С. 16—20.
81 Романов Б. А. К переговорам Коковцова о займе в 1905—1906 гг.//
Красный архив. 1925. № 3 (10). С. 3—35.
82 Романов Б. А. 9 января 1905 г. Доклады В. Н. Коковцова Нико-
лаю II//Красный архив. 1925. № 4—5 (11 —12). С. 1—25.
83 Романов Б. А. Январская забастовка 1905 г. в Петербурге (Материа-
лы для календаря)//Красная летопись. 1929. № 6 (23). С. 25-—44.
84 Романов Б. А. Безобразовский кружок летом 1904 г.//Красный
архив. 1926. № 4 (17). С. 70—80.
83 Романов Б. А. Конец русско-японской войны: (Военное совещание 24
мая 1905 г. в Царском Селе)//Красный архив. 1928. № 3 (28). С. 182—190.
86 Романов Б. А. Переписка В. Н. Коковцова с Эд. Нецлииым//Крас-
ный архив. 1923. № 4. С. 131—156.
87 Рабочий вопрос в комиссии В. Н. Коковцова в 1905 г. М., 1926.
88 Русские финансы и европейская биржа в 1904—1906 гг. / Материал
подготовлен к печати Б. А. Романовым; Под редакцией и с предисловием
100
Б. А. Преображенского. М.; Л., 1926. К сожалению, это предисловие
С. Н. Валком ошибочно приписано Б. А. Романову (Валк С. Н. Борис
Александрович Романов. С. 20).
89 Подробно см.: Валк С. Н. Борис Александрович Романов. С. 21.
90 Б. А. Романов — С. Ф. Ольденбургу. 17 апреля 1926 г.: ПФА РАН,
ф. 208, оп. 3, д. 501, л. 1 — 1 об.
91 «Мне очень досадно и жаль, что я сейчас не в Москве»: Письма
С. В. Бахрушина М. В. Сабашникову. 1931—1933//Исторический архив.
1998. № 3. С. 196.
92 Романов Б. А. [Рец.] Шипов Д. Н. Воспоминания и думы о пережи-
том... С. 219—235.
93 Подробно см.: Ганелин Р. Ш. Б. А. Романов — историк революцион-
ного движения в России. С. 44—46. Странно, что С. В. Шелохаев, автор не-
давней статьи о Д. Н. Шипове, даже не упомянул о работе Б. А. Романова
и ее анализе Р. Ш. Ганелиным (см.: Шелохаев С. В. Дмитрий Николаевич
Шипов (штрихи к портрету русского либерала)//ОН. 1998. № 5. С. 32—46).
94 Романов Б. А. [Рец.] Морис Палеолог. Царская Россия во время ми-
ровой войны. 1923; Морис Палеолог. Царская Россия накануне революции.
1923//Красная летопись. 1924. № 1 (10). С. 264—273.
95 Романов Б. А. [Рец.] Курлов. Конец русского царизма: Воспоминания
бывшего командира корпуса жандармов. М.; Пг., 1923//Борьба классов.
1924. № 1—2. С. 345.
96 Романов Б. А. [Рец.] Гапон. История моей жизни. Л., 1925//Красная
летопись. 1925. № 3 (14). С. 268—269.
97 Романов Б. А. 1) [Рец. | За кулисами царизма: Архив тибетского
врача Бадмаева. Л., 1925; Дневник б. великого князя Андрея Владимирови-
ча. Л., 1925; Николай II и великие князья (Родственные письма к последне-
му царю). Л., 1925//Красная летопись. 1925. № 4. С. 264—269; 2) [Рец.] Рус-
ско-японская война: Из дневников А. Н. Куропаткина и Н. П. Линевича.
Л., 1925//Былое. 1925. № 4 (32). С. 261—264.
98 Романов Б. А. [Рец.] Известия Московского совета рабочих депута-
тов в 1905 г. М., 1925; Пятый год: Сб. первый. М., 1925//Красная летопись.
1925. № 3 (14). С. 270—272.
99 Романов Б. А. [Рец.] Союзническая интервенция на Дальнем Востоке
и в Сибири (доклад Пишона). М.; Л., 1925; Допрос Колчака. Л., 1925; Бол-
дырев В. Г. Директория, Колчак, интервенты. Воспоминания. (Из цикла
«Шесть лет», 1917—1922). Новониколаевск, 1925//Красная летопись. 1926.
№ 3 (18). С. 177—183.
1°° Ганелин Р. Ш. Б. А. Романов — историк революционного движения
в России. С. 50—51.
101 Там же. С. 51.
102 См.: Валк С. Н. Борис Александрович Романов//ИЗ. 1958. Т. 62.
С. 274.
103 См.: Валк С. Н. Борис Александрович Романов // Исследования по
социально-политической истории России. С. 25.
104 Сб. статей по русской истории, посвященных С. Ф. Платонову. Пб.,
1922. С. VII—XII.
105 С. Н. Чернов — С. Ф. Платонову. И марта 1926 г.: ОР РНБ,
ф. 585. on. 1, ч. 2, д. 4541, л. 11 об.—12.
10* Академическое дело 1929—1931 гг. Документы и материалы следст-
венного дела, сфабрикованного ОГПУ. Вып. 2, ч. 1. Дело по обвинению
академика Е. В. Тарле. С. 199.
107 Там же. С. 270.
101
— 6 —
«ВОЗВЕДЕНИЕ НЕПРОНИЦАЕМОЙ ПЛОТИНЫ ИЗ ФАКТОВ»:
КНИГА «РОССИЯ В МАНЬЧЖУРИИ»
1927 год, «вопреки всему и совершенно случайно», как
считал Б. А. Романов, принес ему «предложение с совсем не-
ожиданной стороны — со стороны Ленинградского Восточ-
ного института: выпустить в институтском издательстве на-
копившиеся к тому времени разрозненные» его «этюды».1
Ученый с энтузиазмом принялся за работу, в частности «за
переработку старых текстов»,2 а именно статей «Основные
моменты в русской политике на Дальнем Востоке в 1892—
1917 гг.» и «Лихунчангский фонд» (упоминались выше), со-
ставивших введение и первые две главы книги. Но при «бли-
жайшем рассмотрении» «собранный к тому времени матери-
ал» «не укладывался в рамки прежних построений и
побуждал писать заново детальное исследование». Оно и
было написано для третьей главы, и на этом «предположен-
ный объем издания оказался уже превзойденным». В создав-
шейся ситуации «явилась необходимость или остановить
дальнейшую работу и выпустить книгу оборванной на полу-
слове, или продолжать ее уже в масштабе цельного исследо-
вания». Пока же «по техническим условиям», по недостатку
шрифтов в наборной кассе типографии, «пришлось отпеча-
тать и рассыпать набор» первых 128 страниц? Б. А. Рома-
нов впоследствии вспоминал «томительную паузу», когда,
«повисев некоторое время в воздухе, вопрос о дальнейшей
судьбе книги»4 «разрешился в положительном смысле»?
после чего он «уже не имел возможности вернуться к пере-
работке тех страниц (3—128), которые писались в расчете
еще только на „сборник"»? Но в этих условиях Б. А. Рома-
нову пришлось отказаться от задуманного и ранее начатого
исключительно источниковедческого (пропедевтического) ис-
102
следования, а сосредоточиться непосредственно на анализе
империалистической дальневосточной политики самодержа-
вия, попутно решая и возникающие источниковедческие за-
дачи: «...композиционные задачи приходилось решать одно-
временно и в перебой с задачами многочисленных дополни-
тельных исследований и непредвиденными справками, не раз
ставившими, казалось, в рискованное положение теоретиче-
скую цельность всего исследования». Это приводило и к
тому, что, по признанию самого Б. А. Романова, «на перво-
начальном тонком стволе, заменить который было уже нель-
зя, пошли расти неестественно большие ветви».
Неожиданно сложившаяся ситуация поставила автора в
трудные условия, диктовавшие скорость работы над текстом
исследования и определявшиеся производственной необходи-
мостью. Продолжая службу в Центрархиве, Б. А. Романов
вынужден был сверх того, с невероятной скоростью, вести
исследовательскую работу. Поэтому она, «падая преимуще-
ственно на ночное время, пошла, повелительно определяемая
темпом и ритмом типографской машины».7 От начала рабо-
ты до ее завершения прошло немногим больше полутора лет,
при объеме книги в 38 печатных листов.
Формулируя через 15 лет цель, которую перед собой ста-
вил Б. А. Романов при написании своей первой монографии,
он говорил, что «над всем стояла задача — возведения не-
проницаемой плотины из фактов», причем она «категориче-
ски — по условиям работы и времени — вытесняла задачу на-
ружного теоретического ее освещения».8 Нетрудно заметить,
что эта формулировка представляет собой парафраз выраже-
ния, примененного А. Е. Пресняковым при определении им
основных принципов петербургской исторической школы.
А. Е. Пресняков же, как свидетельствует Б. А. Романов,
«охотно» взял «на себя труд предварительной критики»
книги «Россия в Маньчжурии» «еще в рукописи».9
«Россия в Маньчжурии» во многих отношениях была
новаторской книгой. Она появилась как результат после-
довательного научного комментирования версии происхож-
дения русско-японской войны, выдвинутой С. Ю. Витте в
его воспоминаниях, и, таким образом, может рассматри-
ваться как образец всесторонней критики в монографиче-
ском исполнении такого сложного источника, как полити-
ческие мемуары начала XX в. Однако было бы упроще-
нием сводить значение книги только к этому. Впервые в
отечественной историографии появилось исследование
внешней политики, основанное на сложном сплаве сюжетов
социально-политического и экономического характера.
юз
«Россия в Маньчжурии» поэтому с полным основанием
может быть отнесена к разряду исследований как по ис-
тории внешней политики, так и по экономической исто-
рии. «Маньчжурия как рынок вывоза капитала, как поли-
тика такого рынка были главным предметом моего внима-
ния»,— так определял позднее Б. А. Романов одну из
основных своих творческих задач при подготовке книги.10
«Россия в Маньчжурии» была посвящена событиям 20-лет-
ней давности и основывалась на корпусе документов новейше-
го времени. Поэтому естественным было желание Б. А. Рома-
нова начать исследование дальневосточной политики России
с подготовки работы источниковедческого характера. И хотя
это намерение не осуществилось, появлению «России в Маньч-
журии» предшествовала, как уже было отмечено, публикация
Б. А. Романовым значительного числа документов, послужив-
ших основанием для определения роли экономического фак-
тора в российской внешней политике рубежа XX столетия.
Среди них особое место занимает сборник «Русские финансы
и европейская биржа в 1904—1906 гг.», составленный из мате-
риалов, отразивших финансовую и экономическую политику
России в период русско-японской войны и революции 1905—
1907 гг.11 Б. А. Романов впервые ввел в научный оборот такой
важный источник, как донесения дипломатических представи-
телей С. Ю. Витте за границей — агентов Министерства фи-
нансов, содержавшие, как правило, информацию экономиче-
ского и внешнеполитического характера. Он был первым
среди историков, кто показал, что в конце XIX—начале XX в.
роль Витте в определении внешнеполитического курса импе-
рии была едва ли не решающей. Б. А. Романов продемонстри-
ровал в «России в Маньчжурии» высокое профессиональное
искусство в разработке микросюжетов в ограниченном вре-
менном пространстве, с последующим использованием их для
раскрытия основной темы исследования.
Впрочем, как отмечал еще С. Н. Валк, манера научно-ли-
тературного изложения Б. А. Романова была такова, что он
не предлагал читателю «привычных „выводов", „заключе-
ний", „положений" и т. п.», а тем более оголенных от фак-
тического материала схем или моделей: «Перед читателем
развертывается текучая цепь фактов, следующих один за дру-
гим, как они определены изучением источников» — подобно
тому, как написана книга А. Е. Преснякова «Образование
Великорусского государства», в которой осознанно преобла-
дало описательное, детально фактическое и критическое из-
ложение. Однако такое критическое изложение событий про-
шлого, их отбор и толкование, общая композиция книги по-
104
зв о ля ли читателю отчетливо увидеть авторскую концепцию,
позицию и общие результаты исследования.12
Б. А. Романов был первым, кто на документальной ос-
нове исследовал вопрос об особом значении государственно-
го вмешательства и государственного хозяйства в экономи-
ческой политике Витте, а также о роли в ней иностранного
капитала. Эти сюжеты затем получили развитие в работах
отечественных и зарубежных историков.
В конце XIX в. оставались неосвоенными огромные про-
странства Сибири. В этих условиях для российских предпри-
нимателей не было таким уж привлекательным связанное с
риском проникновение на рынки Китая. Без государственной
поддержки частная инициатива не могла противостоять там
своим конкурентам. Это дало повод М. Н. Покровскому для
упрощенной характеристики политики Витте на Дальнем
Востоке. М. Н. Покровский писал, что она «несомненно за-
ключала в себе кое-какие зачатки империализма, главным
образом в лице Русско-Китайского банка, но в основе это
было продолжение захватнической колониальной политики
Романовых XVIII—XIX вв. <...> дикое, первобытно-торга-
шеское и феодальное колонизаторство».13
Б. А. Романов рассмотрел экономическую экспансию
России на Дальнем Востоке как часть общей программы
Витте модернизации национальной промышленности с помо-
щью мобилизации внутренних ресурсов и привлечения ино-
странных капиталов, как попытку с помощью государствен-
ной поддержки занять впрок место на этих рынках для раз-
вивающейся отечественной индустрии. В предисловии к
«России в Маньчжурии» Б. А. Романов сделал, впрочем, ни
к чему не обязывающий реверанс в сторону М. Н. Покров-
ского и его школы, написав, что «мог <...> опираться на те
ее решения, которые были предложены» в работах ее пред-
ставителей. Кроме того, из общей концепции книги следова-
ло, и Б. А. Романов это подчеркнул, что «активная полити-
ка» самодержавия на Дальнем Востоке «сыграла решающую
роль» в развязывании русско-японской войны, а поражение
питпипо «русское правительство свободы маневрирования»,
через войну и революцию Россия попала в «лоно Антанты,
в котором самодержавие и нашло свою гибель в 1917 г.».14
Общий критический по отношению к политике самодер-
жавия настрой исследования и представленный Б. А. Рома-
новым образ Антанты, казалось, должны были импониро-
вать М. Н. Покровскому. Но реверанс в сторону школы
М. Н. Покровского в 1928 г. в предисловии к «России в
Маньчжурии» был, конечно, данью времени. В начале 1950-х
105
годов Б. А. Романов как-то в разговоре с Р. Ш. Ганелиным,
когда речь зашла о М. Н. Покровском и книге «Россия в
Маньчжурии», определенно назвал себя противником
М. Н. Покровского, но тут же шутя добавил: «Если Вы
убьете женщину в ее будуаре, от вас всю жизнь будет исхо-
дить запах ее духов».
Даже при самом поверхностном знакомстве с содержани-
ем «России в Маньчжурии» бросалось в глаза то, что если
М. Н. Покровский противопоставлял политику С. Ю. Витте
на Дальнем Востоке политике Николая II и его окружения,
то Б. А. Романов углубил по сравнению с предшествующими
статьями аргументацию и окончательно выработал концеп-
цию об официальном характере происхождения политики
С. Ю. Витте и отсутствии принципиальной разницы между
политикой С. Ю. Витте и Безобразова и К°. Именно
Б. А. Романову принадлежит заслуга построения модели по-
литики России на ее восточных окраинах в 90-е годы XIX в.
Точность этой модели подтверждена позднее в исследованиях
других авторов, посвященных политике России в Иране,
Корее, Монголии.
Издание столь крупного по объему исследования, каким
была книга «Россия в Маньчжурии», в котором вводился в
научный оборот и подвергся тщательному анализу широчай-
ший круг ранее неизвестных источников, косвенно вторгаю-
щегося в заповедную зону, в пределах которой уже развер-
нулась между политически и идеологически ангажированны-
ми историками, причислявшими себя к марксистскому
направлению, борьба по проблемам характера и особеннос-
тей российского империализма, вызвало резонанс именно в
марксистской печати. Книгу Б. А. Романова открывало
полуторастраничное предисловие «От издательства», в кото-
ром отмечалось, что постановка темы подвела автора «к
общей проблеме русского империализма, как она ставится в
<...> марксистской литературе», хотя ему не только не уда-
лось вскрыть борьбу классовых сил, но и внести в эту про-
блему чего-либо нового. Б. А. Романов, по утверждению из-
дательства, только примкнул «к той концепции монополис-
тического капитализма в России, которая дана в последнее
время в работах тов. Е. Грановского». В странном противо-
речии с этим издательство предположило, что «выпускаемая
книга Б. А. Романова вызовет интерес не только в сравни-
тельно узком кругу специалистов-востоковедов, а представит
интерес и для всякого марксиста-историка».15
Б. А. Романов был причислен к сторонникам Е. Л. Гра-
новского потому, что в двух статьях этого автора, появив-
106
шихся в 1927 г., была выдвинута концепция, согласно кото-
рой вступление России в монополистическую стадию капита-
лизма датировалось концом XIX в., что противоречило воз-
зрениям М. Н. Покровского, считавшего Россию на рубеже
XIX—XX вв. страной еще не империалистической. Сам
Б. А. Романов, всем ходом своего исследования показавший,
что Россия вела империалистическую внешнюю политику уже
с конца XIX в., отнюдь не шел в фарватере, проложенном
Е. Л. Грановским, хотя бы уже потому, что заложил основу
своей концепции в статьях 1922—1924 гг.
Первый печатный отклик на «Россию в Маньчжурии»
появился в газете «Известия», и уже одно это обстоятель-
ство свидетельствовало о многом. Г. Гастев в статье «Пе-
рипетии дальневосточной авантюры: Б. А. Романов. Рос-
сия в Маньчжурии» писал о том, что она «прекрасно со-
ставлена», дает «полную историю развития всей
дальневосточной авантюры» и является «ценным пособием
для ознакомления с маньчжурской проблемой, равно как с
проблемой международных отношений». Правда, автор вы-
разил сожаление о том, что Б. А. Романов не довел свое
изложение до полного краха самодержавия, и указал на
наличие пробела, который, по его мнению, состоит в от-
сутствии анализа экономических разногласий в лагере рус-
ского империализма, вследствие чего «может получиться
впечатление, будто вся маньчжурская авантюра была за-
теей царизма и его клики», а «русская буржуазия как
будто отсутствовала». Впрочем, автор рецензии признал,
что проблема «природы русского империализма» не нашла
еще освещения «в нашей марксистской литературе».16
Напечатанные же рецензии в журналах «Историк-марк-
сист», «Проблемы Китая», «Революционный Восток»,
«Новый Восток», «Советская Азия» свидетельствовали о том,
что марксистская историческая наука действительно не могла
не обратить внимания на этот труд историка, принадлежав-
шего к другой школе. Наиболее развернутая «критическая
статья» принадлежала А. Л. Попову, который в журнале, из-
даваемом Коммунистической академией, дал подробный, по
главам, обзор монографии Б. А. Романова, сопроводив его
весьма противоречивыми, но в целом положительными оцен-
ками.
Рецензент отметил, что книга Б. А. Романова «представ-
ляет собой бесспорно крупное явление на фронте нашей
исторической и востоковедной литературы», что она стала
результатом «многолетней, упорной и, можно сказать, само-
отверженной работы историка-архивиста», и указал на неко-
107
торые особенности исследовательского почерка Б. А. Рома-
нова, который, «подняв предварительно громадные пласты
свежего архивного материала, сумел» в своей книге «этот
материал собрать и развернуть перед читателем, обогатив
литературу вопроса новыми данными, внеся во многом су-
щественно новое освещение»,17 тщательно проработав бога-
тейший фактический материал18 и не «отступая в своем из-
ложении ни на шаг от документальных данных, нанизывая
на нить своего, почти прагматического, повествования за-
ключающиеся в них мельчайшие факты, заимствуя из архи-
вов и из литературы все, что может послужить к объяснению
и освещению воспроизводимых фактов».
Подобным же образом оценил А. Л. Попов решение
Б. А. Романовым в его книге специальной задачи —
«вскрыть ту историческую правду, которую Витте в своих
воспоминаниях скрыл, затушевал или исказил», и эта задача
определялась для автора книги, по справедливому мнению
А. Л. Попова, тем, что «политическая значимость фигуры
Витте для 90-х гг. <...> громадна», почему Б. А. Романову
«приходилось в своем изложении уделять ей исключительное
внимание».19
Нетрудно заметить, что А. Л. Попов в данном случае от-
метил ценность именно источниковедческого аспекта работы
Б. А. Романова, особо выделив критику мемуаров Витте.
Непонятно, однако, как это согласуется с мнением рецензен-
та, согласно которому автор проявил «чрезмерно доверчивое
отношение к источникам», и можно ли на одной странице
рецензии утверждать, что «автор с большим мастерством ра-
зоблачает роль Витте»,21 а на других высказывать упрек в
стремлении «устроить над Витте настоящую гражданскую
казнь», в слишком неумеренном витгеборстве,22 которое
«грозит разрастись в определенный и вредный методологи-
ческий „уклон"»,23 — без определения рецензентом критериев
соразмерности. Б. А. Романов, вероятно, имел в виду имен-
но А. Л. Попова, когда, выступая на своем докторском дис-
путе, вспоминал об одном «из уважаемых <...> рецензентов»,
который упрекал автора в том, что он «буквально» не дает
«шевельнуться Витте, без того, чтобы тут же и не ухватить
его за икры», и признался, что «принял тогда этот упрек с
удовлетворением», так как «с этим делом в той книге» ему
«хотелось покончить раз и навсегда, исчерпывающим обра-
зом, с корнем вырвать <...> легенды вокруг маньчжурской
политики России, чтобы ни одной из них не дать возродить-
ся вновь».24
108
Между тем А. Л. Попов, осудив неумеренный, по его
мнению, интерес Б. А. Романова к личности Витте, указал и
на преувеличенный его интерес к «прочим действующим на
страницах книги фигурам», которые все свои функции вы-
полняли «большей частью в порядке индивидуально-служеб-
ном»,25 вследствие чего «ощущается недостаточная очерчен-
ность» социально-политической направленности их деятель-
ности, хотя, впрочем, эта особенность, с одной стороны, не
лежит «слишком тяжелым грузом» на книге, с другой же —
значительно снижает «ее качественный уровень». Таким об-
разом, новаторская особенность книги Б. А. Романова, вы-
ражающаяся в стремлении уклониться от обезличенной фор-
мально-социологической интерпретации экономических и
политических процессов, осветить их в том числе посредст-
вом социально-психологических характеристик, вызвала у
А. Л. Попова умеренное осуждение. Рецензента не удовле-
творило также то обстоятельство, что в книге нет, по его
мнению, операций «синтетического характера», что вырази-
лось в отсутствии «обязывающей к' четким выводам заклю-
чительной части» и вообще «выводов и обобщений»,27 «чет-
ких и ясных формулировок».28 Создается впечатление, одна-
ко, что ненавязчиво сформулированную концепцию книги
Б. А. Романова рецензент не увидел и почему-то напрямую
отождествил выводы и заключения с синтетическим постро-
ением. Следствием осуждаемой рецензентом особенности
книги Б. А. Романова, в которой якобы отсутствует синтез,
стало и его отношение «к спорным вопросам природы рус-
ского капитализма», почти, как показалось А. Л. Попову, не
сформулированное автором книги, почему он лишь по недо-
разумению зачислен ее издателем «в лагерь убежденных сто-
ронников т. Грановского», а значит, и «в лагерь противни-
ков теории т. Ванага», которая по существу восходила к со-
чинениям М. Н. Покровского. Ссылке же в авторском
предисловии на Е. Грановского следует «придать <...> зна-
чение» не более чем «воздушного поцелуя, брошенного ми-
моходом».29
Необходимо остановиться, наконец, и на оценке
А. Л. Поповым литературного стиля, каким была написана
книга Б. А. Романова. Рецензента раздражали тенденция к
«драматико-психологической композиции»,30 «встречающиеся
иногда синтаксические варваризмы», «повышенная фразеоло-
гическая витиеватость» и даже «своего рода стилистический
карамзинизм»,31 хотя А. Л. Попов не привел ни одного при-
мера и не объяснил, каково содержание примененных им
определений.
109
Весьма комплиментарные, хотя и лапидарные, рецензии
опубликовали Бонч-Осмоловский и Г. Рейхберг. Бонн-Осмо-
ловский, в частности, отметил, что книга Б. А. Романова
«является плодом добросовестного изучения первоисточни-
ков», и пришел на основе ее анализа к выводу о взаимной
ответственности «капиталистических и феодальных элемен-
тов в деле маньчжурской и корейской авантюры, вызвавшей
русско-японскую войну».32
Г. Рейхберг также указал на «исключительную ценность
и значение» капитального труда Б. А. Романова, который
стал «крупным вкладом в литературе по затронутому вопро-
су» благодаря обилию «фактического и совершенно нового
архивного и другого материала, разработанного при этом
удивительно тщательно и добросовестно», при отсутствии
«каких-либо скороспелых, не подкрепленных фактами, выво-
дов».33
Н. Вайнцвайг оценивал книгу «Россия в Маньчжурии» в
контексте ряда марксистских работ, в первую очередь
М. Н. Покровского и его школы, «дающих анализ русской
империалистической политики на Дальнем Востоке», и при-
знал, что их «список обогатился еще очень ценным трудом
Б. А. Романова <...> который по обилию имеющегося в нем
фактического материала <...> является наиболее богатым из
всех, вышедших до сих пор».34 Отметив, что в марксистской
литературе существуют две, диаметрально противоположные,
точки зрения на проблему монополистического капитализма
в России, рецензент разъяснял, что если М. Н. Покровский
считал, что «говорить о „русском империализме“» в конце
XIX и начале XX в. «нельзя, не извращая самого слова „им-
периализм", как оно употребляется в теоретической литера-
туре», то Е. Грановский, «отнеся вступление России в эпоху
монополистического капитализма к 1894—95 гг., считает
таким образом период экспансии на Дальнем Востоке импе-
риалистическим». Исходя из этого противопоставления,
Н. Вайнцвайг осудил издателя книги «Россия в Маньчжу-
рии» за то, что в своем предисловии он внес путаницу, при-
числяя автора к сторонникам Е. Грановского, тогда как сам
автор в своем предисловии сообщил об опоре «на те реше-
ния, которые были предложены в работах М. Н. Покров-
ского».35
Это простодушное доверие к превентивной декларации
Б. А. Романова свидетельствует о том, что рецензент поверх-
ностно прочитал книгу и не разобрался в ее глубинном со-
держательном смысле. О том же свидетельствует и противо-
речивое его суждение, согласно которому, с одной стороны,
но
«богатство тщательно проверенного по разнообразным ис-
точникам фактического материала делает работу Романова
чрезвычайно ценной», а с другой стороны — выражается со-
жаление в том, что «стремление автора к возможно точному
использованию архивных материалов оставляет очень мало
места для их анализа», и это «несомненно отражается на
книге, делая ее скорее хорошо подобранным сборником ма-
териалов, чем критическим исследованием».36
Всего только как «систематический обзор материалов
по истории дальневосточной политики России», который
представляет значительный интерес «для изучающих этот
вопрос», оценил книгу «Россия в Маньчжурии» и В. Ава-
рии, отметив, впрочем, что она может дать «немало ново-
го» «лишь при критическом подходе».37 Неудивительно
поэтому, что начинает свою рецензию В. Аварии с фразы:
«Закрывая последнюю страницу объемистого труда Рома-
нова, чувствуешь разочарование». «От советского истори-
ка-исследователя, выпускающего свою работу во втором
десятилетии после Октябрьской революции», рецензент
ожидал не простого описания «фактов, действий лиц и
объяснения этих действий, главным образом, личными по-
буждениями, а иногда даже „психологическими момента-
ми"», но «социально-экономического анализа, указаний на
расстановку классовых сил, их роли <...> в перипетиях
дальневосточной экспансии царской России», чего в книге
Б. А. Романова В. Аварии странным образом не нашел,
за исключением незначительных попыток «автора в не-
скольких строчках или на полстраничке дать общими фра-
зами социально-экономический комментарий».38
По утверждению рецензента, в книге имеются «совершен-
но излишние детали»: Б. А. Романов напрасно «нагроможда-
ет весь попавшийся материал», разбирает «„черновики" и
„беловики", малейшие изменения в каждой статье проекта,
вносимые отдельными ведомствами и лицами, а иногда даже
по стилю пытается определить — составлена ли записка в
мининделе или в Минфине».39 Что же касается «Воспомина-
ний» Витте, то «стоит ли строить тему на его „разоблаче-
нии"», если всем «ныне» известно, что «захватнические
стремления и действия империалистов обычно прикрываются
слащавой христианской болтовней о любви к порабощенно-
му!». Таким образом, В. Аварии осудил Б. А. Романова за
проведенный им источниковедческий анализ извлеченных из
архивов документов и мемуаров Витте.
Перекликаясь с рецензией А. Л. Попова, В. Аварии
нашел, что «у Романова получился слишком крутой „загиб"
ill
в стремлении „разоблачить" Витте». Но, в отличие от
А. Л. Попова, в рецензии В. Аварина выдвигаются опасные
для автора книги политические по своей природе обвинения,
согласно которым Витте изображен Б. А. Романовым как
«злой демон», «захвативший в свои руки дальневосточную
дипломатию» и доведший «дело до того, что благонамерен-
ные попытки Николая ни к чему не привели — разразилась
война, революция и прочие „напасти"». Мало того, автор
книги, как утверждал рецензент, стремится «выгородить Ни-
колая и безобразовцев», хотя и пытается замаскировать это,
но «факты у него противоречат выводам», тогда как «совер-
шенно ясно», что вина в катастрофе, разразившейся в 1904 г.,
лежит именно на Николае и безобразовцах.40 С той же
целью — «обрисования Николая жертвой обстоятельств и
окружающих его людей», показа «тяжелого положения», в
которое «попал Николай в результате политики Витте и дру-
гих министров», и вообще оправдания Николая, подписавше-
го Бьеркский договор, — «Романов пускается в исследование
состояния психики царя и его различных внутренних „побуж-
дений"». Автор, отмечал рецензент, «вообще любит „психо-
логизмы"», но его «„психологические искания" в труде об
экспансии царской Россией Дальнего Востока — совсем не-
кстати».41
Можно полагать, что именно В. Аварина имел в виду
Б. А. Романов, когда в рукописном экземпляре своей речи
перед защитой докторской диссертации, противопоставляя
его, вероятно, А. Л. Попову, написал, но затем зачеркнул
начало фразы: «Один из не уважаемых моих рецензентов,
зная, что я ответить ему никак не могу...», а далее оставил
незачеркнутый текст: «...взял на себя впоследствии храбрую
инициативу выступить в печати с дешевым (слово «дешевым»
написано поверх строки карандашом. — В. П.) утверждени-
ем, что Романов-де и книгу свою написал преимущественно
затем, чтобы обелить и оправдать царя Николая». Это дало
основание Б. А. Романову заключить, что он и «с книгой,
не только с темой, <...> попал в аутсайдеры».42
В такой оценке проявился исключительный дар Б. А. Ро-
манова — интуиция при оценке ситуации. Ведь, кроме небла-
гоприятного и весьма опасного для автора отзыва В. Авари-
на, в целом книга Б. А. Романова «Россия в Маньчжурии»
была встречена марксистской историографией с умеренным
одобрением. Правда, по справедливому мнению В. Н. Ники-
форова, наличие «нескольких положительных отзывов не ме-
няет общего впечатления недооценки выдающегося труда
Б. А. Романова современниками», вследствие чего «достоин-
112
ства работы <...> были обращены некоторыми критиками в
недостатки».43 Эти критики не приняли тех методических
приемов, которыми руководствовался Б. А. Романов: вместо
подбора из Маркса, Энгельса, Ленина или других теоретиков
социалистической идеологии цитат, которые бы затем интер-
претировались и подкреплялись как бы соответствующими
фактами, Б. А. Романов поступил по-другому: не ссылался
на авторитетные для них мнения, а строил свою концепцию,
только опираясь на факты, достоверность которых устанав-
ливалась в результате критики источников.
Поэтому и употребление им термина «империализм» не
носило той методологической нагрузки, которую ему прида-
вали издатели книги и некоторые рецензенты, спорившие, к
кому примыкает ее автор в его интерпретации. Б. А. Рома-
нов, так же как и Е. В. Тарле, ставил знак равенства между
понятиями «империализм» и «экспансионизм» — не более
того.
Если непонимание книги (и даже отдельные нападки на
нее) было естественным следствием принадлежности Б. А. Ро-
манова к чуждой для представителей зарождавшейся марк-
систской историографии исторической школы, то отрица-
тельное мнение о ней, сложившееся у той части историков,
суждения которых он особо ценил, к которым справедливо
причислял себя сам и о которых принято было в 20-х годах
говорить и писать как о немарксистских (если не антимарк-
систских), было для него особенно огорчительным. Можно
считать, что они попросту игнорировали выход в свет моно-
графии Б. А. Романова, поскольку ни одной рецензии или
какого-либо другого печатного отклика на книгу с их сто-
роны не последовало. В личных же беседах с автором ряд
историков той же выучки, что и Б. А. Романов, и даже часть
его университетских учителей позволили себе сделать весьма
резкие заявления. Так, С. А. Жебелев сказал, что «паровозы,
вагоны — это не история».44 Особенно обидным для себя
Б. А. Романов счел реакцию С. Ф. Платонова на выход
книги. «Ну вот, — сказал он, — у Вас теперь есть толстая
книга». Б. А. Романов на своем докторском диспуте гово-
рил, что «один из видных представителей старой школы»
(как рассказывал мне Б. А. Романов, это был С. Ф. Плато-
нов) «не мог удержаться от того, чтобы не начать, по край-
ней мере чтения <...> книги с интересом — ради свежести ее
фактической ткани», но «он же не постеснялся <...> при тре-
тьих лицах сказать» автору, что «когда дошел до „всяких
банков и займов" — он заскучал и бросил чтение», и это
крайне задело автора, поскольку именно «здесь» для него
из
«лежал нерв темы». «Еще характернее, — продолжал
Б. А. Романов, — что он же тоном упрека поставил» ему
«полуриторический вопрос (по поводу Бьерке): „Так вы
оправдываете здесь Николая?**. И сделав короткую паузу, па-
рировал: „А ведь это был мелочно-злой и неумный человек,
и у него были зеленоватые злые глаза**».45 Само собой разу-
меется, что Б. А. Романов не мог не сопоставить это заяв-
ление с вышедшей позднее рецензией В. Авар ина и в этой
связи прийти к заключению, что он вновь оказался в аутсай-
дерах — не только в отношениях с марксистской наукой, но
и для того фланга, к которому сам. принадлежал.
С оценками книги С. А. Жебелевым и С. Ф. Платоно-
вым корреспондирует эпизод, о котором сообщил Е. В. Тар-
ле в своих собственноручных показаниях от 25 мая 1930 г.,
данных во время следствия по сфабрикованному ОГПУ
«Академическому делу» 1929—1931 гг. Это совпадение по-
зволяет предполагать, что сообщенные им сведения достовер-
ны: «Когда Романов написал свою большую книгу „Россия
в Маньчжурии**, то лично к нему расположенные Приселков,
Заозерский, Цемш собрались у Цемша на небольшое чаепи-
тие по случаю выхода этой книги и пригласили также меня.
Кроме поименованных лиц и самого Романова, никого, по-
мнится, не было. И тут, когда кто-то заикнулся, что все-таки
нашлась же возможность выпустить в свет книгу чуть ли не
в 500 страниц,46 то послышались нарекания на то, что тема
взята слишком новая, политическая, ненаучная, и что „преж-
де** такие темы (совсем близкие к современности) для ученых
работ не брались. А потому, дорожа традициями, не следо-
вало и теперь брать!».47
Вероятно, помимо этого последнего мотива представле-
ние о сомнительности подобной проблематики питалось и
наличием жесткой цензуры, вынуждающей авторов не только
выражать свои мысли с оглядкой на нее, но и, имея в виду
насаждаемые сверху идеологические стереотипы, согласовы-
вать с ними концепции и выводы. Б. А. Романова, однако,
это пока (в 20-х годах) не смущало. Он рассказывал
Б. В. Ананьичу об инциденте на собрании «Кружка молодых
историков», когда кто-то из его коллег посетовал на цензур-
ные ограничения и выступил за отмену цензуры и свободу
слова. Б. А. Романов в ответ на это заявил, что надо уметь
писать так, чтобы цензура пропускала все, что автор считает
необходимым высказать. Он даже связывал, как теперь ясно,
ошибочно, свой арест в 1930 г. с этим эпизодом, о котором
в ОГПУ поступило донесение от агента, находившегося в со-
ставе кружка.
114
Интересно, что в других собственноручных показаниях
Е. В. Тарле (от 24 мая 1930 г.) также излагалось высказыва-
ние Б. А. Романова о цензуре, хотя и в ином контексте. Со-
гласно этим показаниям, на вечере 8 февраля в Доме ученых,
на одном из ежегодных праздновании юбилея Петроградско-
го (Ленинградского?) университета «Насонов грубо напал на
Романова только потому, что Романов сказал, что неспра-
ведливо нападать без конца на отсутствие свободы прессы
при соввласти и забывать, что и при старом строе свободы
прессы не существовало».48 Сопоставление этого изложенно-
го Е. В. Тарле эпизода с рассказом самого Б. А. Романова
приводит к выводу о вероятной достоверности данного фраг-
мента показании на следствии, хотя, разумеется, ему придано
криминально-политическое звучание.
Возвращаясь к книге «Россия в Маньчжурии», следует
отметить, что ее строгая научность и объективность под-
тверждаются интересом к ней в зарубежных странах. Она
в 1934 г. была дважды переведена на японский язык, в
1937 г. — на китайский язык (вышла в Шанхае) и, нако-
нец, в 1952 г. — на английский язык (вышла в свет в Ве-
ликобритании).49
Последовавшие за изданием книги «Россия в Маньчжу-
рии» 2 года были очень тревожными. Б. А. Романов на-
пряженно следил за печатными и не только печатными от-
кликами на нее. Правда, появления ряда вышедших в
1930 г. журнальных рецензий он не дождался, так как в
январе был репрессирован. Б. А. Романов обдумывал на-
правление своей дальнейшей работы и решил, что он зай-
мется исследованием той же проблематики, что и в только
что изданной книге. В частности, у него был заключен с
одним из издательств договор, согласно которому
Б. А. Романов обязался в короткий срок написать науч-
но-популярную книгу о русско-японской войне (объемом в
7 печатных листов). Это задание было выполнено, и книга
дожидалась своего издания. Кроме того, Б. А. Романов
возобновил подготовку сборника документов о финансовых
отношениях России и Антанты (включая и Америку) в
1914—1917 гг., прерванную в 1927 г. из-за срочной рабо-
ты над «Россией в Маньчжурии», и поднял в 1929 г.
перед Центрархивом вопрос об опубликовании из него от-
дельных документов в «Красном архиве».
115
В 1929 г. С. Ф. Платонов, несмотря на свое прохладное
отношение к первой книге Б. А. Романова, настоятельно
предлагал ему перейти из Центрархива в Академию наук на
должность директора ее архива. Из-за этого эпизода возник-
ла коллизия, равным образом неприятная и для Б. А. Рома-
нова, и для С. Н. Чернова. Вероятно, С. Ф. Платонов вел
переговоры о том же и с С. Н. Черновым, который в письме
к нему ссылался на «разговоры», «к сожалению, среди общих
наших с ним (с Б. А. Романовым. — В. П.) друзей», из ко-
торых следует, что он, С. Н. Чернов, якобы отказывается
«от места из-за Б. А.». Ссылаясь на свои «личные свойства»,
С. Н. Чернов писал, что для него вопрос был решен в от-
рицательном смысле еще до того, как он узнал о предложе-
нии занять эту вакансию Б. А. Романову, а «известие о воз-
можном переходе на эту должность Б. А. лишь усилило» его
«настойчивость в отказе — не более». С. Н. Чернов считал,
что Б. А. Романов должен совершить «легкий, без осложне-
ний переход в Академию, на привычное архивное место», и
выразил убеждение в том, что «он будет прекрасным началь-
ником архива».50
Б. А. Романов, однако, также категорически отказался
сменить работу в Центрархиве на службу в Академии наук.
Можно было бы предположить, что и его могла смутить эта
двусмысленность. Вероятно, так оно и было. Но следует
иметь в виду, что С. Ф. Платонов приглашал его на работу
в Академию и гораздо раньше — в 1924 или 1925 г., когда
сам вынужден был покинуть свой руководящий пост в
Центрархиве, и Б. А. Романов уже тогда же счел необходи-
мым уклониться от этого. Его удерживало отрицательное от-
ношение в академических сферах к занятиям новейшей исто-
рией России, в чем он убедился в 1926 г., когда обратился
к С. Ф. Платонову с просьбой поставить свой доклад о меж-
дународных отношениях России в эпоху русско-японской
войны на заседании Постоянной историко-археографической
комиссии и представить его к напечатанию в академических
изданиях, но получил отказ, мотивированный именно этой
причиной. Б. А. Романова уговаривал перейти в Академию
наук и Е. В. Тарле после того, как стал академиком
(1927 г.), но и в этом случае он отказался принять это пред-
ложение.
В 1929 г., возможно, была еще одна причина отрицатель-
ного отношения Б. А. Романова к Академии в целом и не-
довольства позицией С. Ф. Платонова — в частности. Дело
116
было в том, что еще с 1927 г. началась подготовка к оче-
редным академическим выборам, намеченным на январь
1929 г. Она была ознаменована беспрецедентным давлением
партийно-советских властей, стремившихся провести в состав
академиков членов большевистской партии и тем самым под-
чинить это авторитетнейшее научное сообщество. Политбю-
ро составляло один секретный список за другим, в которых
кандидаты в члены Академии делились на «наших» (членов
ВКП(б)), «более или менее близких к нам», «приемлемых» и
«абсолютно неприемлемых».51 Одновременно в среде акаде-
миков шли частные совещания, на которых вырабатывалась
тактика будущих выборов и определялась мера уступок влас-
тям, на которые допустимо пойти. Предвыборные страсти
выплеснулись и на страницы газет и журналов.
А. Е. Пресняков безусловно являлся одним из самых
крупных русских историков, и поэтому его право быть из-
бранным в Академию вряд ли у кого-либо вызывало сомне-
ние — тем более, что и в партийных списках он проходил
как «более или менее близкий к нам» (т. е. к партийной
власти). 2 октября 1928 г. Агитпроп ЦК ВКП(б) дал задание
ответственному секретарю Общества историков-марксистов и
журнала «Историк-марксист» И. Л. Татарову «в трехднев-
ный срок написать статью о тов. Преснякове для „Известий
ЦИК“. Цель статьи — активная поддержка нашего кандидата
на выборах в АН».52 14 октября эта рекламная статья была
напечатана. Б. А. Романов, также стремясь способствовать
избранию своего учителя, опубликовал в газете «Студенче-
ская правда» заметку (без подписи) «А. Е. Пресняков», фор-
мально приурочив ее к 35-летию его ученой деятельности и
приближающемуся 60-летию со дня рождения. «Те более 60-
ти печатных работ А. Е-ча, — писал он,—которые появи-
лись в последние 10 лет и вместе с дореволюционными со-
ставляют к юбилейному дню список более чем в 100 назва-
ний, представляют яркое свидетельство, что в лице А. Е. мы
имеем редкий пример русского историка из среды старой
профессуры, оказавшегося способным не только „историчес-
ки“ подойти к революции, но почерпнуть в ней новый опыт
и импульс для своей научной работы».53 Кстати, подобная
же характеристика, могла бы быть отнесена и к самому
Б. А. Романову.
Но попытка способствовать избранию А. Е. Преснякова
не имела успеха. Еще на предварительном этапе он был от-
сеян и не допущен к заключительной баллотировке на Отде-
лении гуманитарных наук и на Общем собрании АН СССР.
Эта история до сих пор остается не вполне проясненной.
117
Ф. Ф. Перчен ок утверждал, что на заседаниях специально
образованной Особой комиссии по историческим наукам
«стороны сначала легко договорились о Покровском и Ря-
занове», с одной стороны, «и — Грушевском, Петрушев-
ском» — с другой. «На оставшиеся два места академики хо-
тели М. К. Любавского и А. Е. Преснякова и ни за что не
соглашались на Лукина (находили в нем склонность к идео-
логическим погромам). Власть же продвигала Лукина, согла-
шаясь на Преснякова, и слышать не хотела о Любавском.
Результат соглашения: проголосовали и за Любавского, и за
Лукина <...> а кандидатуру Преснякова постановили „оста-
вить без баллотирования ввиду заполнения наличных свобод-
ных мест по историческим наукам“».54 После выборов широ-
ко был распространен слух о том, что А. Е. Пресняковым
ради М. К. Любавского пожертвовал именно С. Ф. Плато-
нов. Как дело было на самом деле, знал конечно
Е. В. Тарле, который на следствии по «Академическому
делу», стремясь отмежеваться от С. Ф. Платонова, утверж-
дал в своих собственноручных показаниях от 17 февраля
1930 г., что «остался по вопросу о нем (А. Е. Преснякове.—
В. П.) вообще и о его кандидатуре в академики в частности
при особом мнении и в комиссии по выборам публично вы-
ступил за Преснякова против Платонова и Богословского и
голосовал за Преснякова — против Любавского при балло-
тировках». Е. В. Тарле объяснял позицию С. Ф. Платонова
тем, что А. Е. Пресняков «пошел в Институт красной про-
фессуры».55 Эти слова, как и все показания, данные на след-
ствии в условиях угроз и шантажа, можно было бы поста-
вить под сомнение, если бы содержание публичного выступ-
ления Е. В. Тарле в пользу А. Е. Преснякова нельзя было
проверить. Но он понимал, что такая проверка может
вскрыть его ложь, и потому этот факт следует признать до-
стоверным. С другой стороны, в показаниях не проходивше-
го по «Академическому делу» Ю. Г. Оксмана, данных пред-
положительно в 1930 г., говорилось о тяжелом впечатлении,
какое «произвела позиция Тарле в вопросе об избрании в
Академию А. Е. Преснякова» «в самых широких кругах ле-
нинградской научной общественности»: «Признавая необхо-
димость этого избрания, считая, что А. Е. Пресняков много
может сделать и как ученый, и как организатор, Тарле в ре-
шительный момент не то „воздержался" от голосования, не
то просто примкнул к комбинации, выдвинутой С. Ф. Пла-
тоновым (т. е. замене Преснякова — Любавским)».56 Обраща-
ет на себя внимание то, что Ю. Г. Оксман давал показания
по делу именно Е. В. Тарле, следовательно, о «комбинации
118
С. Ф. Платонова», пожертвовавшего А. Е. Пресняковым в
пользу М. К. Любавского, заметил походя, как об обще-
известном факте, и это позволяет оценить и его в качестве
достоверного.
В этом свете заслуживают внимания и собственноручные
показания по данному поводу Б. А. Романова, данные 20 ап-
реля 1930 г., в которых он сообщал об испортившихся его
«личных отношениях с С. Ф. Платоновым» «под влиянием
провала С. Ф. Платоновым А. Е. Преснякова на выборах в
Академию».57 Конечно в данном случае Б. А. Романов стре-
мился отвергать свою близость в 20-х годах к С. Ф. Плато-
нову, являвшемуся, как ему объявили следователи ОГПУ,
главой антисоветской контрреволюционной организации. Но
если факт ведущей роли С. Ф. Платонова в истории с неиз-
бранием А. Е. Преснякова можно считать достоверным, то
и реакция на это Б. А. Романова просто не могла быть
иной.
И все же, несмотря на личные обиды, связанные с про-
хладной реакцией С. Ф. Платонова на выход в свет книги
«Россия в Маньчжурии» и недовольством Б. А. Романова
той ролью, которую сыграл С. Ф. Платонов на академиче-
ских выборах, было бы неверно считать, что между ними
произошел разрыв. Их отношения в 20-х годах характеризо-
вались то сближением, то отдалением, возможно, взаимными
обидами, но общение продолжалось на протяжении всего
этого времени, хотя, конечно, не было уже таким же дове-
рительным, как в 1910-х годах.
Что касается А. Е. Преснякова, то он весной 1928 г. тя-
жело заболел, и Б. А. Романов, судя по его письмам, был,
как и прежде, самым близким ему человеком и провел по-
следние полтора года его жизни постоянно в контакте с ним
и его семьей, принимал участие в решении ряда вопросов,
связанных с лечением. В письме, написанном 7 октября
1929 г., спустя неделю после смерти А. Е. Преснякова,
Б. А. Романов подробно описал все течение болезни раком,
ее симптомы, отъезд его на отдых в Крым осенью 1928 г.,
чтобы «быть в стороне в период выборов в Академию», ход
его занятий в архивах и библиотеках, а также в университе-
те, сообщил о лечении радием в Ленинграде и Париже, уда-
лении половины языка, о нараставшей слабости, болях, му-
чивших А. Е. Преснякова, наконец, зафиксировал момент
смерти «между 5 и 572 часов дня 30-го» (сентября 1929 г.).
Извещал Б. А. Романов и о том, что «по просьбе вдовы»
разбирается «в литературном наследстве А. Е.», предполо-
жив, что «это будет, вероятно, не один том», и о хлопотах
119
по поводу пенсии ей. Наконец, он хлопотал о некрологе в
журнале «Историк-марксист», который, однако, так и не по-
явился.58 Сам Б. А. Романов написал некролог для «Вечер-
ней Красной газеты», напечатанный без подписи и в сущест-
венно отредактированном виде.59
Вскоре после смерти А. Е. Преснякова, 16 октября
1929 г., Б. А. Романов поступил на работу в Русский музей
на должность ученого секретаря Историко-бытового его от-
дела, куда он был приглашен заведующим этим отделом
М. Д. Приселковым. Лишь затем он подал заявление об
уходе из Центрархива, которое было подписано 25 ноября.
Эта работа оказалась очень живой, по знаниям и вкусам
Б. А. Романова. Однако ему недолго довелось насладиться
сотрудничеством с М. Д. Приселковым и этим новым видом
деятельности. Январь 1930 г. ознаменовался трагическим
переломом в жизни Б. А. Романова, наложившим свою пе-
чать на всю его дальнейшую жизнь.
ПРИМЕЧАНИЯ
1 Речь Б. А. Романова на защите докторской диссертации, 22 февраля
1941 г.: Архив СПб. ФИРИ, ф. 298, on. 1, д. 75, л. 6.
2 Романов Б. А. Россия в Маньчжурии (1892—1906): Очерки по исто-
рии внешней политики самодержавия в эпоху империализма. Л., 1928. С. V.
3 Там же.
4 Речь Б. А. Романова на защите докторской диссертации, л. 6.
5 Романов Б. А. Россия в Маньчжурии. С. V.
6 Там же. С. V—VI.
7 Речь Б. А. Романова на защите докторской диссертации, л. 6.
8 Там же, л. 7.
9 Романов Б. А. Россия в Маньчжурии. С. X. Во время следствия по
сфабрикованному «Академическому делу» 1929—1931 гг. Б. А. Романов в
собственноручных показаниях от 20 апреля 1930 г. сообщил, что «зимой
1927—28 г. передал первые 12 лл. в корректуре „по старому обычаю" на
просмотр С. Ф. Платонову» (Архив Управления ФСБ по С.-Петербургу и
области, д. П-82333, л. 239 об.—240).
10 Речь Б. А. Романова на защите докторской диссертации, л. 8.
11 Русские финансы и европейская биржа в 1904—1906 гг. / Материал
подготовлен к печати Б. А. Романовым; Под редакцией и с предисловием
Е. А. Преображенского. М.; Л., 1926.
12 Валк С. Н. Борис Александрович Романов//Исследования по соци-
ально-политической истории России: Сб. статей памяти Бориса Александро-
вича Романова. Л., 1971. С. 22—23.
13 Покровский М. Н. Русская история в самом сжатом очерке. Ч. 3.
Двадцатый век. М., 1935. С. 68.
14 Романов Б. А. Россия в Маньчжурии. С. VI.
15 От издательства//Романов Б. А. Россия в Маньчжурии. С. IV.
120
16 Гастев Г. Перипетии дальневосточной авантюры: Б. А. Романов.
Россия в Маньчжурии//Известия. 1929. 14 авг.
17 Попов А. [Рец.] Б. А. Романов. Россия в Маньчжурии//Историк -
марксист. 1929. Т. 14. С. 173.
18 Там же. С. 182. 19 Там же. С. 177. 20 Там же. С. 182. 21 Там же. С. 175. 22 Там же. С. 178. 23 Там же. С. 177. 24 Речь Б. А. Романова на защите докторской диссертации, л. 7.
23 Попов А. [Рец.] Б. А. Романов. Россия в Маньчжурии. С. 177.
26 Там же. С. 179. 27 Там же. С. 181. 28 Там же. С. 182. 29 Там же. 30 Там же. С. 178. 31 Там же. С. 181.
32 Бонн-Осмоловский. [Рец.] Б. А. Романов. Россия в Маньчжурии//Со-
ветская Азия. 1930. № 5—6. С. 361—362.
33 Рейхберг Г. [Рец.] Б. А. Романов. Россия в Маньчжурии//Революци-
онный Восток: Журнал Научно-исследовательской ассоциации Коммунисти-
ческого университета трудящихся Востока им. И. В. Сталина. 1929. № 7.
С. 353—355.
34 Вайнцвайг Н. [Рец.] Б. А. Романов. Россия в Маньчжурии//Пробле-
мы Китая: Записки Научно-исследовательского института по Китаю при Ас-
социации по изучению национально-колониальных проблем. Изд. Комму-
нистической академии. 1930. № 2. С. 216.
35 Там же. С. 217—218.
36 Там же. С. 217.
37 Аварии В. [Рец.] Россия в Маньчжурии // Новый Восток: Научная ас-
социация востоковедов Союза ССР. [1930]. Кн. 29. С. 238.
38 Там же. С 235.
39 Там же. С. 235—236.
40 Там же. С. 236.
41 Там же. С. 237.
42 Речь Б. А. Романова на защите докторской диссертации, л. 8.
43 Никифоров В. Н. Борис Александрович Романов (К восьмидесятиле-
тию со дня рождения)//Народы Азии и Африки. 1969. № 3. С. 208—209.
44 См.: Ганелин Р. Ш. Б. А. Романов — историк революционного дви-
жения в России // Проблемы социально-экономической истории России: К
100-летию со дня рождения Бориса Александровича Романова. СПб., 1991.
С. 41.
43 Речь Б. А. Романова на защите докторской диссертации, л. 6.
46 В книге «Россия в Маньчжурии» 607 страниц текста-*- 10 страниц
предисловий, пронумерованных римскими цифрами, -I- карта.
47 Академическое дело 1929—1931 гг. Документы и материалы следст-
венного дела, сфабрикованного ОГПУ. Вып. 2, ч. 1. Дело по обвинению
академика Е. В. Тарле. СПб., 1998. С. 179.
48 Там же. С. 169.
49 См. об этом: Никифоров В. Н. Борис Александрович Романов (К
восьмидесятилетию со дня рождения). С. 209—210.
50 С. Н. Чернов — С. Ф. Платонову. 24 августа 1929 г.: ОР РНБ,
ф. 585, on. 1, ч. 2, д. 4541, л. 45—45 об.
121
51 См.: «Наше положение хуже каторжного»: Первые выборы в Акаде-
мию наук СССР//Источник. 1996. № 3. С. 109—140.
52 Цит. по: Артизов А. Н. Болезнь и кончина А. Е. Преснякова//ВИ.
1996. № 5. С. 158.
53 [Романов Б. А.] А. Е. Пресняков//Студенческая правда. 1928.
17 дек.
34 Перченок Ф. Ф. Академия наук на «великом переломе» // Звенья: Ис-
торический альманах. М., 1991. Вып. 1. С. F82.
55 Академическое дело 1929—1931 гг. Документы и материалы следст-
венного дела, сфабрикованного ОГПУ. Вып. 2, ч. 1. С. 26.
56 Там же. Ч. 2. С. 594.
57 Архив Управления ФСБ по С.-Петербургу и области, д. П-82333,
т. 1, л. 240.
58 См. письмо Б. А. Романова И. Л. Татарову от 7 октября 1929 г. в
статье: Артизов А. Н. Болезнь и кончина А. Е. Преснякова. С. 159.
39 [Романов Б. А.] Профессор А. Е. Пресняков//Вечерняя Красная га-
зета. 1929. 1 окт.
«ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ ПОПРОСТУ
С ИСТОРИЧЕСКОГО ФРОНТА МЕНЯ УСТРАНИТЬ»:
АРЕСТ, СЛЕДСТВИЕ, КОНЦЕНТРАЦИОННЫЙ ЛАГЕРЬ.
1930—1933 ГОДЫ
Когда Б. А. Романов в октябре—ноябре 1929 г. перехо-
дил из Центрархива в Русский музей, казалось, что посколь-
ку уже давно было ясно, что на старом месте работы ему
оставаться опасно, то он даже запоздал сделать этот реши-
тельный шаг. Но как раз в это время стали поступать не-
благоприятные известия из Академии наук, куда его звали
перейти заведующим Архивом.
Все началось с «чистки» учреждений Академии, которая
вскоре переросла и в аресты. 23 октября 1929 г. Полномоч-
ным представительством Объединенного политического
управления в Ленинградском военном округе (ПП ОГПУ в
ЛВО) были арестованы работники Библиотеки Академии
наук (БАН) С. А. Еремин и И. И. Фетисов, 24 октября —
ученый секретарь Археографической комиссии А. И. Андре-
ев, сотрудник библиотеки ЛГУ Ф. А. Мартинсон и старший
научный хранитель БАН Ф. И. Покровский. Затем, до конца
года, арестам подверглись еще несколько человек, в том
числе известный ученый, член-корр. АН СССР С. В. Рожде-
ственский (1 декабря). Почти все они либо были причастны
к хранению рукописных собраний в учреждениях Академии
наук, либо относились к ее административному персоналу,
связанному с экспедиционной работой. В ноябре по требо-
ванию Политбюро поста непременного секретаря АН СССР
лишился акад. С. Ф. Ольденбург, а акад. С. Ф. Платонов —
академика-секретаря гуманитарного отделения и председате-
ля Археографической комиссии.
123
Эти карательные и административные меры были связа-
ны с тем, что в процессе «чистки» в учреждениях Академии
(рукописный отдел БАН, Пушкинский Дом, Археографиче-
ская комиссия) стало известно о хранении в них так называ-
емых политических документов. Особенно большой шум воз-
ник из-за обнаружения подлинников отречения от престола
Николая II и его брата Михаила, документов партии эсеров,
ЦК партии кадетов, А. Ф. Керенского, П. Б. Струве, лично-
го архива бывшего шефа жандармов В. Ф. Джунковского,
списка членов Союза русского народа. Так началась знаме-
нитая «архивная история».1
Разумеется, и она имела ярко выраженную политическую
окраску, но подспудно, усилиями высших партийно-чекист-
ских структур, эта «архивная история» была преобразована
в сфабрикованный следственный процесс, целью которого
стало, посредством выдвижения против главным образом ле-
нинградских ученых-гуманитариев (историков прежде всего)
обвинений в создании контрреволюционной организации,
связанной с интервенционистскими кругами на Западе, боль-
шее изировать Академию наук, поставив ее на службу режи-
му, и вытеснить из исторической науки представителей ста-
рой школы, взамен которых Комакадемия и Институт крас-
ной профессуры готовили свои новые кадры. Разумеется, эта
акция не была изолирована от общих тенденций в политике
властей. Наступление на дореволюционную интеллигенцию
усилилось вместе со сворачиванием нэпа. «Дело лицеистов»,
«Дело космической академии», «Дело краеведов», «Шахтин-
ское дело», «дело» философского кружка «Воскресенье» пред-
шествовали репрессиям, направленным против сотрудников
академических учреждений. Одновременно с ними Сталин
дал указание фабриковать «дело» так называемой «Промпар-
тии», «дело» так называемой «Трудовой крестьянской пар-
тии», «дело» преподавателей Военно-морской академии,
«дело» «Спилки вызволения Белоруссии», «дело» Всеукраин-
ской академии наук. Затем, в начале 30-х годов, возникло
«дело» славистов, «дело» литераторов и т. д. Эти следствия-
близнецы, как правило, заканчивались вынесением внесудеб-
ных приговоров («тройками», Коллегией ОГПУ), и только
«дело» «Промпартии» завершилось сфальсифицированным
судом.
Момент перерастания «архивной истории» в один из
крупнейших следственных процессов — «Академическое
дело» — фиксируется решением Особой следственной комис-
сии, образованной политбюро ЦК ВКП(б) в составе руково-
дителя комиссии по чистке АН СССР, члена коллегии Нар-
124
комата рабоче-крестьянской инспекции Ю. П. Фигатнера,
прокурора РСФСР Н. В. Крыленко, ответственных работни-
ков ОГПУ Я. С. Агранова и Я. X. Петерса, которая поста-
новила, что имеются основания «для дальнейшей углублен-
ной следственной разработки в направлении выяснения свя-
зей отдельных лиц, стоящих во главе Академии наук, с
белоэмиграцией за рубежом, с некоторыми иностранными
представительствами и миссиями и возможной шпионской
(военно-разведывательной) деятельностью в интересах ино-
странных государств».2 Эта разработка и продолжалась еще
некоторое время. Ее результатом стал доклад руководства
ОГПУ от 9 января 1930 г. Сталину о существовании контр-
революционной организации и запрос о санкции на арест
ряда известных академиков, среди которых были названы
С. Ф. Платонов, В. Н. Перетц, И. Ю. Крачковский,
А. Н. Крылов. Политбюро, однако, отказало в аресте всех
названных в докладной записке лиц, ограничившись санкци-
онированием пока ареста С. Ф. Платонова,3 и дало указание
фабриковать дело о контрреволюционной организации во
главе с ним. Эта докладная записка, подписанная зам. пред-
седателя ОГПУ Г. Г. Ягодой и Г. Е. Евдокимовым, не но-
сила характера итогового документа. Пока следственная
группа ПП ОГПУ в ЛВО, которой было поручено ведение
«дела», располагала лишь самым общим сценарием, вклю-
чавшим в себя такие обязательные компоненты, как создание
контрреволюционной организации, заговор против советской
власти с целью ее свержения, реставрация монархии, связи с
эмигрантскими кругами и разведками европейских стран.
Этого сценария было достаточно на первом этапе допросов,
которым уже интенсивно подвергались ранее арестованные.
Но новые аресты должны были дать возможность следова-
телям проявить фантазию и «искусство», чтобы развить этот
сценарий и придать ему не только внешнюю достоверность,
но и определенную индивидуальность, а также соответствую-
щее оформление. Принудительное «соавторство» арестован-
ных со следователями и полное признание подследственных
было единственным способом «оживления» полученного сле-
дователями типового сценария.4
Б. А. Романова, казалось бы, все это начавшееся «дело»
не могло коснуться никаким образом. Поднявшаяся в печати
разнузданная кампания против Академии в связи с обнару-
жением в ее хранилищах политических документов не имела
к нему никакого отношения. Он не работал в ее учреждениях
и не был связан с нею какими-либо интересами. Более того,
Б. А. Романов только что отверг еще одно предложение
125
С. Ф. Платонова возглавить Архив АН СССР. Сотрудников
Центрархива, который он покинул, и Русского музея, куда
он сразу же поступил в октябре—ноябре 1929 г., первые
аресты не коснулись. В официальных органах печати в
1929 г. одна за другой появлялись положительные рецензии
на его книгу «Россия в Маньчжурии». Сам Б. А. Романов
активно печатался в таких журналах, как «Красный архив»,
«Красная летопись» и «Историк-марксист». За границу после
революции он не выезжал. Все эти факты, по-видимому, по-
зволяли ему самому считать, что начавшиеся аресты, кото-
рые пока казались разрозненными и лишенными логической
цельности, его не затронут.
12 января 1930 г. был арестован С. Ф. Платонов (и его
дочь М. С. Платонова), которого следователи ОГПУ по ука-
занию политбюро решили «поставить» во главе им «форми-
руемой» мифической подпольной контрреволюционной и
антисоветской организации, и уже в ночь с 12 на 13 января
1930 г., когда проводился первый его допрос, пришли и за
Б. А. Романовым. Из более чем полутора сотен арестован-
ных с октября 1929 г. и в течение всего 1930 г. до него было
взято 29 человек. И даже из тех 16- человек, кого следствие
в итоге отнесло к «основному ядру организации», якобы иг-
равшему «руководящую роль» в ее «создании и практической
деятельности» (в том числе академики Е. В. Тарле,
Н. П. Лихачев, М. К. Любавский, а также Н. В. Измайлов,
С. В. Бахрушин, А. И. Яковлев, В. И. Пичета, Ю. В. Готье
и ряд других, ставшие усилиями ОГПУ ключевыми фигурами
«контрреволюционной организации»), из 13 человек, кто об-
винялся в шпионаже в пользу Германии (все эти 29 человек
были объединены в основное следственное производство), до
Б. А. Романова было арестовано всего 9 человек. Из этого
следует, что первоначально ПП ОГПУ в ЛВО намеревалось
его сделать одним из основных обвиняемых. Вероятно,
Б. А. Романова по-прежнему относили к числу наиболее
близких к С. Ф. Платонову людей и поэтому арестовали
сразу вслед за ним. Хотя во второй половине 20-х годов это
было уже далеко не так, подобные нюансы профессиональ-
ных и личных взаимоотношений в среде петербургских исто-
риков мало интересовали карательные органы.
В постановлении, датированном 13 января 1930 г. и под-
писанном начальником 4-го отделения секретного отдела ПП
ОГПУ в ЛВО А. Р. Стр ом иным о производстве обыска и за-
держании по делу № 1803, зафиксировано, что Б. А. Рома-
нов «подозревается в том, что он состоит в нелегальной
контрреволюционной организации».5 При аресте у него были
126
изъяты «разная переписка, литература и фотографические
карточки и пишущая машинка с немецким шрифтом».6 После
этого он был доставлен в Дом предварительного заключения
на Шпалерной улице и помещен восьмым человеком в каме-
ру на четверых. По рассказу Б. А. Романова, в ней был ус-
тановлен порядок, согласно которому первую ночь он про-
вел на полу у двери, а затем, каждый день, постепенно пере-
двигался на другие «спальные» места — между койками, под
койкой, на столе, наконец, на самой койке, а затем все сна-
чала. Уже одни эти чудовищные условия не могли не произ-
вести самого гнетущего впечатления на только что аресто-
ванного ученого.
Первый допрос Б. А. Романова датирован 15 января
1930 г. При обращении к следственным протоколам, вед-
шимся в недрах ОГПУ, необходимо учитывать ряд обстоя-
тельств.
На арестованных оказывалось мощное психологическое,
и не только психологическое, давление. Так, В. И. Пичета
уже в 1931 г. писал о том, как велось следствие: «Когда меня
допрашивали, мне возвращали мои показания для замены
одних слов другими,—не в мою пользу. Мне указывали, в
каком стиле и тоне я должен был давать свои показания,
ибо отказ, говорили мне, не в мою пользу. Мне читали по-
казания Любавского, сообщали отдельные факты и заставля-
ли вносить в мои показания. Меня заставляли признать себя
участником организации, о которой я не имел никакого по-
нятия, — я подписал все, что было написано следователем
<...> Я не мог протестовать перед ними, ибо меня засудили
бы».7 В 1934 г. М. К. Любавский в письме на имя Прокуро-
ра СССР И. А. Акулова подробно описал, каким образом
начальник следственно-оперативного отдела ПП ОГПУ в
ЛВО вынудил его к даче ложных показаний. На первом же
допросе С. Г. Жупахин предупредил подследственного, что
«ОГПУ уже все известно» о его преступлении и чтобы он
«ни от чего не отпирался», если не хочет «ухудшить свою
участь», и «не надеялся ни на какой открытый суд», ибо его
«будет судить коллегия ОГПУ» на основании доклада Жупа-
хина. Допрос закончился около 3 часов ночи. После этого
следователь «собственноручно написал краткий протокол»
показаний. В нем было сказано, что М. К. Любавский «чис-
тосердечно признает себя монархистом-конституционалис-
том, в чем приносил искреннее раскаяние». Попытки
М. К. Любавского возражать против такого протокола ни к
чему не привели. Жупахин заявил, «что ему и его коллегам
хочется поскорее закончить» это «пустяковое дело и не за-
127
тягивать его разнобоем в показаниях и что, наконец, ника-
ких серьезных взысканий по этому делу не предстоит». Под
давлением следователя и с сознанием, что дело действитель-
но «нелепое по существу», М. К. Любавский подписал про-
токол. «Вернувшись в камеру и придя в себя», он понял, что
«попал в искусно расставленную ловушку», из которой ему
«уже не выпутаться». На следующий день «черновой» прото-
кол был перепечатан на машинке, и следователь «строго за-
явил» М. К. Любавскому, что тот не имеет права менять
свои показания.8 Н. В. Измайлов, зять С. Ф. Платонова, в
своем заявлении в Военную прокуратуру СССР 12 марта
1957 г. писал, что «провел 21 месяц в Доме предварительно-
го заключения <...> в том числе 13 месяцев в одиночном за-
ключении (два месяца в темной камере)», и по отношению к
нему применялись «противозаконные меры психологического
и даже физического воздействия». Он сообщал также, что
еще в мае 1931 г. «подал в следственные органы подробное
заявление, в котором отказывался от данных ранее личных
показаний», и указал, что все дело, по которому он был при-
влечен, «выдумано от начала и до конца». Однако этому за-
явлению «не было дано хода».9 Престарелого С. В. Рождест-
венского держали год «в одиночке первого корпуса без пере-
дач, прогулок, смены белья».10 По рассказу М. Д. Беляева,
«его вызвал Мосевич (следователь. — В. П.) и держал девять
суток в темном карцере, угрожал расстрелом и высылкой
старухи-матери, если ничего не вспомнит».11 Л. М. Мерварт,
жена А. М. Мерварта, рассказывала при пересмотре ее дела
в 1958 г., что показания А. М. Мерварта были «с начала до
конца вымышленными и сочиненными Мервартом под при-
нуждением следователя», что, «боясь за судьбу своих близких
людей», он «писал все то, что говорили ему следователи».
Она сама на следствии «называла себя шпионкой и изобли-
чала в шпионаже Мерварта» тоже «под диктовку следовате-
ля» и под «угрозой уничтожения» не только ее самой, но
всех ее близких, «в том числе двух малолетних детей».12
Сам Б. А. Романов в заявлении Генеральному прокурору
СССР 29 апреля 1956 г. при объяснении причин данных им
ложных показаний писал: «...перед ясной угрозой меня иска-
лечить и при ясном отказе следователя поскорее меня унич-
тожить (что я, разумеется, предпочитал тогда при виде того,
что мне было показано в ДПЗ), мне не оставалось ничего,
как с отвращением подписывать все, что заблагорассудилось
следователю предложить мне в написанном им самим виде
или понадобилось ему же продиктовать мне в условиях за-
ведомо (для него) глубокого моего потрясения. Что я и сде-
128
лай в полном сознании безвыходности моего положения и
беззащитности».13
Одной из форм психологического давления было заявле-
ние следователей каждому арестованному, что другие под-
следственные уже дали показания о каком-либо факте (часто
сфабрикованном), и его подтверждение лишь облегчит участь
их всех. Кроме того, протоколы носили характер произволь-
но скомпонованных кратких резюме в форме монологов под-
следственных, без записи задаваемых вопросов. Протоколы
писались после, а не во время допросов. Такая форма про-
токолирования позволяла следователям фальсифицировать
суть сказанного, искажать ответы. Н. С. Штакельберг, при-
влекавшаяся по «Академическому делу» и написавшая в 70-х
годах воспоминания об этом, в частности, отмечала, что в
основе ей предъявленного протокола «были подлинные фак-
ты», которые она «и не собиралась отрицать», но он «густо
был насыщен определениями: антисоветские, нелегальные
тайные собрания, антимарксистские научные сообщения, ру-
ководство махрового монархиста акад. С. Ф. Платонова, яв-
ки для получения контрреволюционных директив под видом
„вечеринок" и т. д.». При этом следователи «вынуждали
подписать признание в виде вымышленных вульгарно-анти-
советских формулировок и немыслимые, ложные, недопусти-
мые для всякого порядочного человека обвинения товарищей
и учителей-профессоров».15 К тому же в протоколах, как пра-
вило, отсутствуют записи о тех предъявленных обвинениях,
которые по тем или иным причинам в ходе следствия отпа-
дали.
Эти особенности присущи протоколам допросов и
Б. А. Романова. Так, согласно его заявлению от 29 апреля
1956 г. на имя Генерального прокурора СССР, содержавше-
му ходатайство о пересмотре вопроса законности вынесенно-
го ему в 1931 г. приговора и о реабилитации, Б. А. Рома-
нову «было предъявлено два конкретных обвинения, ничем
и никем <...> не подтвержденные», при отказе следователя
назвать «лиц, их выдвинувших», и отказе «в очной ставке».
Первое — в том, что он «якобы получал от академика Пла-
тонова деньги для написания <...> вышедшего в 1928 г. на-
учного исследования под заглавием „Россия в Маньчжурии",
изд. Лен. Ин-та живых восточных языков». Б. А. Романов
сообщал в связи с этим Генеральному прокурору, что он
«мог ответить только», что «кроме авторского гонорара из
издательства этого института» он «получил 150 р. на коман-
дировки в московские архивы в 1926 г. от Лен. университета.
А затем уже сам следователь вскоре сообщил», что ему «при-
5 В. М. Панеях
129
суждена за эту книгу премия в 250 р. (комиссией по присуж-
дению премий при ЦКУБУ), каковая была тогда же, весной
1930 г., переведена в адрес» его жены. Трагическая ирония
судьбы состояла в том, что именно С. Ф. Платонов (как
было отмечено в предыдущей главе), по странному совпаде-
нию, будучи недовольным одной из статей Б. А. Романова,
спросил его по поводу важного ее сюжета: «Так Вы оправ-
дываете здесь Николая?». Как было Б. А. Романову не
вспомнить в кабинете следователя тот неприятный для него
разговор? Скорее всего, он даже решил, что это обвинение
стало результатом показаний С. Ф. Платонова.
Второе не зафиксированное в протоколах обвинение за-
ключалось в том, что он «якобы составлял „сводки о поло-
жении русской деревни"», на что Б. А. Романову «остава-
лось только ответить, что за 1917—1930 гг.» он «ни разу в
русскую деревню не заглянул, даже в порядке поездок туда
за продовольствием».16 Но оба эти обвинения и ответы
Б. А. Романова не нашли отражения в следственных прото-
колах. Нет никакого сомнения, что они стали результатом
ошибочных представлений, сложившихся в карательных ор-
ганах, об особой его в это время близости к С. Ф. Плато-
нову.
Что же касается официальных протоколов допросов
Б. А. Романова, то, согласно им, следователь Мосевич
15 января 1930 г. прежде всего интересовался «кружком мо-
лодых историков». Вполне вероятно, что это было вызвано
допросом С. Ф. Платонова 14 января. В его протокол сле-
дователем вписана следующая фраза: «Касаясь нелегально
существующих кружков „молодых историков", должен при-
знаться и подчеркнуть, что здесь были люди, объединенные
желанием видеть науку свободной. Считая совершенно не-
нормальным существующее положение, когда статьи нельзя
писать без издания Коммунистической академии и пр., пола-
гаю, что если бы данное положение изжилось, то нелегаль-
ные кружки самоликвидировались. Признаю, что действи-
тельно я являлся одним из создателей „кружка молодых ис-
ториков"». Далее следует перечисление членов кружка, а
затем сообщение о том, «что означенный кружок имел со-
брания на квартирах своих членов».17 Возможно, что во
время первого допроса Б. А. Романова следователь сообщил
ему о данном накануне показании С. Ф. Платонова, касаю-
щемся «кружка молодых историков», в числе членов которо-
го вторым был назван Б. А. Романов. Не случайно в маши-
нописной рабочей копии протокола этого допроса
С. Ф. Платонова слова «молодых историков» подчеркнуты
130
красным карандашом, а затем слова «Признаю, что действи-
тельно я являлся одним из создателей „кружка молодых ис-
ториков". Входили в этот кружок членами...» — простым ка-
рандашом.18
Согласно протоколу допроса 15 января, Б. А. Романов
рассказал о работе «нелегального» кружка «молодых исто-
риков», в котором, по его признанию, он сам принимал уча-
стие, перечислил постоянных членов и дал им характеристи-
ку, критерием которой являлась распространенная в 20-х
годах градация — «не марксист», «антимарксист», «эволюци-
онирующий в сторону марксизма». Затем приводятся списки
эпизодически присутствовавших на собраниях кружка и про-
фессоров-историков, также эпизодически бывших на них, и
сообщается об обстоятельствах образования кружка, местах
его заседаний, темах некоторых докладов, в том числе само-
го Б. А. Романова (о воспоминаниях «представителя либе-
ральной земской России — Д. Н. Шипова»).
Несомненно и С. Ф. Платонов, и Б. А. Романов, говоря
на допросах о «кружке молодых историков», не предполага-
ли, что их показаниям будет придан криминально-политиче-
ский характер. Ведь этот кружок, как и другие неформаль-
ные кружки, существовавшие в 20-х годах, не был ни под-
польным, ни нелегальным. Но следователь добивался от
Б. А. Романова политической оценки деятельности кружка и
вписал в протокол его ответ в таком виде: «При обсуждении
докладов временами совершенно четко определялись анти-
марксистские настроения ряда присутствовавших», чему «не
противодействовали, т<ак> к<ак> общая установка при об-
суждении была — свобода высказываний своих мнений.
Давая общую идейно-политическую характеристику кружка,
я признаю, что уже сам состав кружка из лиц в подавляю-
щем большинстве не марксистов определял идейную установ-
ку его. Привлекавшиеся к работе кружка крупные ученые
профессора, являвшиеся научным авторитетом для многих
кружковцев, в своем большинстве были антимарксистами,
авторитет последних был настолько велик, что определял де-
ятельность кружка. Я признаю, что объективно деятельность
кружка была антисоветской; допускаю мысль, что со сторо-
ны отдельных членов кружка и его идейных вдохновителей
было проявлено намерение направлять деятельность кружка
только в антисоветское русло». Впрочем, далее Б. А. Рома-
нов осторожно дезавуировал сказанное, отметив, что, «не
поддерживая лично связи с кружком на протяжении всего
времени его существования», он не может «уточнить этот
вывод».19
131
Оценивая данный протокол, нетрудно заметить, что в
нем содержатся два пласта — никогда и никем не скрываемая
информация о кружке и навязанная следователем оценка его
деятельности.
23 января 1930 г., во время второго допроса, Б. А. Ро-
манов, как и С. Ф. Платонов, попытался увязать работу
кружка с политикой властей в отношении научно-исследова-
тельских и образовательных учреждений исторического про-
филя. Так, он разделил его историю на четыре периода. Пер-
вый — с момента «организации и до весны 1922 г., когда еще
не существовало Научно-исследовательского института исто-
рии». Второй — «относится ко времени существования Ин-
ститута и характеризуется ослаблением деятельности кружка,
т<ак> к<ак> наиболее сильные кружковцы перешли в Ин-
ститут». Третий — «начался с закрытием Института в 1923—
24 г. и характерен некоторым новым подъемом деятельности
кружка». Наконец, четвертый период начался после «органи-
зации Ленинградского отделения РАНИОНа» и характеризу-
ется тем, что в руководящее ядро кружка «вошли наиболее
яркие антисоветские фигуры, которые не могли быть приня-
тыми в Ленинградское отд. РАНИОНа». Тем самым
Б. А. Романов попытался показать, что именно отсутствие
или дефицит официальных научных учреждений, где молодые
ученые могли бы удовлетворить свои потребности в профес-
сиональном совершенствовании и общении, порождали такие
объединения, как кружки, квалифицируемые карательными
органами как нелегальные. Про себя он сказал, что «после
доклада о Лихунчангском фонде в 1924 г.» стал «постепенно
от кружка отходить и с 1927 г. порвал с ним окончательно,
перейдя в РАНИОН и затем Институт марксизма».20
2 февраля Б. А. Романова допрашивали и о кружке па-
мяти А. С. Лаппо-Данилевского, «к составу которого» он,
по его словам, «не принадлежал», а о «существовании его»
знал «с чужих слов», а также о салоне Е. В. Тарле, где ему
«не приходилось» «сталкиваться <...> с фактами антисовет-
ского характера».21
Следующий, третий, протокол допроса датирован 3 апре-
ля. Прошло уже 2 месяца с того времени, которым помечен
предыдущий, зафиксированный официально допрос. Б. А. Ро-
манову, как вытекает из его заявления Генеральному проку-
рору СССР о реабилитации, следователь объяснил, что «ру-
ководителями контрреволюционной организации» были
С. Ф. Платонов и Е. В. Тарле.22 Очевидно, именно поэтому он
попытался косвенным образом отмежеваться от С. Ф. Плато-
нова. На вопрос о московских историках-немарксистах следо-
132
вате ль написал ответ, что Б. А. Романову «известны»
М. К. Любавский, С. В. Бахрушин, Ю. В. Готье, А. И. Яков-
лев, С. Б. Веселовский и Д. М. Егоров. Они «объединены
между собой и общностью идеологии, и присущими им всем
антисоветскими настроениями. По всем вопросам все эти лица
выступают единым фронтом». Далее следует фрагмент, кото-
рый производит впечатление утрированного воспроизведения
слов самого Б. А. Романова, отражающих настроения, сфор-
мировавшиеся еще до ареста: «В частности, мне известна ис-
тория травли А. Е. Преснякова, которая началась после его
выступления против Ключевского и продолжалась до послед-
него времени, достигнув предела какой-то звериной ненависти
тогда, когда Пресняков стал выдвигаться советскими общест-
венными организациями и коммунистической партией. Эта
травля отражалась в некоторой степени, как мне кажется, на
отношении ко мне как к ученику и стороннику Преснякова
<...> Платонов был очень тесно связан с московской группой
и опирался в своей деятельности почти исключительно на нее.
В частности, для иллюстрации могу сказать, что членами-кор-
респондентами АН выбирались только москвичи и членами
Археографической комиссии тоже только москвичи. В Ленин-
граде Платонов не имел такого прочного и однородного по
идеологии фундамента». На вопрос о «конспиративной дея-
тельности» «московской группы» Б. А. Романов ответил, что
об этом ему «ничего не известно». Но, как он «слышал, Бах-
рушин имеет какой-то кружок молодежи».23
15 апреля, на следующий день после того, как было под-
писано постановление о привлечении С. Ф. Платонова в ка-
честве обвиняемого,24 такое же постановление было вынесено
и в отношении Б. А. Романова. Отличие состояло лишь в
том, что если С. Ф. Платонов обвинялся в том, что он «уча-
ствовал в создании и возглавлял контрреволюционную мо-
нархическую организацию, ставившую своей целью сверже-
ние советской власти и установление в СССР монархическо-
го строя путем склонения иностранных государств и ряда
буржуазных общественных групп к вооруженному вмеша-
тельству в дела Союза», то Б. А. Романов изобличался «в
том, что он являлся членом контрреволюционно-монархиче-
ской организации, ставившей своей целью свержение Сов.
власти и установление в СССР, путем склонения иностран-
ных государств к вооруженному вмешательству, — конститу-
ционно-монархического строя».
Нетрудно заметить, что это обвинение никоим образом
не вытекало из материалов допросов Б. А. Романова, во
время которых, если судить по протоколам, следователи
133
даже не задавали вопросов о контрреволюционно-монархи-
ческой организации и ее целях, равно как и о возможности
вооруженного вмешательства и об общественном строе, ко-
торый мог бы быть установлен после свержения советской
власти. Необходимо при этом иметь в виду, что Б. А. Рома-
нов, так же как Е. В. Тарле, А. Н. Шебунин и ряд других
привлеченных по данному «делу», не разделял монархиче-
ских воззрений С. Ф. Платонова и придерживался демокра-
тических взглядов, расходясь в этом и с ним, и с господство-
вавшей после революции идеологией. Кроме того, он, как
уже было отмечено, не имел никакого отношения к Акаде-
мии наук, в недрах которой, по партийно-чекистскому сце-
нарию, и возникла так называемая антисоветская организа-
ция. Но безотносительно к этим несуразностям и к идеоло-
гическим расхождениям между учеными, попавшими в
жернова следствия, ведшегося с нарушением всех юридиче-
ских норм, следует подчеркнуть, что, как подтвердили реа-
билитационные материалы, вообще не существовало никакой
контрреволюционной антисоветской организации, а все об-
винения представляли собой чистый вымысел сценаристов
«дела». Реальной была только трагедия представителей
элиты отечественной исторической науки, вовлеченных в
этот страшный спектакль и ставших жертвами бесправия и
надругательства.
Внутренние противоречия среди посетителей «кружка мо-
лодых историков», о которых говорил на допросах Б. А. Ро-
манов, вряд ли сколько-нибудь существенно интересовали
следствие. «Сценаристам» из ОГПУ после предъявления об-
винения нужны были новые «факты» антисоветской работы
каждого из допрашиваемых, чтобы подтвердить его по всем
пунктам. На Б. А. Романова и был оказан нажим, о котором
он писал Генеральному прокурору СССР в 1956 г. и кото-
рый вынудил его, как и всех других 115 человек, привлечен-
ных по этому «делу», признаться в том, что хотели от него
получить следователи.
Так, в собственноручных, частично продиктованных сле-
дователем показаниях от 20 апреля 1930 г. Б. А. Романов
«признался» в том, что он «примыкал к контрреволюцион-
ной организации, группировавшейся вокруг акад. С. Ф. Пла-
тонова, через акад. Е. В. Тарле и его салон». «Конечной
целью этой организации была замена советской власти бур-
жуазным государственным строем», причем, записывал он,
ему «никто не говорил, конституционной ли монархией или
республикой, но само собою ясно, что дело кончилось бы
первой». «Сознавая это,—писал далее Б. А. Романов,—я
134
не сделал до самого последнего времени попытки разорвать
с этой организацией, хотя с 1923—24 гг. моя советская и на-
учная работа и влияние отдельных членов партии, с которы-
ми приходилось работать, чем дальше, тем больше, прибли-
жали меня к политическим интересам и научной теории со-
ветского государства». Он принужден был заявить также «о
своем раскаянии в том, что до самого последнего времени»
«не изменил этой двойственности старой своей общественной
природы и элементов нового мировоззрения, слагавшегося
под прямым влиянием успехов Октябрьской революции», и
о том, что именно «состояние в этой организации связыва-
ло» его в «советской и научной работе и не давало» ему
«стать по сю сторону баррикады». Все это, согласно показа-
ниям Б. А. Романова, он считал «тем более позорным», что
контрреволюционный переворот «мыслился связанным с ино-
странной интервенцией» (французской) «и с участием бело-
эмиграции».
При чтении этого фрагмента показаний не следует удив-
ляться осведомленности Б. А. Романова о несуществовавшей
организации и деталях замысла ее руководителей. Нет ника-
кого сомнения, что все эти «сведения», синхронно появив-
шиеся в показаниях и других арестованных по тому же делу,
были продиктованы им следователями ОГПУ. Но поскольку
название этой организации в апреле 1930 г. еще не было
сфабриковано, постольку в показания Б. А. Романова от 20
апреля включается фраза о том, что он не знает, «носила ли
она какое-либо название».
Далее перечислены примеры двойственности позиции
Б. А. Романова: решительно отказавшись от присущей «ор-
ганизации» «борьбы против выдвижения нового партийного
и близкого к партии молодняка и отдавшись, наоборот, его
подготовке и в Центрархиве, и в университете, я относитель-
но старого кадра держался точки зрения и методов действия,
свойственных этой организации (например, сосредоточение
этого кадра в первом Исследовательском институте 1922—
24 гг.)»; «в организационных вопросах общественной жизни
надо мной сохраняла свою власть идея профессорской авто-
номии, и я только со стыдом могу вспоминать знаменитые
ректорские выборы и поддержку мною в качестве делегата
факультета общественных наук в Президиуме и в Совете
антисоветской кандидатуры профессора Дерюгина, которого
я лично совсем не знал и тем не менее проводил под влия-
нием бывшего перед этим большого банкета историков в
Доме ученых на ул. Халтурина и произнесенных там речей
в защиту „оздоровления*1 университета и преобладающего
135
влияния старой профессуры на ход университетской жизни,
хотя в момент самих выборов мне было уже известно о кан-
дидате, которого выставляет партийная группа»; «отдаляясь
от „кружка молодых историков“ в части его собраний с до-
кладами и даже открыто называя их (в 1925 г.) „начинаю-
щими старичками“, то есть в значительной мере устаревши-
ми, бесплодными смоковницами, я не порывал с вечеринками
кружка и принимал участие в организации тех больших со-
браний „молодых" и „стариков", которые большей частью
приурочивались к годовщине университета и поддерживали
спайку этой прежней университетской среды. Или — в своей
научно-литературной работе, которая и развернулась-то соб-
ственно исключительно <...> благодаря Октябрьской револю-
ции, избавившей меня от необходимости школьного препо-
давательства, введшей меня в Главархив и в университет и
затем в Исследовательские институты, кончая ЛИМом (Ле-
нинградским институтом марксизма.—В. П.)9 и которая по
темам (новейшее время—империализм и рабочее движение
900-х годов), по материалу и по политическим установкам
всецело является продуктом советской науки, — даже и в
этой работе я, за малыми исключениями, был связан огляд-
кой на старое „общественное мнение", что сказывалось, в
частности, на стиле и тоне моих печатных выступлений и, в
частности, несомненно сказалось на последнем моем труде
(«Россия в Маньчжурии»), признанном вполне и марксист-
ской критикой <...> и, как мне говорил, например,
Е. В. Тарле, имеющем и хорошую устную прессу и среди
старых историков»; «...эта оглядка сказалась также и в том,
что я при раздаче экземпляров этой книги роздал ее не толь-
ко хорошо знакомым лицам, беспартийным и партийным, но
и некоторым московским историкам, которых лично видел
от одного до трех раз в жизни»; «...это сказалось и в том,
что я не ограничился обсуждением рукописи книги с моим
учителем проф. А. Е. Пресняковым, очень помогавшим мне
в моем приближении к марксизму, и предоставлением затем
корректурных листов, а зимой 27—28 г. передал, правда,
первые 12 лл. в корректуре „по старому обычаю" на про-
смотр С. Ф. Платонову (правда, дальнейших листов уже не
передавал по мотивам чисто личных отношений, слагавших-
ся под влиянием провала С. Ф. Платоновым кандидатуры
А. Е. Преснякова на выборах в Академию)»; двойственность
«между революцией и контрреволюцией» «определила и мое
двойственное отношение к Академии наук». Эта «двойствен-
ность» якобы должна была страховать Б. А. Романова «от
мести контрреволюции» в случае «ее победы».26
136
Все эти «признания» Б. А. Романова в «двойственности»
собственного общественного поведения вряд ли могли удов-
летворить «сценаристов» «дела» и исполнителей в лице со-
трудников ПП ОГПУ в ЛВО. Поэтому уже на следующий
день от него потребовали новых собственноручных показа-
ний. Но дальнейшая конкретизация «фактов», свидетельство-
вавших о собственной роли Б. А. Романова в «антисовет-
ской организации», носила уже и вовсе фантасмагорический
характер. Он не только «инстинктивно» поддавался влиянию
С. Ф. Платонова, но и «выступал с антисоветскими публи-
кациями в „Красном архиве", „Красной летописи"».27 Неле-
пость этого признания очевидна: оба журнала отнюдь не
были оппозиционными: «Красный архив» являлся органом
центральных архивных учреждений, во главе которых стоял
М. Н. Покровский, а «Красная летопись» — органом Ленин-
градского истпарта. Ведь за публикацию своих работ именно
в них С. Ф. Платонов действительно осуждал А. Е. Пресня-
кова и Б. А. Романова.
Признал свою «вину» Б. А. Романов и за те действия во
время работы в Центрархиве, которые безусловно — при
любых режимах — следовало бы о'ценить как выполнение
служебного долга: в качестве члена Поверочной комиссии и
заведующего Экономическим отделом он «часто возражал
против уничтожения того или иного материала» «отчасти по-
тому, что сохранял ответственность перед старым миром (а
С. Ф. Платонов считал, конечно, что в Центрархиве доку-
менты уничтожаются без всякой научной меры)», хотя к
этому вынуждали и теснота помещений, и хозяйственная
нужда «в утилизации бумажной массы материалов». Правда,
в «ряде случаев эта „осторожность" совпадала и с интереса-
ми Советской власти и советской политики (вопросы о част-
но-банковских архивах, архивы Госбанка, Дворянского и
Крестьянского банков)», но, признавался Б. А. Романов,
«были случаи», когда он «клал свой авторитет на чашу весов
за сохранение материала без всякой связи с советскими ин-
тересами (например, вопрос о выделении к уничтожению
фонда Департамента окладных сборов, Госконтроля)».28
Все эти нелепости отнюдь не смущали следователей
ОГПУ. Возможно, в их представлении подобные «призна-
ния» свидетельствовали о вредительских действиях в интере-
сах той «организации», в которую именно они включили и
Б. А. Романова, подтверждали «сценарий», выработанный в
чекистских и партийных верхах. Но вместе с тем эти «само-
разоблачения» не дали следствию новых фактов о самой «ор-
ганизации», так как в показаниях Б. А. Романова не было
137
названо ни одного имени ее членов, кроме С. Ф. Платонова
и Е. В. Тарле, о которых ему сообщили сами допрашиваю-
щие. Иначе — откуда же он мог знать, что именно они «сце-
наристами» были назначены руководителями «организации»?
А Е. В. Тарле на допросах сообщил о трениях, существовав-
ших между Б. А. Романовым и С. Ф. Платоновым, и тем
самым подтвердил версию Б. А. Романова.
Все это в совокупности могло стать причиной принятого
следствием решения ограничиться в отношении него обвине-
нием в антисоветской и контрреволюционной деятельности
только в связи с участием в «кружке молодых историков» и
засчитать это как членство в «организации», возглавляемой
С. Ф. Платоновым. 6 июля 1930 г. был проведен заключи-
тельный и короткий, судя по следственному делу, допрос, во
время которого Б. А. Романов вновь признал, что «большей
частью из слышанного» им «в кружке («молодых истори-
ков»)— носило немарксистский, а иногда и антимарксист-
ский (даже антисоветский) характер».29
Б. А. Романов содержался под стражей без вызова,
если судить по отсутствию протоколов, на допросы еще
7 месяцев, а в целом в ДПЗ— 13 месяцев. Он, обычно не-
охотно касавшийся этой стороны своей биографии, все же
говорил, что время, проведенное в ДПЗ, было самым тя-
желым в его жизни. Угнетающе действовали не только
изоляция, условия жизни, ночные изнурительные допросы,
полное бесправие, абсолютная неясность, чем закончится
следствие и каков будет приговор, угрозы расстрела. Сре-
ди содержавшихся в ДПЗ циркулировали различные слухи.
В частности, стали доходить известия о предстоящих рас-
стрельных приговорах. Напротив, откуда-то приходили све-
дения, что камера С. Ф. Платонова находилась рядом с
кабинетом следователя, который возил академика обедать
в ресторан. Возможно, именно эти слухи отразились в вос-
поминаниях проходившего по тому же делу С. В. Сигрис-
та, который писал, что С. Ф. Платонов и Е. В. Тарле
«содержались в одиночках первого корпуса на улучшенном
режиме: мясной обед, сахар и конфеты к чаю, уборка ка-
меры уборщиком из подследственных», а «Платонова Мо-
севич возил раза два в месяц гулять на острова в закры-
том автомобиле».30
Пока Б. А. Романов томился в тюрьме, следствие по
этому «делу» продолжалось, сопровождаясь все новыми
арестами, завершившимися только в декабре 1930 г. Неза-
долго до его последнего допроса следователи ОГПУ при-
няли решение о необходимости «поработать» над названи-
138
ем «организации», которое призвано было подтвердить ре-
альность «заговора». Их выбор пал на Н. В. Измайлова
как одного из самых близких к С. Ф. Платонову людей,
который был «поставлен» во главе «военной группы» ор-
ганизации. Следственная версия возникновения ее названия
и утвердилась во время его допросов 23—24 июня 1930 г.
В конечном счете остановились на «Всенародном союзе
борьбы за возрождение свободной России».31 Но в следст-
венных материалах, относящихся к Б. А. Романову, это не
отразилось, вероятно, потому, что. с 24 июня по 6 июля
прошло для этого недостаточно времени и, главным обра-
зом, ввиду принятого уже решения не включать его в со-
став «руководящего ядра организации». 18 декабря 1930 г.
было принято постановление о выделении в самостоятель-
ное производство следственного материала на 29 человек,
обвиняемых в создании «Всенародного союза борьбы за
возрождение свободной России» и в шпионаже. Во вторую
группу следствие включило остальных 86 обвиняемых, и
именно среди них оказался Б. А. Романов.
В феврале 1931 г. ему было сообщено о ничем фор-
мально не мотивированном постановлении печально знаме-
нитой «тройки» ПП ОГПУ в ЛВО от 10 февраля 1931 г.
о заключении его в концлагерь сроком на 5 лет по ст.
58, пункт 11 Уголовного кодекса РСФСР, «считая срок со
дня его ареста», с конфискацией имущества.32 Лишь из ре-
абилитационного дела становятся ясными мотивы этого
приговора: «Б. А. Романов обвинялся в том, что он яв-
лялся членом контрреволюционной монархической органи-
зации, ставившей себе целью свержение Советской власти
и установление в СССР, путем склонения иностранных го-
сударств к вооруженному вмешательству, — конституцион-
но-монархического строя».33 Что касается конфискации
имущества, то дело ограничилось теми вещами, которые
были изъяты при аресте.
Парадоксальность сложившейся ситуации заключалась в
том, что С. Ф. Платонов, Е. В. Тарле, С. В. Рождествен-
ский, Н. П. Лихачев, М. К. Любавский, С. В. Бахрушин,
В. И. Пичета, Д. Н. Егоров, Ю. В. Готье, А. И. Яков-
лев, т. е. те подследственные по сфабрикованному «Акаде-
мическому делу», которым приписывалась роль инициато-
ров и организаторов («руководящее ядро») «монархической
контрреволюционной организации», в отличие от «рядо-
вых» ее «членов», проходивших по второму следственному
производству, получили в августе 1931 г. решением Кол-
легии ОГПУ различные сроки высылки в ряд городов
139
СССР, где некоторые из них имели возможность даже ра-
ботать по специальности.
Что же касается дальнейшей судьбы Б. А. Романова, то
его вскоре после приговора этапировали на Север. 24 фев-
раля 1931 г. учетно-распределительный отдел Управления
Соловецких и Карело-Мурманских исправительно-трудовых
лагерей ОГПУ направил в ПП ОГПУ в ЛВО справку, в ко-
торой подтверждалось прибытие, в числе других заключен-
ных, и его.34 Так Б. А. Романов оказался в системе концла-
герей, созданных для строительства силами заключенных Бе-
ломоро-Балтийского канала им. И. В. Сталина.
Существование в этих новых условиях неволи в те вре-
мена, которые Анна Ахматова, в отличие от более поздних,
назвала вегетарианскими, коренным образом отличалось от
тюремных. Здесь не было страха неизвестности, строгой изо-
ляции, здесь работающие зеки могли надеяться на досрочное
освобождение «по зачету рабочих дней»: 2 рабочих дня за-
считывались за 3 дня заключения. Концлагери были органи-
зованы по принципу хозрасчета. Б. А. Романов по состоя-
нию здоровья был освобожден от общих работ, и вскоре,
как он писал в автобиографиях, «был продан» комитету
профсоюза вольнонаемных служащих строительства для ра-
боты в качестве преподавателя и воспитателя их детей. Со-
гласно его рассказу, Б. А. Романову было предложено жить
вне зоны, но он отказался из солидарности с другими заклю-
ченными по политическим статьям. Однажды ему дали сви-
дание с женой, приехавшей из Ленинграда.
Несмотря на эти льготы, концлагерь оставался концлаге-
рем, а неволя неволей. Б. А. Романов не мог не думать о
своей дальнейшей судьбе, о том, удастся ли ему возвратиться
в родной город, сумеет ли он вернуться к научной работе,
успешно развивавшейся в 20-х годах.
15 августа 1933 г. он был освобожден из заключения по
отбытии 3 с половиной лет — «по зачету рабочих дней» — и
направлен на жительство не в Ленинград, а в г. Лугу Ленин-
градской области, находящийся в 137 км от Ленинграда.
Указывая в заявлении 1956 г. о реабилитации на причи-
ны своего ареста и бессудного приговора, Б. А. Романов вы-
разил уверенность в том, что «кем-то и где-то» было «при-
нято решение попросту» его «устранить» «с исторического
фронта», поскольку ему «удалось появиться на нем с капи-
тальным исследованием, получившим хорошие отзывы в
прессе».35 Конечно, дело было не только лично в Б. А. Ро-
манове. Партийное руководство приняло кардинальное реше-
ние устранить не его одного, а вообще целую генерацию уче-
140
ных-историков небольшевистской выучки. Основной удар в
ходе «Академического дела» был нанесен по петербургской
исторической школе как наименее идеологизированной и по-
тому в наименьшей степени поддающейся идеологическому
диктату.
На митинге советских ученых в Ленинграде Н. Я.
Марр прямо заявил, что «историческая наука — наиболее
политизированная из наук», и «пролетариат, вступив в
новый этап социалистического строительства — этап социа-
лизма, перешагнул через последние остатки исторической
науки»; «историки буржуазии сходят с исторической сцены
вместе с последними остатками буржуазных классов».36 А
М. М. Цвибак на объединенном заседании Института ис-
тории при Ленинградском отделении Коммунистической
академии и Ленинградского отделения Общества истори-
ков-марксистов, совпавшем по времени с вынесением при-
говора первой группе подследственных по «Академическо-
му делу», в том числе Б. А. Романову (заседания—1, 12
и 16 февраля; приговоры— 10 февраля 1931 г.), пытался
вовсе отрицать существование петербургской исторической
школы. Противопоставив высказыванию П. Н. Милюкова,
который «указывал на признание исключительной задачи
современности — критическую разработку источников для
будущих исследователей, как на характерную черту петер-
бургских историков „школы11», он утверждал, что «не-
сколько академических имен, прошедших через универси-
тетскую школу Платонова (Рождественский, Любомиров,
Чернов, Романов, Садиков, Полиевктов, Приселков, Басен-
ко и др.)», «представляли собой определенное, организо-
ванное единство», хотя «у них не было единой научно-ме-
тодологической установки, как у учеников Ключевского»,
почему «эта группа историка-бюрократа и объединена
была по-чиновнически», и пришел к выводу, что «основа
платоновской школы» — «полуслужебная, полуполитическая
связь».37 Таким образом власть разгромила петербургскую
историческую школу карательными мерами, а пытавшиеся
прийти ей на смену политически и идеологически ангажи-
рованные деятели «исторического фронта» предприняли
усилия, чтобы окончательно похоронить ее.
ПРИМЕЧАНИЯ
1 См.: Перченок Ф. Ф. Kwhwlwi наук на «великом переломе»//Звенья:
Исторический альманах. М., 1991. Вып. 1. С. 203—208; Академическое дело
141
1929—1931 гг. Документы и материалы следственного дела, сфабрикованно-
го ОГПУ. Вып. 1. Дело по обвинению академика С. Ф. Платонова. СПб.,
1993. Предисловие. С. XXV—XXX; Брачев В. С. «Дело историков» 1929—
1931 гг. СПб., 1997. С. 8—45.
2 Академическое дело 1929—1931 гг. Вып. 1. Предисловие. С. XXX.
3 «Осталось еще немало хлама в людском составе»: как началось «дело
Академии наук»//Источник. 1997. № 4. С. 114—118.
4 Ананъич Б. В.. Панеях В. М. Принудительное «соавторство» (К вы-
ходу в свет сборника документов «Академическое дело 1929—1931 гг.».
Вып. 1) И In memoriam: Исторический сборник памяти Ф. Ф. Перченка. М.;
СПб. 1995.
3 Архив Управления ФСБ по С.-Петербургу и области, д. П-82333, т. 1,
л. 210.
6 Там же, л. 212.
7 «Мне они совершенно не нужны»: (Семь писем из личного архива
академика М. Н. Покровского) / Вступительная статья и публикация
А. Б. Есиной//Вестник РАН. 1992. № 6. С. ПО.
8 Архив Управления ФСБ по С.-Петербургу и области, д. П-65245,
т. 19, л. 222—224.
9 Там же. т. 18, л. 19.
10 Ростов Алексей [Сигрист С. В.|. Дело четырех академиков//Память:
Исторический сборник. Париж, 1981. Вып. 4. С. 481.
П Там же. С. 475.
12 Архив Управления ФСБ по С.-Петербургу и области, д. П-65245,
т. 19, л. 205—206.
13 Там же, д. П-82333, л. 36.
14 Штакельберг Н. С. «Кружок молодых историков» и «Академическое
дело» / Предисловие, послесловие и публикация Б. В. Ананьнча; Примеча-
ния Е. А. Правило вой // In memoriam: Исторический сборник памяти
Ф. Ф. Перченка. М.; СПб., 1995. С. 28.
15 Там же. С. 49.
16 Архив Управления ФСБ по С.-Петербургу и области, д. П-82333,
т. 9, л. 35—36.
17 Академическое дело 1929—1931 гг. Вып. 1. С. 31.
18 Там же.
19 Архив Управления ФСБ по С.-Петербургу и области, д. П-82333,
т. 1, л. 216—220.
20 Там же, л. 225—226.
21 Там же, л. 229 об.—230.
22 Там же, т. 9, л. 35.
23 Там же, т. 1, л. 233 об.—234.
24 Академическое дело 1929—1931 гг. Вып. 1. С. 56—57.
25 Архив Управления ФСБ по С.-Петербургу и области, д. П-82333,
т. 1, л. 236—236 об.
26 Там же, л. 238 об.—240.
27 Там же, л. 247.
28 Там же, л. 245 об.
29 Там же, л. 252 об.
30 Ростов Алексей [Сигрист С. В.]. Дело четырех академиков. С. 474.
С. Ф. Платонов и Е. В. Тарле действительно содержались в условиях суще-
ственно лучших, чем другие подследственные по этому делу. Но эти слухи
не могут быть чем-либо подтверждены. Известно только, что супруге
Е. В. Тарле было разрешено посылать ему продуктовые передачи и письма.
142
31 Архив Управления ФСБ по С.-Петербургу и области, д. П-65245,
т. 10, л. 275—284.
32 Выписка из протокола заседания Тройки ПП ОГПУ в ЛВО от
10 февраля 1931 г.: Архив Управления ФСБ по С.-Петербургу и области,
д. П-82333, т. 8, л. 126. По статье 58 пункт И Уголовного кодекса РСФСР
в редакции 1926 г., предусматривающей наказание вплоть до расстрела, вы-
носились приговоры подавляющему числу привлеченных по «Академическо-
му делу», обвиненных в участии в антисоветской контрреволюционной ор-
ганизации.
33 Архив Управления ФСБ по С.-Петербургу и области, д. П-82333,
т. 8, л. 155.
34 Там же.
35 Там же, т. 9, л. 35.
36 Зайдель Г.. Цвибак М. Классовый враг на историческом фронте:
Тарле и Платонов и их школы. М.; Л., 1931. С. 6.
37 Там же. С. 88, 92.
— 8 —
ПОСЛЕ ТЮРЬМЫ И КОНЦЛАГЕРЯ.
БОРЬБА ЗА ВЫЖИВАНИЕ. «СЛУЧАЙНАЯ ПОДЕНЩИНА»
15 августа 1933 г. Б. А. Романов был досрочно освобож-
ден из концлагеря «по зачету рабочих дней». Местом житель-
ства ему был определен город Луга. Таким образом, как
писал Б. А. Романов в одной из автобиографий, ему «было
отказано в праве проживания с семьей в Ленинграде», что
«было равносильно практически отлучению от возобновле-
ния научной работы и обречению на нищенское, никому не
нужное существование в 101-километровой зоне». Препятст-
вия, которые чинились Б. А. Романову при попытках полу-
чения права жить в родном городе, скорее всего, были свя-
заны с его категорическим отказом согласиться после осво-
бождения работать по вольному найму на других, подобных
Белбалтлагу, стройках. По сложившейся практике прорабо-
тавшим 2—3 года на них было легче получать право пропи-
саться в Москве и Ленинграде, чем тем, кто после концла-
геря сразу же возвращался в большие города.
Все же длительные и мучительные хождения по различ-
ным учреждениям в попытке выхлопотать разрешение^ вер-
нуться в Ленинград, в квартиру, ставшую коммунальной, ко-
торая еще в дореволюционные годы принадлежала его отцу
и в которой он до ареста в двух маленьких комнатах жил с
женой, в конечном счете привели к тому, что Б. А. Романов
получил временную прописку. Но всякий раз, когда ее срок
заканчивался, ему приходилось заново проходить тягостную
процедуру для ее возобновления. Само собой разумеется, что
у Б. А. Романова отсутствовали средства к существова-
нию— кроме небольшой зарплаты жены, врача по про-
фессии. Неясны были и перспективы получения оплачивае-
мой работы по специальности.
144
Итак, известному 44-летнему ученому, автору фундамен-
тальной монографии,2 получившей в целом положительные
отзывы, и большого числа статей, издавшему, кроме того,
два документальных сборника, не говоря уже об отдельных
публикациях источников, предстояло в труднейших условиях
борьбы за выживание строить свою жизнь заново, фактиче-
ски с нуля.
«Жму со своими уже три месяца, — сообщал Б. А. Ро-
манов П. Г. Любомирову 15 декабря 1933 г., —много читак
и постепенно вхожу во вкус и в курс. Сил только мало, утом
ляемость большая». Это был ответ на письмо, отправленное
ему из Москвы П. Г. Любомировым, едва там стало извест
но о возвращении Б. А. Романова в Ленинград. Его дру!
старался поддержать только что вернувшегося из заключение
ученого, способствовал, в частности, получению дле
Б. А. Романова заказа от энциклопедического словаря Гра
ната на написание раздела, посвященного истории Россю
1881—1906 гг. для большой статьи «Россия — история»
Б. А. Романов встретил предложение с естественным энтузи
азмом: ведь это была для него первая после концлагеря воз
можность получить оплачиваемую работу. Он только хоте;
оговорить «наибольший срок» для написания статьи, опаса
ясь спешки: «Сам понимаешь, не писать три с половило!
года — и вдруг!». Отметив, что пока у него нет никакой дру
гой работы, Б. А. Романов выразил осторожную надежду
«...если я ее заимею, то вопрос о сроке станет грозным».
Но и получить официальный заказ от энциклопедическо
го словаря Граната сразу не удавалось. Представитель изда
тельства, принося 9 февраля 1934 г. извинения Б. А. Рома
нову за «колебания по вопросу» о его «участии в цикле Рос
сия — история», многозначительно отметил: «...колебания
исходившие не от нас».3
Надежда же на получение новых заказов была отчаст
связана с рукописями А. Е. Преснякова, над которым:
Б. А. Романов уже начал работать, хотя, как он писал, «пс
немногу», одновременно ведя переговоры «об издании бис
библиографической памятки, а может быть, и переиздали
некоторых его статей». Перспективы же продолжить собст
венные исследования казались ему весьма проблематичным!
Конфискация имущества по приговору «тройки» коснулас
прежде всего бумаг ученого. Особенно «тягостной» стал
утрата «всех собранных» им ранее «научных материалов (н
2 книги, не считая мелочей!)»—удар, который, как отмети
Б. А. Романов, он «еще как следует не пережил». Правд;
случайно сохранилась его книга «в 4 листа о русско-япо!
ской войне, заказанная Ком академией и одобренная в свое
время». Б. А. Романов хотел в будущем «переделать и рас-
ширить ее хотя бы до 10 лл.». Пока же, вот «уже недели
две-три» как он приступил к «капитальным поискам рабо-
ты», и ему даже показалось, что «принципиальные ауспиции
благоприятны», хотя и неопределенны: «...что еще будет
(среди года!) как знать!». Осознание шаткости надежд
вынуждало Б. А. Романова соглашаться на любую случайно
подвернувшуюся работу не по специальности и даже искать
заказы на переводы — любые, «особенно с английского».
Его здоровье было подорвано, возможность получения
постоянной прописки в Ленинграде и постоянной работы ос-
тавалась проблематичной. Не исключено, что именно эти
жизненные обстоятельства вынудили Б. А. Романова при-
нять решение, о котором он и сообщил П. Г. Любомирову:
«...на первых порах <...> больше прельщает работа в печати,
чем служба».4
Первая половина следующего, 1934, г. была потрачена на
унизительные хождения по учреждениям, от которых зависе-
ла судьба, — в попытках получить постоянный паспорт и по-
стоянную прописку. Нередко ее продлевать не удавалось, и
тогда ему приходилось временно скрываться — уезжать из
Ленинграда, жить у родственников. Эти кратковременные
дискриминационные разрешения проживания и опять запре-
щение проживания, эти новые испытания вели к обострению
нервных и сосудистых заболеваний, приобретенных в заклю-
чении. В заявлении о реабилитации, поданном Генеральному
прокурору СССР за год с небольшим до кончины (29 апреля
1956 г.), Б. А. Романов писал о «глубокой психической трав-
ме, очень мешавшей» ему «и мешающей <...> до сих пор в
<...> научной работе и давшей, конечно, свои и медицинские
последствия».5 Ему в это время приходилось даже обращать-
ся к лечению у психиатра.
Одним из самых губительных и обессиливающих факто-
ров жизни людей, вернувшихся из заключения в советских
концлагерях и тюрьмах, был страх повторного ареста, страх
быть искалеченными в тюрьме, страх насильственной смерти.
Он не отпускал ни на минуту, заставлял тратить последние
силы на его преодоление. И все равно страх был непреодо-
лим. На закате жизни Б. А. Романов в личных письмах не-
однократно возвращался к этому: «Очень бы хотелось изба-
виться от <...> ужасного гнета, висящего надо мной скоро
как четверть века и составляющего нервный ствол твоей вто-
рой жизни. Если бы только могли себе представить, какой
это ужас. Чем менее безнадежным становится мое медицин-
146
ское состояние, тем более выступает безнадежность этого
ужаса» (Г. В. Сидоровой. 30 марта 1953 г.); «Что до меня
лично, то вся моя рабочая жизнь прошла под знаком того,
что ты работаешь и пишешь, а напечатают ли тебя когда-
нибудь, не знаешь, не знаешь и когда же уволят тебя на
улицу. А было время, когда ты не знал, будешь ли ты жить
даже» (И. У. Будовницу. 10 ноября 1955 г.).
Разумеется, если бы этот страх полностью подавил лич-
ность ученого, стало бы невозможным какое-либо осмыслен-
ное исследовательское творчество. Такие трагические судьбы
известны. Я. С. Лурье принадлежат проницательные наблю-
дения, касающиеся других судеб — ученых, репрессирован-
ных и прошедших те же испытания, что и Б. А. Романов, но
вернувшихся, преодолевая болезни и препятствия, к научной
работе, — М. Д. Приселкова и А. Н. Насонова. Но их пове-
дение существенно различалось. М. Д. Приселков «ни на ми-
нуту не мог чувствовать себя в безопасности и был очень
осторожен», хотя «сломлен он не был». Он «был веселым,
оживленным и охотно общался с коллегами и учениками.
Энергия и работоспособность его были поразительными: ка-
залось, что пружина, насильственно сжатая в 1930 г., теперь
распрямилась, и он спешил продолжить все начатое и на-
верстать все упущенное за даром пропавшие годы». Старший
ученик и ближайший последователь М. Д. Приселкова
А. Н. Насонов, напротив, «постоянно обнаруживал желание
замкнуться в себе»?
Б. А. Романов, так же как и его старший товарищ
М. Д. Приселков, проходивший с ним по одному «делу», как
правило, оставался общительным и отличался при этом жи-
востью. Его поведение даже нельзя считать особенно осто-
рожным. Но преодоление последствий заключения для него
было сопряжено с большими утратами — психическими пере-
грузками, нервными срывами. Так, 21 июня 1934 г. Б. А. Ро-
манов писал П. Г. Любомирову, что дошел «до состояния
крайней депрессии и полной утраты трудоспособности», из-
за чего работа над статьей для энциклопедического словаря
Граната «едва двигалась». Но в борьбе со страхом, с обсто-
ятельствами, с самим собой Б. А. Романову удавалось пре-
одолевать упадок сил, и тогда он проявлял поразительную
работоспособность: днями и ночами не отходил от письмен-
ного стола, что в свою очередь не могло не вести к новым
срывам.
Лишь через год после освобождения из концлагеря ему
удалось получить паспорт на 3 года, и это привело к улуч-
шению самочувствия, а следовательно, сразу же, «за один
147
день» — к изменению в работе: «...вижу иной ход мысли»,—
писал Б. А. Романов. Поскольку, как казалось ему, «труд-
ные начальные моменты пройдены» и уже «готовы около 3/4
листа», можно было констатировать, что статья для энцик-
лопедического словаря «явно разрастается и меньше 3 листов
будет едва ли».7 Однако надежда, связанная с этой статьей,
вскоре сменилась разочарованием. Послав начало статьи в
редакцию для экспертизы, Б. А. Романов получил ответ, что
такого рода «ярко написанный мозаичный очерк», прочитан-
ный «с живым интересом», «не удовлетворит редакцию», так
как «освещение <...> излагаемых событий расходится со всем
тем, что уже есть у нас в словаре».8 Это была первая, но не
последняя неудача в попытках получить хоть какую-нибудь
оплачиваемую работу по специальности.
С другой стороны, Б. А. Романова обрадовала, но не
могла и не поразить новость, касавшаяся профессора
Э. Д. Гримма, в чьем семинарии и он сам, и П. Г. Любоми-
ров учились, будучи еще студентами. Занимавший до рево-
люции важные государственные посты — декана и даже рек-
тора университета, Э. Д. Гримм, который еще с 20-х годов
сблизился с Б. А. Романовым, неожиданно был приглашен в
один из институтов, чтобы «читать историю средних веков
и заведовать кафедрой западного феодализма». Б. А. Рома-
нов не мог не сравнивать своего положения с этим фактом
и вынужден был констатировать, что «еще не устроен», хотя
надежда, как видно, теплилась: «...в один день это не бывает,
но будет же когда-нибудь».9
♦ ♦ ♦
Для надежды появились некоторые основания и общего
порядка, а не только перемены в судьбе Э. Д. Гримма.
1 сентября 1934 г. возобновилась работа исторических фа-
культетов Московского и Ленинградского университетов.
Власти стали осознавать, что качественное преподавание на
них силами одних лишь выпускников Института красной
профессуры недостижимо без хотя бы частичного привлече-
ния ранее отстраненных от преподавания ученых дореволю-
ционной школы. Многие из них были репрессированы и в
середине 30-х годов, как и Б. А. Романов, стали возвращать-
ся из заключения и ссылки. О новых идеологических веяниях
после смерти М. Н. Покровского в 1932 г. могли свидетель-
ствовать также и привлечение к работе в Ленинградском
университете Е. В. Тарле, который, как и Б. А. Романов,
148
был репрессирован по «Академическому делу», и возобнов-
ление преподавания истории в средней школе в 1934 г.
Вряд ли все эти наметившиеся перемены остались не
замеченными Б. А. Романовым. И он попытался на этой,
только еще поднимавшейся волне получить заказы на иссле-
довательскую работу хотя бы и по договору. Вероятно, не
случайным совпадением стало подписание с ним в сентябре
договора, предусматривавшего подготовку к печати первого
тома лекционного курса А. Е. Преснякова, читавшегося в
дореволюционном университете, и договора на написание
популярной книги о русско-японской войне. Кроме того,
Б. А. Романов был «занят еще и мемуарами Ллойд-Джорд-
жа», на которые написал рецензию, ставшую его первой и
на долгие годы единственной печатной работой после воз-
вращения из концлагеря.10 Как казалось Б. А. Романову,
дела у него «крупно повернулись на 180°», в связи с чем на-
чалась «гонка». «Думаю,—писал он П. Г. Любомирову,—
что этот год всецело построится на писательстве, без служеб-
ных часов, чему весьма рад». Правда, один из руководящих
деятелей ГАИМКа Ф. В. Кипарисов «говорил» о своем же-
лании «вовлечь» Б. А. Романова «в штат», но «когда он это
рассчитывает сделать, не сказал — вероятно, не раньше
1 января». Эти перспективы позволили смотреть в будущее
с некоторой надеждой: «При наличии двух периодических
органов — ИАИ (Историко-археографического института. —
В. П.) и ГАИМКа всегда можно выступить и печатно, было
бы только время. Живем в связи с изложенным несколько
лучше, в частности морально». Б. А. Романова обнадежива-
ло также намечавшееся «еще одно литературное предложе-
ние» (хотя пока еще «вчерне»), которое, если оно состоится,
устроило бы его «окончательно».11
И действительно, 16 декабря 1934 г. редакция по
составлению истории Ленсовета, состоявшая при Ленинград-
ском отделении Комакадемии, заключила с Б. А. Романовым
договор, согласно которому он был зачислен на работу в
качестве младшего научного сотрудника сроком до 1 сентяб-
ря 1935 г. для выполнения разового задания — подготовки
сборника документов «Иностранная пресса о первой русской
революции».
Что касается обещанного Б. А. Романову зачисления в
штат ГАИМКа, то оно не только не было выполнено, но и
в течение ноября 1934 г. были подряд отклонены его пред-
ложения о сотрудничестве на договорной основе — об изда-
нии сборника летописных отрывков о народных массовых
движениях (3 ноября); об издании хрестоматии «Классовая
149
борьба в феодальной России X—XVI вв.» (21 ноября); об из-
дании источников по истории России XVIII—первой полови-
ны XIX в. (23 ноября).13 Правда, 1 декабря 1934 г. Истори-
ческая комиссия АН СССР заказала Б. А. Романову внут-
реннюю рецензию на работу профессора С. В. Юшкова
«Очерки по истории возникновения феодализма на Руси»,14
которая разрослась до 1.5 печатных листов и была сдана в
том же 1934 г.15 Сразу же по договору с ГАИМКом
Б. А. Романов написал еще более объемную внутреннюю ре-
цензию на сборник статей «Древняя Русь»,16 сданную в
1935 г. Но, разумеется, эти случайные заказы не могли за-
менить постоянной штатной работы, дающей не только обес-
печенный заработок, который мог бы избавить от необ-
ходимости постоянно искать новые заказы, но и ощущение
устойчивого положения в научных сферах.
Следует при этом отметить, что именно с этих рецензий
начался возврат ученого к работе над проблемами русского
средневековья, от которых он по ряду причин надолго ото-
рвался после окончания в 1912 г. Петербургского универси-
тета.
В 1935 г. Б. А. Романов выполнил обязательства по двум
заключенным ранее договорам: была написана научно-попу-
лярная книга «Русско-японская война. 1895—1905 (политико-
исторический очерк)» и подготовлен к печати первый том
лекционного курса А. Е. Преснякова. Этот курс не предна-
значался самим А. Е. Пресняковым к изданию. Он сохранил-
ся в двух редакциях в виде нескольких записных книжек, за-
полненных мелким почерком. Потребовалось провести чрез-
вычайно кропотливую работу по воспроизводству текста, его
редактированию и написанию примечаний. Конечно, это
было для Б. А. Романова не обычное договорное задание:
готовя к печати лекции А. Е. Преснякова, он отдавал дань
памяти своему учителю.
И все-таки внутренние рецензии, популярная книга, к
тому же еще не изданная, подготовка текста лекционного
курса хотя и оплачивались, впрочем, весьма незначительны-
ми суммами, но все же это было еще далеко до возвращения
к подлинно исследовательской работе. П. Г. Любомиров в
связи с этим писал Б. А. Романову в сентябре 1935 г.: «Я
надеюсь, что ты получил уже работу или скоро получишь.
Ведь делателей-то все-таки очень мало! В Москве это чувст-
вуется определенно».17 «Делателей» действительно было не-
достаточно, хотя в Ленинграде тогда это, вероятно, ощуща-
лось в меньшей степени, чем в столице.
150
Но вопреки этому, уже начало 1935 г. принесло
Б. А. Романову крайне неблагоприятное известие: в феврале
ему было отказано в допуске к занятиям в архиве, что, по
сообщению Б. Д. Грекова, «отнимало почву для каких-либо
негоциации с историческим институтом Академии, работа
которого связана исключительно с архивом».18 Теплившаяся
надежда в конечном счете быть принятым в штат научного
учреждения снова рухнула. Б. А. Романову опять не удалось
вырваться из порочного круга: лихорадочных поисков зака-
зов на временную работу, форсированного их выполнения, и
опять поисков договорных работ, и снова лихорадочной
гонки, чтобы уложиться в срок. Все это требовало полной
мобилизации нервной и интеллектуальной энергии. «Случай-
ная поденщина» крайне обессиливала Б. А. Романова. Его
огорчало и то, что перспективы публикации уже сделанного
оставались неопределенными.
Необходимость вести борьбу за право проживания в
Ленинграде, новая волна государственного террора, накатив-
шегося на страну после убийства Кирова 1 декабря 1934 г.,
тревожное ожидание ареста или выселения из родного горо-
да держали Б. А. Романова в постоянном нервном напряже-
нии. Ни для кого не было секретом, что с ленинградских
вокзалов уходили целые поезда с высылаемыми и арестован-
ными. Д. С. Лихачев вспоминает, что даже улицы Ленингра-
да в это время опустели.19 Почти полностью высылали из
крупных городов «бывших» — дворян и их детей. Все это со-
здавало неблагоприятный фон для углубленного и в то же
время лихорадочного труда, действовало разрушающе на ор-
ганизм, на нервную систему, и без того подорванную психо-
логическими травмами и лишениями.
Э. Д. Гримм, живший в Ленинграде и хорошо знавший
об обстоятельствах жизни Б. А. Романова, 12 апреля 1935 г.
с беспокойством сообщал П. Г. Любомирову о «крайне
нервнопереутомленном состоянии Бориса Александровича,
доводящем его по временам до своего рода неврастенической
истерии, отравляющей существование и его, и людей, его
окружающих». «Работы у него,—писал Э. Д. Гримм,—все
время много, слишком много, по моему мнению, причем не-
однородной по заданию и формам, что имеет наряду с бла-
гоприятными и определенно неблагоприятные последствия —
повышенную в разных направлениях напряженность жизнен-
ной энергии. При его, известной Вам, манере работать, Вы
можете себе представить, что это значит».20
В мае 1935 г. сам Б. А. Романов вынужден был конста-
тировать, что силы вновь полностью оставили его: «Первый
151
том курса А. Е. (Преснякова.—В. П.)> текстуально совсем
готовый к печати, лежит без движения. Книга о русско-япон-
ской войне, сданная в середине февраля в Академию наук,
разросшаяся до 10 листов и надорвавшая мне силы, тоже
пока лежит без движения. А подрыв сил умственных такой,
что вот уже две недели как мне пришлось оставить временно
и ту текущую работу над сборником „Иностранная пресса о
революции 1905 г.“, которая является моей постоянной ра-
ботой до осени этого года. Читаю с большим напряжением
и с ничтожным результатом, не говоря уже о запоминании,
просто в смысле восприятия и понимания. А о том, чтобы
что-то писать, — сейчас дико даже и помыслить».21
Б. А. Романов даже стал задумываться о пенсии, хотя
ему еще не было и 50 лет. Но и по инвалидности он ее полу-
чить был не вправе из-за утраты трудового стажа как
последствия прежнего приговора по политической статье
Уголовного кодекса: «Пенсия (смешно даже и подумать), —
писал он П. Г. Любомирову, — для меня, как ты знаешь, ис-
ключена <...> а заработок кончается в сентябре, и по всем
признакам устроиться с работой здесь будет невозможно
нигде, а состояние мозгов и нервной системы таково, что пы-
таться начинать где-нибудь в другом месте, среди уже и со-
всем чужих людей, нечего и думать. Для меня сейчас всякое
творческое усилие и даже твердое суждение исключены, и не-
излечимость этого состояния подтверждается каждый день».22
Правда, через несколько месяцев, в сентябре 1935 г.,
Б. А. Романов физически стал чувствовать себя «значительно
крепче»: «Последнее время немного больше вижу людей (и
это даже иногда поставляет мне уже удовольствие)», — писал
он. В основном же все оставалось неизменным: «С работой
у меня по-прежнему. С работами тоже — они стоят».23
Результатом крайне болезненного состояния и его прояв-
лением стало письмо, отправленное Б. А. Романовым 12 но-
ября 1935 г., полное горечи и тяжелых предчувствий: «Здесь
у нас идет процесс докторизации <...> Но какова жизнь!
Волею судеб я поставлен вне ее и как бы зарастаю коростой
антижизни. Отсюда и сам можешь заключить, что со здоро-
вьем у меня неважно и не лучше. Говорят, бесконечность и
беспредельность не представимы, а только мыслимы. Я бы
это не сказал о беспредельной человеческой мстительности:
она не только представима, а и, оказывается, переживаема
<...>. А тем временем процесс внутреннего молекулярного
разрушения дойдет-таки до предела, за которым начинается
инвалидность, которая, как мне кажется, сжимает меня все
крепче <...>; положенную всем смертным порцию физических
152
страдании придется принимать на свои плечи тогда, когда в
психическом аппарате не останется уже никакой опорной
точки, с одной стороны, и ты уже будешь выброшен на мос-
товую <...>, без какой-либо точки опоры в политическом ап-
парате страны, в которой родился, худо ли, хорошо ли, но
работал сколько мог, т. е. сколько хватало физических
сил — с другой стороны. Эта перспектива, которая поддер-
живается разными приемами ежедневно при любой попытке
или необходимости сталкиваться с людьми вне дома (а это
необходимо ежедневно!), растет с каждым днем и, как меха-
нический молоток, разрушает психику частица за частицей,
даже тогда, когда прибегаешь к самодельному внутреннему
наркозу. А это наркотизирование, автонаркотизирование, в
свою очередь, требует крайнего напряжения, которое посто-
янно срывается, что образует разрушительные „отдачи“, а
все вместе производит дополнительное разрушительное дей-
ствие. Я не вижу никаких признаков ослабления или стаби-
лизации этого процесса и ясно понимаю, к чему это ведет.
То ослабляясь, то усиливаясь <...>, он неуклонно точит силы
и обращает тебя в механизм, управляемый не извнутри, а
извне, движущийся в данную минуту в том направлении, где
ждет тебя п + 1-ый удар молотка». Б. А. Романов в этот мо-
мент не видел для себя иной перспективы, кроме как «смерть
на помойке».24 Самодельный внутренний наркоз, наркотизи-
рование, о котором идет речь в письме, — всего только ку-
рение папирос и других табачных изделий, принимавшее
особенно интенсивные формы во время нервных перегрузок
и напряженной работы. «Докторизация» же — начавшееся
присвоение докторских степеней без защиты диссертаций
ряду крупных ученых после правительственного постановле-
ния о возврате к системе научных степеней, отмененных
вскоре после Октябрьской революции.
Б. А. Романов все же, преодолевая свой недуг, предпри-
нял попытку получить докторскую степень без защиты — за
совокупность трудов, в том числе за фундаментальную книгу
«Россия в Маньчжурии». В декабре 1935 г. он обратился с
этой целью с заявлением в Академию наук СССР, откуда
дело было передано в Ученый совет Московского института
философии, литературы и истории (МИФЛИ), но несколько
лет Б. А. Романов оставался в неведении относительно ре-
зультата своего ходатайства — ответа все не было.
В самом конце 1935 г. в здоровье Б. А. Романова насту-
пило некоторое улучшение, о чем П. Г. Любомирову напи-
сал С. Н. Чернов: «Вчера был у Б. А. Он стал много лучше,
чем был летом и в начале осени <...> Б. А. много работает.
153
Книги на его столе и диване — все по истории международ-
ных отношений последних десятилетии».25
♦ ♦ ♦
Начало 1936 г. ознаменовалось событиями, которые
могли вновь заронить у Б. А. Романова надежду на полное
возвращение в науку: 27 января в «Правде» был опубликован
ряд важнейших партийно-правительственных документов.
Постановлением Совнаркома СССР и ЦК ВКП(б) от 26 ян-
варя 1936 г. была учреждена специальная комиссия во главе
с А. А. Ждановым для «просмотра и улучшения, а в необ-
ходимых случаях переделки написанных уже учебников по
истории». Комиссии, в состав которой были включены вид-
ные партийные функционеры К. Б. Радек, А. С. Сванидзе,
П. О. Горин, А. А. Яковлев, В. А. Быстрянский, В. П. За-
тонский, Файзулла Ходжаев, К. Я. Бауман, А. С. Бубнов и
Н. И. Бухарин, предоставлялось право «организовать груп-
пы для просмотра отдельных учебников, а также объявить
конкурс на новые учебники». Вместе с этим постановлением
были напечатаны датированные 8 и 9 августа 1934 г. «заме-
чания» Сталина, Кирова и Жданова о конспектах учебников
по истории СССР и новой истории. Этот комплекс разно-
временных документов свидетельствовал о том, что подго-
товка учебников для школы еще с 1934 г. была поставлена
под жесткий централизованный партийно-политический кон-
троль.
Но если в них речь шла только об учебниках для школы,
то в информационном сообщении «В Совнаркоме СССР и
ЦК ВКП(б)», опубликованном вместе с ними, проблема по-
лучила расширительное толкование. В нем был дан коммен-
тарий к принятым решениям, который содержал ряд прин-
ципиально новых партийно-политических установок в облас-
ти исторической науки. В этом документе, вопреки фактам,
утверждалось, что партия неоднократно вскрывала несосто-
ятельные исторические определения и установки, в основе
которых лежали «известные ошибки Покровского». Они
были квалифицированы как «антимарксистские, антиленин-
ские, по сути дела ликвидаторские», а потому «вредные». В
информационном сообщении осуждались также «попытки
ликвидации истории как науки», а эти «вредные тенденции»
связывались «в первую очередь с распространением среди не-
которых наших историков ошибочных исторических взгля-
дов, свойственных так называемой „исторической школе По-
кровского"».
154
Уже в момент публикации всех этих документов26 не мог
не обратить на себя внимание факт коренного расхождения
между самим постановлением и официальным комментарием
к нему.27 Но, как бы то ни было, они означали, что вся сис-
тема воззрений М. Н. Покровского, ставшая в 20-х годах
официальной концепцией, которую власти не только поддер-
живали, но и навязывали исторической науке, подлежала за-
мене новой официальной интерпретацией прошлого. Ее и
надлежало выработать в процессе составления учебников ис-
тории. Чрезвычайный характер этой акции и ее внезапность
не могли не вызвать растерянности в рядах историков раз-
личной ориентации — особенно тех из них, кто относил себя
к числу марксистов, в том числе сторонников осужденных
теперь партией «вредных» взглядов М. Н. Покровского.
Органы НКВД через своих секретных агентов тщательно
отслеживали реакцию, возникающую в разных слоях населе-
ния, на те или иные решения властей и докладывали им о
ней. Основное внимание обращалось не на одобрительные
высказывания, о которых сообщалось в общей форме, а на
те мнения, которые казались интерпретаторам из НКВД не-
стандартными или, быть может, не вполне понятными. Само
собой разумеется, что в случае с постановлением, касающим-
ся исторической науки, власти интересовала прежде всего ре-
акция профессиональных историков.
Б. А. Романов, как недавно освобожденный из заключе-
ния, постоянно находился под негласным наблюдением орга-
нов НКВД. Его высказывания по поводу только что опуб-
ликованных партийных постановлений не могли не быть за-
фиксированными. И действительно, в «спецсообщении» зам.
начальника Управления НКВД по Ленинградской области
комиссара госбезопасности III ранга Николаева секретарю
ЦК и Ленинградского обкома ВКП(б) А. А. Жданову, дати-
рованном 3 февраля 1936 г. (спустя неделю после публика-
ции партийных постановлений), подробно изложены выска-
зывания ряда ученых, в том числе Б. А. Романова. Они
отражены, как кажется, довольно точно, судя по парадок-
сальной, только ему свойственной форме, хотя, быть может,
и неполно.
В «спецсообщении» обращено внимание только на то,
как Б. А. Романов интерпретировал замечание Сталина, Ки-
рова и Жданова, адресованное авторам конспекта учебника
по истории СССР: в учебнике речь идет не об истории
СССР, а только о русской истории, т. е. истории Руси, «без
истории народов, которые вошли в состав СССР (не учтены
данные по истории Украины, Белоруссии, Финляндии и дру-
155
гик прибалтийских народов, северокавказских и закавказских
народов, народов Средней Азии и Дальнего Востока, а также
волжских и северных народов—татары, башкиры, мордва,
чуваши и т. д.)».28
Оценивая это директивное замечание, Б. А. Романов,
вероятно, исходил из того, что существовавшие прежде со-
ветские учебники носили на себе печать внутренних проти-
воречий, связанных с безуспешными попытками объяснить,
как из многонациональных составных частей сложилось
«единое целое» — СССР. В беседе с С. Н. Валком он, судя
по донесению агента НКВД, говорил: «До сих пор бывало,
знаете, как в искусственной рождественской елке: втыкали
сучки, как попало», следуя, главным образом, «двум вариан-
там: либо „народ покорили** —покорило русское самодержа-
вие, или он восставал, иногда ни то, ни другое не выходи-
ло», и тогда эти объяснения «вообще отбрасывали, как не-
нужный сучок». Выхода из положения в создавшихся
условиях Б. А. Романов, по-видимому, не видел. А те спосо-
бы решения проблемы, которые он вслух перебирал, ему
самому несомненно представлялись, хотя и по разным при-
чинам, неосуществимыми.
«Первый проект: поручить написание учебника от начала
и до конца тройке — Бухарину, Корнею Чуковскому и Алек-
сею Толстому (без «Мойдодыра» здесь не обойтись!)». Со-
вершенно очевидно, что Б. А. Романов имел в виду создание
непрофессиональными историками чисто литературной кон-
струкции, вовсе оторванной от подлинных фактов, принятие
во внимание которых может только нарушить ее стройность.
Нетрудно заметить, что он с иронией относился к такому
предприятию.
«Второй проект», как видно, казался ему не менее
утопичным: «Организовать закрытый тайный конкурс и га-
рантировать конкурирующим то, что им не нарвут уши, не
ликвидируют, не пошлют купаться в холодные моря, или,
если не гарантируют, то по крайней мере дадут понять, что
с ними ничего не произойдет». Им в этом случае необходимо
«дать <...> полную свободу, действительную свободу, а не
ту свободу научного высказывания, которая у нас всегда „га-
рантируется**». И «тогда несомненно найдется человек 25, ко-
торые не побоятся предложить свой проект». Их главная за-
дача будет состоять в том, чтобы «организовать составление,
так сказать, „симфонической партитуры**», для чего необхо-
дим «режиссер», не боящийся «следовать своей интуиции»,
который сумел бы показать, как СССР превратился в единое
целое, и для этого он стал бы «вовремя вводить в действие
156
каждый из народов СССР, чтобы каждый народ вступал
тогда, когда это нужно, и чтобы ученик, школьник, читая
(учебник. — В. П.) и слушая, не чувствовал фальши, внутрен-
ним ухом услышал, что вступление каждого отдельного на-
рода, даже если это будет не соответствовать исторической
действительности, производило бы впечатление звука, подан-
ного в оркестре вовремя». И «нужно найти такого режиссе-
ра, который взялся бы составить этот план-партитуру». «Кто
он — я не знаю», — говорил Б. А. Романов и выражал со-
мнение в практической реализации и этого «проекта»: «Ну а
кто же будет судьями?» — задавал он риторический вопрос
и, давая ответ, приходил к неутешительному выводу, что
подводить итоги конкурса по существу некому: «Ведь исто-
риков нет, их или пощипали, или прогнали вовсе. Да и не
всякий решится после того, как его подрали, обложили, вы-
ступить с проектом или критикой. Конечное слово конечно
скажет Сталин. При всем моем уважении к его умению рас-
пределять время и все понимать, не думаю, чтобы у него на-
шлось на это время, силы и знания».29
Из этого текста вполне очевидно, что Б. А. Романов
несомненно считал противоестественным написание учебни-
ков, основанных на партийной директиве, и предвидел труд-
ности, которые неизбежно встретятся на пути его буквально-
го выполнения.
Изложение в «спецсообщении» высказываний Б. А. Рома-
нова было только частью этого документа. Интересно, что,
по интерпретации его авторов, друг Б. А. Романова
С. Н. Чернов обратил внимание совершенно на другую сто-
рону партийных директив: «У меня был настоящий праздник,
когда я прочел это постановление. Так называемой греков-
щине придет теперь конец. Придет конец безжизненному,
схематичному, отрицательному отношению к источнику, к
историческому факту. Весь вопрос теперь в людях, ибо мо-
лодежь стремится к знанию и перестает верить тому, кто
может говорить одними схемами. Возьмите, например, того
же Цвибака. Это исключительно талантливый и умный че-
ловек, посадите его месяцев на шесть хотя бы в тюрьму,
чтобы он ничем не отвлекался, и посмотрите, как хорошо
он выучится. Особенно отрадно, что в выбранную ЦК ко-
миссию входят такие люди, как Бухарин и Радек. Это созда-
ет достаточную гарантию для того, что дело пойдет по пра-
вильному пути».30
Нетрудно заметить, что суждения друзей о партийно-
правительственных постановлениях резко отличаются друг от
друга. При этом инвективы С. Н. Чернова в адрес
157
Б. Д. Грекова вполне объяснимы. Еще в 1934 г. им были вы-
двинуты против Б. Д. Грекова обвинения в потребительском
отношении к источникам.31 Вскоре труды именно этого ис-
торика старой школы, попытавшегося оснастить их марк-
систской фразеологией, были противопоставлены работам
М. Н. Покровского. Что же касается веры С. Н. Чернова в
возможность каким-то образом обучить М. М. Цвибака, со-
ратника того же Покровского, профессиональному научному
подходу к историческим источникам и надежды, связываемой
с Н. И. Бухариным и К. Б. Радеком, то они выглядят по
крайней мере наивными и свидетельствуют о растерянности
и непонимании нового расклада политических сил. Вряд ли
Б. А. Романов разделял их.
Впрочем, в передаче агента НКВД оценка постановлений
по исторической науке Б. А. Романовым и С. Н. Черновым
совпадает в одном: в них не выражено отношение к осужде-
нию работ М. Н. Покровского и его учеников («школы»).
Для Б. А. Романова Покровский и его последователи олице-
творяли ту силу, которая установила монополию в истори-
ческой науке и еще с 20-х годов оттесняла его, с его трудами
по истории империалистической политики на Дальнем Вос-
токе, на обочину научной жизни. Вряд ли Б. А. Романов не
понимал, что именно Покровский сыграл решающую роль в
идеологическом обслуживании властей, задумавших сфабри-
ковать «дело», по которому он был отправлен в концлагерь
вместе со многими десятками коллег.
Остается предположить, что либо тайный агент НКВД в
своем докладе о высказываниях Б. А. Романова обратил
внимание только на криминально-политический, с его точки
зрения, их аспект, опустив слова, в той или иной форме
одобряющие нападки на Покровского, либо их и не было —
то ли из-за неверия в возможность сдвигов в исторической
науке, то ли по какой-то другой причине.
Интересно, что в «спецсообщении» излагалось также мне-
ние историка А. Л. Якобсона, не одобрившего дискредита-
цию Покровского. Признавая, что «у него всегда были одни
лишь выводы», без «конкретного материала», А. Л. Якобсон
утверждал: «...он рассчитывал на людей, которые факты
знают», поэтому «нечего требовать от него, чтобы он эти
факты давал». Роль же Покровского «в свое время» была
«огромна». Не будь его, «неизвестно, когда бы русская ис-
тория сдвинулась с места».32
Показательно, что все эти столь разные высказывания,
зафиксированные секретными агентами и процитированные
в «спецсообщении» Жданову, охарактеризованы руководст-
158
вом Ленинградского управления НКВД как «отдельные анти-
советского содержания отклики со стороны реакционной
части научных работников».33 Несомненно, что такая оценка
взглядов Б. А. Романова накануне новой волны большого
террора свидетельствовала, что он входит в число тех, кто
находится на краю пропасти, из которой, как свиде-
тельствуют факты, ему уже было бы не выбраться. Однако
массовые репрессии в этот период получили другую направ-
ленность. Повторные аресты тех, кто был их объектом на
рубеже 20—30-х годов, особенно научных работников, в
1936 г., как правило, не практиковались. Ученые, вернувшие-
ся из концлагерей и ссылок, были нужны властям, а для того
чтобы держать их в узде, достаточно было периодически
провоцировать «проработки». Теперь объектом массовых
репрессий стали партийные историки, обвиненные в принад-
лежности к какой-либо внутрипартийной оппозиционной
группировке. Что же касается ученых, которые пострадали
по «Академическому делу», то положение некоторых из них,
но отнюдь не всех, постепенно стало улучшаться, и они все
в большей степени стали ощущать свою востребованность.
Ее симптомы проявлялись с возраставшей наглядностью.
С. В. Бахрушин, В. И. Пичета и Ю. В. Готье были пригла-
шены для работы на историческом факультете МГУ. В
1938 г. Е. В. Тарле было возвращено звание академика.
Ю. В. Готье вошел в авторский коллектив, готовивший
учебник по истории СССР для начальной школы, который
возглавлял А. В. Шестаков, и в 1939 г. был избран акаде-
миком. С. В. Бахрушин стал в том же году членом-коррес-
пондентом АН СССР. В 1935 г. М. Д. Приселков получил
разрешение вернуться из ссылки в Ленинград, и вскоре его
пригласили на исторический факультет ЛГУ, который он вы-
нужденно покинул еще в 1929 г. Можно привести и другие
отдельные подобные примеры. Существует даже мнение, со-
гласно которому на историческом факультете ЛГУ в страш-
ные годы государственного террора второй половины 30-х
годов («Апокалипсис») возникли «Афины»: «академическая»
часть профессуры, хотя и поредевшая, могла сделать честь
любому высшему учебному заведению.34 Следует, однако, не
упускать из виду, что те, кто выжил и сумел вернуться в
науку, не только поплатились здоровьем, но и получили мо-
ральную травму, которая не позволяла им в полной мере
проявить свой научный потенциал.
Неверно было бы связывать начавшийся процесс возвра-
щения в науку историков старой школы, немалая часть ко-
торых подверглась ранее репрессиям, получение ими новых
159
должностей и званий только с тем, что научно-исследова-
тельские институты и исторические факультеты опустели, ли-
шившись многих партийных историков. Сама официальная и
директивная дискредитация трудов умершего за 4 года до
этого (и с почестями похороненного) М. Н. Покровского и
его сторонников («школы») — репрессированных, но частич-
но уцелевших — свидетельствовала о решительном идеологи-
ческом повороте. Он начал готовиться еще в 1930 г., а быть
может, и еще раньше. Именно в 1930 г. Сталин в письме к
партийному литератору Демьяну Бедному грубо обрушился
на него за фельетоны, в которых автор сатирически изобра-
зил историческое прошлое России. Он обвинил автора в кле-
вете на СССР, «на его прошлое, его настоящее». Отождест-
вление царской России с СССР, казалось бы, решительно по-
рвавшим с прошлым, было симптоматичным. Но это письмо
не было тогда широко известно. Оно стало элементом раз-
вернувшейся борьбы с отстаивавшим космополитическую
теорию мировой революции Л. Д. Троцким35 (письмо было
опубликовано в выдержках только в 1952 г.).36
Восстановление исторических факультетов в 1934 г. и
возобновление в том же году преподавания истории в шко-
лах, директивные замечания Сталина, Кирова и Жданова
1934 г. по конспектам школьных учебников, назначение
жюри, состоявшего из партийных функционеров, для рас-
смотрения итогов закрытого конкурса учебников — все это
было звеньями одной цепи: в связи с изменяющейся полити-
ческой ситуацией внутри страны и на международной арене
в недрах партийного аппарата подспудно вырабатывалась
новая официальная доктрина взамен концепций М. Н. По-
кровского.
Эти изменения становились все более очевидными. Ста-
лин одержал полную победу во внутрипартийной борьбе. Со-
ветское государство целенаправленно формировалось как
жестко централизованное и унитарное, во главе которого
встал выпестованный Сталиным партийный аппарат, опирав-
шийся на карательные органы. Идеи мировой революции и
особого рода интернационализма себя изжили. Взамен была
выдвинута теория построения социализма в одной отдельно
взятой стране. Угроза реставрации прежнего режима остава-
лась только как элемент стандартного обвинения в сфаб-
рикованных политических «делах». В Германии под знаменем
национальной идеи в ее крайнем выражении («кровь и
почва») к власти пришел Гитлер, внешнеполитическая про-
грамма которого предусматривала «Drang nach Osten» и
войну с советским «иудо-большевизмом». Начавшийся пово-
ют
рот от мессианства мировой революции к имперскости, к
опоре на сильное государство и провозглашение прямой пре-
емственности от «великих предков» свидетельствовал о том,
что вызревало решение отказаться от классических марк-
систских постулатов — космополитизма, основанного на
пролетарской солидарности, и теории отмирания государства
по мере продвижения к социализму — и выдвинуть в качест-
ве основополагающей идею патриотизма.
Эти новые принципы первоначально зрели в среде выс-
шего партийного руководства и не становились предметом
широкого обсуждения. Так, письмо Сталина членам полит-
бюро от 19 июля 1934 г. «О статье Энгельса „Внешняя по-
литика русского царизма"», подобно его письму Демьяну
Бедному, не было опубликовано тогда же, а только накануне
Великой Отечественной войны (в мае 1941 г.). Та же участь
постигла и замечания Сталина, Кирова и Жданова о школь-
ных учебниках от 1934 г. А между тем в письме о статье
Энгельса Сталин критиковал «классика марксизма» за его
отношение к завоевательной политике России в XIX в. Она,
по утверждению автора письма, «вовсе не составляла моно-
полию русских царей» и была присуща «не в меньшей, если
не в большей степени, королям и дипломатам всех стран Ев-
ропы».37
После же появления партийных документов в январе
1936 г. эта подспудная линия сразу же была легализована.
Так, в постановлении Всесоюзного комитета по делам ис-
кусств при Совнаркоме СССР от 13 ноября 1936 г. «О пьесе
„Богатыри" Демьяна Бедного» автора публично обвинили
в том, что он чернил богатырей русского былинного эпоса,
дал «антиисторическое и издевательское изображение креще-
ния Руси, являвшегося в действительности положительным
этапом в истории русского народа».38
Этот политический и идеологический поворот не мог не
отразиться на исторической науке. Возвращение в универси-
теты и научные институты ряда представителей старой
школы, даже тех из них, кто подвергался ранее репрессиям,
таким образом, не было случайным. Не случайно оказались
востребованными и труды, вышедшие в дореволюционное
время. Наиболее ярким проявлением этого курса стало пере-
издание в 1937 г. знаменитых «Очерков по истории Смуты
в Московском государстве XVI—XVII вв.» С. Ф. Платоно-
ва, умершего незадолго до того (в 1933 г.) в ссылке. В апре-
ле 1937 г. Сталин даже предложил временно использовать
лучшие старые учебники дореволюционного периода в пре-
подавании истории в школах партийных пропагандистов,3’ и
6 В. М. Палеях
161
учебник С. Ф. Платонова был специально переиздан для
этого. В 1939 г. Соцэкгиз переиздал книгу «Очерк истории
Нижегородского ополчения 1611—1613 гг.» незадолго до
того скончавшегося П. Г. Любомирова. Готовилась к изда-
нию монография Н. П. Павлова-Сильванского «Феодализм в
удельной Руси». А. И. Андреев составил проект переиздания
«Истории России» В. Н. Татищева.
Этот частичный возврат к дореволюционным истокам
был вызван решением поставить на службу официальной
идеологии опыт и профессионализм дореволюционной исто-
рической науки. Сталин начал формировать новую истори-
ческую школу, которая должна была опираться отчасти на
идеологию марксизм а-ленинизм а, приспособленного к прово-
дившейся им политике (теория формаций, теория революци-
онной смены формаций, теория классовой борьбы), отчасти
на некоторые национальные традиции. Партийные власти от-
нюдь не ослабили контроль за исторической наукой, а пар-
тийные идеологи внедряли новые схемы с той же жестко-
стью, с какой до этого внедрялись концепции М. Н. Покров-
ского.
Первостепенное значение Сталин придавал подготовке
новых учебников для средней школы. Объявленный прави-
тельством конкурс по составлению элементарного учебника
по истории СССР проводился под патронатом политбюро,
от имени которого выступал председатель комиссии ЦК
ВКП(б) и Совнаркома СССР по пересмотру учебников исто-
рии Жданов. Бухарин и Радек, на которых так надеялся
С. Н. Чернов, да и подавляющее большинство других чле-
нов жюри были репрессированы. Именно лично Жданов вно-
сил в подготовленный коллективом под руководством
А. В. Шестакова проект учебника по истории СССР для на-
чальной школы основную правку, вписывал в него целые
страницы. Кроме того, с учебником внимательно знакомился
Сталин, оставивший на его полях пометы. Эта книга сыграла
решающую роль в утверждении новой концепции отечествен-
ной истории и в формировании нового исторического созна-
ния.40 По нему, как по лекалу, создавались и другие учебни-
ки — для школ, для университетов и пединститутов. Выход
в свет в 1938 г. книги «История ВКП(б). Краткий курс» за-
крепил сталинские приоритеты исторической науки, сделав
их строго обязательными. Проработочные кампании, органи-
зованные до и после Великой Отечественной войны, призва-
ны были держать ученых в узде и подготавливать почву для
внедрения все новых и новых предписаний, связанных со
своеобразной зигзагообразной линией государственной идео-
162
логии. Эта противоречивость — причудливое и противоесте-
ственное сочетание переосмысленных интернационалистских
принципов, выраженных в безусловной поддержке внешней
политики СССР коммунистическими партиями зарубежных
стран, с национал-патриотическими тенденциями внутри стра-
ны, классового принципа с выпячиванием роли государст-
ва— дезориентировала историков, но и предоставляла им не-
которую возможность лавировать между этими установками
в условиях колеблющегося и опасного равновесия и попы-
таться исследовать ряд важных проблем,41 но только таких,
которые не были решенными самой партией и потому не
подлежали пересмотру.
Важным элементом нового курса властей в области
исторической науки стало и преобразование ленинградских
исследовательских институтов этого профиля. На базе Исто-
рико-археографического института АН СССР в 1936 г. было
создано Ленинградское отделение Института истории АН
СССР (сам Институт истории был организован в Москве), в
состав которого вошел также ряд сотрудников ликвидиро-
ванных Института книги, документа и письма АН СССР, Ле-
нинградского отделения Комакадемии при ЦИК СССР, а
также Института истории феодального общества, ранее
являвшегося составной частью ГАИМКа, которая в свою
очередь подверглась реорганизации в августе 1937 г. На ее
основе был создан Институт истории материальной культуры
АН СССР (ИИМК).
* * *
Все эти коренные изменения — и в идеологической
направленности исторической науки, и в организационной
сфере, казалось, должны были благоприятно сказаться на
судьбе Б. А. Романова, выступившего еще в 20-х годах с
рядом работ, концептуально расходившихся с концепциями
М. Н. Покровского. Однако никаких ощутимых перемен они
ему не принесли. Он по-прежнему вынужден был перебивать-
ся случайными договорными работами.
В 1936 г. Б. А. Романов выполнил последний заказ по
договору с ГАИМКом—написал обширную рецензию на
две книги, изданные под ее грифом, — Н. Н. Воронина «К
истории сельского поселения феодальной Руси: Погост, сло-
бода, село, деревня» (Л., 1935) и С. Б. Веселовского «Село
и деревня в Северо-Восточной Руси XIV—XVI вв.» (М.; Л.,
1936). Этот отзыв, переросший в исследование (10 печатных
листов), обсуждался на сессии ГАИМКа вместе с рецензиру-
163
емыми книгами. Б. А. Романов получил заверение в том, что
его отзыв будет издан в виде отдельной монографии, кото-
рую он подготовил к печати («К вопросу о сельском посе-
лении феодальной Руси»), но ее так и не опубликовали при
жизни автора. Лишь посмертно, в 1960 г., работа вышла в
свет в форме статьи, к тому же под другим заголовком.42
Сам Б. А. Романов считал, что этот его труд соответствовал
жанру отчета о присуждении Уваровской премии, распро-
страненного до революции.
В нем Б. А. Романов произвел текстологическую, терми-
нологическую и историческую проверку выводов критикуе-
мых им авторов, но не ограничился этим, а заново глубоко
и оригинально исследовал проблему в целом. Автор обосно-
вывал свои наблюдения и выводы, опираясь на прочный
фундамент тончайшего анализа всего комплекса источни-
ков— актового материала, законодательных памятников,
писцовых книг.
Б. А. Романов проанализировал историю сельского посе-
ления на Руси в неразрывной связи с эволюцией сельской об-
щины и развитием вотчины. Он сумел показать, что упро-
щенное и прямолинейное применение Н. Н. Ворониным
марксистских категорий неплодотворно и только затрудняет
решение проблемы. С другой стороны, Б. А. Романов рас-
смотрел аргументацию, выдвинутую С. Б. Веселовским, в
обоснование его вывода об извечной частной земельной соб-
ственности крестьян, ведущего к отрицанию существования
сельской общины как древнейшей общественной организа-
ции, и пришел к выводу, что эта концепция подрывается ана-
лизом конкретного материала. Тем самым была подвергнута
критике концепция «деревни-хутора» как первоначальной
формы сельского поселения на Руси, развитая С. Б. Веселов-
ским.
Теории С. В. Веселовского, согласно которой система
сельских поселений в XIV—XVI вв. эволюционировала под
влиянием противоречащих друг другу процессов — «отселен-
ческого инстинкта» крестьян и, напротив, стремления земле-
владельцев к укреплению селений, Б. А. Романов противопо-
ставил свое объяснение эволюции деревни. История «челове-
ческого поселения, — показал он, — начинается не с
„деревни"» «как „первоначального" и „основного" типа по-
селений в 1—2 двора», а «либо с „займища", либо с „почин-
ка", в котором и ставится крестьянский двор или даже 2 и
более дворов. Из починка, если он выдержал испытание не-
которого времени, и возникает в официальных документах
„деревня"». Непрерывность «отпочкования» от нее «дочерне-
164
го починка» Б. А. Романов связал с «пределами вместимо-
сти» деревни, «строго индивидуальными», но «в своем сред-
нем выражении» поддающимися «районированию».43 Частич-
но свои источниковедческие наблюдения, связанные с этой
рецензией-исследованием, Б. А. Романову удалось опублико-
вать отдельно и только через 4 года. Его статья, посвящен-
ная анализу известной жалованной грамоты великого князя
Олега Ивановича Рязанского Ольгову монастырю,44 считает-
ся образцом дипломатического исследования.45
В середине 1936 г. Б. А. Романов вновь возвратился к
ждущей издания книге о русско-японской войне, путь к чи-
тателям которой оказался долгим и тернистым. Летом к
нему из Москвы поступил внутренний отзыв об этой руко-
писи А. Л. Попова, известного специалиста, в конце 20-х
годов опубликовавшего весьма положительную рецензию на
первую книгу Б. А. Романова — «Россия в Маньчжурии».
Вспоминая через несколько лет о направленности замеча-
ний рецензента, Б. А. Романов изложил историю написания
своей новой книги. Она «заказана была и задумана в виде
совсем популярной брошюры <...> в 7 печатных листов» и
«конечно сразу же стала на плечи своей массивной предше-
ственницы». Но здесь автор «впервые получил свободу от
тех рабочих и историографических задач и самоограничений,
которые сковывали» его «прежде». Поскольку «протекшие
годы принесли новый материал для оправдания документаль-
ного расширения горизонтов изложения» (а «с другой сторо-
ны, не сохранили» в его «распоряжении ни одного рабочего
листка, ни одной документальной выписки» от прошлой его
работы), автора «опять потянуло на исследования». «Неко-
торые существеннейшие публикации, русские (дневник Куро-
паткина, донесения Извольского, дневник Ламздорфа и др.)
и особенно иностранные <...> приходили в Академическую
библиотеку и прямо со стола новинок поступлений поступа-
ли» к нему «в работу». «С великим сожалением, — говорил
далее Б. А. Романов, — при компоновке книги многое при-
ходилось выключать из изложения и собственными руками
заведомо портить свое собственное дело». В результате бро-
шюра выросла до 10 печатных листов «чистого текста», «так
что об аппарате и помыслить было нельзя, а между тем зло-
нравно сбивалась на исследование».
Когда же в 1936 г. книга «поступила в Институт истории
и была передана на отзыв <...> А. Л. Попову, он, указав на
165
„большой интерес**, который работа вызовет у „квалифици-
рованного читателя1*, на „тонкость анализа** и „несомненную
ценность** ее, предложил приспособить ее для такого читате-
ля». Опираясь на эти рекомендации, дирекция Института ис-
тории, с которым у Б. А. Романова был заключен договор,
направила ему письмо с предложением «расширить объем ра-
боты и придать ей научно-исследовательский характер, снаб-
див ее аппаратом». Это отвечало интересам автора, и, разу-
меется, он «охотно принял это предложение и успел уже рас-
ширить текст до 14 печ. листов и покончить с аппаратом,
как месяца через два» после первого предложения «после-
довало второе: не продолжая переделки масштаба работы,
вернуть ее для представления в НКИД — с тем, что, буде
последует ее одобрение, работа будет принята к печати в на-
личном состоянии готовности». Так «в неперемасштабленном
виде текст опять ушел из рук» Б. А. Романова. Ему даже
пришлось досылать «вдогонку» «часть дополнений, бывших
в полуделе». А между тем «значительная доля интереснейше-
го для расширения сцены и усложнения сюжетного состава
книги материала осталась неиспользованной», тогда как
«приток его через стол новинок продолжал идти своим че-
редом».46
Разрешение Наркоминдела было получено весной 1937 г.
Интерес к книге со стороны руководства Института истории
и внешнеполитического ведомства подогревался назревшим
острым конфликтом с Японией, приведшим к вынужденной
продаже КВЖД марионеточному государству Маньчжоу-го.
Однако неожиданно Б. А. Романов получил новую рецен-
зию, написанную А. Л. Сидоровым, в прошлом учеником
М. Н. Покровского, который был назначен Институтом от-
ветственным редактором книги. В ней помимо грубых
политических выпадов в адрес автора содержался ряд требо-
ваний, выполнение которых привело бы к необходимости ко-
ренной переработки содержательных и концептуальных
основ книги. А. Л. Сидоров обвинил Б. А. Романова во
«вредной политической тенденции», во «вредной точке зре-
ния, льющей воду на сторону японским фашистам», в «анти-
ленинском характере» «отдельных замечаний» по вопросу о
классовой базе царизма, в следовании концепции М. Н. По-
кровского. Рецензент в качестве ответственного редактора
потребовал неукоснительного следования «ленинской теории
по существу», раскрытия «ленинского содержания военно-фе-
одального империализма», расширения «раздела о войне»,
введения главы о революции 1905 г. с показом классовой
борьбы, «сокращения материала других глав». В случае же
166
несогласия Б. А. Романова с требованием коренной перера-
ботки книги А. Л. Сидоров предложил переиздать моногра-
фию «Россия в Маньчжурии», которая, по его мнению, имела
«меньше ошибок».
Вся рецензия, разумеется, опиралась на цитаты из работ
Ленина и Сталина и была выдержана, по свидетельству
Б. А. Романова, в «снисходительно-пренебрежительном
тоне». Он не без основания опасался, что такой отзыв окон-
чательно похоронит результаты его труда и воспрепятствует
изданию книги, тем более, что в сопроводительном письме
сообщалось, что «без коренных переделок, указанных рецен-
зентом, работу в печать сдавать нельзя». Поэтому Б. А. Ро-
манов направил в адрес Института истории развернутый
ответ (сохранился его черновик), категорически отвергнув
прежде всего те нападки рецензента, которые касались якобы
наличия вредной политической тенденции в книге. Сослав-
шись на ее одобрение НКИД, который «не заметил» этой
тенденции, Б. А. Романов показал, что подлинное содержа-
ние книги рецензент «замалчивает» и приписывает автору не
разделяемую им концепцию, согласно которой именно «Рос-
сии, а не Японии принадлежит роль разбойника и агрессора
в войне».
Б. А. Романов напомнил, что ему «была заказана книга»,
содержащая «политическо-исторический, а не военно-истори-
ческий очерк». Требование же написать главу о революции
он оценил как «безответственное, особенно в устах автора
специальной работы о „влиянии мировой войны на эконо-
мику России1*, где ему пришлось выключить из изложения не
только что классовую борьбу и революционное движение, но
целые секторы самой экономики оставить без своего внима-
ния». «В области экономики и революционного движения, —
писал Б. А. Романов,—я должен, имею право и могу —
только исходить из общеизвестных фактов и вводить напо-
минание о них в основное русло своего изложения в тех про-
порциях, которые диктуются масштабами этого основного
русла».
Опасному обвинению в следовании теориям М. Н. По-
кровского Б. А. Романов противопоставил расходящееся с
ними изложение своего понимания проблемы российского
империализма, которое еще в «России в Маньчжурии» было
противопоставлено концепции о неимпериалистическом ха-
рактере русско-японской войны, развиваемой именно По-
кровским. В ответ же на упрек в том, что Б. А. Романов
«снимает ответственность» за войну с Николая II (порази-
тельным образом совпавший с попыткой в 1930 г. приписать
167
ему следователем ОГПУ вину за написание книги «Россия в
Маньчжурии» специально для оправдания царя), «смазывая
разницу» между Безобразовым и группой Витте—Ламздорфа,
он отметил, что А. Л. Сидоров придерживается концепции
«виновников войны», «придуманной самим Витте». Но «по-
литически всякий вариант прежней концепции <...> вреден
потому, что теоретически несостоятелен и затушевывает аг-
рессора в лице Японии». Тем самым Б. А. Романов отверг
и политическое обвинение в том, что он «льет воду на мель-
ницу» японских империалистов. Но он не ограничился этим,
а дал уничтожающую оценку книги Б. Б. Глинского «Про-
лог русско-японской войны. Материалы из архива гр. Витте»
(Пг., 1916), в которой автор задался целью обелить внешнюю
политику С. Ю. Витте и снять с него вину за участие в раз-
вязывании войны: «Эта книга, — писал Б. А. Романов, —
<...> явилась историко-политическим апофеозом „особливо-
го", почти славянофильского, „культурного" и „мирного"
русского империализма — представители которого <...> во-
все не рассчитывали лететь в пропасть вместе с царизмом».
Уже после кончины и А. Л. Сидорова, и Б. А. Романова
Б. В. Ананьич, рассмотрев полемику по этому вопросу
между ними, с полным основанием отметил: «Б. А. дал чрез-
вычайно интересную характеристику теории Витте о мирном
экономическом проникновении в Маньчжурию, показав ее
отчасти славянофильские корни».47 Гипотезу о том, что
книга Б. Б. Глинского являлась как бы частью мемуаров
Витте, написанной им вместе с рядом его литературных по-
мощников, Б. А. Романов высказал еще в ранних работах
20-х годов. Его ученики обнаружили после кончины их
учителя ее рукопись и полностью подтвердили его наблюде-
ние.48
Б. А. Романов показал, что А. Л. Сидоров критикует
книгу с позиции «разделявшейся им недавно концепции о
неимпериалистическом характере русско-японской войны и о
нехарактерности экспорта капиталов для русского империа-
лизма», а следовательно, так и не преодолел «влияния этой
реминисценции», несмотря на то что он «переменил теорети-
ческое место, перекочевал на другую методологическую по-
зицию». Тем самым Б. А. Романов прозрачно намекнул на
рецидивы в воззрениях А. Л. Сидорова методологических
установок, выработанных М. Н. Покровским и его ученика-
ми, и, верный традициям петербургской школы, указал на
неразрывность фактов и теории: «А. Сидоров хочет, чтобы
я ему и теорию повернул на 180°, и фактов не тревожил бы,
оставив их в прежнем расположении и связи. Но тогда
168
факты и теория будут глядеть в разные стороны, а к старым
фактам вернется и старая теория».49
Ответ Б. А. Романова впервые в его практике был снаб-
жен большим числом цитат из сочинений В. И. Ленина, при
этом они противопоставлялись другим цитатам из того же
автора, а также из сочинений И. В. Сталина, приведенным
в рецензии А. Л. Сидорова. Нетрудно заметить, что в такого
рода полемику он был втянут рецензентом. В создавшихся
условиях Б. А. Романов стоял перед выбором: либо отка-
заться от издания книги, понеся моральный урон и ли-
шившись одного из основных средств существования, либо
принять правила игры, ставшие обязательными для всех и
теперь навязываемые и ему. Отказ от публикации книги
означал бы для Б. А. Романова, кроме того, полное и окон-
чательное отлучение его от исследований проблематики, свя-
занной с международными отношениями в конце XIX—нача-
ле XX в. Все это с фатальной безысходностью вынуждало
его не только принять правила игры в догматической по ме-
тодам полемике с А. Л. Сидоровым, но и озаботиться тем,
чтобы в его будущей книге эти правила также были соблю-
дены: «Высказывания Ленина и Сталина, которые напомина-
ет и указывает мне рецензент, — писал Б. А. Романов, — по-
скольку они мне были известны, служили мне руководст-
вом— будут теперь использованы мной текстуально, и будет
соответственно обревизован весь текст книги». При этом он
оговаривал, что необходимо будет «увязать отдельные мо-
менты изложения» с «высказываниями» Ленина, тем самым
вроде бы намекая, что первичными останутся его выводы,
основанные на анализе фактов, цитаты же призваны служить
своеобразным щитом, обеспечивающим издание книги и по-
следующую защиту от нападок на нее. Б. А. Романов дейст-
вительно сразу же принялся за эту работу, оснащая книгу
избыточным числом цитат из сочинений «классиков марксиз-
ма-ленинизма», и среди этих цитат фигурировали едва ли не
все те, которые приводились как в рецензии А. Л. Сидорова,
так и в ответе ему. Интересно, что столь резкая перепалка
между А. Л. Сидоровым и Б. А. Романовым не только не
испортила их отношений, но и не помешала их по-
следующему сближению. А. Л. Сидоров не отказался от обя-
занностей ответственного редактора книги, а после войны,
когда он занял важные административные посты в Институте
истории, стал постоянно оказывать покровительство
Б. А. Романову и его ученикам.
Но до завершения работы над книгой о русско-японской
войне, в начале 1937 г., Б. А. Романов сдал заказчику — ре-
169
дакции по истории Ленсовета — сборник, содержащий откли-
ки иностранной прессы на события первой русской револю-
ции (от января 1905 г., кончая апрелем 1906 г.), над кото-
рым он, руководя группой переводчиков, работал с конца
1934 г. и даже для этого на несколько месяцев по договору
был зачислен в штат редакции. Сам Б. А. Романов отбирал
газеты («Тан», «Таймс», «Альгемайне Цайтунг», «Нойе
Фрайе Пресс», «Юманите», «Нойе Цайт») и фрагменты от-
дельных статей, редактировал переводы, сам перевел ряд ста-
тей. Объем сборника составил 40 печатных листов, а кроме
того, Б. А. Романов написал в качестве предисловия 4 ка-
лендарных обзора, содержавших оценку того, как «осмысли-
вались и преподносились» западному читателю события ре-
волюции 1905 г., и эта статья выросла до 8 печатных листов.
Обе части столь грандиозной работы, на которую было по-
трачено много времени и сил, так и остались неизданными.50
В марте 1937 г. произошло событие, ставшее одной из
важнейших вех в научной биографии Б. А. Романова и на-
долго связавшее его с ЛОИИ договорными отношениями, а
затем, в середине 1944 г., приведшее в штат этого академи-
ческого института. Сам Б. А. Романов впоследствии с бла-
годарностью вспоминал, что Б. Д. Греков, «памятуя» его
«первые научные опыты в области русской древности (еще в
студенческие годы), привлек» его «к работе над академиче-
ским изданием „Правды Русской**, в частности к со-
ставлению историографических к ней комментариев <...> и
тем самым поставил» его «перед искушением вернуться к
давно покинутой <...> тематике, однако же в ином плане и
с применением иных приемов исследования», чем то было бы
для него «возможно сделать 30—35 лет тому назад».51 Пора-
зительно, еще студенческая работа Б. А. Романова произве-
ла столь неизгладимое впечатление на коллег, что это при-
вело к рискованному на первый взгляд решению пригласить
его участвовать в важнейшем и ответственнейшем научном
проекте, получившем одобрение в директивных инстанциях.
Но Б. Д. Греков хорошо знал Б. А. Романова, ценил его та-
лант, а кроме того, он наверняка учитывал и успех его не-
давних опытов в интерпретации русских средневековых ис-
точников при работе над внутренними отзывами-исследова-
ниями по заказам ГАИМКа.
Б. Д. Греков решил осуществить грандиозный проект,
задуманный еще в конце 20-х годов в Постоянной историко-
археографической комиссии, но тогда не реализованный из-
за начавшегося следствия по «Академическому делу», — под-
готовить комментированное академическое издание «Правды
170
Русской». Критическое издание текстов этого памятника, со-
ставившее первый том, вышло в свет в 1940 г. Одновременно
с его подготовкой к печати группа ученых, в которую кроме
Б. А. Романова входили Б. В. Александров, В. Г. Гейман,
Н. Ф. Лавров и Г. Е. Кочин, приступила к работе над по-
статейными историографическими комментариями, которые
должны были войти во второй том и имели целью — «по-
мочь современному исследователю ориентироваться по воз-
можности полно во всей обширной и трудно доступной ли-
тературе, связанной с изучением Правды».52 Первичное ре-
дактирование комментариев было поручено Н. Ф. Лаврову.
Нелишне отметить, что из всех ученых, привлеченных для
подготовки комментариев, только Б. А. Романов не был
штатным сотрудником ЛОИИ, а работал по договору.
Творческая работа составителей комментариев, по замыс-
лу Б. Д. Грекова, была введена в жесткие рамки. Их задача
состояла на первом этапе всего только в том, чтобы распо-
ложить в хронологическом порядке мнения исследователей о
каждой статье «Правды Русской». Конечно и это требовало
не только досконального знания исторической и историко-
правовой литературы, но и глубокого понимания структуры
памятника, обладания широкой эрудицией, необходимой для
оценки социальных, политических и бытовых реалий, отра-
женных в нем.
Б. Д. Греков, как очень скоро стало ясно, был прав,
привлекая для этой работы Б. А. Романова, который взял на
себя комментирование не только наибольшего числа статей,
но и самых важных, отражающих социальные отношения и
политический строй Киевской Руси, в частности устав о хо-
лопах, устав о закупах, устав о населении княжеского доме-
на, устав об обидах и увечьях. В количественном отношении
его участие в комментировании «Правды Русской» выража-
ется такими цифрами: из 43 статей «Краткой Правды» им
были откомментированы 23 статьи; из 121 статьи «Про-
странной Правды» — 52 статьи.
Б. А. Романов с энтузиазмом взялся за эту работу, но его
творческая натура не могла смириться с редакционными
ограничениями на выражение собственного мнения. Выход
был найден Б. Д. Грековым в том, чтобы подготовить упре-
ждающее издание учебного пособия «Правды Русской».
Б. А. Романову, как и ряду других участников работы, было
поручено составление для него комментариев, позволявших
не только осветить литературу вопроса, но и дать собствен-
ную интерпретацию статей. В 1938 г. с Б. А. Романовым
был заключен договор, и, оставив на время подготовку
171
комментариев к академическому изданию, он принялся за эту
новую работу. Она была выполнена в короткие сроки и
вышла в свет в 1940 г.53
Окончив работу над учебным пособием, Б. А. Романов
вернулся к комментированию статей этого памятника для
академического его издания, но уже на новой основе: он
имел теперь возможность привести свои собственные мнения
наряду с мнениями предшественников и современников.
Лишь начавшаяся война прервала эту работу.
♦ ♦ ♦
Разумеется, Б. А. Романов не мог ограничиться только
этими, хотя и интересными, заданиями. В конце 1937 г. на-
конец сдвинулось дело с подготовленным им и лежавшим без
движения первым томом курса лекций А. Е. Преснякова. Им
заинтересовался Соцэкгиз, где плодотворно работал
Н. Л. Рубинштейн. С Б. А. Романовым был заключен дого-
вор, согласно которому он должен был подготовить к изда-
нию все 3 тома лекции своего учителя и аппарат к ним. Ра-
бота велась в тесном дружеском контакте с Н. Л. Рубин-
штейном и завершилась выходом в свет в 1938 г. первого, а
в 1939 г. второго тома лекций. Третий том также был под-
готовлен Б. А. Романовым, но дошел только до корректуры,
и его изданию помешала начавшаяся война.
Правда, в предисловии к первому тому имя Б. А. Рома-
нова даже не упоминалось, хотя он не только провел боль-
шую работу над текстом лекций, но и написал археографи-
ческую часть предисловия, а также составил указатель пред-
метов, чем он всегда занимался с большой охотой, считая
указатели «душой изданий». Правда, в предисловии ко вто-
рому тому была отмечена вся работа, выполненная им в
обоих томах. Особое влечение к указателям выразилось и в
том, что Б. А. Романов взялся составить терминологический
указатель к первому тому академического издания «Правды
Русской». Конечно, им двигал и материальный интерес, но
подобную работу Б. А. Романов считал творческой. Впро-
чем, он, не имея постоянной штатной работы, справедливо
продолжал считать свое положение нестабильным и даже
зыбким, и поэтому не гнушался никакого рода деятельности.
Лишь иллюзию такой стабильности и минимальную зарплату
давала Б. А. Романову сдельная работа не по прямой специ-
альности в штате Института языка и мышления АН СССР,
куда он в 1938 г. был принят на вспомогательную должность
выборщика древнерусского словаря. В его обязанность вхо-
172
дало составление словарных статей на карточках — не менее
1 печатного листа в месяц. На них Б. А. Романов расписал
несколько памятников древнерусской письменности, в том
числе «Правду Русскую» и Повесть временных лет.54
Все основное свое время Б. А. Романов начиная с 1937 г.
отдавал договорным работам, выполняемым по заказу Ин-
ститута истории Академии наук и, прежде всего, его Ленин-
градского отделения и ИИМКа. Можно даже полагать, что
не он искал теперь заказы, а Институт загружал его работой,
стремясь использовать уникальные профессиональные воз-
можности Б. А. Романова. Так, в 1938 г. с ним был заклю-
чен договор, предусматривающий написание раздела о Твер-
ском княжестве55 для готовящейся многотомной «Истории
СССР», который, впрочем, не вошел в это издание, вышед-
шее после войны. То же случилось с написанной им главой
для шестого тома этого многотомника — главой о русско-
японской войне,56 но соответствующий том вообще не был
издан. В 1939 г. Б. А. Романов согласился подготовить ста-
тью «Москва, Тверь и Восток в XV в.» для издания «Хоже-
ния за три моря Афанасия Никитина», вышедшего в свет в
«Литературных памятниках» только в 1948 г.57 В марте
1939 г. ученый сдал в Институт истории переработанную ру-
копись книги о русско-японской войне, выросшую до 20 пе-
чатных листов, которую невозможно было после выхода в
свет в 1938 г. «Истории ВКП(б)» издать без ссылок на этот
директивный «Краткий курс». Б. А. Романов, как и другие
научные работники, оказался перед необходимостью с этой
целью заново пересмотреть свою рукопись, и лишь после ее
экспертизы в сентябре 1939 г. с ним был заключен новый
договор — теперь на издание книги под заголовком «Русско-
японская война (экономика, политика, дипломатия). 1895—
1905 гг.».58
Многочисленные задания, выполняемые по заказам
ЛОИИ, совещания в связи с их обсуждениями привели к
тому, что Б. А. Романов стал принимать участие и в общих
собраниях Института и даже эпизодически выступать на них.
Так, 22 апреля 1937 г., в период, когда государственный тер-
рор достиг апогея и когда волна репрессий уносила из Ин-
ститута многих его сотрудников, в последний день трехднев-
ного общего собрания ЛОИИ, проходившего в обстановке
политической проработки и самобичевания и посвященного
обсуждению итогов работы за 1936 г. и плана работы на
1937 г., неожиданно выступил Б. А. Романов. Хотя он и не
был на предшествующих двух заседаниях (8 и 10 апреля),
ученый позволил себе высказать свое мнение о проекте ито-
173
гового решения: «...если продукция ЛОИИ вся мало удовле-
творительна, — сказал он, — то достаточно указать несколь-
ко примеров; если же нет, то надо перечислить те работы, в
которых допущены ошибки».59 По-видимому, он ощущал
себя хотя и внештатным, но все же сотрудником ЛОИИ, да
и в самом Институте его считали своим, раз ему предоста-
вили слово в такой напряженный момент. И все же положе-
ние Б. А. Романова по-прежнему оставалось неустойчивым.
Угроза выселения из Ленинграда постоянно и устрашающе
висела над ним, ожидание повторного ареста повседневно
держало его в состоянии крайнего нервного напряжения.
Опасения эти отнюдь не были беспочвенными. Постановле-
нием Совнаркома СССР от 8 августа 1936 г. выселению из
Ленинграда и других крупных городов подлежали те его жи-
тели, кто подвергался в прошлом репрессиям по политиче-
ским статьям уголовного кодекса. На Б. А. Романова рас-
пространялось это постановление в полной мере, и он в
1936 г. получил предписание выехать из города. Лишь справ-
ка, подписанная профессором В. П. Осиповым, «о наличии
психического заболевания и необходимости лечения»60 на не-
которое время отсрочила выселение. Но угроза этим отнюдь
не была отведена. И Б. А. Романов решился на неординар-
ный, очень опасный в тех условиях поступок. 7 мая 1937 г.
он обратился в комиссию по частным амнистиям ЦИК СССР
с ходатайством «о снятии <...> судимости по приговору
Тройки ПП ОГПУ ЛВО от 10 февраля 1931 г., вынесенному
<...> по так называемому „Академическому делу“». Перечис-
лив научные учреждения, с которыми он сотрудничает,
Б. А. Романов выразил надежду, что они, «вероятно, не от-
кажут дать отзыв» о его работе «за последние 3 года».
Б. А. Романов писал, что хотя он «приговором прав ника-
ких лишен не был», однако «постоянной работы до сих пор
получить» не может, а следовательно, не может «чувствовать
себя» «полноправным гражданином Союза», и это «тяжело
давит» на всю его работу. Можно предположить, что это за-
явление было стимулировано принятием Конституции СССР
в 1936 г., декларативно и демагогически признавшей равен-
ство всех граждан СССР.
В архиве Б. А. Романова нет ответа на это заявление.
Вероятно, он не был получен. В реабилитационном деле
тоже нет документа о снятии с него судимости. Следственное
«дело» свидетельствует об ужесточении отношения к нему ка-
рательных органов. В сентябре и декабре 1938 г. милиция
дважды запрашивала 1-й спецотдел Управления госбезопас-
ности Управления НКВД по Ленинградской области «о воз-
174
можности дальнейшего проживания» Б. А. Романова в Ле-
нинграде. Ответ, датированный 16 января 1939 г., был крат-
ким и угрожающим: «В отношении Романова Бориса
Александровича, отбывавшего исправительно-трудовой ла-
герь как осужденный по ст. 58—11 УК, необходимо руковод-
ствоваться имеющимися у Вас директивами».61 Это означало,
что милиции надлежало немедленно выслать Б. А. Романова
из Ленинграда. Но по каким-то не известным пока причинам
в начале 1939 г. высылка произведена не была.
♦ ♦ ♦
Летом 1938 г. Б. А. Романову был нанесен еще один и
весьма болезненный удар. В ответ на ходатайство о присвое-
нии ему по совокупности трудов докторской степени без за-
щиты диссертации, датированное еще декабрем 1935 г., ему
наконец был прислан протокол решения Ученого совета
МИФЛИ (которому ВАК поручила рассмотреть этот во-
прос), содержавший ничем не мотивированный отказ.62
Б. А. Романов вполне обоснованно оценил эту акцию как
дискриминационную и связанную с его положением формаль-
но безработного, подвергавшегося репрессиям и вообще жи-
вущего в Ленинграде на птичьих правах. Но он не смирился
и написал резкое письмо в МИФЛИ с требованием обосно-
вать негативное решение его Ученого совета.
В ответе, полученном вскоре, сообщались мотивы отказа
в присвоении докторской степени: «...работы тов. Б. А. Ро-
манова находятся на недостаточном теоретическом и науч-
ном уровне»: его книга «Россия в Маньчжурии» написана
под влиянием работ М. Н. Покровского, приведенный в ней
материал устарел, отсутствуют ссылки на произведения Ле-
нина и Сталина.63
Б. А. Романов счел этот ответ оскорбительным для себя
и сразу же написал аргументированный протест в ВАК. Он
показал, что не только не находился под влиянием Покров-
ского, но в теоретическом и методологическом отношениях
противостоял ему. Но особенно задел Б. А. Романова упрек
в низком научном уровне книги. Это «бесповоротно опоро-
чивает, — писал он, — всю мою научную работу, начиная со
студенческой скамьи (1908 г.) и до последнего дня». Ученый
выразил удивление по поводу утверждения, что материал,
положенный в основу книги, уже устарел, — особенно при-
нимая во внимание то, что после него этой темой никто не
занимался. Б. А. Романов сообщил и о написанной им новой
книге «Русско-японская война», принятой Институтом исто-
175
рии Академии наук к печатанию, которая «ориентирована на
более широкую международность темы» и опирается «на
марксистско-ленинскую теоретическую базу». Итак, он вновь
вынужден был убедиться в том, что впредь, при издании
новых работ, посвященных истории международных отноше-
ний конца XIX—начала XX в., ему будет невозможно избе-
жать того, без чего он обходился в своих прежних рабо-
тах,— ритуального жертвоприношения в виде ссылок на Ле-
нина и Сталина.
Апелляция была составлена столь убедительно, что реше-
ние о пересмотре вопроса последовало очень быстро. Но
Б. А. Романов в своем заявлении допустил существенный
просчет, выразив удивление, что не удостоился «даже степе-
ни кандидата исторических наук».64 Высшая аттестационная
комиссия и воспользовалась этим, поручив своим решением
от 23 февраля 1939 г. Ученому совету Ленинградского уни-
верситета «рассмотреть апелляцию Б. А. Романова на реше-
ние Совета МИФЛИ, отказавшего ему в присуждении ученой
степени кандидата исторических наук».65
Уже на 23 марта 1939 г. было назначено заседание Уче-
ного совета исторического факультета ЛГУ. 20 марта напра-
вил в Совет свой отзыв Е. В. Тарле, с которым Б. А. Рома-
нова связывали давние, еще с начала 20-х годов, служебные
(по Центрархиву) и личные отношения. В этом отзыве отме-
чалось, что книга «Россия в Маньчжурии» «могла бы быть
даже образцовой докторской диссертацией». Е. В. Тарле вы-
разил глубокое убеждение в том, что «советская наука имеет
основание много ждать еще от Б. А. Романова, так много
успевшего уже дать».66 Письменные отзывы представили
также Б. Д. Греков, С. Н. Валк и С. Б. Окунь. На засе-
дании Совета выступили Б. Д. Греков, Е. В. Тарле,
С. Н. Валк и В. В. Струве, один год занимавшийся вместе с
Б. А. Романовым в семинарии у С. Ф. Платонова. Все они
дали, как записано в протоколе, «чрезвычайно высокую ха-
рактеристику научных работ Б. А. Романова», и на этом ос-
новании в результате тайного голосования ему была при-
своена ученая степень кандидата исторических наук без за-
щиты диссертации.67
♦ ♦ ♦
1939 год стал для Б. А. Романова временем возобнов-
ления деловых контактов с сотрудниками ИИМКа, с кото-
рыми он был связан в период написания по договорам с
ГАИМКом ряда внутренних рецензий. С ним начались пере-
176
говоры о написании главы для готовящегося первого тома
фундаментальной «Истории русской культуры» (домонголь-
ский период). В сентябре они завершились официальной про-
сьбой написать к 1 декабря главу, «посвященную
характеристике быта и нравов», и заключением договора с
ИИМКом, предусматривающим этот срок и объем главы —
1 печатный лист.69
Б. А. Романов сразу же принялся за работу, которую,
как и прежде, вел одновременно с выполнением ряда дру-
гих заданий — комментированием «Правды Русской», пере-
работкой рукописи книги о русско-японской войне, состав-
лением карточек для древнерусского словаря и т. д. У
него постепенно вызревала идея оригинального построения
работы — «попытаться собрать и расположить в одной
раме разбросанные в древнерусских письменных памятни-
ках (хотя бы и мельчайшие) следы бытовых черт, житей-
ских положений и эпизодов из жизни русских людей XI—
XIII вв., с тем, чтобы дать живое и конкретное представ-
ление о процессе» сложения феодальных отношений в
древнерусском обществе, «сделав предметом наблюдения
многообразные отражения этого процесса в будничной
жизни этих людей (будь то поименно известные «историче-
ские личности» или конкретно-реконструируемые историче-
ские типы, той или иной стороной отразившиеся в том
или ином документе или литературном памятнике эпохи).
Иными словами: как люди жили на Руси в это время (и
чем кто дышал, сообразно своей социальной принадлеж-
ности и тому капризу своей судьбы, какой удастся подме-
тить в памятнике, если пристально в него всмотреться)».70
Но такой грандиозный замысел, как скоро стало ясно,
невозможно было осуществить в отведенный срок и уло-
житься в обусловленный объем. Работал Б. А. Романов
над этой проблемой с большим увлечением и энтузиазмом,
«с оглядкой» на своего учителя А. Е. Преснякова, «на его
острый критический глаз и пытливую внимательность ко
всему, что им не было замечено и что давало бы ему
повод еще и еще раз пересмотреть, казалось бы, „решен-
ный“ для него вопрос».71
Прошло всего несколько месяцев, и наступила катастро-
фа. 30 ноября 1939 г. советские войска перешли финлянд-
скую границу и началась советско-финляндская («зимняя»)
война. Занесенный над Б. А. Романовым в начале 1939 г.
топор теперь опустился: ему было предписано в кратчайший
срок покинуть Ленинград и поселиться за 100-километровой
зоной восточнее города («на 101 км»). Он выбрал рабочий
177
поселок Ленинградской области Окуловку, где жили его зна-
комые. Взяв с собой много книг и материалов, Б. А. Рома-
нов, кое-как устроившись там, продолжил работу над главой
о быте и нравах домонгольского общества, которая именно
в Окуловке быстро стала перерастать в отдельную книгу.
Сам Б. А. Романов не оставил рассказа (да и не мог тогда
этого сделать) о том, в каких условиях он жил. Он лишь
глухо написал о тяжелых месяцах, совпавших с работой над
текстом очерков.72 А между тем положение казалось безыс-
ходным. Ведь дискриминационное постановление о выселе-
нии из Ленинграда людей, ранее подвергшихся репрессиям,
действовало еще до начала советско-финляндской войны, на-
прямую не было связано с нею, и потому не было и надежды
на его отмену после ее окончания.
Избавление пришло с неожиданной стороны. ИИМК в
лице его директора и ряда сотрудников, дружественно на-
строенных к Б. А. Романову, предпринял ряд усилий для
того, чтобы сделать возможным его возвращение в Ленин-
град еще до окончания войны. Они аргументировали свое
ходатайство тем, что Б. А. Романов выполняет важное госу-
дарственное задание — пишет главы для «Истории культуры
Древней Руси». Сохранилась и характеристика, подписанная
директором Института М. И. Артамоновым, председателем
местного комитета профсоюза Н. Н. Ворониным, на работу
которого Б. А. Романов еще недавно написал отзыв, и сек-
ретарем парторганизации С. А. Дроздовым, направленная в
соответствующие органы. В ней отмечено, что Б. А. Рома-
нов «в течение ряда лет, начиная с конца 1935 г., тесно свя-
зан с коллективом ИИМКа (ранее ГАИМК)», перечислены
работы, которые он написал по заказу Института, указано,
что начиная с 1939 г. он «принимает активное участие в
большой работе по истории культуры Древней Руси, про-
водимой Институтом при участии работников Института ис-
тории и Института литературы АН». В характеристике особо
было подчеркнуто, что Б. А. Романов написал «большой
раздел в 1 томе (история культуры Руси домонгольского пе-
риода) „Семья — быт — нравы“», в котором он, «мобилизо-
вав весь доступный, но ранее в этом плане не использован-
ный материал, сумел вскрыть и осветить такие стороны, ко-
торые совершенно не привлекали внимания исследователей,
и показать совсем по-новому подлинную жизнь древнерус-
ского общества XI—XIII вв. и отдельных социальных его
слоев». Кроме признания достоинств проделанной Б. А. Ро-
мановым работы в этом документе оценивался и его вклад
в общее дело: «Б. А. является не только одним из авторов,
178
он принимает живейшее участие во всех коллективных начи-
наниях, связанных с этим трудом: в разработке проспектов
отдельных томов, в обсуждении основных принципиальных
их положений, уже готовых разделов, внося в эту коллектив-
ную работу свои большие знания, свою живую и острую
мысль. В этом деле, строящемся на совершенно новых
организационных началах, спаявшем в единый коллектив не
только работников ИИМК, но и всех его участников,
Б. А. Романов показал себя не только крупным специалис-
том, каким его знали раньше, но действительно членом кол-
лектива, всегда проявлявшим инициативу и напористость в
общей работе и никогда не отказывающим в товарищеской
помощи и совете своим, менее опытным, товарищам».73
Настойчивые попытки сотрудников ИИМКа избавить
Б. А. Романова от высылки, вернуть его в Ленинград (кроме
тех, кто подписал характеристику, много сделала для этого
М. А. Тиханова) в конечном счете увенчались успехом:
1 февраля 1940 г. ему было направлено официальное письмо
из ИИМКа: «В связи с разрешением Обл. управления мили-
ции Вашей прописки, ИИМК просит Вас срочно выехать в
Ленинград по работе по 1 тому „Истории культуры Древней
Руси“. Ваше отсутствие срывает сдачу тома».74
Но несмотря на то что советско-финляндская война вско-
ре (12 марта 1940 г.) закончилась, Б. А. Романов, вернув-
шись в Ленинград, столкнулся с новыми препятствиями, чи-
нимыми властями его проживанию в Ленинграде. Фактиче-
ски они его вновь выталкивали из города. Унизительные
хождения в милицию, требования многочисленных справок и
ходатайств — все это завершилось только 4 апреля разреше-
нием временной прописки на ограниченный двумя месяцами
срок — до 1 июня. Началась новая череда обивания порогов,
жизнь в течение следующих полутора месяцев без прописки
и потому под угрозой высылки. Возможно, ему даже прихо-
дилось уезжать на некоторое время из Ленинграда. После
долгого ожидания 17 июля Б. А. Романов получил открытку
из милиции о разрешении ему прописаться, но теперь всего
только на один месяц. И наконец, по его заявлению от
21 августа он получил разрешение на постоянное прожива-
ние в родном городе. Иезуитство властей не имело предела:
милиция потребовала от жены Б. А. Романова заявление о
ее согласии прописать его якобы на ее «площадь», хотя это
была квартира еще его отца.75
И все же, несмотря на эти препятствия, Б. А. Романов
по приезде в Ленинград сумел выполнить задание ИИМКа.
Но, как он впоследствии отметил, «в процессе работы» очер-
179
ки, задуманные первоначально как одна из глав коллектив-
ного труда, «далеко переросли размер, допустимый для этого
издания, и, таким образом, выпали из его схемы».76 В начале
1941 г. в письме к Н. Л. Рубинштейну Б. А. Романов по-
дробно описал сложившуюся ситуацию. Он считал вполне ре-
альной опасность новой высылки из города и потому осто-
рожно отметил, что «пока вновь в Ленинграде». «Работал
этот тревожный год (1940 г.—В. П.) очень много и не без
интереса для 1 тома „Истории русской культурыА из этой
статьи-главы о людях и нравах домонгольской Руси вышла
целая книжечка о том же, ласкают надеждой, что напечатают
и ее. В результате со всей этой работой покончено и в на-
следство осталось тягостное переутомление мозгов и нервной
системы. Кочевой тарантас — неподходящая площадка для
литературных упражнений и исследовательских инвенций.
Тема была не тема, а вопль: дайте живых людей, чтоб камни
заговорили. Теперь находят, что люди зажили и что камни
говорят. Но, очевидно, это далось мне ценой внутреннего
перенапряжения, и к старту 1941 г. я пришел без сил для
дальнейшего бега <...>. Эскапада с „людьми11 обращается и
дальше на мою голову. Людей хотят и в III том истории
культуры (XVI в.), и в историю Петербурга XVIII в. Можно
подумать, что у меня пруд для разведения раков, которыми
я могу торговать на все века, живьем! К сожалению, это
вовсе не так. Налицо разрушительное действие подобных эс-
капад».77
Это письмо свидетельствует о том, что опальный, по су-
ществу безработный ученый, преодолевая болезни и невзго-
ды, с минуты на минуту ожидая новых репрессий, не только
не прекращал исследования, но вел их с все возраставшей
интенсивностью, а его труд становился все более и более вос-
требованным. Несмотря на различные препятствия, которые
власти чинили Б. А. Романову в его жизни и в его работе,
1940 год оказался для него не только особенно плодотвор-
ным в творческом отношении, но и ознаменовался для уче-
ного важнейшим прорывом в другом отношении — произо-
шла легализация его имени. Так, с 1929 до 1939 г. он лишь
один раз выступил в научной печати под своей фамилией —
в 1934 г. в качестве автора рецензии, в 1939 г. вышел в свет
второй том лекций А. Е. Преснякова с указанием на то, что
его подготовил Б. А. Романов, а в 1940 г. кроме упоминав-
шихся учебного издания «Правды Русской», статьи в «Про-
блемах источниковедения» о жалованной грамоте вел. кн.
Олега Рязанского Ольгову монастырю вышла в свет статья
в авторитетнейших «Исторических записках», являвшаяся
180
фрагментом готовой уже книги о русско-японской войне,78 в
следующем 1941 г. там же был опубликован другой фраг-
мент той же книги.79 Можно, таким образом, предположить,
что негласный запрет на появление в печати имени Б. А. Ро-
манова был снят с 1939 г., и это после долгого и мучитель-
ного перерыва открывало ему перспективу публикации своих
трудов.
Однако применительно к недавно законченной работе
о быте и нравах домонгольской Руси трудности с издани-
ем возникли с другой, совершенно неожиданной стороны.
Правда, в предисловии к вышедшей с опозданием на 8 лет
книге Б. А. Романов отметил, что ее изданию помешала
война.80 И это была правда, но только часть ее. Была и
еще одна причина, о которой автор поведал в конце мая
1941 г. в письме к Н. Л. Рубинштейну: «Моя книга „Лю-
ди и нравы...“ натолкнулась на такой византийский отзыв
Б. Д. (Грекова. — В. П.)> который рискует похоронить ее.
Впечатление такое, что он хочет оградить свою опришни-
ну, „ать никто не вступается в нее“. А отзыв такой: книга
„оригинальна и интересна", но есть „выводы", с которыми
я согласиться не могу (мало ли что!), и „формулировки",
которые требуют „замены". А какой замены и какие фор-
мулировки — не пишет. Издательство и вернуло мою руко-
пись с просьбой — вступить лично в переговоры с Б. Д.!
Но что бы осталось от „оригинальности" книги, если бы
выводы и формулировки обратились в „грековские" <...>
Таковы тернистые пути современной нам историографии!
Вы думаете, что Б. Д. делает вывод, что книгу не надо
печатать? Ничуть. Наоборот: ее „следует напечатать". Вот
уж легкость движений, которой могла бы позавидовать
любая Лепешинская—Уланова!».81
Конечно, без одобрения акад. Б. Д. Грекова, ставшего к
этому времени главой советской исторической науки и из-
давшего книгу «Киевская Русь», которая была официально
признана марксистским трудом, нечего было и думать о пуб-
ликации работы, концептуально расходящейся с его воззре-
ниями. Так издание книги было отложено на неопределен-
ный срок, оказавшийся столь длительным.
В 1940 г. Б. А. Романов вел работу с издательским ре-
дактором Соцэкгиза над рукописью книги «Русско-японская
война», и к концу года она уже была подготовлена к печати.
Одновременно по совету Б. Д. Грекова и при поддержке
181
Е. В. Тарле он решил представить ее к защите в качестве
докторской диссертации. Но для этого Б. А. Романов заново
пересмотрел текст книги, внес в нее ряд корректив. Они
были столь существенными, что он посчитал необходимым
заменить уже отредактированный вариант книги новым. Воз*
никшая конфликтная ситуация была погашена письмом
А. Л. Сидорова, направленным руководству издательства
15 января 1941 г., в котором он сообщил, что как ответст-
венный редактор книги поддерживает замену отредактиро-
ванного текста на текст, «подготовленный <...> для диспу-
та», оговорив возможность внесения им, вероятно, неболь-
ших поправок «в связи с дискуссией при защите докторской
диссертации».82
Через неделю, 22 февраля 1941 г., в Москве, куда
Б. А. Романов, как он рассказывал, отправился, заняв
деньги, на заседании Ученого совета Института истории
АН СССР состоялась наконец защита его докторской дис-
сертации «Русско-японская война (экономика, политика,
дипломатия). 1895—1905». В качестве официальных оппо-
нентов выступили Е. В. Тарле, Е. М. Жуков и А. Л. Си-
доров.
В обширной вступительной речи Б. А. Романов счел не-
обходимым познакомить членов Совета со своей научной
биографией — от студенческой работы до момента защиты
диссертации. При этом он, со свойственным ему мастерст-
вом, обрисовал историографическую ситуацию, в которой
ему пришлось начинать в 20-х годах работу над междуна-
родно-политическими сюжетами, говорил о методических
принципах, которыми он руководствовался, о трудностях,
возникших при исследовании этой проблематики, о своей
первой книге («Россия в Маньчжурии»), которая и стала
своего рода предысторией этой, второй, хотя еще и не из-
данной книги, о противоречивых откликах на нее, о своей
попытке получить за нее докторскую степень и мотивах от-
каза, об обстоятельствах, сопровождавших перерастание на-
учно-популярной работы в эту сугубо исследовательскую
книгу.
В методологической постановке проблемы Б. А. Романов
резко противопоставил себя М. Н. Покровскому, что безус-
ловно выглядело бы нарочитым, если бы осведомленная ау-
дитория не помнила, что и в «России в Маньчжурии», за
13 лет до этого, он фактически также развивал концепцию,
во многом принципиально расходящуюся с позицией По-
кровского и его учеников, о чем Б. А. Романов счел необ-
ходимым тут же и сказать.
182
Теперь, в 1941 г., для подкрепления этой концепции, хотя
она была и без того убедительно обоснована, невозможно
стало обойтись без ссылок на работу В. И. Ленина «Импе-
риализм как высшая стадия капитализма», цитаты из кото-
рой интерпретировались Б. А. Романовым, однако, таким
образом, что они фактически служили не предпосылками, а
подтверждением уже выработанной в результате анализа оте-
чественных и зарубежных источников концепции — еще
тогда, когда над автором не висела обременительная необ-
ходимость руководствоваться «указаниями классиков мар-
ксизма-ленинизма». В не меньшей мере стали обязательными
ссылки на «Краткий курс» «Истории ВКП(б)», причем и в
этом случае автор стремился приводить из него цитаты так,
чтобы они подтверждали его собственные выводы и заклю-
чения (а не наоборот). «,,Моя“ буржуазия с „моим“ рын-
ком», говорил Б. А. Романов, к его радости, оказались в ци-
тируемом им фрагменте из «Краткого курса» «на первом
месте». «Значит, — продолжал он, — мой исторический ин-
стинкт <...> и бдительная работа не дали мне сбиться с
верного курса и привели-таки меня к маяку». В таком кон-
тексте цитата зазвучала для него «как оправдательный вер-
дикт». Эта рискованная и столь свойственная Б. А. Романо-
ву эскапада могла быть элементом лишь устного выступле-
ния, но конечно не опубликованного текста. Он даже
рискнул намекнуть на то, что книга в ее концептуальных ос-
новах была уже готова в 1937 г., следовательно, как могли
заключить слушатели, до опубликования «Краткого курса»,
вышедшего в свет годом позднее.
Что касается характеристики японского империализма, то
Б. А. Романов, признав, что достигнуть такого же масштаба
изучения, как при исследовании российского империализма,
ему не удалось, парадоксальным образом вызывающе указал
на непреодолимость этого противоречия. «Только революция
в Японии, — сказал он, — раскроет документацию японского
империализма в той полноте, в какой это сделала Октябрь-
ская революция в России».
Б. А. Романов далее остановился на задачах, которые он
перед собой поставил, на способах их решения и на выводах,
к которым пришел (см. об этом далее). В заключение он вы-
сказал сокровенную мысль, не искаженную ни политической
конъюнктурой, ни стремлением не показаться нескромным:
он работал «на самом стыке буржуазной и советской исто-
риографии», не над «какою-либо грошовой темой», а над
«темой, которую невозможно переоценить именно для совет-
ской науки». Тем самым Б. А. Романов в иносказательной,
183
хотя и прозрачной, форме определил свое место в исто-
рической науке: будучи представителем старой, к тому же
петербургской, школы, он рискнул вторгнуться в заповедную
зону марксистско-ленинской историографии и вынужден был
подчиниться некоторым ею установленным правилам. «Эту
тему, — закончил свою речь Б. А. Романов,—в мое время
впервые приходилось ставить на документальную и научную
базу. Я начал это дело, как умел, и один теперь дотянул до
сего дня. Надеюсь, что не бросят здесь в меня камнем за
это».83
Никто действительно не бросал в диссертанта камни. Вы-
ступления официальных оппонентов носили весьма компли-
ментарный характер. А. Л. Сидоров, правда, сделал ряд за-
мечаний, не согласившись (как и прежде) с трактовкой
Б. А. Романовым проблемы «виновников войны». Е. М. Жу-
ков в основном остановился на роли Японии в развязывании
русско-японской войны и развил гему особенностей японско-
го империализма. Е. В. Тарле всецело поддержал Б. А. Ро-
манова, выразив недоумение тем, что он до сих пор не стал
доктором наук, каковым его признают де-факто уже давно.
Можно утверждать, что защита прошла триумфально для
Б. А. Романова и завершилась присвоением ему докторской
степени.
Ученый надеялся, что теперь для него может возникнуть
новая ситуация и ему удастся наконец освободиться от
унизительной гонки за договорными работами, надеялся на
более устойчивый социальный статус, думал, что станет воз-
можным поступление в академический институт по основной
профессии. Ведь всего за год до защиты именно такой ин-
ститут сумел, как писал Б. А. Романов, «отхлопотать» его
из ссылки на 101-й км. Здоровье его все больше расшатыва-
лось, возможностей для систематического лечения не было.
Приближалась безрадостная старость. Поэтому для него эта
диссертация и эта защита были последней ставкой на кону,
выигрыш которой означал жизнь. Вряд ли поэтому Б. А. Ро-
манов колебался, когда насыщал свою диссертационную ра-
боту ссылками на «классиков марксизм а-ленинизм а». Ему на-
вязали правила игры, не оставив иного выхода, и он вынуж-
ден был принять их. Как иначе мог поступить опальный
историк, которого в течение 10 лет тоталитарная власть
арестовывала и гноила в тюрьме, затем в концлагере, не да-
вала права жить с семьей, высылала из родного города, гро-
зила новыми репрессиями, препятствовала работе по специ-
альности?
184
Надежда не обманула на этот раз Б. А. Романова.
20 июня 1941 г. решением Академии наук ему было присвое-
но звание старшего научного сотрудника, а 21 июня, в
самый канун войны, ВАКом было утверждено и решение
Ученого совета Института истории АН СССР — Б. А. Рома-
нов стал наконец доктором исторических наук.84 Прошло
еще несколько дней, и 9 июля ИИМК принял его в свой
штат. Очень скоро, в период ленинградской блокады, док-
торская степень и работа в академическом институте спасли
ему жизнь.
После защиты диссертации Б. А. Романов не прекращал
работать с издательством над книгой о русско-японской
войне, 25 июня 1941 г. датирована его надпись на ее титуль-
ном листе: «У меня две маленькие поправки на стр. 3. Б. Ро-
манов».85
Весной и в начале лета он продолжал активно, но вне-
штатно участвовать в научной жизни ЛОИИ и ИИМКа,
выступал в прениях по докладу А. И. Копанева о куплях
Ивана Калиты, очень высоко оценив мастерство молодого
ученого, которого с тех пор заприметил и с которым
впоследствии охотно сотрудничал. Его яркая речь на этом
заседании запомнилась докладчику, записавшему для памя-
ти ее фрагмент: «В кружеве доказательств не торчит ни
одной ниточки, за которую бы, ухватясь, можно было бы
распустить все кружево». В конце июня 1941 г. Б. А. Ро-
манов выступал в качестве официального оппонента в
ЛГУ на кандидатских защитах двух учеников И. И. Смир-
нова — А. И. Копанева и Д. И. Петрикеева, сразу ушед-
ших на фронт.
Несмотря на успешную защиту и открывавшиеся в связи
с ней новые перспективы, Б. А. Романов, когда позднее, в
конце жизни, подавал заявление о реабилитации, вполне обо-
снованно писал, что в «результате <...> несправедливого
приговора» из его «трудовой жизни (как научного работни-
ка) было вычеркнуто минимум восемь лет, считая только ка-
лендарно».86 Эти 8 лет, фактически же целое десятилетие,
ученый находился в аутсайдерском положении, которое для
него постоянно и неизменно воссоздавал репрессивный
режим. И действительно, за это время ему удалось опубли-
ковать всего только 7 печатных работ, включая подготов-
ленные им к печати лекции А. Е. Преснякова.
И все же Б. А. Романов выстоял, в труднейших условиях
преодолевая болезни и упадок сил, сумел возобновить иссле-
дования, написал много научных трудов, которые ждали из-
дания.
185
ПРИМЕЧАНИЯ
1 Д. С. Лихачев, рассказывая о судьбе возвращавшихся из концлагерей
заключенных по политическим статьям, упоминает Д. П. Каллистова, кото*
рый согласился работать в качестве вольнонаемного в Дмитровлаге (на
строившемся канале Москва—Волга), после чего был принят в аспирантуру
Ленинградского университета—в отличие от самого Д. С. Лихачева, кото-
рому в Дмитровлаге устроиться не удалось, почему его во время паспорти-
зации пытались выслать из Ленинграда (Лихачев Д. С. Воспоминания. СПб.,
1995. С. 284—285, 299).
2 Романов Б. А. Россия в Маньчжурии (1892—1906): Очерки по исто-
рии внешней пол1гтики самодержавия в эпоху империализма. Л., 1928.
3 И. И. Шитц — Б. А. Романову. 9 февраля 1934 г.: Архив СПб.
ФИРИ, ф. 298, on. 1, д. 265, л. 2.
4 Б. А. Романов — П. Г. Любомирову. 15—16 декабря 1933 г.: ОПИ
ГИМ, ф. 470, д. 234, л. 21—22. Д. С. Лихачев, осужденный по другому
сфабрикованному «делу» и вернувшийся в Ленинград примерно в то же
время, что и Б. А. Романов, вспоминает, что он «безуспешно искал работу»,
как и «все остальные». Его не принимали «даже счетоводом мебельной фаб-
рики» (Лихачев Д. С. Воспоминания. С. 284).
5 Архив Управления ФСБ по С.-Петербургу и области, д. П-82333, т. 9,
л. 37.
6 Лурье Я. С. Предисловие // Приселков М. Д. История русского лето-
писания XI—XV вв. СПб., 1996. С. 14—15.
7 Б. А. Романов — П. Г. Любомирову. 21 июня 1934 г.: ОПИ ГИМ,
ф. 470, д. 234, л. 31—31 об.
8 И. И. Шитц—Б. А. Романову. 14 июля 1934 г.: Архив СПб.
ФИРИ, ф. 298, on. 1, д. 265, л. И. Сохранился лишь фрагмент неокон-
ченной статьи (Романов Б. А. Врастание царизма в империализм. 1881 —
1900 гг.: Архив СПб. ФИРИ, ф. 298, on. 1, д. 50, машинопись, 11 с.).
9 Б. А. Романов — П. Г. Любомирову. 21 июня 1934 г.: ОПИ ГИМ,
ф. 470, д. 234, л. 31—31 об.
10 Романов Б. А. [Рец.] Ллойд-Дж орд ж Д. Военные мемуары / Перевод
с английского И. Звавича; С предисловием Ф. А. Ротштейна. М., 1934//Ис-
торический сборник. 1935. № 4. С. 296—306.
11 Б. А. Романов — П. Г. Любомирову. 30 сентября 1934 г.: ОПИ
ГИМ. ф. 470, д. 234, л. 35.
12 Архив СПб. ФИРИ, ф. 298, on. 1, д. 7, л. 2—4.
13 Там же, д. 51.
14 Там же, д. 7, л. 1.
13 Там же, д. 52 (машинопись, 37 с.).
16 Там же, д. 55 (машинопись, 80+15 с.).
17 П. Г. Любомиров — Б. А. Романову. 16 сентября 1935 г.: Архив
СПб. ФИРИ, ф. 298, on. 1, д. 242, л. 6 об.
18 Б. А. Романов — П. Г. Любомирову. 12 ноября 1935 г.: ОПИ ГИМ,
ф. 470, д. 234, л. 37.
19 Лихачев Д. С. Воспоминания. С. 291.
20 Э. Д. Гримм — П. Г. Любомирову. 12 апреля 1935 г.: ОПИ ГИМ,
ф. 470, д. 234, л. 57—57 об.
21 Б. А. Романов — П. Г. Любомирову. 3 мая 1935 г.: Там же, л. 46.
22 Б. А. Романов — П. Г. Любомирову. 1935 г.: Там же, л. 41—41 об.
23 Б. А. Романов — П. Г. Любомирову. 24 сентября 1935 г.: Там же,
л. 35—35 об.
186
24 Б. А. Романов — П. Г. Любомирову. 12 ноября 1935 г.: Там же,
л. 37—38 об.
25 С. Н. Чернов — П. Г. Любомирову. 6 декабря 1935 г.: Там же,
л. 21 об.
26 Правда. 1936. 27 янв.
27 Источниковедческий анализ партийных документов, опубликованных
27 января 1936 г., произведен М. В. Нечкиной. Ею установлено, что инфор-
мационное сообщение было отредактировано Сталиным, который и вставил
в него все фрагменты, содержавшие обвинения в адрес М. Н. Покровского
и его последователей, сформулировав их таким образом, будто бы их осуж-
дение основывалось на ранее принятых решениях (Нечкина М. В. Вопрос о
М. Н. Покровском в постановлениях партии и правительства 1934—1938 гг.
о преподавании истории и исторической науки (к источниковедческой сто-
роне темы)//ИЗ. 1990. Т. 118. С. 232—246).
28 Сталин И., Жданов А., Киров С. Замечания по поводу конспекта
учебника по истории СССР // К изучению истории: Сборник. Партиздат ЦК
ВКП(б). Б. м., 1937. С. 22.
™ ЦГАИПД СПб., ф. 24, оп. 2-в, д. 1829, л. 92—93. Этот документ об-
наружила С. Дэвис. Ср. его интерпретацию: Брандербергер Д. Л. Воспри-
ятие русоцентристской идеологии накануне Великой Отечественной войны
(1936—1941 гг.)//Отечественная культура и историческая мысль XVIII—
XX веков: Сб. статей и материалов. Брянск, 1999. С. 35—36.
30 ЦГАИПД СПб., ф. 24, оп. 2-в, д. 1829, л. 94 (на этот документ об-
ратила мое внимание А. П. Купайгородская, которая любезно разрешила
мне его использовать).
31 См.: Известия ГАИМК. М.; Л., 1934. Вып. 86. С. 111 — 112.
32 ЦГАИПД СПб., ф. 24, оп. 2-в, д. 1829, л. 97.
33 Там же, л. 92.
34 Копржива-Лурье Б. Я. [Лурье Я. С.]. История одной жизни. Париж,
1987. С. 157—177.
35 См.: Константинов С. В. Дореволюционная история России в идео-
логии ВКП(б)//Историческая наука России в XX веке. М., 1997. С. 222—
224.
36 Сталин И. В. Тов. Демьяну Бедному (выдержки из письма) // Ста-
лин И. В. Соч. М., 1952. Т. 13. С. 23—27.
37 Большевик. 1941. № 9. С. 3.
38 Против фальсификации народного прошлого. М.; Л., 1937. С. 3—4;
Дубровский А. М. Как Демьян Бедный идеологическую ошибку совершил//
Отечественная культура и историческая наука XVIII—XX веков: Сб. статей.
Брянск, 1996. С. 143—151.
39 Артизов А. Н. В угоду взглядам вождя//Кентавр. 1991. Октябрь—
декабрь. С. 133.
4° Подробно см.: Там же. С. 125—135; Дубровский А. М. А. А. Жданов
в работе над школьным учебником истории // Отечественная культура и
историческая наука XVIII—XX веков: Сб. статей. Брянск, 1996. С. 128—143.
41 См.: Ганелин Р. Ш. 1) «Афины и Апокалипсис»: Я. С. Лурье о со-
ветской исторической науке 1930-х годов//In memoriam: Сб. памяти
Я. С. Лурье. СПб., 1997. С. 147—153; 2) Сталин и советская историография
предвоенных лет//Новый часовой. 1998. № 6—7. С. 102—117.
42 Романов Б. А. Изыскания о русском сельском поселении эпохи фео-
дализма // Вопросы экономики и классовых отношений в Русском государ-
стве XVI—XVII веков. М.; Л., 1960. С. 327—476.
187
43 Там же. С. 440. Несогласие с выводом Б. А. Романова см.: Дегтя-
рев А. Я. Русская деревня в XV—XVII веках: Очерки истории сельского рас-
селения. Л., 1980. С. 9—11.
44 Романов Б. А. Элементы легенды в жалованной грамоте вел. кн.
Олега Ивановича Рязанского Ольгову монастырю // Проблемы источникове-
дения. М.; Л., 1940. Сб. 3. С. 205—224.
45 С. Н. Валк писал, что Б. А. Романов подверг этот памятник заме-
чательному разбору» (Валк С. Н. Борис Александрович Романов // Исследо-
вания по социально-политической истории России: Сб. статей памяти Бори-
са Александровича Романова. Л., 1971. С. 26).
46 Речь Б. А. Романова на защите докторской диссертации: Архив
СПб. ФИРИ, ф. 298, on. 1, д. 75, л. 9—11.
47 Ананьин Б. В. Мемуары С. Ю. Витте в судьбе Б. А. Романова//Про-
блемы социально-экономической истории России: К 100-летию со дня рож-
дения Бориса Александровича Романова. СПб., 1991. С. 37.
48 См.: Ананьин Б В., Ганелин Р. Ш. Опыт критики мемуаров
С. Ю. Витте (в связи с его публицистической деятельностью в 1907—
1915 гг.)//Вопросы историографии и источниковедения истории СССР. М.;
Л., 1963. С. 323—326. См. также: Ананьин Б. В., Ганелин Р. Ш.
С. Ю. Витте — мемуарист. СПб., 1994. С. 36—38.
49 Архив СПб. ФИРИ, ф. 298, on. 1, д. 66.
50 Там же, д. 57—64.
51 Романов Б. А. Люди и нравы древней Руси (Историко-бытовые очер-
ки XI—XIII вв.). Л., 1947. С. 13—14.
52 Правда Русская: Комментарии / Составили Б. В. Александров,
В. Г. Гейм ан, Г. Е. Кочин, Н. Ф. Лавров и Б. А. Романов; Под редакцией
академика Б. Д. Грекова. М.; Л., 1947. Т. 2. С. 7.
53 Правда Русская: Учебное пособие/Отв. редактор Б. Д. Греков. М.;
Л., 1940. Для этого издания кроме комментариев Б. А. Романов подготовил
указатель терминов и речений и таблицу постатейной нумерации.
54 Архив СПб. ФИРИ, ф. 298, on. 1, д. 5, л. 16 об.; д. 19, л. 19.
55 Там же, д. 7, л. 17.
56 Там же, д. 69.
57 Романов Б. А. Родина Афанасия Никитина — Тверь XIII—XV вв.
Историко-политический очерк//Хожение за три моря Афанасия Никитина.
М.; Л., 1948. С. 80—106.
58 Архив СПб. ФИРИ, ф. 298, on. 1, д. 10, л. 1.
59 ПФА РАН, ф. 175, оп. 19, д. 6, л. 36 об. Благодарю А. П. Купай-
городскую, указавшую мне на этот документ.
60 Архив Управления ФСБ по С.-Петербургу и области, д. П-82333,
т. 1, л. 685—685 об.
61 Там же, л. 687.
62 Архив СПб. ФИРИ, ф. 298, on. 1, д. 13, л. 2.
63 Там же, д. 1.
64 Там же, л. 3.
65 Там же, л. 6.
66 Там же, л. 7.
67 Там же, л. 10.
68 Там же, д. 7, л. 18.
69 Там же, д. 14.
70 Романов Б. А. Люди и нравы древней Руси. С. 5.
71 Там же. С. 14.
72 Там же.
188
73 ПФА РАН, ф. 175, оп. 27 (1940 г.), д. 8, л. 45—45 об. Благодарю
А. П. Купайгородскую, любезно указавшую мне на этот документ.
74 Архив СПб. ФИРИ, ф. 298, on. 1, д. 4, л. 4.
75 Там же, д. 4.
76 Романов Б. А. Люди и нравы древней Руси. С. 13.
77 Б. А. Романов — Н. Л. Рубинштейну. 10 января 1941 г.: ОР РГБ,
ф. 521, картон 26, д. 39, л. 15.
78 Романов Б. А. Дипломатическое развязывание русско-японской
войны 1904—1905 гг.//ИЗ. 1940. Т. 8. С. 37—67.
79 Романов Б. А. Происхождение англо-японского договора 1902 г.//
Там же. 1941. Т. 10. С. 40—65.
80 Романов Б. А. Люди и нравы древней Руси. С. 14.
81 Б. А. Романов — Н. Л. Рубинштейну. 31 мая 1941 г.: ОР РГБ,
ф. 521, картон 26, д. 39, л. 7.
82 Архив СПб. ФИРИ, ф. 298, on. 1, д. 10, л. 7.
83 Там же, д. 75, л. 1—17, 1а—8а.
84 Там же, д. 13, л. 13.
85 Там же, д. 66.
86 Архив Управления ФСБ по С.-Петербургу и области, д. П-82333,
т. 9, л. 37.
— 9 —
«Я ЖИВУ ЛИЦОМ К ЛЕНИНГРАДУ»: ЭВАКУАЦИЯ,
ТАШКЕНТ
Начавшаяся 22 июня 1941 г. война конечно и для
Б. А. Романова не могла не стать трагической вехой на его
жизненном пути. Ему минуло уже 52 года, и одно это, а не
только состояние здоровья, было препятствием к его непо-
средственному в ней участию. Но жена Б. А. Романова —
Елена Павловна, хотя и имела специальность гинеколога, но
в ее 44 года оказалась подлежащей мобилизации и вскоре
начала службу хирургом в госпитале на Ленинградском
фронте.
Так ученый остался в Ленинграде в одиночестве. Начав-
шаяся в сентябре блокада и связанный с нею голод быстро
сказались на Б. А. Романове — он стал опухать. Эти обсто-
ятельства, а также беспокойство за жену привели к новому
срыву: дало рецидив нервно-психическое заболевание, про-
должавшееся полтора месяца. Пришлось ложиться в клинику,
но Б. А. Романов «успел полечиться <...> недели две»,1 не
закончив курса, так как было принято решение о спасении
«золотого фонда» — эвакуации докторов наук, и он, несмот-
ря на то что не хотел эвакуироваться, получил предписание
срочно готовиться к отъезду. На руки Б. А. Романову вру-
чили справку от 4 ноября 1941 г. о том, что «по постанов-
лению правительства» он «эвакуирован из Ленинграда и на-
правлен в г. Казань в распоряжение Президиума АН СССР».
Получив «хлеба на 5 дней»,* он срочно приступил к сборам.
Но накануне назначенного на 6 ноября вылета Б. А. Рома-
нов заболел гриппом с температурой 39°, и, как писал он,
«если бы не добрейший мой друг Николай Федорович (Лав-
ров. — В. П.)> едва ли бы я сам справился со всеми тороп-
ливыми приготовлениями».
190
С собой он захватил небольшую ручную кладь, а «двой-
ной комплект белья и одеяние был весь» на его «бренном
теле». Кроме того, Б. А. Романов приготовил еще и чемодан
со своим «вещевым достоянием», который в самолет было
взять нельзя, и он отдал его Н. Ф. Лаврову, который должен
был отвезти его в ИИМК «на предмет вывоза вместе с иму-
ществом Института, в случае эшелонированной эвакуации».
Но этот чемодан так и не был им получен в Ташкенте. От-
правлявшихся на аэродром везли туда на 4 автобусах, но по
каким-то причинам все, кроме Б. А. Романова, «остались
<...> в Ленинграде, не взятые в самолет». Таким образом,
после того как его «перекинули из кольца» на самолете, он
оказался «один, как перст». «Мой путь был долог, извилист
и неверен, —писал Б. А. Романов, — без всякой надежды на
успешное и осмысленное его окончание, не говоря уж о том,
что только чудо спасло меня от германских лап при проезде
по Тихвинскому району»?
Пересаживаясь с теплушки в теплушку, Б. А. Романов
«докатился до Вятки за отсутствием путей на Казань». Здесь
его положение стало вовсе отчаянным, и 25 ноября он по-
слал Н. Л. Рубинштейну фактически прощальную открытку,
полную трагизма и безысходности: «Отправили без денег,
кроме очередной зарплаты. Она кончается через несколько
дней. Ленинград обещал платить, но не знает, где я. Казань
молчит. Греков в Ташкенте. Вместо спасения „золотого
фонда" — болезнь и нищенство; я еле двигаюсь и жду краха.
Я лететь не хотел, но нажали, обещали, что директораты до-
гонят и возьмут попечение. Вместо этого заброшенность и
одиночество, оторванность от всех пуповин. Хочу в Таш-
кент, там есть друзья, но нет денег на поезд и сил на про-
езд— здесь уже самолетов не предлагают. А ехать в эшело-
не— 1>/2 месяца — верная смерть. Пишу эту открытку на
прощанье, чтобы поблагодарить Вас за все хорошее, что
видел от Вас, и чтобы Вы знали, при каких обстоятельствах
я погибаю. Силы тают день ото дня, едва хожу, а дни про-
ходят в обивании порогов. Наркомпрос предлагает Иркутск
суточными по 10 руб. на 6—7 дней (а реально езды не менее
20 дней), то есть верная гибель с голоду в пути. К тому же
я, видимо, не только бесконечно устал, но и болен, близок
к полной инвалидности. Это сделали дни на чужбине с 6 но-
ября! Прощайте, дорогой мой».4
Лишь чудом Б. А. Романову удалось добраться из Киро-
ва в Казань, где он 30 декабря получил справку о временном
прикомандировании «к Московскому отделению ИИМК, на-
ходящемуся в Ташкенте»,5 и вновь отправился в нелегкий
191
путь. 16 января 1942 г. он после долгих дорожных мытарств,
продолжавшихся со дня вылета из Ленинграда, почти два с
половиной месяца, прибыл наконец в Ташкент, где находи-
лись в эвакуации Московское отделение ИИМКа и Институт
истории АН СССР.
Здесь еще с довоенных времен жил и работал в универ-
ситете и Педагогическом институте близкий его товарищ сту-
денческих лет В. Н. Кун. Он с женой и племянницей занимал
две комнаты, одна из которых была проходная. Семья Кунов
и приютила его у себя, избавив тем самым от общежития,
располагавшегося вместе с академическими институтами в
освобожденном помещении балетной школы им. Тамары
Ханум. Это, как писал Б. А. Романов, было ему «большим
подспорьем».6 Он был «принят, как родной» «в лоне семьи
Владимира Николаевича» (Куна), ставшей для него «поисти-
не психосанаторией» и создавшей «то „постоянное попече-
ние“, которое было прописано» ему в Ленинграде «врачом-
невропатологом». Начался «оздоровительный процесс» после
«длительного шока» — голода и болезней в Ленинграде и
мытарств по дороге в Ташкент.7
Жилищные и бытовые условия, в которых некоторое
время жил Б. А. Романов в Ташкенте, были относительно
благоприятными. Правда, он вместе с В. Н. Куном спал
в проходной комнате, а дом находился на окраине города
«в расстоянии двух трамвайных линий от центра», где по-
мещались академические учреждения и столовая для акаде-
миков, членов-корреспондентов АН СССР и докторов наук
и где он мог ежедневно обедать. Дорога была трудна и
изнурительна — «до середины апреля по невообразимой
глинистой топи, проходимой едва-едва только при дневном
освещении», а ближе к лету «топь сменилась сушью под
знойными лучами среднеазиатского солнца <...> без еди-
ной тени».8 К тому же в ожидании трамвая приходилось
стоять от получаса до часа, а весь путь занимал от полу-
тора до двух часов.9 Жизнь, конечно, была скудной, семье
Кунов вместе с Б. А. Романовым не хватало хлеба, ощу-
щался и дефицит витаминов. Зарплата тоже была неболь-
шой, но деньги эпизодически присылала с фронта Елена
Павловна, ставшая офицером, поэтому они отнюдь не уми-
рали с голоду, хотя жили, по словам Б. А. Романова, «го-
лодновато». «Это не голод,—писал он, — а ослабление,
медленно забирающее».10 Комнаты семьи В. Н. Куна рас-
полагались «на верхнем этаже (2 этаж), под железной кры-
шей (летом — парильня)». Было и много неудобств: писать
Б. А. Романову приходилось в отсутствие В. Н. Куна на
192
его столе, «в любое время посетители; кроме того общая
жизнь, одна верхняя лампочка на всех».
И все же на окраине, в семье Кунов было пока пред-
почтительнее, чем в центре города, но в тех бытовых ус-
ловиях, в которых находилось большинство эвакуирован-
ных из Москвы и Ленинграда его коллег. Они, как пра-
вило, были размещены в общежитии («Ханум») над
институтскими помещениями, «с дортуарами на 10—15 пер-
сон обоего пола вперемешку; с детьми всех возрастов и
нравов <...> В дортуарах недостаточный верхний свет;
кровати на фу-фу; гвоздики на стенке, имущество на по-
доконниках и редких стульях, под кроватями и т. п. Убор-
ная в нижнем этаже — коллективный нужник. Умывалки —
одна для женщин, одна для мужчин (водопровод через
один кран), очереди. Внизу столовая и булочная. Значит,
можешь и без обуви: спи в дортуаре, кушай в столовой,
занимайся в читальнях тут же <...> Но уже ни минуты
уединения и покоя, когда он понадобился: устав „общежи-
тельный"». А кроме того, полуголодное существование.
Правда, некоторые ученые снимали частные квартиры:
«Например, Валки. 10—15 минут от „Ханума“, комната
полутемная (летом достоинство), через комнату хозяев, убор-
ная во дворе примитив, электроприборы, кровать, стол,
шкаф. Предгеченские (трое) — отдельный домик внутри
двора, свой огородик <...> Ларин — чердачная комната с на-
ружной курятной лестницей, чугунная печурка, голая крыша
под самое солнце, вода и уборная во дворе».
Конечно, академики и члены-корреспонденты АН СССР
жили в совершенно иных условиях: в благоустроенной гос-
тинице НКВД, «с паровым отоплением, электричеством, ос-
вещением, мойкой полов, примусными комнатами, душем,
биллиардными, роялем, телефонами. Система отдельных
комнат в 2—3 окна, с мебелью, письменными столами, у всех
электроплитки. Во дворе столовая <...> особая булочная для
живущих. Словом, выходи в библиотеки и в Ханум (два
квартала), где помещаются институты, а затем сиди за пись-
менным столом и работай». Б. Д. Грекову была предостав-
лена комната в квартире наркома просвещения Узбекской
ССР.11
Приехав в Ташкент, Б. А. Романов почти сразу же стал
получать одно за другим печальные известия из Ленинграда.
В первую блокадную зиму умерли его брат и сестра,
Н. Ф. Лавров, Б. В. Александров. Б. А. Романов был край-
не удручен этими первыми утратами близких ему людей. Ни-
чего не было известно о С. Н. Чернове, оказавшемся в ок-
7 В. М. Панеях
193
купированном Пушкине под Ленинградом, где он постоянно
жил. Очень тревожило его и длительное отсутствие писем с
фронта от жены («почтовый провал»). Правда, в июне сразу
пришли 6 — за апрель и одно майское, из которых он вынес
впечатление, что от голода она «уже оправилась физически»,
хотя и «остаются пока только следы моральной измотанно-
сти». Впрочем, последние письма свидетельствовали о начав-
шемся «возрождении по психологической линии».12
Едва оправившись от дороги, Б. А. Романов стал прояв-
лять озабоченность судьбой своих неопубликованных работ.
«Эти месяцы в Ташкенте, — писал он, — я живу в вечном
страхе за физическую сохранность моих: 1) Русско-японской
войны (ЛОИИ), 2) „Людей, быта и нравов" (ИИМК), 3) За-
точника (ИИМК или ЛОИИ?!), 4) Правды Русской (макро-
комментарий, оставшийся на руках у Н. Ф-ча Лаврова в
единственном экземпляре), 5) Тверского княжества (то ли
дома, то ли в институтах?), 6) материалов ко II т. „Истории
русской культуры" (дома и в ИИМКе), 7) книги о сельском
поселении XI—XVI вв. (кажется, дома).13 Болезненное состо-
яние и спешность вылета обусловили некоторые неясности в
памяти о их местонахождении, но в отношении их сохран-
ности тревога для всех одинакова. А теперь уже дело не
только в тревоге. По мере того, как у меня нарастает чув-
ство одиночества, я испытываю почти физическую тоску, со-
сущую тоску по своим работам, что они не со мной. <...>
В нашем положении наши работы — наши дети, и есть
между нами и ими неистребимая физиологическая связь, раз-
рыв которой сопровождается настоящей болью и трудноза-
лечим. <...> Но особенно тоскую я о двух вещах — Заточни-
ке и книжке о „Людях и проч."».14 Б. А. Романов опасался,
что его написанные до войны работы пропадут, как это
было уже с конфискованными рукописями в момент ареста
в январе 1930 г. Кроме того, они ему были необходимы для
продолжения работы в Московском отделении ИИМКа над
плановой темой по истории древнерусской культуры, а также
из-за «повелительной потребности огласить» их «по частям
<...> перед лицом здешних историков».15 Наконец, Б. Д. Гре-
ков выразил намерение подготовить комментарии к «Правде
Русской» в Ташкенте.16
Несмотря на то что в семье Кунов Б. А. Романов был
встречен с искренним радушием, жилось ему в Ташкенте тя-
жело. Утраты родных и ближайших друзей, постоянное бес-
покойство за жену, отрыв от «ленинградских корней», пере-
живаемый им с большой остротой, отсутствие вестей об ос-
тавленных в Ленинграде рукописях — все это отрицательно
194
сказывалось на человеке, обладавшем тонкой и легко возбу-
димой нервной системой, истощенной злоключениями в
тюрьме и концлагере, борьбой за выживание во второй по-
ловине 30-х годов, голодом в блокадном городе, тяжелой,
едва не приведшей к гибели дорогой в Ташкент. «Горький
опыт пересадки» из обжитого дома, из семьи — в чужой
«город иррациональностей», в незнакомый и чуждый коллек-
тив Московского отделения ИИМКа обостренно восприни-
мался Б. А. Романовым, тяжело переносившим свою ото-
рванность от дома и жены.
Одиночество он ощущал и на работе. В Московском от-
делении ИИМКа Б. А. Романову приходилось сотрудничать
с мало ему известными и далекими от него людьми. Само
учреждение, по его словам, — «тело нескладное и хилое», а
в общении с «этими археологами» он был «совсем чужаком».
Тон в институте задавали «москвичи, как и всюду»: «А это
не вылетанцы», т. е. не улетевшие на самолете налегке, «а
выезжанцы» (уехавшие из Москвы поездом), «частью удиран-
цы „16 октября**», когда в 1941 г. в один день произошло
паническое бегство из Москвы массы людей, «с грузом
160 кг! <...> Все они с имуществом и со своими рукопися-
ми». Среди них Б. А. Романов чувствовал себя «до крайно-
сти „облегченным“ погорельцем», у которого с собой «не
было ни строчки» своих «работ, ни листка» своих «записей»,
«раскулаченным среди кулаков разных степеней», «и в этом
было и еще отчуждение».17
За ним в Московском отделении ИИМКа хотя и остави-
ли закрепленную еще в Ленинграде работу для «Истории
культуры Древней Руси», «но она, внешне не оспариваемая,
только терпится, и бывают покушения иного порядка». «Все
это почти бессловесно, — писал Б. А. Романов,—но только
чурбан не почувствует, что здесь не ко двору. Мне неприятна
эта скрытая двусмысленность положения. Но ее приходится
терпеть и быть все время настороже». Что касается научных
заседаний в Московском отделении ИИМКа, то он квалифи-
цировал их как «довольно элементарный археологический
лепет, не способный заинтересовать даже в формально-мето-
дологическом отношении». Поэтому Б. А. Романов «откро-
венно» не давал «себе труда делать веселую мину при этой
скучной игре».
Ему казалось несправедливым, что в Институте истории,
где Б. А. Романов «не имел чести» состоять в сотрудниках,
он оказался «чужим», хотя кое с кем у него и установились
«приятные отношения». «Даже, например, в отношениях с
С. Н. Валком (по его почину) сказывается, что мы не старые
195
приятели по Ленуниверситету, а сотрудники разных институ-
тов».
Что касается исследовательской работы в академических
институтах, то, как казалось Б. А. Романову, «люди живут
здесь старым паром»: «Ташкентских „достижений*1 я еще не
видал», — писал он.18 Правда, сообщал Б. А. Романов,
«здесь сейчас валяют дурака в пользу Колумба (в связи с
450-летием открытия Америки. — В. П.) — с Бахрушиным во
главе».19 Впрочем, отмечал он, «может быть, что-нибудь лю-
бопытное и делается. Но оно для меня еще в латентном со-
стоянии».20 Б. А. Романова возмущала неразборчивость ряда
приезжих ученых, в частности «эпидемическая защита дис-
сертаций с очень узким кругом монополистов-оппонентов
(по 200 р. за выход)», что вело к «проводу дрянных работ
блатных молодцов» за «подачки в виде 40-часовых курсов в
местном вузе», участие их «в деле», в котором они «не яв-
ляются специалистами». «Единственно подлинно-заинтересо-
вавшее» его «событие — <...> доклад старика Виппера о
Плутархе и Евангелиях (написано 6 лет тому назад) — вот
это мастерство!».21
На Б. А. Романова гнетущее впечатление производило
неравноправное положение, в котором находились в Таш-
кенте ленинградцы по сравнению с москвичами. «Кто как
сел, тот так и сидит, — писал он, — москвичи так, ленин-
градцы этак»,22 «здесь все для „своих**, для москвичей; для
чужих же — одни медоточивые слова».23 И вообще — «здесь
живешь и видишь, что ленинградской трагедии москвичи
не понимают, а некоторые в тайниках души и ничего про-
тив того и не имеют», «не понимают» они и «историче-
ского значения Ленинграда!».25 Б. А. Романов выражал
при этом тревогу по поводу трагических утрат в среде
представителей петербургско-ленинградской исторической
школы: «Судите, что остается от ленинградской школы!» —
писал он А. И. Андрееву.26 К нему же был обращен при-
зыв в момент, когда Б. А. Романов обоснованно считал,
что находится накануне гибели: «Держите знамя ленин-
градской школы выше!».27
Сам он включался в творческую работу с большим на-
пряжением сил. Не было необходимых материалов — «от
„Русской Правды** здесь обрывки»,28 констатировал он. В
библиотеке нашелся т. 13 «Полного собрания русских лето-
писей», в котором напечатан фрагмент Никоновской летопи-
си, и Б. А. Романов предпринял попытку вернуться к теме,
которой он отчасти занимался в молодости: «Работаю над
Грозным. Может, что и выйдет. Но это все на волоске»,29 —
196
писал он А. И. Андрееву. О том же Б. А. Романов сообщал
Е. Н. Кушевой 9 ноября 1942 г. в письме, отправленном в
хлопковый совхоз под Ташкентом, где она была на убороч-
ных работах. В. Н. Кун познакомил его с Алексеем Толс-
тым, причастным к издательству «Советский писатель». «В
результате, — писал Б. А. Романов, — я ангажирован на
„оборонную" книжечку о Семилетней войне!! Работа падет
на самое жуткое время — июнь, июль. А они здесь на 60°
при абсолютном бездождии».30
Но на ходе его работы сказывалось и отсутствие «своего
угла». Кроме того, Б. А. Романов «дурно» переносил «таш-
кентский климат». «Дурной сон ночью (перегрев солнечный
за день, да и вообще невроз); сонливость днем, измотанность
к вечернему возвращению. Резкое ослабление памяти в ре-
зультате всего бывшего. Очень большая физическая слабость
и несомненный недостаток питания мозгового вещества <...>
А в основе всего одиночество и вечная тревога за Лёлю
(Е. П. Романову. — В. П.). Настоящая жизнь — в бессонные
ночи, когда обнимаешь положение целиком. В течение дня
какая-то полубледная полужизнь с нарастающим обессилени-
ем от утра к вечеру», и существование «вечно психологиче-
ски на торчке и на прекарном праве. И одиночество <...> К
тому же <...> вечно писать для сорной корзины — у кого хо-
тите иссякнут силы <...> На перспективы свои смотрю очень
мрачно. Может быть и вообще, но во всяком случае здесь».
В конечном счете Б. А. Романов пришел к трагическому для
себя выводу: «...творческая работа мне сейчас не по силам,
независимо от вопроса о материале».31
А летом и осенью 1942 г. подряд произошли события, ко-
торые могли вообще закончиться полным для Б. А. Романо-
ва крахом. 3 июля 1942 г. он получил повестку из местного
органа госбезопасности с сообщением о запрете проживания
в крупных городах и предстоящем выселении на 101-й км, а
10 августа — вторую повестку — «о выезде в 10-дневный
срок».3* Конечно, при его состоянии здоровья это было чре-
вато быстрой смертью. «Я пребываю в состоянии безразли-
чия и отупения, —писал Б. А. Романов. — Что же при таких
условиях прикажете думать, делать и чувствовать <...> Те-
перь пропали все мои работы, и я окончательно гол. Гол я
и извнутри совсем. Один комок нервов. И развивается бо-
лезнь моя неукоснительно <...> Если до свидания, то до сви-
дания. А не то, прощайте <...> Бывают такие ожоги всего
тела, когда площадь необожженная недостаточна для пита-
ния тела человеческого кислородом. Мне кажется, что то,
что происходит со мной, есть результат последовательных
197
частичных ожогов, которые в сумме перехватили дозволен-
ную площадь ожога, и ты задыхаешься, продолжая инстинк-
тивно еще бороться за жизнь. Оттого метусь и мучаюсь все
это время и расшатался извнутри совсем. Душит меня что-то,
душит и не задушит. Представляете себе, какие это пуды для
грудной клетки».33
«Сидение на эшафоте, — сообщал Б. А. Романов,—дли-
лось <...> 40 дней», по 13 августа, когда нужно было «идти
расписываться в получении <...> формального предписания»,
но на этом последнем этапе в дело вмешался Б. Д. Греков,
и, благодаря этому, «отпала необходимость» являться за
предписанием и выезжать из Ташкента. Несмотря на этот
благополучный исход, Б. А. Романов с полным основанием
«и сейчас» не считал «свое здесь положение прочным». Он
думал лишь о том, удастся ли ему и его жене дотянуть до
конца войны, чтобы «воссоединиться где-нибудь в человеко-
образных условиях», и надеялся на то, что в случае удачи
ему «может быть, еще что-нибудь удастся сделать».34
Не успел еще Б. А. Романов оправиться от этого удара,
как его постигла новая беда. В ноябре 1942 г. отказали
глаза, и он погрузился в темноту. Врачи долго не могли ус-
тановить диагноза, «пока знаменитый Филатов не назвал
вещи своим именем» — «поражение зрительного нерва» — «и
не назначил лечения». Этим и был занят Б. А. Романов «с
истовостью человека, ухватившегося за соломинку». К марту
1943 г. он уже мог, хотя и «очень мало», «работать глазами
ценой большого утомления».35
Вероятно, оценки Б. А. Романовым ситуации, сложив-
шейся в Ташкенте, отличаясь свойственной ему повышенной
эмоциональностью, характеризовались некоторой субъектив-
ностью. Это объяснялось и тяжелыми болезнями, и упадком
духа под влиянием череды ударов судьбы, и утратой, казав-
шейся безвозвратной, трудов, написание которых потребова-
ло в 30-х годах колоссального напряжения сил, и потерей
близких людей, и, наконец, безуспешными попытками возоб-
новить научную работу. Они, эти оценки, несомненно отчас-
ти отражали действительное положение, но в не меньшей
мере свидетельствовали о настрое самого Б. А. Романова,
который не мог, а быть может, и не хотел принять новую
реальность. И немудрено: «Я живу лицом к Ленинграду», —
писал он, имея в виду в том числе, что относительно неда-
леко от города служила на Волховском фронте, с января
1942 г. уже вне блокадного кольца, его жена. Б. А. Романо-
ву даже казалось иногда, что в блокированном Ленинграде
198
ему было бы лучше, и он выражал сожаление о своем отъ-
езде из родного города.
Потрясения, связанные с угрозой высылки из Ташкента
и серьезным заболеванием глаз, от которого Б. А. Романов
так никогда и не смог излечиться, лишили его возможности
возобновить в эвакуации творческий труд. Он тосковал по
нему постоянно. «Томительно скучаю по чтению и работе не
урывками», — писал Б. А. Романов Е. Н. Кушевой 9 ноября
1942 г. Но когда в Ташкенте появилась вышедшая в свет в
1943 г. в Москве и получившая еще в рукописи Сталинскую
премию многостраничная монография А. И. Яковлева «Хо-
лопы и холопство в Московском государстве XVII в.», он
внимательно, с карандашом (сохранился экземпляр книги, ис-
пещренный карандашными пометами), прочитал ее и высту-
пил с критическим докладом, который был выслушан с боль-
шим интересом.
В 1942 г. блеснул и луч надежды — пришло известие, что
рукопись книги «Очерки дипломатической истории русско-
японской войны» сохранилась в Госполитиздате, эвакуиро-
ванном в Красноуфимск, и даже включена в план изданий
того же года. Правда, 17 июня 1942 г. на запрос Б. А. Ро-
манова был получен ответ, в котором сообщалось, что «ра-
бота в настоящее время не включена в издательский план
1942 г.» «как несвоевременная»,37 но все же важнее было осо-
знание того, что она не утрачена. Еще одну радость доста-
вила Б. А. Романову встреча с эвакуированными из Ленин-
града после первой блокадной зимы и приехавшими в Таш-
кент его коллегами М. А. Тихановой, В. Г. Гейманом,
И. И. Любименко и с рядом других. М. А. Тиханова сумела
привезти с собой рукопись его неопубликованной статьи об
афоризмах Даниила Заточника. Этот текст и был прочитан
Б. А. Романовым в качестве доклада 17 июля 1943 г.38 Вы-
звало его удовлетворение и то, что была вывезена из Ленин-
града рукопись (в двух экземплярах) первого тома «Культу-
ры Древней Руси», для которого до войны он написал ряд
глав, и что он «одобрен к печати в ЦК (ВКП(б). — В. 77.)»,
хотя издать его удалось гораздо позднее — лишь после
войны.
Отдаленность жилища Б. А. Романова обусловливала его
«физическое отчуждение от академических кулуаров» и «не-
участие в концертных комбинациях Ленинградской консерва-
тории», на концертах которой можно было встретить многих
«приезжанцев» из Ленинграда. И все же ему удавалось сис-
тематически общаться с ленинградскими и московскими кол-
легами. Местом встреч были академическая столовая, а
199
также продовольственный магазин и булочная, где они по-
лучали свои «пайки», «Ханум», куда Б. А. Романов по до-
роге заходил, чтобы на ходу обсудить текущие проблемы и
обменяться информацией. В это «вклинивались изредка, по
сплошности помещения, визиты к Юр. Вл. Готье, Мар. Вал.
Пичета, Шишмаревым (все живут в доме академиков <...>
где и столовая)». Реже, и это Б. А. Романова удивляло, его
приглашал к себе домой Б. Д. Греков.39 Здесь, в Ташкенте,
прежнее знакомство с Е. Н. Кушевой, часто до войны при-
езжавшей из Москвы в Ленинград, переросло в крепкую
дружбу. Б. А. Романову особенно импонировало, что она в
Саратове была ученицей П. Г. Любомирова и отчасти
С. Н. Чернова и трепетно хранила память об этих ближай-
ших его друзьях. Регулярная переписка между Б. А. Романо-
вым и Е. Н. Кушевой, завязавшаяся сразу же по возвраще-
нии их домой (ее — в Москву, его — в Ленинград), прерва-
лась только его кончиной.
В 1943 г. в связи с реэвакуацией москвичей (хотя и не
всех) освободилось несколько комнат в академическом обще-
житии («Ханум»), и ряд ленинградцев, в том числе
С. Н. Валк с женой, А. В. Предтеченский с семьей, пересе-
лился сюда. Среди них был и Б. А. Романов, получивший
отдельную комнату на первом этаже. 13 октября 1943 г. он
включился и в общественную жизнь в важной для эвакуиро-
ванных сотрудников академических учреждений сфере: он
вместе с М. А. Тихановой становится «членом комиссии об-
щественного контроля, избранным от коллектива Академии
наук», о чем свидетельствовала справка, дававшая ему
«право контролирования столовых, магазинов, промтовар-
ных и продуктовых баз Главгастронома».40 Очевидно, данная
работа оказалась полезной, поскольку «в связи с отъездом
из Ташкента» он получил 17 июня 1944 г. от Уполномочен-
ного Президиума АН СССР в Ташкенте члена-корреспонден-
та АН СССР В. Ф. Шишмарева «благодарность за эту дея-
тельность».41
Вскоре после снятия блокады Ленинграда Б. А. Рома-
нов стал предпринимать усилия к тому, чтобы побыстрее
вернуться в родной город. Он опасался только, что при
его состоянии здоровья жизнь в одиночестве может лишь
обострить болезни. Поэтому Б. А. Романов обратился с
письмом к Уполномоченному Президиума АН СССР в Ле-
нинграде высокочтимому им академику Л. А. Орбели с
просьбой оказать содействие в переводе жены с Волховско-
го фронта в Ленинград. Результат отправленного Л. А. Ор-
бели ходатайства не замедлил сказаться, и приказ был
200
подписан, но, как вскоре оказалось, его скрывали и не
только не собирались исполнять, а возникла даже угроза
перевода Е. П. Романовой на другой фронт, и Б. А. Ро-
манов вновь обратился с просьбой оказать ему помощь в
этом деле.42 Вскоре, однако, выяснилось, что на Волхов-
ском фронте согласны были на перевод ее в Ленинград,
но только при условии присылки взамен опытного гине-
колога. Б. А. Романов вынужден был написать Л. А. Ор-
бели третье письмо, в котором подробно объяснил ситуа-
цию: «...никакой гинекологической работы она, разумеется,
не выполняет, а несет работу хирурга», вопрос же, таким
образом, «вернулся в исходное положение». «В ближайшие
дни, — писал далее Б. А. Романов, — по состоянию моего
здоровья я должен выехать из Ташкента <...> и я могу
рассчитывать только на воссоединение с женой и, rebus sic
distantibus,43 ее поддержку».44 В конечном счете Е. П. Ро-
манова была переведена на Ленинградский фронт, но от-
нюдь не сразу получила возможность жить дома.
Б. А. Романов рвался поскорее в Ленинград, воодушев-
ленный и письмом из Саратова, где находился в эвакуации
Ленинградский университет, от декана исторического фа-
культета В. В. Мавродина с предложением работы на
любых, устраивающих его условиях, с гарантиями прописки
(подробно см. далее). Но выехать в Ленинград без формаль-
ного вызова из города было невозможно, а В. В. Мавродин
послать его не мог, так как находился еще в Саратове.
Не дождавшись вызова, Б. А. Романов сумел добиться
перевода из Московского отделения ИИМКа в Институт ис-
тории АН СССР, а затем и своего командирования в Мос-
кву, и 25 июня 1944 г. уехал из Ташкента. В Москве он про-
был около двух месяцев и снова по командировке, подписан-
ной директором Института истории Б. Д. Грековым,
отправился в Ленинград. Таким образом, Б. А. Романов
окольным путем, раньше, чем все его коллеги, вернулся на-
конец в родной город.
ПРИМЕЧАНИЯ
1 Б. А. Романов — А. И. Андрееву. Из Ташкента в Ленинград. 3 июня
1942 г.: ПФА РАН, ф. 934, оп. 5, д. 296, л. И об.
2 Архив СПб. ФИРИ, ф. 298, on. 1, д. 4, л. 5.
3 Б. А. Романов — А. И. Андрееву. 3 июня 1942 г.: ПФА РАН,
ф. 934, оп. 5, д. 296, л. И об., 12 об. «Одним из командиров, распоряжав-
шихся на станции, — как установил А. Н. Цамутали, — был призванный в
начале войны в армию научный сотрудник Института этнографии АН СССР
И. Я. Треногов. Он-то и сумел буквально втиснуть в один из последних
201
воинских эшелонов Б. А. Романова и академика В. В. Струве» (Цамута-
ли А. Н. Историческая наука и Великая Отечественная война (По материа-
лам СПб. ФИРИ) // Ленинградская наука в годы Великой Отечественной
войны. СПб., 1995. С. 37).
4 Б. А. Романов — Н. Л. Рубинштейну. Из Кирова в Саратов. 25 но-
ября 1941 г.: ОР РГБ, ф. 521, картон 26, д. 39.
5 Архив СПб. ФИРИ, ф. 298, on. 1, д. 4, л. б.
6 Б. А. Романов — А. И. Андрееву. 4 апреля: ПФА РАН, ф. 934, оп. 5,
д. 296, л. 8 об.
7 Б. А. Романов — А. И. Андрееву. 3 июня 1942 г.: Там же,
л. И об.—12.
8 Б. А. Романов — А. И. Андрееву. 3 июня 1942 г.: Там же, л. 12 об.
9 Б. А. Романов — А. И. Андрееву. 9—10 сентября 1942 г.: Там же,
л. 17 об.—18.
10 Там же, л. 18.
11 Б. А. Романов — А. И. Андрееву. 9—10 сентября 1942 г.: Там же,
л. 17—17 об.
12 Б. А. Романов — А. И. Андрееву. 4 апреля 1942 г.: Там же, л. 8 об.;
3 июня 1942 г.: Там же, л. 11.
13 Б. А. Романов перечислил свои неопубликованные работы, написан-
ные в промежутке между выходом из концлагеря и началом войны и остав-
ленные в Ленинграде в разных местах: книгу «Очерки дипломатической
истории русско-японской войны», книгу «Люди и нравы древней Руси», ста-
тью «Даниил Заточник (опыт исторического комментария к его афориз-
мам)», историографический постатейный комментарий к «Правде Русской»,
главу «Тверское княжество», подготовленную для многотомной «Истории
СССР», подготовительные материалы к главам, заказанным ему для «Исто-
рии культуры Древней Руси», рецензию (переросшую в книгу) на книги
Н. Н. Воронина и С. Б. Веселовского.
14 Б. А. Романов — А. И. Андрееву. 3 июня 1942 г.: ПФА РАН,
ф. 934, оп. 5, д. 296, л. 12.
15 Там же.
16 Там же, л. 12 об.
17 Там же, л. 12, 13.
18 Там же, л. 13—13 об.
19 Б. А. Романов — А. И. Андрееву. 24 октября 1942 г.: Там же, л. 20.
20 Б. А. Романов — А. И. Андрееву. 3 июня 1942 г.: Там же, л. 13 об.
21 Там же, л. 13—13 об.
22 Б. А. Романов — А. И. Андрееву. 9—10 сентября 1942 г.: Там же,
Д. 17.
23 Б. А. Романов — А. И. Андрееву. 24 октября 1942 г.: Там же, л. 20.
24 Б. А. Романов — А. И. Андрееву. 3 июня 1942 г.: Там же, л. 14 об.
25 Б. А. Романов — А. И. Андрееву. 30 июля 1942 г.: Там же, л. 15.
26 Б. А. Романов — А. И. Андрееву. 4 апреля 1942 г.: Там же, л. 8 об.
27 Б. А. Романов — А. И. Андрееву. 30 июля 1942 г.: Там же, л. 15.
28 Б. А. Романов — А. И. Андрееву. 24 октября 1942 г.: Там же, л. 20.
29 Б. А. Романов — А. И. Андрееву. 9—10 сентября 1942 г.: Там же,
л. 18 об.
30 Б. А. Романов — А. И. Андрееву. 3 июня 1942 г.: Там же, л. 14.
31 Там же, л. 14—14 об.
32 Б. А. Романов — А. И. Андрееву. 30 июля 1942 г.: Там же, л. 15; 9
августа 1942 г.: Там же, л. 16.
33 Б. А. Романов — А. И. Андрееву. 30 июля 1942 г.: Там же, л. 15—
15 об.
202
34 Б. А. Романов — А. И. Андрееву. 9 августа 1942 г.: Там же, л. 16—
16 об.
35 Б. А. Романов — И. И. Мещанинову. 25 марта 1943 г.: ПФА РАН,
ф. 969, on. 1, д. 505.
36 Б. А. Романов — А. И. Андрееву. 24 октября 1942 г.: ПФА РАН,
ф. 934, оп. 5, д. 296, л. 20.
37 Архив СПб. ФИРИ, ф. 298, on. 1, д. 10, л. 8.
38 Там же, д. 78.
39 Б. А. Романов — А. И. Андрееву. 3 июня 1942 г.: ПФА РАН,
ф. 934, оп. 5, д. 296, л. 12 об.
40 Архив СПб. ФИРИ, ф. 298, on. 1, д. 4, л. 7.
41 Там же, л. 9.
42 Б. А. Романов—Л. А. Орбели. 15 мая 1944 г.: ПФА РАН, ф. 895,
оп. 3, д. 945, л. 1.
43 rebus sic distantibus (лат.) — при таком положении дел.
44 Б. А. Романов — Л. А. Орбели. 28 мая 1944 г.: ПФА РАН, ф. 895,
оп. 3, д. 945, л. 2.
— 10 —
СНОВА В РОДНОМ ГОРОДЕ.
«ПОЛОСА ЛИТЕРАТУРНЫХ ДЕЛ»
Приехав в Москву 30 июня 1944 г., Б. А. Романов уже
знал, что это будет последней остановкой на пути в родной
город. В Президиуме АН СССР его командировка дважды
продлевалась и должна была закончиться 15 сентября. Но
уже 1 сентября тот же Президиум командировал его в Ле-
нинград «для работы в архиве ЛОИИ сроком на 45 дней».1
За этой формальной стороной дела скрывалось другое, ре-
альное содержание. Б. А. Романов не вернулся ни в Таш-
кент, ни в Москву. В Ленинграде Б. А. Романов беспрепят-
ственно получил прописку, которую ему выхлопотал ректор
ЛГУ А. А. Вознесенский, имевший почти неограниченные
возможности во властных структурах Ленинграда как родной
брат члена Государственного комитета обороны, кандидата
в члены Политбюро ЦК ВКП(б), зам. председателя Совета
Министров СССР, председателя Госплана. Он же вскоре
обеспечил получение Б. А. Романовым бессрочного (по ста-
рости) паспорта.
Еще до приезда в Ленинград, 2 августа, ученый был за-
числен в ЛОИИ на штатную должность старшего научного
сотрудника, а через 10 дней, 11 августа, также на штатную
должность и полный профессорский оклад — на историче-
ский факультет Ленинградского университета. Б. А. Романов
становился тем самым полноправным членом двух ведущих
ленинградских коллективов исторического профиля. Над ним
теперь не висела, как прежде, необходимость унизительного
хождения в милицию в попытках продлять временные про-
писки, ему не надо было искать заказы на договорные ра-
боты. Казалось, что репрессии и недавняя дискриминацион-
ная практика уходят в прошлое. Б. А. Романов конечно был
204
воодушевлен возвращением в Ленинград. Здесь он после не-
скольких лет разлуки наконец увиделся с женой, которая
продолжала службу в армии вблизи города, а затем и в
самом Ленинграде, и имела возможность приезжать домой
дважды в неделю.
Но война привела к гибели последних ближайших друзей
Б. А. Романова, с кем он был духовно близок на протяже-
нии более трех десятилетий. Кроме жены, у него не осталось
близких ему людей. Здоровье Б. А. Романова после траги-
ческих 30-х годов, тяжелой болезни и лишений, перенесенных
в эвакуации, оказалось расшатанным настолько, что вплоть
до кончины ему подолгу, едва ли не ежегодно, приходилось
лечиться в клиниках. Организм не выдерживал нервных пере-
грузок, и в послевоенное время сверх меры выпавших на
долю ученого. Б. А. Романов страдал тяжелыми сосудисты-
ми заболеваниями, время от времени он погружался в тем-
ноту — давал о себе знать поврежденный в Ташкенте глазной
нерв. И конечно же он не мог поверить в то, что каратель-
ные органы оставили его в покое. Как и прежде, Б. А. Ро-
манов находился в постоянном напряженном ожидании
новых репрессий. Он жаловался на бессонницу, у него боле-
ли глаза и отекали веки.
И все же, несмотря на эти недуги, едва приехав в Ленин-
град, ученый сразу же интенсивно включился в работу. Пер-
воочередной задачей стало издание исследований, завершен-
ных им до войны. Уже в декабре 1944 г. Б. А. Романов от-
мечал, что «попал в полосу литературных дел». К этому
времени он получил сообщение от Б. Д. Грекова о том, что
его книга о дипломатической истории русско-японской
войны включена в план изданий. Ее рукопись во время
войны была передана из Соцэкгиза в Политиздат, который,
как он считал, стал «могилой книги», и Б. А. Романов был
озабочен тем, чтобы «вызволить» ее оттуда «для серьезного
ее пересмотра (не в условиях спешки)». В Ленинграде уже в
1944 г. он начал хлопоты («протаскивать») об издании
«Людей и нравов древней Руси», хотя, как он отметил, пока
«все это — только щекотание нервов». Наконец, стало из-
вестно, что Б. Д. Греков «хочет печатать» комментарии к
«Русской Правде» чуть ли не в 1945 г., и Б. А. Романов
срочно занялся редактированием своих разделов. «Работаю,
но не пишу», — сообщал он (Е. Н. Кушевой. 2 декабря
1944 г.). Кроме этих ученых забот Б. А. Романов вел заня-
тия на историческом факультете Ленинградского универси-
тета.
205
Жизнь ученого была существенно осложнена тем, что во
время его пребывания в эвакуации, а Е. П. Романовой — на
фронте в их квартиру вселились чужие люди, заняв часть
принадлежавших им комнат. Началась «квартирная война»,
которая «тяжелым грузом» висела «над головой». Б. А. Ро-
манов полагал, что «если бы она кончилась успешно», то он
быстро бы «вошел „в норму"». Но квартирное «дело» тяну-
лось почти полтора года. Обращение ученого в 1946 г. в об-
щественные организации Академии наук и ЛГУ не дали ре-
зультатов, хотя и «были встречены с „сочувствием"». «Вре-
мени, сил и нервов вся процедура этих хлопот взяли у меня
достаточно, — писал Б. А. Романов. — Но я об этом не
жалею. Попробовать было надо». Он был убежден в том,
что «„жилищный" вопрос для научного работника — это
вовсе не „жилищный", а профессионально-рабочий», почему
его нельзя оценивать «с точки зрения только метража». Од-
нако длительная тяжба, дошедшая до Верховного суда, была
проиграна. Б. А. Романов оценивал это свое поражение
очень тяжело, считал, что судебное решение обрекает его «не
на продолжение научной работы», а на беспокойное сущест-
вование, в сущности на «дожитие».2 К тому же в середине
1945 г. Б. А. Романову более месяца пришлось лечиться в
клинике в связи со спазмами мозговых сосудов,3 и это уси-
ливало его пессимистический настрой. После возвращения из
больницы он возобновил работу в ЛОИИ и университете и
одновременно, как он писал Е. Н. Кушевой 27 сентября
1945 г., «побаловал себя небывалым: почитал (впервые за
годы всласть) для души и выехал в кино и в драму. С удо-
вольствием прочитал „Историографию" Николая Леонидови-
ча (Рубинштейна. — В. П.) — от доски до доски без отрыва
<...>. Чуть не переломал себе ребра от хохота на „Тетке
Чарлея". И еще хуже — чуть не пролил слезу, глядя „Дво-
рянское гнездо" в Александринке. Спектакль — на зависть
МХАТу, каким он был в свое время. Делал визиты! Только
в футбольных матчах не участвовал. Видите, какую бурную
биографию закрутил. А по правде, жизнь кончена. Работать
по-настоящему уже не придется. Голова „отказала", а в пер-
спективе staccato от клиники к клинике». Сожалея, что «лич-
ная» работа самой Е. Н. Кушевой над диссертацией задер-
живается из-за загруженности коллективными трудами,
Б. А. Романов заметил: «Здесь у нас тенденция трактовать
диссертации и монографии как дамские манто и чернобурки,
почему и ставлю „личную" в кавычки. Я уже по старинке и
сам люблю и в других ценю „личные" работы, в которых
единственно только и верю. Ибо историческая наука еще не
206
доросла, по-моему, до ступени фабрично-кухонного уклада
производства. Уж очень крупные фигуры надобны на первых
порах для организации симфонического творчества. И толь-
ко потом такой оркестр будет в состоянии жить без дириже-
ра».
В этом письме весьма рельефно отразились основные мо-
тивы размышлений, забот и интересов Б. А. Романова в
послевоенный период: ощущение надвигающихся болезней и
смерти, интерес к жизни, к работе, как своей, так и коллег,
тревога за состояние науки. Несколько позже в письмах по-
является еще один сквозной мотив — опасение в условиях на-
чавшегося нового идеологического наступления сталинского
режима в худшем случае повторных репрессий — высылки из
Ленинграда, ареста или, в «лучшем» случае, — увольнения,
«улицы», по выражению Б. А. Романова.
Эти опасения очень скоро отчасти оправдались: 1946 год
ознаменовался серией погромных партийных постановлений
по вопросам литературы и искусства и последовавшими за
этим проработочными кампаниями. Что же касается страхов
ученого по поводу его скорого творческого угасания, то они,
к счастью, не подтвердились. Вопреки им, последние 12 лет
жизни характеризовались бурной вспышкой творческой ак-
тивности Б. А. Романова. Да и 1945 год был отмечен не
только невзгодами и болезнями. Б. А. Романову удалось на-
конец добиться перевода издания книги о русско-японской
войне из Политиздата в Ленинградское отделение Издатель-
ства АН СССР. Ректор университета А. А. Вознесенский, ко-
торому через В. В. Мавродина была передана рукопись
книги «Люди и нравы древней Руси», по прочтении сразу
решил печатать эту работу в университетском издательстве,
и уже во второй половине 1945 г. началось ее редактирова-
ние. Наконец, Б. Д. Греков неожиданно поручил Б. А. Ро-
манову провести редакционную подготовку второго тома
«Правды Русской», которую до войны выполнял Н. Ф. Лав-
ров. Итак, вторую половину 1945 г., 1946 г. и 1947 г.
Б. А. Романову пришлось полностью посвятить доработке,
подготовке к печати, редактированию, чтению корректур и
вообще практической деятельности по изданию тех трудов (и
не только своих), которые ждали публикации еще с довоен-
ных времен. Делать это было необходимо одновременно, на
параллельных курсах, а общий объем издаваемых книг до-
стигал почти 100 авторских листов. А ведь Б. А. Романов к
тому же продолжал вести занятия в университете. Такую на-
грузку можно было бы считать непосильной для одного че-
ловека, тем более немолодого и страдающего разными неду-
207
гами. Тем не менее работа была выполнена в срок, правда,
с ущербом для здоровья.
Б. А. Романов сожалел, что в эти годы ему не удалось
посвятить ни одного дня новым исследованиям. Он писал в
связи с этим 21 мая 1946 г. Е. Н. Кушевой: «Хотелось бы
все три вещи закончить в 1946 году, чтобы в 1947 году на-
чать „новую жизнь“ и иметь свободные руки и взяться за
что-нибудь новое и крупное — чтобы хватило уже до конца
дней. Мне нужно освободиться от всех этих залежей, кото-
рые породили во мне гнилостное внутреннее заражение. Но
за что примусь, еще совсем себе не представляю».
Правда, в 1946 г. вышла в свет статья «Витте как дипло-
мат»/ в которой был нарисован яркий, критически заострен-
ный, емкий и точный исторический портрет этого государст-
венного деятеля. Б. А. Романов не ограничился лишь внешне-
политической деятельностью Витте, но охарактеризовал его
всесторонне и поэтому свою статью начал с главки «Витте —
не дипломат». Впрочем, и эта статья написана была еще до
войны, специально для «Дипломатического словаря», но впо-
следствии не была в нем опубликована. В 1947 г. Б. А. Рома-
нов выступил также в качестве официального оппонента на
двух докторских защитах — Д. С. Лихачева («Русские летопи-
си и их культурно-историческое значение») и И. И. Смирнова
(«Восстание Болотникова»). Свой отзыв о работе Д. С. Лиха-
чева он опубликовал в качестве рецензии на книгу.5
1946 год для Б. А. Романова ознаменовался существен-
ным облегчением в семейно-бытовой сфере. 1 апреля демо-
билизовалась из армии его жена, и после длительного пере-
рыва семья вновь воссоединилась. Вскоре появилось прави-
тельственное постановление, согласно которому резко была
повышена зарплата научным работникам. Наступил период
относительного материального благополучия, позволившего
Б. А. Романову до конца жизни во всяком случае не нуж-
даться, ездить в необходимых случаях в санатории, снимать
дачу под Ленинградом (главным образом в Пушкине). Ко-
нечно, это не могло полностью компенсировать утрату части
квартиры, но все же позволило благоприятно изменить бы-
товую сторону жизни.
«Сгусток моих пота и крови»:
историографические комментарии к «Правде Русской»
Когда Б. А. Романов согласился редактировать коммен-
тарии к «Русской Правде» и вести издание этого коллектив-
208
ного труда, он вряд ли осознавал, с какими трудностями и
проблемами ему придется столкнуться. Во-первых, коммента-
рии оказались не полностью готовыми. Во-вторых, война
унесла жизнь двоих из пяти участников этой работы. В-тре-
тьих, сложности возникали в связи с необходимостью изло-
жить высказывания об отдельных статьях памятника не толь-
ко историков прошлого, но и современных исследователей,
соблюдая точность и соразмерность частей. А между тем в
этих случаях объективные критерии с неизбежностью сталки-
вались с субъективными соображениями, вступали в проти-
воречия с амбициями отдельных ученых.
Б. А. Романову приходилось вести редактирование ком-
ментариев покойных авторов, согласовывать правку с колле-
гами, отсекать лишние, с его точки зрения, фрагменты, про-
верять цитаты, снабжать текст перекрестными ссылками, раз-
рабатывать концепцию указателей, самому готовить для них
словники и их составлять (при участии А. И. Копанева). Не-
обходимость принимать во внимание ряд субъективных фак-
торов, улаживать конфликты стала для Б. А. Романова осо-
бенно тягостной обязанностью. Перед Б. А. Романовым в
процессе этой трудоемкой работы возникла еще одна про-
блема. Его коллеги и прежде всего он сам не были удовле-
творены тем, что строго историографический характер ком-
ментариев лишает их возможности высказывать собственные
суждения, приводить цитаты из источников. В 1948 г. в чер-
новых набросках письма в адрес Ученого совета ЛОИИ, за-
седания которого 13 и 14 апреля были посвящены разобла-
чению так называемого антипатриотизма, космополитизма и
буржуазного объективизма в трудах своих сотрудников, в
том числе Б. А. Романова, он справедливо отметил, что для
него лично такого типа комментарий «мог быть только му-
чительно-стеснительным», поскольку в значительной мере по-
давлял индивидуальное «авторское начало».6 Издание в
1940 г. учебного пособия по «Правде Русской» оказалось не-
достаточным для решения этой задачи.
Компромисс был достигнут путем разрешения коммента-
торам в виде исключения приводить в конце каждого поста-
тейного комментария и свои собственные точки зрения, от-
мечая их сокращенно инициалами, взятыми в квадратные
скобки. Б. А. Романов в наибольшей степени воспользовался
этим правом и включил за подписью [Б. Р.] в свои коммен-
тарии фрагменты из одновременно готовящейся к печати
книги «Люди и нравы древней Руси».
Уже в феврале 1946 г. вся эта работа была в основном
завершена, и Б. А. Романов доставил текст тома в Москву
209
в Археографическую комиссию «для доклада и ознакомления
с ним всех ныне здравствующих авторов», предоставив им
тем самым «время для любых исков». Выступая с докладом,
он «публично просил каждого посмотреть себя» в изложении
авторов комментариев «во избежание недоразумений».
Б. А. Романов обратился также к отв. редактору издания
Б. Д. Грекову с предложением, чтобы были установлены
критерии критики: она «должна быть точна (с указанием
страниц)», без наречий типа «мало», «неохотно», «суммарно»
и т. п., с указаниями, «что именно и на каких страницах дан-
ного автора пропущено в комментарии».
Разумеется, перед комментаторами вставал и вопрос об
адресате готовящегося тома. Б. А. Романов в этой связи оп-
ределенно заявил, что они «думали не столько о столичном
потребителе, сколько о провинциале», «не о столичных арис-
тократах, а о провинциальных страдальцах», «не столько о
„профессоре-специалисте”, сколько о „доценте на все руки”
и аспиранте, не столько о поучении, сколько о справочно-
библиотечном снабжении, и исходили при этом из бытовой
доступности советской литературы в натуре (к тому же ко-
личественно незначительной и обязательной для всякого
именно в натуре, а не в пересказе) и о недоступности в про-
винции досоветской литературы» (Б. Д. Грекову. 1948 г.).
Вложив в подготовку тома комментариев к «Русской
Правде», как писал Б. А. Романов в ноябре 1946 г.
Б. Д. Грекову, «немало трудов, замысла и забот», он стал
обдумывать, каким образом организовать его печатание.
Первоначально он склонялся к тому, чтобы книга издавалась
в Москве — «поближе к Борису Дмитриевичу (Грекову. —
В. Z7.)», в связи с чем выразил желание «приехать в Москву
для согласования вопросов с тамошним редактором изда-
тельства» (Е. Н. Кушевой. 21 мая 1946 г.). Вскоре, однако,
выяснилось, что московские корректоры вычитали корректу-
ру крайне неудовлетворительно, и Б. А. Романову приходи-
лось заново «перевычитывать» текст на ходу, чтобы затем
его «перенабрали». Два месяца шла борьба за перевод изда-
ния в Ленинград, в процессе которой дело стало совсем за-
путанным: работу набирали в Ленинграде, но один экзем-
пляр гранок вместе с оригиналом направлялся в Москву
Б. Д. Грекову, а в Ленинграде авторам комментариев давал-
ся второй экземпляр, но без оригинала. Эту абсурдную си-
туацию Б. А. Романов пытался переломить. Он добивался,
чтобы первичная вычитка производилась корректором ле-
нинградского издательства. Затем Б. А. Романов потребо-
вал, чтобы по этому же экземпляру ему была дана возмож-
210
ность «вести смысловую корректуру, только долавливая не-
додавленных корректором блох (если корректор сплоховал)».
Следующий этап — «после моей (нашей) правки» корректура
«поступает к редактору издательства <...> и его изменения
согласовываются со мной». Только «в этом законченном
виде» корректура может поступать к ответственному редак-
тору «на подписание» (Б. Д. Грекову. 16 ноября 1946 г.). В
конечном счете был принят именно этот порядок прохожде-
ния корректур, но победа, по словам Б. А. Романова, «сто-
ила» ему «нервов и чуть не загнала в клинику». Лишь после
этого работа с «замечательными людьми» из ленинградского
академического издательства пошла «дружно, горячо и бы-
стро — на большой волне»: «за один месяц прошли 322 гран-
ки и сегодня 91 гранка пущена в верстку»,—сообщал
Б. А. Романов.7 Особенно он выделял издательских редакто-
ров А. А. Воробьеву и М. П. Барманского. «Давно не пере-
живал такого подъема и бодрости в работе, как эти 172 ме-
сяца,— писал Б. А. Романов Б. Д. Грекову 16—17 февраля
1947 г., — и очень хотелось бы довести ее до благополучного
конца к намеченному сроку». Б. А. Романов согласовывал с
издательством строгий график прохождения гранок и верс-
ток, сообщал о нем Б. Д. Грекову и регулярно, пунктуально
следуя этим наметкам, посылал ему правленные листы и от-
читывался о выполнении.
Все это потребовало не только концентрации воли, но и
экстремальных затрат нервной энергии. К тому же сущест-
венно увеличилась нагрузка на глаза, тяжелое заболевание
которых время от времени давало рецидивы. Сам Б. А. Ро-
манов опасался, как он писал 25 апреля 1947 г. в соцобяза-
тельстве, которое его вынудили дать, что «напряжение <...>
связанное с выполнением» этой «работы, исчерпало запас»
его «сил». Поэтому потребовался бы надлежащий отдых и
лечение, «чтобы вернуться к какой-либо творческой научной
работе с сентября <...> на основе человекообразного ее ре-
жима и освобождения <...> в дальнейшем от разрушитель-
ных трюкистских операций».8 Эти опасения Б. А. Романова
нашли отражение и в частных письмах: «Напряжение, в коем
пребываю сейчас (со всеми предшествующими «накопления-
ми»), наверняка разразится, когда все закончу, расплатой по
линии „всех слабых мест"».9
К началу лета, как и намечалось, все корректуры были
Б. А. Романовым сданы, и он уехал в отпуск, а уже в авгус-
те 1947 г. второй том академического издания «Правды Рус-
ской», содержащий постатейные историографические ком-
ментарии объемом в 55 печатных листов, был подписан к
211
печати и вскоре вышел в свет.10 В октябре Б. А. Романов
уже сообщал своим друзьям и коллегам о том, что выслал
им дарственные экземпляры.11
Подводя итоги напряженной и ответственной работы и
оценивая степень своего участия в этом научном издании,
Б. А. Романов отмечал, что он сам прокомментировал более
70% статей «Правды Русской» и провел труднейшую работу
по редактированию всего тома. Это дало ему основание ре-
шительно заявлять: «Если есть» в только что вышедшей ра-
боте, «чья-либо кровь и чей-нибудь пот (и нервы), то это
мои кровь и пот и мои нервы, хотя тому и нет внешнего
следа в книге»;12 «Это, по совести, мое детище и никого дру-
гого. Остальные — участники, но не отцы».13
Едва второй том издания «Правды Русской», содержав-
ший историографические комментарии памятника древнерус-
ского права, вышел в свет, как Б. Д. Греков прислал
Б. А. Романову для сведения корректуру рецензии на эту
книгу, написанную С. В. Юшковым по заказу журнала «Во-
просы истории». Б. А. Романов тотчас ответил Б. Д. Греко-
ву, обратив его внимание на то, что эта рецензия носит
«сплошь автобиографический» характер, так как автор во-
время не позаботился внимательно посмотреть машинопис-
ный экземпляр комментариев, а теперь пытается предъявить
претензии в связи с якобы невниманием к его трудам.
Б. А. Романов, в частности, указал на то, что С. Ю. Юшков
прибег к помощи линейки, вымеряя количество сантиметров
в указателе, «учитывая цифры» в нем, «а не строки в тексте».
Отверг Б. А. Романов и мнение рецензента о том, что ком-
ментаторы якобы питают пристрастие «к старым авторам»:
«То ли была бы лафа для современных авторов, если бы мы
скользнули по старикам: пожалуй, все современные оказа-
лись бы Колумбами! А теперь всё видать — что у кого и что
от кого и что чье и у кого лучше и кто первый и кто только
по невежеству воображает, что он первый». Более того,
писал Б. А. Романов, «если бы мы повернулись спиной к до-
советской литературе <...> мы поставили бы в ложное поло-
жение советских ученых, создав иллюзию, будто они присту-
пали к кропотливому делу толкования статей „Правды", не
поинтересовавшись заглянуть в старую литературу. А сейчас
математически точно можно выразить, как много сделали со-
ветские ученые даже для толкования отдельных статей и вы-
ражений „Правды"». Этот демарш Б. А. Романова увенчался
лишь частичным успехом — из рецензии исчезли «автобио-
графические» претензии С. В. Юшкова.
212
«Против ветра и против течения»:
книга «Люди и нравы древней Руси»
К комментариям к «Правде Русской» вплотную примы-
кает и по времени написания, и по времени выхода в свет,
и, отчасти, поскольку речь идет о Руси домонгольского пе-
риода, по проблематике книга «Люди и нравы древней Руси
(Историко-бытовые очерки XI—XIII вв.)». Если правильна
мысль, что книги, как и люди, имеют свою судьбу, связан-
ную с судьбами их авторов, то она в наибольшей степени
относится именно к этой работе Б. А. Романова. Она не пи-
салась как книга, а вышла в свет в виде монографии. Автор
работал над ней в необычных условиях, вдали от дома, ар-
хивов и библиотек. Издание стало возможным вопреки пре-
пятствиям, чинимым различными силами, — и находящимися
внутри академической науки, и вненаучными. Уже в момент
появления книги стало ясно, что она не имеет аналогов в
отечественной науке. Ничего удивительного поэтому нет в
том, что ее путь к читателю был труден, а официальная
наука тоталитарного режима встретила ее как посягательство
на свои, казалось бы, незыблемые основы ожесточенной
травлей и поношением, правда, не сразу, а спустя год после
ее издания. При этом странным образом рецензии на нее,
написанные и отправленные в журналы, так и не появились
в печати.
Книга была подготовлена университетским издательством
к производству уже к маю 1946 г., и ее издание задержива-
лось только в ожидании утверждения плана. Именно в это
время, как и до войны, Б. Д. Греков пытался помешать ее
изданию. В. В. Мавродин, занимавший тогда пост декана ис-
торического факультета, рассказывал, что Б. Д. Греков,
узнав о намечаемой публикации книги, специально приезжал
из Москвы в Ленинград и уговаривал его воспрепятствовать
этому. В беседе с В. В. Мавродиным он заявил, что книга
Б. А. Романова — не исследование, а художественное произ-
ведение, подобное «Декамерону» Боккаччо.14 И все же она
пошла в печать, так как Ленинградский университет, руко-
водимый А. А. Вознесенским, оказался в это время вне ор-
биты влияния Б. Д. Грекова.
Более того, ее автора досрочно, еще до выхода в свет
книги, 24 февраля 1947 г., Ученый совет университета награ-
дил второй премией (10 тыс. р), присуждаемой «за лучшие
научно-исследовательские работы».15 Б. А. Романов был
горд этим своим успехом. Он писал: «Около месяца висело
в воздухе дело с прохождением моих „Людей и нравов“ на
213
внутриуниверситетскую годичную премию. В премиальной
комиссии был бой 20 кандидатов на 7 премий. Там кончи-
лось победой гуманитариев, которые прошли на первые (по
голосам) 4 места; три последние места достались „физикам “.
Это неслыханная в анналах университета победа! Среди этих
4 я оказался на четвертом месте со второй премией <...>
Была боязнь, что обижусь, а я — ничуть. Во-первых, я пер-
вый доставил эту победу историческому факультету (кото-
рый раньше премий не видел). Во-вторых, факультет поймал
премию на парадоксально малого „червячка**: а) книга моя
почти брошюра <...>; б) книга на неактуальную и захолуст-
ную тему; в) на тему из такой эпохи, по которой в советской
историографии написана уйма работ. Значит, победу я могу
приписывать только себе, то есть качествам исполнения, ра-
ботавшим, так сказать, против ветра и против течения и одо-
левшим обе эти стихии. Чего же мне больше?!».16 Кроме
того, Б. А. Романов надеялся, что премия «облегчит прохож-
дение книги в печать».17
А между тем издательская работа над ней продолжалась.
Лишь в середине августа 1947 г. Б. А. Романов, находясь в
отпуске вдали от Ленинграда, получил по почте полную
верстку. «С виду выходит заманчивый по формату томик», —
делился он своим впечатлением. С корректурой книги автору
пришлось работать целую наделю—день и ночь. Кроме
того, он «составлял указатель на 1500 слов, да еще переписал
их от руки» (Е. Н. Кушевой. 22 августа 1947 г.).
В октябре в университетской многотиражке было опуб-
ликовано сообщение о том, что «выходит в свет <...> моно-
графия Б. А. Романова „Люди и нравы древней Руси**, даю-
щая представление о процессе классообразования русского
феодального общества в XI—XIII веках».18 Однако на самом
деле она была подписана к печати только 11 ноября, а сле-
довательно, появилась в продаже в самом конце 1947 г.19
Книга «Люди и нравы древней Руси», пожалуй, в наибо-
лее концентрированном виде отразила своеобразие творче-
ского облика и его неразрывность с характерологическими
особенностями личности автора. Неповторимость професси-
ональной техники исследования, изящный литературный
стиль, позволявший воссоздавать черты прошлого в зримых
образах, парадоксальность, темперамент, интуиция, ориги-
нальность мышления, новаторство, взгляды на прошлое
своей страны и его связь с настоящим — все это проявилось
исключительно рельефно в книге, сочетающей черты иссле-
дования и популярного показа тонкого и трудно уловимого
214
процесса, который и составляет существо научного анализа
и синтеза.
Не случайно поэтому, что сам Б. А. Романов считал эту
небольшую по объему книгу (14 печатных листов) едва ли
не лучшим своим творением и уж во всяком случае наиболее
любимым и сокровенным,20 как никакая другая отвечающая
заветам, воспринятым от великих предшественников, у кото-
рых ему посчастливилось учиться в Петербургском универ-
ситете. Через год после выхода в свет книги Б. А. Романов
говорил, что «продолжает сближаться с нею» и все больше
убеждается, «какая она моя».21 Не случайно также и то, что
эта книга посвящена памяти А. Е. Преснякова, учителя
Б. А. Романова, и что именно она (как и комментарии к
«Правде Русской») знаменовала возврат автора к истокам
пути в науку — к истории древней Руси, от которой он ото-
рвался более чем на 3 десятилетия. Перед изданием своего
исследования Б. А. Романов преобразовал его в научно-по-
пулярную книгу, в рассказ «о тех „злобах дня“, какими за-
полнялись будни и думы русских людей, не испытавших еще
хмары монгольского ига».22 Научное построение, сложившее-
ся в результате частных исследований автора, облекалось им
в такую форму, чтобы читатель мог «почувствовать и понять
далекую, хоть и родную ему эпоху через знакомство с ее
людьми».23 Вот эта двоякая задача — воздействовать и на
чувства читателей, и на сферу их логического, рационально-
го восприятия — новая для Б. А. Романова и вообще нова-
торская в контексте отечественной историографии. Двоякая
она и по отношению к объекту изучения и изображения —
человеку древней Руси, которого Б. А. Романов задумал по-
казать не только в его бытовых, в том числе интимных, но
и общественных связях и в постоянной динамике. Или, как
сам автор написал, его задача состояла в том, чтобы «со-
брать и расположить в одной раме разбросанные в древне-
русских письменных памятниках (хотя бы и мельчайшие)
следы бытовых черт, житейских положений и эпизодов из
жизни русских людей XI—XIII вв., с тем, чтобы дать живое
и конкретное представление о процессе классообразования
в древнерусском феодальном обществе, сделав предметом на-
блюдения многообразные отражения этого процесса в буд-
ничной жизни этих людей».23 Иными словами: «...как люди
жили на Руси в это время (и чем кто дышал сообразно своей
социальной принадлежности и тому капризу своей судьбы,
какой удастся подметить в памятнике, если пристально в
него всмотреться)».25
215
Д. С. Лихачев обратил внимание на то, что Б. А. Рома-
нов, используя хорошо известные источники, ставил им
«такие вопросы, которые им еще не предлагались»,26 а пото-
му сумел получить на эти вопросы такие ответы, которые
оказались неожиданными для читателя — и непрофессионала,
и историка или филолога. В этом смысле выделяется рисуе-
мый Б. А. Романовым портрет князя Владимира Мономаха,
основанный на по-новому прочитанном его «Поучении» и
резко отличающийся от того, что писали о знаменитом князе
другие историки. По справедливому замечанию Д. С. Лиха-
чева, фигура Мономаха у Б. А. Романова не вознесена над
эпохой, «а плотно к ней пригнана, объяснена ею и введена
в историческую перспективу».27
Следует отметить и подробно описанный Б. А. Романо-
вым в авторском предисловии прием — реконструкцию им
культурно-исторического типа эпохи на основе образа Да-
ниила Заточника, который предстает в книге, по удачному
определению Д. С. Лихачева, в качестве своеобразного
«гида», сковывающего в единую цепь все «круги жизни»
древней Руси.28
Это предисловие вообще имеет принципиальное методи-
ческое и методологическое значение: оно дало читателю
представление о труде историка вообще, Б. А. Романова —
в частности, о его, так сказать, творческой мастерской. Оно
было написано в последний момент и, по словам самого
Б. А. Романова, имело «теоретическо-автобиографический»
характер, «нечто вроде авто-историографической исповеди
(credo)».29
Б. А. Романова, как уже было отмечено, с самого начала
его научного творчества интересовал человек как субъект ис-
тории и объект изучения. Этим объясняется его стремление
давать социально-психологические портреты персонажей ис-
тории, выясняя тем самым движущие силы их социального
поведения и побуждений, не контролируемые людьми формы
их сознания. Б. А. Романов получал в данной связи даже
упреки в преувеличении роли личностей. Но так или иначе,
а книга «Люди и нравы древней Руси» проявила именно ту
тенденцию в творчестве Б. А. Романова, которая позволила
объективный исторический процесс показать через судьбы
индивидуальных личностей, воссозданных равным образом в
результате анализа источников и силой художественного
воображения и исторического чутья. Д. С. Лихачев в этой
связи отметил особенность творческого лица самого Б. А.
Романова — сочетание в нем ученого с художником, научно-
216
го анализа с художественным воображением (но не с фанта-
зией исторического беллетриста).30
Эти особенности позволили Б. А. Романову ярко и
зримо показать различные социальные типы древнерусского
общества — челядь, смердов, светских феодалов, отцов ду-
ховных, выявить коллективную психологию этих общностей,
описать жизнь человека от рождения до смерти, холостого
и в лоне семьи, его бракосочетание и развод, единобрачие,
многоженство, параллельную семью, обряды и обычаи, со-
блюдение и несоблюдение церковных обрядов, вопросы пола,
имущественные отношения в семье, наконец, семью как ос-
новную ячейку древнерусского общества.
За всем тем книга «Люди и нравы древней Руси» выходит
за рамки изображения людей и их быта. Реконструкция об-
раза человека русского средневековья служит и средством
уяснения механизма и динамики социальных процессов. В
книге (а также в комментариях к «Правде Русской» в учеб-
ном ее издании) дается характеристика в оригинальной и от-
личной от принятой до того интерпретации как совокупно-
сти социальных отношений киевского периода истории Руси
и политического устройства государства, так и основных ка-
тегорий древнерусского социума.
Правда, Б. А. Романов в предисловии к книге написал о
работах «предшественников (и особенно Б. Д. Грекова)», ко-
торые избавили его «от необходимости в какой-то мере ста-
вить и пересматривать вопрос об общественной формации, в
недрах которой развивались те „люди“ и те „нравы“, кото-
рые являются предметом» его «изучения».31 Однако содержа-
ние книги в значительной мере противоречило этому упреж-
дающему заявлению,32 почему Б. Д. Греков и препятствовал
ее выпуску в свет. Несомненно Б. А. Романов прибег к став-
шему обычным для него приему, который он применил еще
в 1928 г., сославшись в предисловии к книге «Россия в
Маньчжурии» на М. Н. Покровского, хотя вся книга была
направлена против концепции этого автора. Такого рода ни
к чему не обязывающие ритуальные ссылки на «авторитеты»
делались Б. А. Романовым по одному стандарту — чтобы за-
маскировать явные противоречия с господствовавшей офици-
альной концепцией и тем самым расчистить книге путь к из-
данию. Характер таких уловок был настолько прозрачен, что
они не всегда могли оградить работы от погромных разно-
сов после их выхода в свет, не говоря уже о быстро меняв-
шейся идеологической и политической конъюнктуре.
Б. А. Романов придерживался мнения, что формирование
феодальных отношений в древней Руси происходило нерав-
217
номерно и шло «одновременно вглубь и вширь».33 «Заре фе-
одализации с ее „творимыми" (подстраиваемыми) вирами и
продажами, резоимством (ростовщичеством), порабощением
и закабалением всяческих „сирот"»,34 с князем — языческим
властителем империи Рюриковичей35 автор противопоставля-
ет «новые черты общественной эволюции XII—XIII вв.».36
Здесь ученый обращает внимание на то, что, оставаясь вож-
дем, князь опирается на советников-«думцев», а главным
предметом его политики и стимулом его поведения оказыва-
ется «всего только добывание столов в феодальной войне
между отдельными группами разросшейся Рюриковой динас-
тии». Принципиальное же отличие состоит в том, что ис-
точник повседневного существования княжого двора, «его
хозяйственная база — уже не столько военная добыча, не
кормление в полюдье, а „княжое село" с тиуном и рядови-
чами».38 Распространение и рост «княжого землевладения и
земледельческого хозяйства», процесс «окняжения земли»
становится, как показал Б. А. Романов, злободневным «в
жизни феодального общества XII в.».39 Таким образом,
именно княжеский домен предстает в качестве хозяйственной
основы власти князя, который, эксплуатируя население этого
домена, получает материальные ценности, необходимые для
содержания своего двора. Дружинное окружение князя —
это, с одной стороны, «огнищанин» (согласно ст. 21 «Крат-
кой Правды»), княжой отрок или конюх или повар (согласно
ст. 11 «Пространной Правды»), т. е. «молодшая дружина», а
с другой — бояре, «княжи мужи», т. е. старшая дружина.40
Б. А. Романов специально отметил, что «в жизни не ограни-
чивалось дело и этим двучленным делением».41 Указав на два
возможных пути формирования княжеской дружины — пре-
вращение «в княжого дружинника» «городского ремесленни-
ка», который жил «в княжом дворе-огнище на холостую ногу
и на полном княжом иждивении», и принявшего православие
сына варяжского «князя», который стал воспитателем Юрия
Долгорукого, его «тысяцким», получил от него землю Суз-
дальскую, имел свою дружину, княжескую по структуре,
своего «боярского боярина»,42 Б. А. Романов писал: «Между
этими двумя крайними типами <...> стояло, несомненно, не-
сколько средних и переходных, располагавшихся чем дальше,
тем четче, в некую вассальную иерархию с тенденцией к на-
следственности в быту». Господствующий класс, таким обра-
зом, состоял из «больших бояр, меньших бояр и нарочитых,
или добрых людей, не входящих в дружину».43
В XI—XII вв. «нарушение феодальной верности», соглас-
но наблюдениям Б. А. Романова, «не вошло еще в полити-
218
ческий быт». Дружина «терпит вместе с князем, рискует
вместе с ним, выигрывает и продвигается вместе». В то же
время «живет она с ним не „на едином хлебе**, а в своих
домах, владеет своими селами, куда и ездит „на свое ору-
дие“, по своим хозяйственным делам, как и сами князья»,
хотя «известное число младшей дружины, отроков, житель-
ствует во дворе, в гриднице, всегда под боком и под руками
у князя».44
Развитие феодальных отношений в эпоху «Пространной
Правды» по сравнению с временем «Краткой Правды» про-
является, как считал Б. А. Романов, и в том, что изменяется
место верви в системе норм «Русской Правды» и, следова-
тельно, в системе общественных отношений феодальной
Руси. По его наблюдениям, «из 9 статей „Краткой Правды**
(ст. 19—27) об убийстве княжих людей и ст. 42 о поконе
вирном выросло <...> уложение об убийстве вообще и о
практике вир. В частности, ст. ст. 3—8, очевидно, развиты
из ст. ст. 19—20, но под другим углом зрения — не сугубой
защиты огнищанина, а ответственности верви за нарушение
мира на ее территории».45 Следовательно, «Пространная
Правда» в случаях, связанных с убийствами, которые влекли
за собой платежи виры, переносит центр тяжести с огнища-
нина (княжа мужа) на регламентацию деятельности верви,
тем самым отражая факт ее попадания в сферу феодальных
отношений.
Существенным элементом их эволюции является уже от-
меченное выше вызревание «боярской привилегированной
вотчины». Б. А. Романову принадлежит наблюдение, соглас-
но которому «довольно точно», с его точки зрения, фикси-
руется «момент, когда можно говорить уже о боярском зем-
левладении как массовом явлении общерусского масштаба с
полным социально-политическим весом».46 Этот момент —
XIII век, когда боярский двор в так называемой редакции
XIII в. «Послания» Даниила Заточника, в отличие от
«Слова» Заточника XII в., «введен в текст как существенное
звено в биографических злоключениях потерпевшего
героя».47 Наблюдение Б. А. Романова над позднейшей при-
пиской в «Пространной Правде» XII в. к ст. 13 («тако же и
за бояреск»),48 да и поддержка им важной мысли А. Е. Прес-
някова о выдвижении в «Пространной Правде» на первый
план всего боярского49 придают выводу ученого большую
убедительность. В наступательной же политике боярской
сеньории ту же роль, что и княжий тиун в княжих «селах»,
играл «боярский тиун дворский» из числа холопов, и эта его
служба повышала социальный статус такого холопа.50
219
Процесс феодализации, как показал Б. А. Романов, за-
хватывает и ремесло, но также довольно поздно. Он обратил
внимание, в частности, на «позднее появление ремесленника
в домениальном уставе» (именно в ст. 15 «Пространной
Правды»), тогда как «Краткая Правда» «его не знает».
Значительное место уделено Б. А. Романовым не только
представителям господствовавших верхов, но и низшим ка-
тегориям феодализировавшегося социума, как находившимся
в различной степени зависимости, так и принадлежавшим к
«свободным» слоям населения. Древнейшая форма зависи-
мости на Руси—рабство. В рабской зависимости от земле-
владельцев находились челядины-холопы: «раб — это непре-
менная принадлежность быта „свободных"», первоначально
именно быта, «а не обязательно сельскохозяйственного про-
изводства».51 Б. А. Романов рисует впечатляющую картину
«внутренней работорговли с довольно быстрым оборотом»,
при которой челядин выступает в качестве предмета «целе-
вых покупок для личной эксплуатации». Это — «раб, осев-
ший, в конце концов, во дворе или хозяйстве своего госпо-
дина»,52 холоп, который «прочно вошел <...> в состав „че-
ляди", „дома" своего свободного господина».53
Подробно рассмотрел Б. А. Романов и правовое положе-
ние холопа. Так, «господин волен был распоряжаться жиз-
нью своего холопа абсолютно по собственному усмотрению»,
при этом «на бытовом языке холоп — <...> „скот"».54 Пол-
нота власти господина над холопом — «пережиток патриар-
хального рабства», целиком принятый и церковью. «Отсюда,
казалось бы, вытекало, — пишет Б. А. Романов, — что
раб — это instrumentum vocale, неодушевленный предмет,
только обладающий даром речи; отсюда отрицание за ним
каких бы то ни было прав личности, гражданской дееспо-
собности. Его свидетельские показания не имеют никакой
силы <...> Он не имеет никакой собственности и не подле-
жит каким-либо государственным штрафам <...> За него от-
вечает господин и, разумеется, волен восполнять издержки,
связанные с этой ответственностью, за счет раба».
Жизнь, однако, «делала свое дело, а эта идеальная (и не
специфически русская) правовая конструкция подтачивалась
ею настолько, что само же право вынуждено было искать
компромиссного выхода из создавшегося здесь противоре-
чия». 5 Б. А. Романов показал, что «холоп слишком запол-
нил повседневный быт господствующего класса, чтобы без
него можно было обойтись даже в запретных для него по
закону житейских положениях».56 Поэтому холопы в исклю-
чительных случаях были свидетелями в тяжбах между сво-
220
бодными, сопровождали своего господина, уходившего в мо-
настырь. Обычными становятся холопы не только на службе
во дворах их господ, но и на сельскохозяйственных работах.
Кроме того, холопы занимали важное место в администра-
ции феодальной сеньории (тиуны, конюхи, повара, дворские
и т. д.).57
Таким образом, Б. А. Романов пришел к выводу, что «на
корню патриархального рабства <...> в XI—XII вв. вырос
внутри феодального общества сложный холопий мир, при-
способленный обслуживать все разновидности его потребно-
стей».58
При этом Б. А. Романов отметил, что в XII в. рабовла-
дение «становится доступным широким слоям „свободных4*
мужей, из числа тех „неимовитых44, которые в условиях край-
него обострения противоречий в рождающемся феодальном
обществе при случае и сами опрокидывались в бездну <...>
работного мира».59
Однако именно в таких условиях «корпус потомственных
рабов, извне пополняемый за счет покупки и плена»,60 а
затем и «через брак с рабой»,61 «оказался количественно со-
вершенно недостаточным для удовлетворения растущего
спроса феодального общества на рабочие руки». Поэтому
появились «новые методы закабаления и насилия, какими
шло его пополнение», которое создавали «и новые формы
зависимости», трактуемые феодалами «некоторое время в
жизни» «как холопье состояние».62 Таким образом, наряду с
обельным холопом-рабом появился неполный челядин-закуп
(«закупный наймит»). Но закуп «не вошел еще полностью в
компетенцию сеньориального суда», поскольку между ним и
господином «стоит княжой суд» и этим он «ближе к свобо-
де».63 «Пространная Правда» (та ее часть, которую принято
называть «Уставом о закупах») «ставит закупа <...> на тон-
кой грани между свободой и рабством» при бытовой бли-
зости закупов и холопов, «какую создавало для тех и других
сожительство в боярщине — соединение, утончавшее эту
грань».64
Согласно «Уставу о закупах», «закупничество — это сдел-
ка, ряд, договор, в основе которого лежала „купа44 или
„цена44, которую закуп должен был и имел право вернуть,
чтобы вернуть себе полную свободу». Но, как отметил
Б. А. Романов, «на деле это означало лишь возможность для
него переменить господина, выкупиться у первого на „куны44,
разысканные на стороне у второго, и сам закуп оставался
все в том же круге „работного ярма44», хотя «оно было пере-
менным».65
221
«„Устав о закупах" говорит о значительной численности
закупов и об их роли в качестве непосредственных произво-
дителей в феодальной вотчине»,66 — констатировал Б. А. Ро-
манов и отметил, что «Устав» предусматривал «использова-
ние закупа только на сельскохозяйственной страде <...> в
двух основных положениях»:
1. Ролейного закупа, который «живет вне господского
двора и работает на себя» либо своим инвентарем, либо гос-
подским (платя за него в последнем случае оброк) и, кроме
того, в обоих случаях отбывает барщину.
2. Закупа — сельскохозяйственного рабочего «на господ-
ском дворе», который «работает на господском поле, на гос-
подской скотине», ее он «ежедневно с работы приводит на
господский двор», но на «этой же скотине работает <...> и
для себя».67
Идя вслед за Н. Хлебниковым, выдвинувшим гипотезу,
согласно которой закуп вступал в зависимость вместе со
своей землей,6® Б. А. Романов предложил весьма убедитель-
ное объяснение термина «отарица» как участка земли, кото-
рый ролейный «закуп обрабатывает на себя». Это могла
быть «своя земля» закупа, но также и «участок, выделенный
господином закупу, как выражалось много позднее литовско-
русское право, на „присевок"».69 В этом случае становится
понятной борьба вокруг «отарицы» как борьба за обезземе-
ление ролейного закупа70 и подводится прочная база под
вывод о наличии у закупа собственного хозяйства (пашни).
Ролейные закупы, подчеркивал Б. А. Романов, «в массе
своей — те же смерды, только вступившие в частноправовую
зависимость»,71 но сохранявшие «из своего смердьего про-
шлого особностъ своего (от господского) хозяйства».72
Однако смердов, замечал Б. А. Романов, «почему-то при-
нято считать единственным контингентом, откуда вербова-
лось закупное наймитство». В закупы могли попасть и купец,
и «свободный» муж, потому что в XII в. «в жизни феодаль-
ного общества <...> на старую антитезу свободного и челя-
дина наплыла антитеза богатого и убогого».73
И все же именно беззащитный смерд как «покоренный
данник»74 и «непосредственный производитель держал на
своем хребте всю киевскую государственность».75 Б. А. Ро-
манов рассматривал проблему смердов в древней Руси под
углом зрения наступления феодального порядка, особенно
усиливавшегося в связи с реформой Ярославичей, в резуль-
тате которой «штрафы за убийство стали источником госу-
дарственного дохода».76 Эта система «государственных штра-
фов <...> пришла (с Ярославичами) вовсе не на смену полю-
222
дью и дани, а легла дополнительным грузом на всю массу
„свободного" сельского населения, безжалостно и быстро ра-
зоряя его, вынуждая его (поодиночке, но зачастую) менять
свою свободу на феодальную зависимость в поисках хоть
какой-нибудь защиты».77 Обстановка, «в которой работала
феодальная машина закабаления и порабощения свободного
землевладельца» с ее новой финансово-карательной системой
вир и продаж, уподоблялась «военному набегу».78
Б. А. Романов показал, какая «пропасть лежала между
<...> смердом и <...> господствующим классом феодального
общества», отметив, что это было «постоянно подновляемое
наследие эпохи постепенного покорения киево-полянским
центром прочих восточнославянских племен»: «исходное от-
ношение победителя и побежденного оставалось в XI—
XII вв. для смерда, как и для бывших победителей, бытовой
реальностью». Более того, смерд «с точки зрения этих киев-
ских господ — это вроде как бы и не человек»: «если холоп
равен мужику, то смерд равен зверю». «Первая попытка за-
щитить <...> жизнь» смерда и «его первое правовое призна-
ние» связаны с оценкой в «Правде» Ярославичей (в ст. 26)
жизни смерда — «во столько же, сколько было назначено и
за холопа».79 Защита жизни смерда и его правовое признание
рассматривались Б. А. Романовым в контексте с общими яв-
лениями общественно-политического строя древней Руси,
объединенными его учителем А. Е. Пресняковым в понятия
«княжого права», «союза княжой защиты». Б. А. Романов
выдвинул гипотезу, согласно которой в XI в. внутри господ-
ствующего класса происходила борьба течений «по основ-
ным вопросам внутренней политики феодального государст-
ва», и «вопрос о смердах» был одним из них.80 В частности,
«ради расширения и укрепления общественной базы княжой
власти» князья стремились поставить смерда под юрисдик-
цию своего личного суда, а не суда своих слуг, и тем самым
проявили заботу «о прямой защите смерда от расправы-на-
казания без прямого <...> полномочия княжой власти».81 Это
дало основание Б. А. Романову в метафорической форме го-
ворить о Владимире Мономахе как о «ведомом пропагандис-
те смердолюбия». Мотивом такого «смердолюбия» служило
понимание «прогрессивными элементами господствующего
класса («уными», новыми советниками князей)» реальной
перспективы «распыления, феодального разорения и разбаза-
ривания смердьих кадров путем увода их в холопы и ухода
их в закупы и вообще в частные дворы и хозяйства на почве
совершенного бесправия этого, попервоначалу колониально-
го, в сущности, элемента».83
223
Именно потому, по мнению Б. А. Романова, «Правда»
Ярославичей, в интересах «самого господствующего класса в
целом»84 «впервые выдвинувшая задачу правовой постановки
смердьего вопроса и, вводя смердов в „союз княжой защи-
ты", впервые же провозгласившая „свободу" этой убываю-
щей смердьей массы, сделала признаком этой свободы лич-
ную ответственность смерда за преступления, платеж „про-
дажи"», чем и отличила его от «всякого вида холопов».85
Однако интенсивный «процесс разорения данника-земледель-
ца, разложения общины, пауперизации, какую сеял вокруг
себя в городе ростовщический капитал, и расширения зоны
дружинного землевладения» привел к тому, что в «господ-
ском дворе встречались и перемешивались со старым контин-
гентом вечных холопов не только смерды, покидавшие —
волею или неволею — свои села и пепелища, но и свободные
городские элементы из опутанных ростовщическим капита-
лом купцов».86 Именно «ради разъединения грозивших слить-
ся в одно городского и деревенского движений, направлен-
ных против господствующего класса в целом», встал «вопрос
о вмешательстве феодального государства в жизнь господ-
ского двора и регулировании стихии порабощения и закаба-
ления в практике господствующего класса». Поэтому
Б. А. Романов присоединяется к точке зрения А. Е. Пресня-
кова, согласно которой социальное законодательство Влади-
мира Мономаха («Устав о закупах», «Устав о холопах»,
«Устав о резах» «Пространной Правды») являлось попыткой
«самозащиты социальных верхов от народного раздраже-
ния», т. е. «попыткой верхов путем самоограничения сохра-
нить и укрепить на прочных основаниях самую возможность
дальнейшей феодальной эксплуатации народных масс».87
«Устав о закупах» «столь же ясно запрещает „роботить"
закупа, сколь настойчиво, очевидно, роботили его господа
до того».88 «Устав о холопах» являлся «как бы второй гла-
вой, написанной другой рукой, хоть в той же книге»,89 пер-
вой главой которой был «Устав о закупах».90 Б. А. Романов
показал, как после неудачи поработительной политики гос-
под в случае с закупом она была направлена (в стремлении
обойти «Устав о закупах» и свести его на нет) на «новую
категорию работных людей», которая фигурировала в
ст. 111 «Пространной Правды» и получила известность в
литературе под условным термином «вдач». Б. А. Романов
назвал ее тоже условно «милостынниками».91 Смысл же «Ус-
тава о холопах» состоял в том, что «он хотел защитить от
неволи» эту «новую категорию работных людей» — мило-
стынников — и тем самым «направить свое острие туда же —
224
Профессор Института путей сообщения
Александр Дементьевич Романов — отец Б. А. Романова
Мария Васильевна Романова —
мать Б. А. Романова
Мария Васильевна Романова с
сыном Борисом (1891 г.)
Б. А Романов — преподаватель
j имназии (1912—1916 гг.)
А. Романов (слева) и И. В. Егоров, преподаватели частной женской
имназии Михельсон с группой учениц. В нижнем ряду крайняя справа —
П. Дюкова, будущая жена Б. А. Романова (1912 г.)
213
О. Г. П. У.
для арес
Лица, давшие неверн
ia 0. Г. П. У.
(трожайшей ответственности.
т/ы.
1-я часть (заполняется арестованным
: ) Фамилия
.‘1 Имя и отчество / ’<Р/’ к. & ь
Граждан" какого государства. ссср" 1 "
• Национальность
Место рождения Губ. / су уезд вол »« гироа.
• 'траст (год рождения) .... ЦО ют; родился в 2.^месяце
Мразование: а) грамотный ли. ') какую школу окончил . . . • • С.Ill нс оконч , то ск.""с' (ipGUJ. а) ?д- ? /?/ у б) ОКОНЧИЛ ШКОЛу в) прошел школы.
Степень ролствл. ФаМИЛИЯ, ИМЯ £ Занятие или место ряботы и должность И отчество. , 3 ИЛИ профессия. 1 * 1 Место жительстпя (лдрес)
•. гав семьи. •и.нтельства , го работы ч»го члена матери, де- мужа, жены, ч.св и сестер). 1. 2. 3. 5. У/ ^дол. 'f+iTttu*- S' 9. У /L
Партийная принадлежность:
। н какой партии состоит и б) с
акого времени ...........
11рофессия
Место работы
।службы): а) с
начала войны
до 1/111 1917 г.
б) с 1/111-17 г.
по ".ень ареста.
9
Профессия run iOJiniKlk
Г /л.
Название предприятия или учреждения.
'(&9м*
Фрагмент анкеты, заполненной Б. А. Романовым
в тюрьме ОГПУ и тюремная фотография (январь 1930 г.)
Обложка поздравительного адреса Б. А. Романову к его 44-летию,
врученного ему участниками самодеятельного спектакля в концентрационном
лагере в Май-губе на строительстве Беломоро-Балтийского канала (февраль 1933 г.)
Б. А. Романов (1948 г.)
Юбилейное заседание на историческом факультете Ленинградского
университета, посвященное 60-летию Б. А. Романова (крайний слева,
далее в первом ряду — С. К Пештич, С. И. Ковалев, К. Н. Сербина) (февраль 1949 г.)
Студенты исторического факультета Ленинградского университета — ученики
S. А. Романова у него дома. Сидят (слева направо): И. Карлович, Е. П. Романова, Э. Готлиф,
S. А. Романов. Стоят. М. Струнина, Н. Носов, И. Либерзон, Л. Айзенштат, Н. Горкунова.
Е. П. Романова, М. А. Салмина с дочерью, Б. А. Романов,
Д. С Лихачев, г Пушкин (сентябрь 1952 г.)
Елена Павловна и Борис Александрович Романовы, г. Пушкин (сентябрь 1952 г.)
Последняя фотография Б. Л. Романова. На даче в Пушкине (лето 1957 г.)
в поработительные маневры тех же господ», что и «Устав о
закупах».92
Но, конечно, подчеркивал Б. А. Романов, «Устав о холо-
пах» в целом не покушается «на самый институт обельного
холопства», не имел в виду «ограничить власть господ в от-
ношении наличного кадра» обельных «или пополнение его
со стороны из числя свободных». «Устав» «исходит из мысли
о праве всякого свободного вступить в обельное холопство»,
требуя только «удостоверения добровольности этого акта со
стороны свободного».93
Другим мотивом включения закупов и отчасти холопов
в «союз княжой защиты» была, как показал Б. А. Романов,
тревога в феодальных верхах, вызванная тем обстоятельст-
вом, что жертвами процесса классообразования могли ока-
заться и оказывались мелкие свободные «мужи», которые в
результате превращались в холопов и закупов.94
По мнению Б. А. Романова, руководящая верхушка гос-
подствующего класса при проведении политики «смягчения
социальных противоречий» «полностью могла опираться на
авторитет церкви и пользоваться ее идеологической поддерж-
кой»,95 поскольку церковная политика ставила своей задачей
«смягчение социальных противоречий и прививание господ-
ствующим верхам гуманистических навыков и идей в отно-
шении к несвободным и социально слабым элементам обще-
ства».96 Конечно, и у церкви в этой ее политике был вполне
материальный интерес, так как она из числа непорабощен-
ных и незакабаленных нищих черпала свою рабочую силу.97
И все же главное заключалось в том, что церковь предстала
«в глубоко свойственной ей (и у нас, и на Западе) роли при-
мирителя и укротителя повседневной игры человеческих
страстей» в интересах всего феодального класса в целом.98
Итак, Б. А. Романов, не отвергая феодальную природу
общественного строя Киевской Руси, вместе с тем показал
существенную роль в социальной структуре общества и в
процессе генезиса феодализма холопства-рабства, выявив в
то же время близость в положении феодально-зависимых
людей и рабов, детально исследовал проблему перехода от
свободного к несвободному состоянию в ходе нарастающего
процесса классообразования, по-новому определил социаль-
ный статус смердов как «свободных» людей, связанных опре-
деленными отношениями с государством в лице князя. Таким
образом, по сравнению с господствовавшими в конце 30-х и
в 40-х годах воззрениями, сложившимися главным образом
под влиянием работ Б. Д. Грекова, древнерусское общество
в книге Б. А. Романова предстало как более архаичное, на-
8 В. М. Панеях
225
ходящееся на начальном этапе вызревания феодальных отно-
шений и складывания характерных для них классов.
Книга Б. А. Романова «Люди и нравы древней Руси»
могла восприниматься как вызов не только в силу этого. На-
писанная вскоре после выхода в свет «Краткого курса» «Ис-
тории ВКП(б)» и изданная после окончания войны, она от-
личалась от всей исторической литературы этого времени
полным отсутствием ссылок на «классиков марксизм а-лени-
низма». Впрочем, автор пошел на некоторые уступки време-
ни, введя в текст книги расхожую терминологию («господ-
ствующие верхи общества» и т. д.). Но это обычное для
исторической литературы советского периода словоупотреб-
ление не могло скрыть глубинного содержания работы, ко-
торая писалась тогда, когда под заголовком «Киевская
Русь»99 выходило в свет третье, исправленное и дополненное
издание книги Б. Д. Грекова «Феодальные отношения в Ки-
евском государстве».
«Жгучие факты полусовременности»:
книга «Очерки дипломатической истории
русско-японской войны»
В череде литературных дел после возвращения Б. А. Ро-
манова из эвакуации кроме редактирования и издания исто-
риографических комментариев к «Правде Русской» и издания
книги «Люди и нравы древней Руси» не менее важное место
занимала его докторская диссертация, защищенная по руко-
писи накануне войны и подготовленная тогда же к печати.
Он напрямую увязывал ее продвижение в печать с возмож-
ностью своей дальнейшей работы в ЛОИИ.
К маю 1946 г. Б. А. Романов уже «закончил все манипу-
ляции с книгой» и был озабочен теперь выбором шрифтов
для ее издания. Его поразило («парадокс») и, разумеется, по-
радовало, что «директор (издательства. — В. П.) торопит».
Б. А. Романов хотел, чтобы «книга была в типе воспомина-
ний академика А. Н. Крылова и в строго монашеском виде»
(Е. Н. Кушевой. 21 мая 1946 г.). Она сразу же пошла в
набор, и осенью корректура уже читалась автором. Но на
этом этапе вновь возникла заминка «из-за сложной и гро-
моздкой правки и переверстки, причиненными последними
правками А. Л. Сидорова», остававшегося ответственным
редактором книги, что грозило ее «выпадением из плана из-
даний». А это означает, писал Б. А. Романов, по-видимому
в данный момент преувеличивая опасность, — «похороны без
226
отпевания, вышвыривание за дверь» (Б. Д. Грекову. 6 нояб-
ря 1946 г.). Но все же, вопреки этим мрачным предчувстви-
ям, дело тогда двигалось относительно быстро, и в начале
1947 г. верстка книги поступила в цензуру. Здесь угроза ее
отклонения была вполне вероятной, и Б. А. Романов пони-
мал, что судьба книги зависит от многих неизвестных и труд-
но уловимых обстоятельств. «Японская война в Главлите уже
месяц, — писал он. — По совести думаю, что книга соответ-
ствует нынешним установкам ЦК по исторической части, но
эта установка скрещивается с установками МИДа, и я могу
попасть на самое скрещение. Это фатально». Тревожное ожи-
дание, совпавшее с самым пиком изнуряющей работы по из-
данию комментариев к «Правде Русской», окрашивало миро-
восприятие Б. А. Романова самыми мрачными красками.
Свидетельством этого состояния стал post scriptum к письму:
«Вчера я перевалил в 59-й год земного существования. За-
жился!».100
И все же книга, как видно, легко прошла между Сциллой
и Харибдой, была одобрена цензурой и подписана к печати
уже 25 февраля 1947 г., а в августе, находясь в отпуске,
Б. А. Романов «получил телеграмму, поздравляющую сигна-
лом Академии наук» (Е. Н. Кушевой. 22 августа 1947 г.),
что означало выход в свет в академическом издательстве
многострадальной работы, получившей на пути к читателю
новое заглавие — «Очерки дипломатической истории русско-
японской войны».101
Сообщая об этом радостном для себя событии, венчаю-
щем тернистый путь книги к ее изданию, Б. А. Романов
писал 8 ноября 1947 г. Н. М. Дружинину, с которым он по-
знакомился еще до войны: «О <...> широком читателе думал
я, когда хитрился сделать ее легко обозримой и членимой в
обстановке мирской суеты. Мне казалось, что для „публики**
давно назрела пора пересмотреть и перерасставить жгучие
факты этой полусовременности, чтобы нечувствительно при-
мкнуть их к подлинной современности — и не так, как это
сделано во 2-м томе „Истории дипломатии**, не с извне и
между прочим, а с изнутри и немного по-родному. Ибо кто
же не слыхал о русско-японской войне и не считал себя обя-
занным делать вид, что он тут все знает и все понимает!? А
книжный рынок тут зиял пустотой все 30 лет! Я так и смот-
рю, что это первый (и потому немного смелый для меня)
опыт, даже эксперимент, открывающий большую кадриль в
истории этого вопроса и этого периода».
Б. А. Романов позднее отметил, что он рассчитывал не
только на читателя-специалиста, но и «стремился пойти на-
227
встречу интеллигентному читателю, не специалисту, чтобы
приблизить к нему тему средствами, чисто литературными, а
именно: во-первых, не отрывать <...> дипломатической нити
от широкой ленты событий и происшествий (более близкой
читателю) внутренней жизни страны и от живых людей, ко-
торые принимали участие в плетении и запутывании этой
дипломатической нити, во-вторых, старался вести изложение
в таком темпе, чтобы не ослаблять у читателя нарастания
больших событий мирового значения». При этом Б. А. Ро-
манов особо подчеркнул, что «стремился избегнуть в изло-
жении „жреческого тона“, но, с другой стороны, в равной
степени считал недопустимым пренебрежение к литературно-
му оформлению результатов исторического исследования».102
Б. А. Романов, таким образом, как и в случае с «Россией
в Маньчжурии», рискнул осознанно вторгнуться в проблема-
тику, непосредственно перекликающуюся с современностью,
считая необходимым по-новому осознать эту связь. Казалось
бы, новый труд, посвященный той же проблематике, что и
книга 1928 г.,—дальневосточной политике царизма в конце
XIX—начале XX в., должен был стать как бы повторением
пройденного. Но в действительности дело обстояло по-
иному.
Сама постановка проблемы как «дипломатической исто-
рии» была новаторской. Термин этот означал для исследо-
вателя нечто большее, чем просто историю дипломатии, т. е.
отношений между государствами. Посредством дипломатии,
по Б. А. Романову, осуществлялась политика, которая в
свою очередь базировалась на экономике. При таком пони-
мании проблемы центр событий переместился с театра воен-
ных действий в тыл, в «кулисы и мастерские» дипломатии,
где она, собственно, и создавалась, чтобы затем выйти на
сцену и проявиться в своих внешних формах. Поэтому маги-
стральная тема книги — история борьбы великих держав за
раздел Китая, завершившейся русско-японской войной, рас-
смотрена в неразрывной связи с жизнью России и Японии,
внутренней политикой российского правительства, ростом в
России революционного движения, экономическим и финан-
совым положением идущих к войне государств. Такая поста-
новка «дипломатической истории» отличала ее от дореволю-
ционной историографии в практическом и теоретическом ас-
пектах и в советское время была впервые осуществлена
именно Б. А. Романовым.
Новым в «Очерках...» по сравнению с «Россией в Маньч-
журии» стал анализ многотомных изданий дипломатических
документов Англии, Франции и США — стран, прямо или
228
косвенно причастных к развязыванию дальневосточного кон-
фликта и стремившихся оправдать свою политику, предшест-
вующую мировой войне. Отсюда возникла и новая пробле-
ма— исследование сложной, перекрещивавшейся работы дип-
ломатических служб всех держав и места каждой из них в
империалистическом соперничестве в Китае («турнир шести
столиц»). Наконец, Б. А. Романов охарактеризовал захват-
ническую программу японского империализма на Дальнем
Востоке и тем самым развил новую по сравнению с «Россией
в Маньчжурии» тему, важную для понимания характера рус-
ско-японской войны.
Б. А. Романов досконально исследовал проблему развя-
зывания войны на Дальнем Востоке, начиная с нападения
Японии на Китай в 1894 г., обострившего русско-японские
отношения. Важной вехой на пути к войне стало и стро-
ительство Россией Сибирской железнодорожной магистрали.
Б. А. Романов с большей аргументированностью, чем в
предыдущей книге, показал, что целью этого грандиозного
проекта было не только укрепление обороны русского Даль-
него Востока, но увеличение рынка сбыта для российской
промышленности, получавшей тем самым преимущества
перед другими государствами Европы в торговле с Китаем,
и создание условий для аннексий на Дальнем Востоке. Впе-
рвые в исторической литературе подробно исследовался пе-
риод с окончания японо-китайской войны до начала русско -
японской войны. В главах, посвященных десятилетию 1894—
1904 гг., тщательным образом анализируются все этапы
наступательной политики царизма: его первые успехи, захват
сферы влияния в Китае, в частности борьба России за при-
обретение незамерзающего порта, захват Россией Порт-Ар-
тура, англо-русское соглашение 1899 г., временная оккупация
Маньчжурии и первая попытка сепаратного соглашения о
Маньчжурии, вывоз русского капитала на Дальний Восток.
Равным образом в монографии исследуется и длительная, на
протяжении 1895—1901 гг., подготовка Японии к войне с
Россией, работа «дипломатической кухни», из которой
вышел англ о-японский договор 1902 г.
Наконец, ученый высветил прямую и косвенную роль ве-
ликих держав в борьбе за раздел Китая и пришел к выводу,
что Германия подталкивала царизм к войне, а Англия поощ-
ряла Японию к агрессии; каждая из этих стран имела далеко
идущие планы привлечения России на свою сторону в назре-
вавшем противостоянии между ними, чтобы не оставлять ее
на случай мировой войны в роли «третьего радующегося».
Завершалась книга анализом непосредственного дипломати-
229
ческого развязывания русско-японской войны в июле 1903—
феврале 1904 г. Как и в других своих работах, Б. А. Ро-
манов и здесь дал емкие по содержанию, психологически
точные и литературно изысканные портреты основных пер-
сонажей российской политической сцены, связанных с даль-
невосточным конфликтом, — С. Ю. Витте, В. Н. Ламздор-
фа, А. М. Безобразова. Вместе с тем Б. А. Романов, вопреки
мнению А. Л. Сидорова, оставил неизменным вывод о рав-
ной вине Витте и Безобразова в развязывании русско-япон-
ской войны, что привело к появлению в книге редакционно-
го примечания в конце главы «Англо-японский союз (1901 —
1902 гг.)»: «Редакция считает нужным отметить, что автор
недооценивает степень различия политики группы Витте от
политики группы Безобразова, в руках которой оказалось
руководство внешней политикой России в 1903 г.».103
Исследователь в «Очерках дипломатической истории...»
подкрепил дополнительной аргументацией вывод об импери-
алистической сущности русско-японской войны, сделанный
еще в «России в Маньчжурии». Это дало ему основание
прийти к важным обобщениям о природе как российского,
так и японского империализма.
Книга «Очерки дипломатической истории русско-япон-
ской войны» вышла в свет вскоре после окончания второй
мировой войны, в результате которой Япония потерпела со-
крушительное поражение, а к Советскому Союзу перешли
Южный Сахалин, утраченный в результате русско-японской
войны, и Курильские острова. Так эта книга, которая была
написана Б. А. Романовым до нападения нацистской Герма-
нии на СССР, и без того тематически актуальная, в силу
этих обстоятельств приобретала признаки острой политиче-
ской злободневности. Б. А. Романов не мог не понимать,
что установленные им факты и сделанные на их основе вы-
воды не вполне соответствуют ни политическому моменту,
ни имперским идеологическим ориентирам, окончательно
оформившимся в результате победы в Великой Отечествен-
ной войне.
Перед автором при сдаче книги в набор встала сложная
задача замаскировать не совпадающую с господствовавшими
догмами ее частичную направленность. Выход был найден в
том, чтобы умножить число ссылок на «основоположников
марксизм a-ленинизм а», в том числе на «Краткий курс» «Ис-
тории ВКП(б)». Теперь книга, которая еще в период ее до-
работки в 1940—1941 гг. была оснащена защитной броней
из подобных цитат и ссылок, оказалась пронизанной ими от
начала и до конца. Не этим ли объясняется переверстка уже
230
набранного текста из-за поправок, которые внес в него
А. Л. Сидоров? Более того, Б. А. Романов даже вынужден
был предпослать книге в качестве эпиграфа выдержку из
«Обращения товарища И. В. Сталина к народу» от 3 сентяб-
ря 1945 г. в связи с победой над Японией. В ней речь идет
о том, что «Япония, воспользовавшись слабостью царского
правительства, неожиданно и вероломно, без объявления
войны, — напала на нашу страну», и далее: «...поражение
русских войск в 1904 г. в период русско-японской войны
оставило в сознании народа тяжелые воспоминания. Оно
легло на нашу страну черным пятном. Наш народ верил и
ждал, что наступит день, когда Япония будет разбита и
пятно будет ликвидировано».104
Разумеется, и этот эпиграф, и обилие ссылок на «класси-
ков» и «основоположников марксизм а-ленинизм а» не украси-
ли книгу. Но зато они помогли ее издать, провести через
цензуру. На мучительный вопрос — стоила ли игра свеч, сле-
довало ли автору идти на такие издержки ради публикации
книги? — универсального ответа быть не может. Все зависит
от того, в какой мере автору удается при этом сохранить
свою живую мысль, непредвзято исследовать проблему.
Б. А. Романову, как представляется, это удалось. Содержа-
ние книги (а не ее ритуальное обрамление) существенным
образом противоречило сиюминутным «установкам». В част-
ности, анализ источников позволил Б. А. Романову сформу-
лировать вывод, согласно которому виновниками русско-
японской войны были обе стороны, и во всяком случае цар-
ское правительство — в не меньшей степени, чем японское.
Уже один этот пример свидетельствует о том, что у
Б. А. Романова ссылки на «классиков» носили формальный
характер и ни в коей мере не предопределяли выводов авто-
ра. Поэтому их удаление из книги никак не повлияло бы на
ее концептуальную основу. И это было замечено очень ско-
ро— в период обострения борьбы с «антипатриотизмом».
Книга «Очерки дипломатической истории русско-япон-
ской войны» была во многом новаторской. Она писалась
тогда, когда историки были заняты главным образом «разо-
блачением» концепций М. Н. Покровского, в лучшем случае
участвовали в обобщающих коллективных трудах или в на-
писании учебников. Б. А. Романову же удалось в моногра-
фической форме впервые раскрыть социально-экономическую
подоплеку дальневосточной политики царизма, выявить ме-
тоды этой империалистической политики. Лишь позднее
были изданы написанные после него другие монографические
исследования, главным образом московских ученых, посвя-
231
щенные анализу международных отношений в конце XIX—
начале XX в.
ПРИМЕЧАНИЯ
1 Архив СПб. ФИРИ, ф. 298, on. 1, д. 4, л. 8, II.
2 Б. А. Романов — И. В. Егорову. 21 апреля 1946 г.: ОР РНБ, ф. 273,
д. 315, л. 1.
3 Об этом Б. А. Романов сообщал в письме к Уполномоченному Пре-
зидиума АН СССР в Ленинграде акад. Л. А. Орбели, к которому после
окончания войны он обратился с просьбой ходатайствовать о демобилиза-
ции жены (Б. А. Романов — Л. А. Орбели. 20 июля 1945 г.: ПФА РАН,
ф. 895, оп. 3, д. 945, л. 4).
4 Романов Б. А. Витте как дипломат (1895—1903 гг.)//Вестник ЛГУ.
1946. № 4—5. С. 150—172.
5 Вестник ЛГУ. 1948. № 6. С. 136—139.
6 Архив СПб. ФИРИ, ф. 298, on. 1, д. 106, л. 13.
7 Б. А. Романов — И. В. Егорову. 12 февраля 1947 г.: ОР РНБ, ф. 273,
д. 126, л. 54.
8 Архив СПб. ФИРИ, ф. 298, on. 1, д. 8, л. 1.
9 Б. А. Романов — И. В. Егорову. 14 марта 1947 г.: ОР РНБ, ф. 273,
д. 315, л. 2.
10 Правда Русская. Комментарии / Составители Б. В. Александров,
В. Г. Гейм ан, Г. Е. Кочин, Н. Ф. Лавров и Б. А. Романов; Под редакцией
Б. Д. Грекова. М.; Л., 1947. Т. 2.
11 Б. А. Романов — И. В. Егорову. 20 октября 1947 г.: ОР РНБ,
ф. 273, д. 126, л. 58.
12 Б. А. Романов — Н. Л. Рубинштейну. 23 ноября 1947 г.: ОР РГБ,
ф. 521, картон 26, д. 39, л. 29.
13 Б. А. Романов — И. В. Егорову (без даты): ОР РНБ, ф. 273, д. 126,
л. 58.
14 Благодарю за эту информацию И. Я. Фроянова.
15 Личное дело Б. А. Романова в ЛГУ: Архив С.-Петербургского гос.
университета, ф. 1, оп. 46, связка 17, л. 10; В Ученом совете//Ленинград-
ский университет. 1947. 3 марта.
Б. А. Романов — И. В. Егорову. 1947 г.: ОР РНБ, ф. 273, д. 126,
л. 61.
17 Б. А. Романов — И. В. Егорову. 12 февраля 1947 г.: Там же, л. 54.
18 Ошин Ю. Научные издания университета//Ленинградский универси-
тет. 1947. 12 окт.
19 Романов Б. А. Люди и нравы древней Руси (Историко-бытовые очер-
ки XI—XIII вв.). Л., 1947.
20 Д. С. Лихачев, посвятивший характеристике книги «Люди и нравы
древней Руси» две специальные статьи, сформулировал ту же мысль более
осторожно: ее «из всех своих работ» Б. А. Романов «наиболее ценил» (Ли-
хачев Д. С. Борис Александрович Романов и его книга «Люди и нравы
древней Руси»//ТОДРЛ. М.; Л., 1958. Т. 15. С. 495).
21 См.: Валк С. Н. Борис Александрович Романов//Исследования по
социально-политической истории России: Сб. статей памяти Бориса Алек-
сандровича Романова. М.; Л., 1971. С. 31.
*2 Романов Б. А. Люди и нравы древней Руси. С. 15.
232
23 Там же. С. 15—16.
24 Там же. С. 5.
25 Там же. С. 9.
26 Лихачев Д. С. Борис Александрович Романов и его книга «Люди и
нравы древней Руси». С. 489.
27 Там же. С. 493.
28 Лихачев Д. С. Б. А. Романов и его «гид» Даниил Заточник//Иссле-
дования по социально-политической истории России: Сб. статей памяти Бо-
риса Александровича Романова. М.; Л., 1971. С. 39—43.
29 Б. А. Романов — И. В. Егорову. 10 апреля 1947 г.: ОР РНБ, ф. 273,
д. 315, л. 3.
30 Лихачев Д. С. Борис Александрович Романов и его книга «Люди и
нравы древней Руси». С. 489.
31 Романов Б. А. Люди и нравы древней Руси. С. 4.
32 Это противоречие отмечено И. Я. Фрояновым (см.: Фроянов И. Я.
Рабство и данничество у восточных славян (VI—X вв.) СПб., 1996. С. 17).
33 Романов Б. А. Люди и нравы древней Руси. С. 139.
34 Там же. С. 20.
35 Там же. С. 21.
36 Там же. С. 18.
37 Там же. С. 23.
38 Там же. С. 24.
39 Там же. С. 25—26.
40 Там же. С. 146—147.
41 Там же. С. 147—148.
42 Там же. С. 148—151.
43 Там же. С. 151.
44 Там же. С. 163—164.
45 Правда Русская: Учебное пособие. М.; Л., 1940. С. 57.
46 Романов Б А. Люди и нравы древней Руси. С. 26.
47 Там же. С. 29.
48 Там же. С. 26.
49 Там же. С. 26—27; Правда Русская: Учебное пособие. С. 55.
50 Правда Русская: Учебное пособие. С. 59.
51 52 Романов Б А. Люди и нравы древней Руси. С. 49.
Там же. С. 51—52.
53 Там же. С. 53.
54 Там же. С. 54.
55 Там же. С. 55.
56 Там же. С. 56.
57 Там же. С. 56—62.
58 Там же. С. 63.
59 Там же. С. 87.
60 Там же. С. 64.
61 Там же. С. 80—81.
62 Там же. С. 65.
63 Там же. С. 90.
64 Правда Русская: Учебное пособие. С. 65—66.
65 Романов Б А. Люди и нравы древней Руси. С. 293.
66 Правда Русская: Учебное пособие. С. 65.
67 Романов Б А. Люди и нравы древней Руси. С. 90—91.
68 Там же. С. 98; Правда Русская: Учебное пособие. С. 70.
69 Романов Б. А. Люди и нравы древней Руси. С. 98.
70 Правда Русская: Учебное пособие. С. 72.
233
71 Романов Б. А. Люди и нравы древней Руси. С. 93.
72 Там же. С. 96—97.
73 Там же. С. 292—293.
74 Там же. С. 123.
75 Там же. С. 115.
76 Там же. С. ПО.
77 Там же. С. 101.
78 Там же. С. 113.
79 Там же. С. 116.
80 Там же. С. 124.
81 Там же. С. 126.
82 Там же. С. 117.
83 Там же. С. 128—129.
84 Там же. С. 131.
85 Там же. С. 129.
86 Там же. С. 71.
87 Там же. С. 72.
88 Там же. С. 289.
89 Там же. С. 286.
90 Там же. С. 296.
91 Там же. С. 87, 302.
92 Там же. С. 296.
93 Там же. С. 296—297.
94 Там же. С. 286, 302.
95 Там же. С. 68.
96 Там же. С. 291—292.
97 Там же. С. 302—303.
98 Там же. С. 305.
99 Греков Б. Д. Киевская Русь. 3-е изд., перераб. и испр. М.; Л., 1939.
100 Б. А. Романов — И. В. Егорову. 12 февраля 1947 г.: ОР РНБ,
ф. 273, д. 126, л. 54.
101 Романов Б. А. Очерки дипломатической истории русско-японской
войны. 1895—1907. М.; Л., 1947.
102 Протокол заседания Сектора истории СССР XIX—начала XX века
Института истории АН СССР. 17 марта 1948 г.: Архив СПб. ФИРИ, ф. 298,
on. 1, д. 11, л. 2.
103 Романов Б. А. Очерки дипломатической истории русско-японской
войны. С. 171. Ср.: Ананьин Б. В. Мемуары С. Ю. Витте в творческой судь-
бе Б. А. Романова//Проблемы социально-экономической истории России: К
100-летию со дня рождения Бориса Александровича Романова. СПб., 1991.
С. 37—38.
104 Правда. 1945. 3 сект.
105 Гальперин А. Л. Англо-японский союз 1902—1921 гг. М., 1947; Еру-
с ал имений А. С. Внешняя политика и дипломатия германского империализ-
ма в конце XIX в. М.; Л., 1948; Манфред А. 3. Внешняя политика Франции
в 1871—1891 гг. М., 1952; Добров А. Дальневосточная политика США в пе-
риод русско-японской войны. М., 1952 и др.
— 11 —
«АНТИК ИЛИ МОДЕРН?»
Итак, в самом конце 1947 г. были изданы все работы —
2 монографии и комментарии к «Правде Русской», написан-
ные Б. А. Романовым еще до войны, но потребовавшие до-
полнительно 3 трудных лет для завершения их подготовки к
печати. «Полоса литературных дел», о которой писал
Б. А. Романов, закончилась. Тем самым выполнена была и
программа, намеченная им по возвращении в Ленинград из
эвакуации. «В годы войны ничего не выходило, — писал
он. — Оттого теперь и прорвало так по-ниагарски».1
Одновременный залповый выброс трех изданий поставил
Б. А. Романова в 1947 г. в положение, подобное цирковому
эксцентрику, играющему сразу на нескольких инструментах:
необходимо было одновременно читать корректуры, состав-
лять подробные указатели, работать с редакторами и с ком-
ментаторами «Правды Русской». И все же ученый еще до вы-
хода в свет этих работ стал задумываться над новой своей
программой научной работы — на несколько лет вперед.
Б. А. Романов, как и герой его книги «Люди и нравы древ-
ней Руси» — «Заточник», оказался на распутье. Перед ним, в
частности, встал вопрос о том, какой проблематике отдать
предпочтение — истории средневековой России или нового
времени. Эта альтернатива — «антик или модерн» — перво-
начально стала решаться им в пользу занятий русскими древ-
ностями. Еще в 1946 г. Б. Д. Греков принял решение о под-
готовке академического издания Судебников 1497, 1550 и
1589 гг., чтобы тем самым продолжить реализацию давней
его идеи — комментированной публикации законодательных
памятников феодальной Руси. Б. А. Романову и было пред-
ложено заняться комментированием статей Судебника
1550 г.
235
Первоначально, размышляя об этой своей будущей, толь-
ко пока еще предполагаемой работе, он воспринял ее без эн-
тузиазма: «Судебник не герой моего романа и несколько тя-
готит меня, как что-то чуждое,—писал Б. А. Романов,—
это—повинность» (Е. Н. Кушевой. 21 мая 1946 г.). Возмож-
но, именно вследствие такого своего отношения к перспек-
тиве занятия Судебником Ивана Грозного у него возникла
идея, одобренная руководством Института истории, в част-
ности его директором Б. Д. Грековым, продолжить изучение
русского империализма и написать монографию «Россия в
Персии», в которой автор должен был бы, подобно тому,
как он это сделал в «России в Маньчжурии», исследовать
империалистическую политику российского самодержавия,
но теперь не на Дальнем Востоке, а в одной из стран Пе-
редней Азии. Однако в конечном счете за Б. А. Романовым
было закреплено и комментирование Судебника 1550 г., и
уже с конца 1947 г., едва успев раздарить экземпляры своих
только что изданных трудов, он принялся за эту новую для
себя работу. Таким образом, ученому снова предстояла одно-
временная работа над столь отдаленными и по хронологии,
и по проблематике темами — и «антик» (комментарии к Су-
дебнику 1550 г.), и «модерн» («Россия в Персии»).
Война прервала на некоторое время перманентные идео-
логические кампании, протекавшие на протяжении первых
двух десятилетий после Октябрьской революции. Но не про-
шло и одного года со дня ее окончания, как они возобно-
вились и не прекращались до середины 50-х годов. Писатели
А. Ахматова и М. Зощенко (август 1946 г.), драматические
театры (август 1946 г.), кинематографисты С. Эйзенштейн и
его коллеги (сентябрь 1946 г.), композиторы Д. Шостакович,
С. Прокофьев, В. Мурадели и другие (февраль 1948 г.) —
вот неполный перечень объектов погромных постановлений
ЦК ВКП(б).
Сталин спровоцировал также ряд идеологических погро-
мов в партийной печати, захлестнувших научные институты,
творческие союзы, учреждения культуры. Разгрому подвер-
глись, в частности, выдающиеся научные школы в области
филологии (школа классика отечественного литературоведе-
ния А. Н. Веселовского), генетики (на погромной сессии
ВАСХНИЛ в июле—августе 1948 г.), физиологии (на так на-
зываемой «павловской» совместной сессии АН СССР и Ака-
демии медицинских наук в июле 1950 г.).
236
Жупелами стали «антипатриотизм», «низкопоклонство»
перед «растленным буржуазным Западом», его наукой и
культурой, «буржуазный объективизм», «буржуазный либера-
лизм», «растленный космополитизм», которым противопо-
ставлялись патриотизм в его крайних проявлениях и всевоз-
можные «приоритеты» русской науки и культуры. При этом
от деятелей науки требовали одновременно «разоблачения
лживой версии о несамостоятельности русской культуры и
науки» и борьбы против «идеализации» и «апологии» выда-
ющихся деятелей науки прошлого, против «навязывания» на-
учных традиций, восходящих к ним. С появлением в «Прав-
де» от 28 января 1949 г. редакционной статьи «Об одной
антипатриотической группе театральных критиков» борьба с
антипатриотизмом и «растленным космополитизмом» приоб-
рела явные формы (прежде несколько завуалированные) раз-
нузданной травли деятелей культуры и науки еврейского
происхождения, приведшей к изгнанию с работы, политичес-
ким репрессиям и завершившейся в конце 1952—начале
1953 г. «делом врачей-отравителей».
Все эти акции преследовали двоякую цель. С одной сто-
роны, Сталин стремился расколоть и изолировать интелли-
генцию, духовная свобода которой представляла, по его
убеждению, опасность для режима. По свидетельству писате-
ля К. Симонова, на встрече Сталина, Молотова и Жданова
с руководством Союза писателей СССР 14 мая 1947 г. фигу-
рировал документ, который содержал требование начать
борьбу с интеллигенцией, якобы преклоняющейся перед за-
падной культурой.2 Эта встреча происходила на фоне уже на-
чавшихся после постановлений 1946 г. разоблачительных
кампаний. С другой же стороны, Сталин принял решение за-
вершить формирование новой государственной идеологии,
основы которой были заложены еще в 30-х годах. Поворот
от мессианства мировой революции к имперскости, демон-
стративному подчеркиванию роли «великого русского наро-
да» как «старшего брата» других народов, к опоре на силь-
ное государство и провозглашение прямой преемственности
от «великих предков», в числе которых предписывалось чис-
лить не только Александра Невского, Дмитрия Донского,
Александра Суворова, Михаила Кутузова, но и Ивана Гроз-
ного, свидетельствовал о том, что в качестве основополагаю-
щей идеи выдвигался патриотизм с преимущественной опо-
рой на численно преобладавшую нацию. Эта идея, однако,
в условиях многонациональной страны не могла быть эффек-
тивной длительное время и представляла собой мину замед-
ленного действия. И действительно, провозглашенная в
237
такой специфической форме и сопровождавшаяся депорта-
циями и преследованиями целых народов идея патриотизма
очень быстро переросла в практику великодержавного шови-
низма. Не эта ли идея и ее практическое воплощение стали
в конечном счете одной из движущих сил развала СССР?
1949 год был отмечен также новыми массовыми репрес-
сиями, объектами которых стали в большой степени вернув-
шиеся из концлагерей и ссылок лица, отправленные туда по
сфабрикованным политическим «делам» и отбывшие свои
сроки (не более 10 лет). В Ленинграде острота положения
ощущалась особо из-за того, что идеологические проработки
и новые репрессии наложились на «Ленинградское дело»,
приведшее к уничтожению партийно-хозяйственного руко-
водства города. В частности, был расстрелян бывший ректор
Ленинградского университета А. А. Вознесенский (занявший
к этому времени пост министра просвещения РСФСР), и
очень скоро те работники Ленинградского университета, ко-
торые были связаны с ним хотя бы служебными отношения-
ми, оказались под ударом.
Б. А. Романов с естественной тревогой следил за обста-
новкой в стране и идущими одна за другой (иногда накла-
дываясь одна на другую) идеологическими кампаниями и
проработками. Он с полным основанием считал, что они не-
пременно затронут и историческую науку, а следовательно —
его лично. В краткосрочной перспективе Б. А. Романова
тревожила реакция на «Очерки дипломатической истории...».
Напротив, судьба другой книги — «Люди и нравы древней
Руси» — его как будто пока не беспокоила, тем более, что
весьма комплиментарную рецензию на нее написал Д. С. Ли-
хачев, отправив ее в журнал «Вопросы истории». Тревога по
поводу «Очерков...» особенно усилилась в связи с выступле-
нием заведующего ЛОИИ С. И. Аввакумова на обсуждении
книги в Историческом институте при Ленинградском универ-
ситете (прошедшем, по признанию самого Б. А. Романова, в
целом в «дружелюбной атмосфере»), который фактически от-
рекся от нее, так как она-де «шла по Москве» (т. е. числи-
лась в плане не ЛОИИ, а головного Института истории).
Этот факт представлялся Б. А. Романову знаменательным.
Он с недоверием отнесся к сообщению Б. Д. Грекова о том,
что книга пользуется в Москве успехом. Поскольку «подлин-
ная дальнейшая судьба» «Очерков...» оставалась для
Б. А. Романова по-прежнему «неясной», он пришел к выво-
238
ду, что «было бы опрометчиво» связывать «дальнейшие
планы <...> с этой линией» его «жизни». «Это ведь нешуточ-
ное дело, — писал он Б. Д. Грекову 5 февраля 1948 г., — 25
с лишним лет посвящено было работе в этой сфере, много
было терниев и сомнений на этом пути беспартийного кус-
таря-одиночки — и тут недостаточно одного „дружественно-
го нейтралитета** (если он действительно будет дружествен-
ным). ЛОИИ же заняло позицию по меньшей мере просто
нейтралитета, с оттенком „умывания рук“». Поэтому
Б. А. Романов обратился к Б. Д. Грекову с просьбой исклю-
чить книгу «Россия в Персии» из плана Института, тем
более, что и многие рабочие обстоятельства совпадали с его
субъективным нежеланием продолжать работу над этой
темой: «1) дефектность архивного материала Учетно-ссудно-
го банка Персии в Ленинграде, 2) лишь умозрительное впе-
чатление о наличии архивного материала МИД в Москов-
ском архиве МИД (неизвестно насколько доступного), 3) не-
обходимость длительной работы и копирования документов
на бивуаках в Москве, что может оказаться <...> физически
не по силам, 4) следовательно, большая доля вероятия либо
срыва работы в полуделе, либо худосочности ее результа-
тов— невместный <...> под конец <...> жизни».
Взамен «России в Персии» Б. А. Романов сделал заявку
на другую тему следующей своей книжки «Русское общество
XIV—XVI вв.». С его точки зрения, она была «оправдана и
историографически (заполнение лакуны, остающейся после
«Великорусского государства» А. Е-ча (А. Е. Преснякова. —
В. 77.)), и авторским интересом: моральным правом послед-
нюю свою работу на остаток жизни выбрать сообразно со
своей творческой потребностью и организовать ее не на
„приставном стуле**, как было всю жизнь до сих пор, а в
нормальных условиях, в каких работают все другие». «Вся
жизнь моя, — писал далее Б. А. Романов, — прошла на по-
ложении „аутсайдера** нашей науки (чтобы избежать поль-
ского термина «попыхадло»). И мне горько было бы и даль-
ше оставаться в этом положении. Но я прекрасно отдаю себе
отчет в том, что именно сейчас должны найтись охотники
отбросить меня с дороги в канаву, — равно как сам я вижу,
что не ушла еще последняя и решительная минута, когда я
могу еще сказать свое слово в свою защиту». Б. А. Романова
беспокоило и инициированное Н. М. Дружининым предсто-
ящее обсуждение книги в Институте истории в Москве, о чем
он также поведал в письме к Б. Д. Грекову. Б. А. Романов
считал, что это обсуждение ничего ему не даст, «поскольку
<...> внутренне» он «навсегда порвал с этой темой, а следо-
239
вательно, и критические замечания практически останутся не-
применимы в будущем».3
Одновременно с этим, отчасти исповедальным, письмом
Б. А. Романов 2 февраля 1948 г. подал заявление заведую-
щему отделом истории СССР Исторического института при
Ленинградском университете, в планах которого за ним
также числилась книга «Россия в Персии». Ходатайствуя о
ее замене на монографию «Русское общество XIV—XVI вв.»,
он снова коснулся мотивов этого своего решения. Б. А. Ро-
манов отметил, в частности, что работал в области истории
внешней политики русского империализма «в качестве оди-
ночки-„пионера“», и это стало его «делом жизни», хотя оно
«и связано было с большим риском». Что же касается «Рос-
сии в Персии», то за данную тему «в течение 30-летия никто
не брался», и теперь работа над ней «тоже была бы связана»
для него «с большими трудностями и с не меньшим риском»,
особенно в связи с «публичным отречением» ЛОИИ от книги
«Очерки дипломатической истории русско-японской войны».
«Пожалуй, — приходил к выводу Б. А. Романов, — мое втор-
жение в эту сферу было действительно парадоксом. А жизнь
не терпит парадоксов». Именно поэтому он принял решение
теперь сосредоточиться на истории средневековой Р*уси, где
ему «не приходится „начинать все сначала**». И хотя на ком-
ментарии к «Правде Русской» и книгу «Люди и нравы древ-
ней Руси» нет «еще печатных откликов», писал Б. А. Рома-
нов, «но продолжение этой работы, по принадлежности моей
к старому поколению и не парадоксально, и, пожалуй, свя-
зано с меньшим риском, судя по целому ряду получаемых
мной устных откликов от моих старых товарищей и новых,
иногда довольно неожиданных, друзей». Эта тема, заявлен-
ная на 1948—1951 гг. «отчасти по настоянию моих друзей-
литературоведов» (вероятно, В. П. Адриановой-Перетц и
Д. С. Лихачева), писал ученый, отличается, в частности, тем,
что в ней «творческий момент <...> выражен гораздо яснее»,
чем в той, от которой теперь Б. А. Романов вынужден от-
казаться. Пока же необходимо собрать «громадный, рассеян-
ный и иногда неожиданный материал, его изучить и твор-
чески освоить, чтобы окончательно найти „ось вращения**
той картины древнерусской жизни», которую он «имеет в
виду здесь воссоздать». Как видно, Б. А. Романов стремился
найти такой древнерусский памятник и такой персонаж, ко-
торые, подобно тому как это было сделано в «Людях и нра-
вах древней Руси», позволили бы ему реконструировать куль-
турно-исторический тип эпохи.
240
Обсуждение «Очерков дипломатической истории русско-
японской войны» в Секторе истории СССР XIX—начала
XX в. Института истории АН СССР все же состоялось
(17 марта 1948 г.), и Б. А. Романов вынужден был отпра-
виться в Москву по специальному вызову дирекции Инсти-
тута. Общий фон этого обсуждения был крайне неблагопри-
ятным. Одновременно в течение нескольких дней на органи-
зованном Министерством высшего образования СССР
совещании заведующих кафедрами истории СССР государст-
венных университетов и пединститутов при участии научных
сотрудников институтов Академии наук, профессоров и пре-
подавателей Академии общественных наук и Высшей партий-
ной школы при ЦК ВКП(б) проходило обсуждение книги
Н. Л. Рубинштейна «Русская историография», изданной за
6 лет до этого и высоко оцененной Б. А. Романовым.
Н. Л. Рубинштейна шельмовали за то, что он, якобы отри-
цая самостоятельное значение русской исторической науки,
указывал на ее западные истоки, антинаучно, нигилистически
характеризовал достояние русской средневековой культуры
(летописи), игнорировал советскую историческую науку как
принципиально новый, высший этап развития мировой
науки.4 Одним из основных докладчиков на этом «обсужде-
нии» был А. Л. Сидоров, и начало заседания в Институте
даже было задержано, так как здесь его выступление плани-
ровалось первым.
А. Л. Сидоров приехал из МГУ, разгоряченный погро-
мом, который был учинен Н. Л. Рубинштейну, и уже одно
это могло предопределить характер обсуждения книги
Б. А. Романова. Однако эти опасения были развеяны прежде
всего самим А. Л. Сидоровым. Он отметил, что обращение
автора к исследованию именно дальневосточной политики
самодержавия вполне закономерно, так как Б. А. Романов
«является автором широко известной книги „Россия в
Маньчжурии**, вышедшей 20 лет тому назад». Новая моно-
графия того же автора «написана на актуальнейшую тему и
<...> имеет большой политический и исторический интерес».
Она, по убеждению А. Л. Сидорова, не только «правдиво»,
но и «методологически верно дает объяснение нарастанию
русско-японского конфликта и позиции, которую занимал
целый ряд государств в этом вопросе», а «прослеженные ав-
тором методы проникновения влияния России на Дальний
Восток» с особенной ясностью подчеркивают «ошибочность
концепции Покровского». А. Л. Сидоров особо отметил, что
Б. А. Романов «сумел установить неразрывную связь русско-
го
го империализма во внешней политике с внутренними кон-
фликтами».
Докладчик подробно охарактеризовал все главы книги, в
высшей степени одобрительно отозвавшись о каждой из них.
Он остановился и на своем давнем расхождении с автором,
который «последовательно не пытается провести различие
между политикой Витте и политикой Безобразова и его груп-
пы», и это осталось единственным замечанием, восходящим
к его резкой внутренней рецензии на рукопись книги, кото-
рая была написана еще в 1937 г. А. Л. Сидоров даже внес
предложение переиздать книгу с включением в нее специаль-
ного исследования о Портсмутском мирном договоре. И во-
обще он высказал пожелание, чтобы это «очень ценное ис-
следование, являющееся большим вкладом в историческую
науку», не стало бы последней работой Б. А. Романова, по-
священной «вопросам внешней политики конца XIX—начала
XX в.».
Выступившая вслед за А. Л. Сидоровым А. М. Панкра-
това оценила «книгу, как настоящую марксистскую работу,
в которой правильно дается характеристика русского импе-
риализма и его внешней политики». А. М. Дубинский отме-
тил, что «ни один из молодых историков не мог бы так спра-
виться с той задачей, которую взял на себя Б. А. Романов»,
являющийся «непревзойденным ученым в области истории
русско-японских отношений конца XIX—начала XX в.».
В. М. Мочалов сказал, что книга «Б. А. Романова является
украшением советской исторической литературы». Положи-
тельно отозвался о книге также А. Е. Иоффе.
Председательствовавший на заседании заведующий Сек-
тором истории СССР XIX—начала XX в. Н. М. Дружинин
обратил внимание прежде всего на «особенно ярко» врезав-
шееся «в сознание» «разоблачение Витте как мемуариста и
его литературной агентуры, создавших фальшивую версию о
миролюбивой политике Витте». Он с одобрением говорил об
«остроте и тонкости, с которой автор следит за закулисной
дипломатией», проявив «умение схватывать и разоблачать
затушеванные, замаскированные мотивы, которые являются
движущими причинами дипломатических действий». По мне-
нию Н. М. Дружинина, «в этом отношении с Б. А. Романо-
вым мог бы поспорить только Е. В. Тарле», но Б. А. Рома-
нов отличается от Е. В. Тарле тем, что привлеченные им об-
ширные документальные материалы подвергаются в работе
более строгому анализу, вследствие чего «слагается более
глубокое убеждение в правильности сделанных выводов, чем
при чтении работ Е. В. Тарле». В заключение Н. М. Дружи-
242
нин выразил пожелание, чтобы «книга (вероятно, второе ее
издание. — В. П.) была завершена таким же тонким анали-
зом» материалов Портсмутской мирной конференции, как
это сделано во всех предыдущих главах, и отметил «то еди-
нодушие, с которым присутствующие высказывались о боль-
шой ценности книги Б. А. Романова».5
Б. А. Романов, отправляясь в Москву, меньше всего ожи-
дал, что встретит там столь единодушное одобрение книги.
Не предполагал он и возможности постановки вопроса о же-
лательности подготовки второго, дополненного (за счет до-
бавления главы о Портсмуте) ее издания. Для этой работы
были необходимы материалы, хранившиеся в Архиве внеш-
ней политики России (АВПР), находящемся в ведении МИДа,
с крайне ограниченным доступом в него, о чем Б. А. Рома-
нов сразу же и заявил в дирекции Института. Эта проблема
в предварительном порядке была положительно решена еще
до отъезда Б. А. Романова из Москвы, и он получил устные
заверения, что речь идет только «о подаче заявления с офор-
млением по нему в течение месяца-двух» (Е. Н. Кушевой. 30
ноября 1950 г.). Таким образом, одновременно решалась и
тревожащая его проблема с «Россией в Персии»: взамен этой
книги плановым заданием Б. А. Романова снова становились
«Очерки дипломатической истории русско-японской войны»,
но уже в расширенном и дополненном виде. Он опять обре-
кал себя на работу, связанную с риском изменения полити-
ческой конъюнктуры, снова вступал на зыбкую почву, кото-
рая в любой момент могла уйти из-под ног. Вместе с тем
Б. А. Романову пришлось бы отказаться от уже намеченной
темы (или отложить ее на неопределенный срок), относящей-
ся к средневековой Руси, которую он избрал «сообразно
своей творческой потребности». Ученый не мог не понимать,
что это неожиданное задание потребует от него нового на-
пряжения всех не только интеллектуальных, но даже и физи-
ческих сил, что ему придется одновременно работать и над
комментированием Судебника 1550 г. Не знал он только,
сколь много разнообразных препятствий ему предстоит пре-
одолевать и в процессе работы над книгой, и на пути к ее
изданию. Он не мог и представить себе, что этот путь — от
старта до финиша — займет долгие 8 лет.
Напротив, Б. А. Романову казалось, что сейчас, в марте
1948 г., ему, как никогда до этого, предоставляется режим
наибольшего благоприятствования, что, несмотря на объек-
тивные трудности, никаких препон субъективного свойства
на его пути не будет, что, наконец, его аутсайдерское поло-
жение сменяется уважительным к нему отношением как рав-
243
ноправному члену научного сообщества. Эти надежды и по-
служили основанием к принятию решения: ответить согласи-
ем на настоятельные предложения дирекции Института и
взвалить на себя почти неподъемную ношу — готовить вто-
рое, дополненное издание «Очерков дипломатической исто-
рии русско-японской войны». О мотивах этого своего реше-
ния Б. А. Романов, едва вернувшись из Москвы, написал
24 марта 1948 г. Н. Н. Воронину: «Впрягаюсь в подготовку
второго издания своих дипломатических очерков до 1950
года на расширенной основе архива МИД (АВПР. — В. П.)
и, по-видимому, в атмосфере наибольшего благоприятство-
вания. Это настолько неожиданно и заманчиво, что я не с
таким уж тяжелым сердцем пошел на отказ от моих древ-
ностей — на этот срок. Это был очень дружественный шаг
мне навстречу, и если бы я его не оценил и не ответил на
него тем же, это было бы тупо-глупо <...> Здесь друзья по-
здравляют меня с таким оборотом дела. Да и я сам сознаю,
что в условиях данного момента получить оценку книги как
„настоящей марксистской книги по истории дипломатии", а
затем получить доступ в архив МИД, — это стоит многого».
Конечно, Б. А. Романов не обольщался тем, что его ра-
бота была признана марксистской. В условиях, при которых
марксизм претерпел столь значительные модификации, что
его синонимом зачастую становился всего только патриоти-
ческий пафос, и вообще превратился в разменную монету в
идеологических проработках, эта квалификация становилась
не более чем сертификатом благонадежности. Но сам автор
прекрасно осознавал, что его книга отнюдь не отвечает этим
критериям (хотя ему и приходилось с ними считаться), а от-
личается от других работ, посвященных исследованию внеш-
ней политики дореволюционной России, объективностью и
научностью. Поэтому Б. А. Романов хотя и согласился на ее
переиздание в дополненном виде, но отнюдь не исключал,
что и она может попасть в жернова идеологического погро-
ма. Недаром он писал 19 мая 1948 г.: «Я более полугода уже
живу под потенциальным ударом молота («судьба-индей-
ка»)».6 Б. А. Романов вполне реалистически оценивал обста-
новку и интуитивно чувствовал, что недалеко то время,
когда и «жизнь» стоить не будет и «копейки».
Пока же, не приступая на первых порах к переработке
«Очерков дипломатической истории...», он быстрыми темпа-
ми писал комментарии к статьям Судебника 1550 г. и по
приглашению В. П. Адриановой-Перетц «в часы досуга» за-
нимался переводом «Повести временных лет» с древнерусско-
го на современный русский язык. С начала летописи и до
244
1016 г. перевод был поручен Д. С. Лихачеву, а с 1016 г. и
до конца — Б. А. Романову. Эта работа для него была, по
его признанию, «увлекательным делом». Переводы Д. С. Ли-
хачева и Б. А. Романова рознились между собой. Если пер-
вый стремился текст «Повести» передать возможно точно, то
второй преследовал цель сделать текст понятным читателю,
почему в нем имеются и элементы объяснения. Б. А. Рома-
нов также написал часть комментариев. Книга вышла в свет
в серии «Литературные памятники».7
ПРИМЕЧАНИЯ
1 Б. А. Романов — И. В. Егорову. 12 февраля 1947 г.: ОР РНБ, ф. 273,
д. 126, л. 54.
2 Симонов К. Глазами человека моего поколения (Размышления о
И. В. Сталине)//Знамя. 1988. № 3. С. 60—61.
3 См.: Ананьин Б. В. Мемуары С. Ю. Витте в творческой судьбе
Б. А. Романова//Проблемы социально-экономической истории России: К
100-летию Бориса Александровича Романова. СПб., 1991. С. 30—40.
4 См.: Вотинов А. Обсуждение книги Н. Л. Рубинштейна «Русская ис-
ториография»//ВИ. 1948. № 6. С. 126—135.
5 Протокол заседания Сектора истории СССР XIX—начала XX в. Ин-
ститута истории АН СССР. 17 марта 1948 г.: Архив СПб. ФИРИ, ф. 298,
on. 1, д. 11, л. 1 —13.
6 Б. А. Романов — А. И. Андрееву. 19 мая 1948 г.: ПФА РАН, ф. 934,
оп. 5, д. 296.
7 Повесть временных лет: Текст и перевод / Подготовка текста
Д. С. Лихачева; Перевод Д. С. Лихачева и Б. А. Романова; Под редакцией
В. П. Адриано вой-Перетц. М.; Л., 1950. Ч. 1. Во втором исправленном и
дополненном издании «Повести временных лет» (СПб., 1996) перевод, вы-
полненный Б. А. Романовым, почему-то заменен переводом Д. С. Лихачева,
а перевод текста «Повести временных лет» по Ипатьевскому списку, также
осуществленный Б. А. Романовым, странным образом опубликован в отре-
дактированном Д. С. Лихачевым виде. Тем самым покойному ученому был
приписан перевод, который не являлся плодом его личного творчества, что
недопустимо.
— 12 —
«ПОСЛЕДСТВИЯ БУДУТ ОЧЕНЬ ГЛУБОКИЕ...»
Ничто, казалось бы, не предвещало неприятностей. Но вес-
ной 1948 г. разнузданная кампания по борьбе с «буржуазным
объективизмом» и «антипатриотизмом» захлестнула и Ленин-
градский университет. Затем в нее включилось ЛОИИ. Перво-
начально она была направлена своим острием против блестя-
щей плеяды профессоров филологического факультета старше-
го и среднего поколений — М. К. Азадовского, Г. А. Гуков-
ского, М. П. Алексеева, В. Я. Проппа, Б. М. Эйхенбаума.1 И
марта 1948 г. в статье «Против буржуазного либерализма в
литературоведении», опубликованной в известной своими по-
громными материалами газете Отдела пропаганды и агитации
ЦК ВКП(б) «Культура и жизнь», содержалось требование «ра-
зоблачать» «проявления <...> низкопоклонства перед ино-
странщиной, которое ныне представляет собой один из самых
отвратительных пережитков капитализма в сознании некото-
рых отсталых кругов нашей интеллигенции».2 Показательно,
что в том же номере газеты была опубликована статья доцента
кафедры истории СССР МГУ Г. Н. Анпилогова «Серьезные
ошибки в учебнике истории СССР», которая полна резкими
выпадами против М. Н. Тихомирова, автора учебника исто-
рии СССР для педучилищ. М. Н. Тихомирову ставилось в
вину, что в его интерпретации «причиной возникновения клас-
сов являются войны», что автор недооценивает роль классо-
вой борьбы и дает «более чем пространное описание» «исто-
рии русской церкви». Статья завершалась утверждением, со-
гласно которому учебник не является марксистским.3
Несомненно, что непосредственным откликом на эти ди-
рективные материалы стала передовая статья, опубликован-
ная газетой «Ленинградский университет» («многотираж-
кой») 7 апреля 1948 г., в которой о замечательной статье
246
С. Н. Валка «Историческая наука в Ленинградском универ-
ситете за 125 лет»4 говорилось, что она «преисполнена духом
низкопоклонства перед старой буржуазной наукой в лице ее
реакционных представителей».
Казалось бы, эти филиппики не имели никакого отноше-
ния к Б. А. Романову, но, во-первых, С. Н. Валк был его
товарищем студенческих лет, коллегой по работе в 20-х
годах в Центрархиве и в послевоенный период — по ЛОИИ
и историческому факультету ЛГУ, во-вторых же, уже на
20 апреля было назначено заседание Ученого совета истори-
ческого факультета, повестка дня которого предусматривала
одновременное обсуждение этой статьи С. Н. Валка и книги
Б. А. Романова «Люди и нравы древней Руси». Разумеется,
это не могло быть случайным совпадением. Было ясно, что
принято решение обоих авторов подвергнуть публичной эк-
зекуции. Что касается С. Н. Валка, то его статья и сам
автор стали объектами нападок в духе тех «установок», ко-
торые были изложены в газете «Культура и жизнь» и кон-
кретизированы «многотиражкой».
Когда же дело дошло до книги Б. А. Романова, то зара-
нее заготовленный сценарий оказался нарушенным выступле-
нием Д. С. Лихачева. Вероятно, в общих чертах он был зна-
ком с элементами этого сценария. На это предположение на-
талкивает то обстоятельство, что Д. С. Лихачев уделил
основное внимание наиболее опасным для автора книги воз-
можным, пока еще анонимным, обвинениям. Он обратил
внимание присутствовавших на то, что показ в книге тех
людей древней Руси, «которые обороняли русскую землю»,
выходит за рамки ее темы, поскольку автор поставил перед
собой задачу изобразить людей древней Руси в процессе
классообразования, «в мирной обстановке», и «это художе-
ственно <...> исключает возможность показывать людей и
нравы Руси в военной обстановке». Д. С. Лихачев сопоста-
вил книгу Б. А. Романова с произведением «совершенно
иного жанра» — комедией А. С. Грибоедова «Горе от ума»,
в которой русское общество также показано «не в военной
обстановке», а русская армия олицетворяется «аракчеевским
хрипуном» Скалозубом, хотя он и был героем Отечественной
войны 1812 г.
В «аспекте <...> социальной структуры», говорил
Д. С. Лихачев, «человеческое общество прошлого» с неиз-
бежностью предстает «в известной мере <...> мрачным»,
будет ли это древняя Русь, «грибоедовская Москва или го-
родок Окуров, русская провинция „Мертвых душ“ или соци-
альная действительность Ассиро-Вавилонии, или Китай в
247
первое тысячелетие до нашей эры — это закономерность. Не
будь этой известной мрачности нашей жизни, не надо было
бы двигаться вперед в социальном отношении». Конечно,
продолжал далее Д. С. Лихачев, «жизнь древней Руси пред-
ставилась» в книге Б. А. Романова «далеко не так, как она
изображалась во многих работах, в том числе и моих, что
было с моей стороны некоторой ошибкой»: «Культура Ки-
евской Руси открылась для нас не с фасадной стороны», с
которой «мы привыкли рассматривать эту культуру <...>
подняв голову, глядя на фасад, фрески и мозаики», и кото-
рой «мы вправе гордиться», а «с другой, внутренней», и то,
«что показал нам Борис Александрович, оказалось очень
сложным: сложны людские взаимоотношения, сложна пестро-
та социального состава, сложен процесс классообразования».
Поэтому «обрисовка тяжелых сторон (жизни. — В. П.) древ-
ней Руси очень правильна <...> Эпоха ведь была жестокая,
нравы были не только домостроевскими, но додомостроев-
скими». По мнению Д. С. Лихачева, не следует смешивать
два различных вопроса — «вопрос о высоте культуры» и то,
«всем ли легко было жить при этой высоте культуры». Вмес-
те с тем именно «сложность социальной жизни в древней
Руси», «сложность социальных взаимоотношений <...>, слож-
ность и продвинутость процесса классообразования и слож-
ность умственной жизни», «которые Борис Александрович
великолепно показал», «позволяет поставить вопрос о высоте
культуры древней Руси как о стадиальной высоте», истори-
ческой высоте, а не высоте самой по себе, поскольку «раз-
витие культуры не идет имманентно», «культура народа не
может быть отрываема от социального строя, от <...> обще-
ственной организации, от исторического развития народа».
Пытаясь защитить книгу Б. А. Романова от возможных
обвинений в «антипатриотизме», Д. С. Лихачев задал «пря-
мой вопрос», на который сразу же и ответил: «...патриотична
ли такая обрисовка жизни древней Руси? Патриотично ли в
древней Руси подчеркивать <...> тяжелые стороны жизни? Не
лучше ли об этом было помолчать? Я самым решительным
образом возражаю против этого. Это было бы идеализацией
прошлого, и советский патриотизм несовместим с этим. Со-
ветский патриотизм требует критического отношения к про-
шлому и он историчен, потому что только критическое от-
ношение к прошлому и позволяет двигаться вперед. Это
верно и в отношении русской историографии. Это верно и
в отношении освещения вопросов культуры древней Руси.
Если мы будем <...> видеть только светлые стороны в древ-
ней Руси, то не проще ли нам было бы возвратиться к ста-
248
рому, а этим грешат очень многие работы по культуре древ-
ней Руси <...> Надо сказать, что в книге Бориса Александ-
ровича есть своеобразный патриотизм <...> Дело в том, что
читатель книги <...> воспринимает прошлое Руси как свое
прошлое. Отношение к древней Руси у читателя (и у Бориса
Александровича) лирическое, это — грусть о родном челове-
ке, и в этом отношении у Бориса Александровича есть пат-
риотизм, но патриотизм молчаливый».
В заключение Д. С. Лихачев коснулся вопроса о жанре
книги, колеблющемся между научным и научно-популярным,
о непроясненное™, с его точки зрения, формы — то ли «ху-
дожественно-литературной», то ли «литературно-научной».
Именно это обстоятельство, по мнению Д. С. Лихачева, по-
мешало Б. А. Романову «в пределах избранного им жанра»
сказать то, о чем договаривает в своем выступлении сам
Д. С. Лихачев.5
В речи доцента кафедры истории СССР Д. И. Петрикее-
ва выход в свет книги «Люди и нравы древней Руси» оцени-
вался как значительное событие для историков: «Она явля-
ется несомненно полезной, и как бы мы ни критиковали
взгляды Бориса Александровича по отдельным вопросам
<...>, отмечая многие ее недостатки, в целом эта книга <...>
представляет огромный интерес» и «заслуживает несомненно
положительной оценки». Вместе с тем Д. И. Петрикеев не
согласился с характеристикой домонгольской Руси как вре-
мени, когда происходил процесс классообразования, на том
основании, что «при таком определении не остается разли-
чий между дофеодальным периодом и периодом раннего фе-
одализма в истории древней Руси», тогда как «после замеча-
ний Сталина, Кирова и Жданова на конспект учебника по
истории СССР прочно установлено», что процесс «образова-
ния классов, т. е. процесс возникновения феодализма, отно-
сится нами к дофеодальному периоду». По мнению
Д. И. Петрикеева, в книге имеет место и «известаое преуве-
личение значения холопства»; не согласился он также с при-
знанием Б. А. Романовым одного только способа — эконо-
мического — закабаления смердов.6
Доц. В. Н. Вернадский, являвшийся издательским редак-
тором обсуждаемой книги, отметил прежде всего привлека-
тельные стороны книги — «суровый, справедливый и глубо-
кий социальный анализ отношений, существовавших в древ-
ней Руси». По его мнению, «нет в советской литературе <...>
ни одного исторического исследования, в котором бы с
такой убедительностью были показаны во всей жизненной
правде и сложности процессы похолопления и кабаления
249
людей в XI—XIII вв. <...> с такой тонкостью и тщательно-
стью подвергнут анализу вопрос о смердах и прослежена
борьба внутри господствовавших классов вокруг смердов».
При этом В. Н. Вернадский не исключал, что «Б. Д. Греков
<...> не со всеми <...> соображениями» автора книги «будет
согласен». Выступавшего привлекло также «мастерство ана-
лиза источников, ювелирная работа», не сравнимая по глу-
бине «с той нередко топорной работой с источниками, ко-
торую обнаруживают у нас некоторые историки, подходящие
к источнику как примитивные потребители».
Но В. Н. Вернадский предъявил и ряд претензий автору
книги. Он считал, что в ней нашли отражение лишь отдель-
ные стороны древнерусской жизни. В частности, в книге от-
сутствует не только «характеристика боевых подвигов
людей», но и их «напряженной трудовой деятельности <...>
которой сопровождалось освоение ими территории Восточ-
ной Европы». В книге, по мнению В. Н. Вернадского, «не-
сколько больше, чем требует тема, выдвинуты проблемы
пола», «вопросы семейной жизни в ее альковных тайнах».
В. Н. Вернадскому казалось, что «следовало занавес алькова
опустить». Наконец, выступавший указал на то, что сурово-
му содержанию книги «несколько не соответствует слишком
изысканный стиль автора», который порой «затрудняет по-
нимание». Та «малая вертящаяся сцена, на которой Борис
Александрович хочет показать читателю подводные камни,
подстерегавшие человека <...> эпохи, слишком быстро вер-
тится, она развлекает своим блеском читателя, и не всегда у
него находится достаточной апперцепности мысли, чтобы по-
дойти к глубокому содержанию этой интересной книги».7
Отвечая своим критикам, Б. А. Романов прежде всего
обратил внимание присутствующих «на свое историографи-
ческое положение»: «...я, когда писал эту книгу, ясно созна-
вал, чувствовал, переживал это своими нервами, что я, как-
никак, являюсь учеником <...> А. Е. Преснякова», без кото-
рого «я <...> этой книги не написал бы». «Если я проявил
некоторую остроту критического отношения к источни-
кам,— говорил далее Б. А. Романов,—то это сделано под
воздействием тени Александра Евгеньевича». В то же время,
если бы «он был жив и прочитал бы эту книгу, он бы, ве-
роятно, <...> сказал <...>: „Ну и фантазер же Вы, Борис
Александр ович “».
Б. А. Романов особо подчеркнул, что его «пытливо ин-
тересовали те крупные и мелкие недостатки, а тем более
ошибки, которые могли бы закрасться в <...> работу», по-
тому что ему «интересно знать, нет ли каких-нибудь течей,
250
мелких щелей, которые сейчас еще не текут, но которые
дадут течь в том утлом челноке», в котором едет автор и
«который может опрокинуться от любой волны». Более того,
Б. А. Романов заявил, что не считает «суждения, высказан-
ные оппонентами, решающими судьбу книги», поскольку
«еще возможны крупные недоумения и недоразумения, а
может быть, даже удары». Пройдет всего год, и это предпо-
ложение оправдается с избытком.
Сделав ряд разъясняющих замысел книги расширитель-
ных, по сравнению с авторским предисловием, замечаний,
Б. А. Романов счел необходимым ответить на отдельные
упреки в свой адрес. В частности, пытаясь отвести обвинения
в том, что в книге люди не показаны в их трудовой деятель-
ности, он обратился с вопросом к участникам заседания:
«Производит ли <...> книжка такое впечатление, что перед
вами выступают (в ней. — В. П.) толпы бездельников?». Не
согласился Б. А. Романов и с утверждением, что в XI—
XIII вв. прекратился процесс классообразования: «...я никог-
да в истории не видел, чтобы что-нибудь в историческом
процессе кончалось так аккуратно, в обрез <...> Во всяком
случае, известная инерция от процесса классообразования
должна была оставить какую-то рябь и дальше. Или же в
этом смысле на поверхности русской жизни остался полный
штиль? — Конечно, нет».
Коснувшись упрека в том, что в книге «больше чем надо
<...> выдвинута проблема пола», Б. А. Романов решительно
отвел его, имея, безусловно, в виду и отсутствовавшего на
обсуждении Б. Д. Грекова. Он объяснил, почему уделил
столь большое внимание проблемам интимной жизни людей
древней Руси: «Я никогда не мечтал о славе Боккаччо. Но
здесь есть две виновницы. Одна — православная церковь, а
другая — Великая Октябрьская социалистическая революция,
ибо в лице своего читателя я неизбежно должен предпола-
гать человека, который, собственно, в православной церкви
ничего не понимает, потому что он ее не знает, не видел, не
соприкасался с нею.8 Я укажу на такой поразительный при-
мер: наши основоположные труды по древнерусской части,
та же „Киевская Русь“ Б. Д. Грекова, — она идет совершен-
но мимо церкви, выпадает такое звено! <...> Это такое опус-
тошение реального исторического представления об истори-
ческом процессе того времени, которое не может меня не по-
ражать <...> Мне нужно было показать, в чем была сила
этой христианской церкви, в чем ее сущность, какими при-
водными ремнями захватывала церковь жизнь. Если устра-
нить вопросы пола, то церковь у меня будет болтать ногами
251
и махать руками, и ей не за что будет ухватиться. Это будет
зрелище, которое ни к чему решительно не приведет <...> Я
решил задуматься над тем, какими экскаваторами вытаски-
вала церковь питательные соки для себя из русского народа,
какими приводными ремнями она вращала жизнь».9
Несомненно, обсуждение книги Б. А. Романова пошло не
по задуманному организаторами пути. О том свидетельству-
ют гневные инвективы в опубликованной «многотиражкой»
статье преподавателя кафедры истории партии Н. Зегжды,
адресованные главным образом не самому автору книги, а
Д. С. Лихачеву, который был обвинен в том, что не оправ-
дал ожидания многочисленной аудитории «научных работни-
ков, аспирантов, студентов, собравшихся в этот день на за-
седание Совета истфака» и якобы ждавших «от проф.
Д. С. Лихачева строгого и объективного разбора книги, ко-
торая, несмотря на свои несомненные достоинства, страдает
всеми <...> недостатками, поданными проф. Лихачевым как
объективистский перечень неизвестно чьих и откуда взявших-
ся суждений». Автора статьи возмутило выступление не толь-
ко Д. С. Лихачева, но и Д. И. Петрикеева, который, будучи
заместителем секретаря партбюро истфака, полемизировал с
Б. А. Романовым только «по отдельным частным проблемам
его книги <...> не дал партийной оценки квазиобъективист-
скому выступлению проф. Д. С. Лихачева».
В статье ничего не сообщается о содержании выступления
самого Б. А. Романова, а только выражено сожаление, что
он «обошел стороной вопрос о недостатках своей работы»,
и это было «вполне естественно», поскольку «ему не с кем
и не о чем было спорить». Зато в заключительном пассаже
статьи говорится о том, о чем Б. А. Романов не сказал. А
«не сказал он главного: ставил ли он в своей книге задачу
показа не только одного из периодов эпохи становления фе-
одальных отношений на Руси, но и задачу такого показа ис-
тории нашей Родины, который должен рождать чувство на-
циональной гордости за великий русский народ».16
Эта статья в газете «Ленинградский университет» свиде-
тельствовала, что книга Б. А. Романова «Люди и нравы
древней Руси» попала в зону внимания именно тех сил, ко-
торые активно вели борьбу с так называемым антипатрио-
тизмом и его носителями. Пока, ненадолго, их атака была
отбита. К тому же атмосфера, в которой работали ученые-
историки, продолжала накаляться. В частности, в «Вопросах
истории» появилась погромная рецензия Г. Н. Анпилогова
на сборник статей «Петр Великий», вышедший под редак-
цией А. И. Андреева, историка одного с Б. А. Романовым
252
поколения, ученика А. С. Лаппо-Данилевского. Его авторам,
особенно самому А. И. Андрееву и С. А. Фейгиной, были
поставлены в вину «низкопоклонство перед иностранщиной»
и «пропаганда антинаучных взглядов буржуазных истори-
ков».11 В течение 1948 г. были напечатаны 3 разнузданные
рецензии на изданную в 1947 г. книгу С. Я. Лурье «Геро-
дот»— В. Г. Редера,12 Е. Г. Сурова13 и И. С. Кацнельсона.14
Автора клеймили за то, что он популяризировал взгляды на
Геродота, «высказанные буржуазными исследователями-мо-
дернизаторами», и тем самым раболепствовал перед ино-
странщиной, за создание им крайне противоречивого «чудо-
вищного образа Геродота», выступавшего под пером
С. Я. Лурье то патриотом малоазийского Галикарнасса, то
афинским патриотом, то поклонником Самоса, то защитни-
ком дельфийского оракула и т. д. «Удивительно, — вопро-
шал Е. Г. Суров, —как мог С. Я. Лурье допустить возмож-
ность для одного человека быть одновременно „хорошим",
„честным", „безукоризненным" патриотом нескольких госу-
дарств?».15
На этом удручающем фоне нарастающего идеологическо-
го давления судьба вышедших в 1947 г. работ Б. А. Рома-
нова складывалась в 1948 г. пока благополучно. В № 8 жур-
нала «Вопросы истории» была напечатана обширная рецен-
зия А. Гальперина на книгу «Очерки дипломатической
истории русско-японской войны», в которой отмечалось, что
она явилась «плодом <...> синтезом многолетней исследова-
тельской работы автора над этой проблемой в целом и част-
ными ее вопросами», связавшего себя с Востоком «давно,
прочно и с таким успехом», что рассуждения автора весьма
убедительны и основаны «на большом количестве ярких, об-
стоятельно документированных исторических фактов», что
«живое изложение предмета никак не снижает научного уров-
ня книги, тем более, что автор черпает свои характеристики
главным образом из воспоминаний, дневников современни-
ков этой эпохи, говорит часто языком этих документов про-
шлого». Рецензент одобрительно отозвался о том, как
Б. А. Романов вскрыл «двойственный характер царского и
японского империализма», показав его военно-феодальную и
чисто капиталистическую природу» — «очень хорошо, образ-
но, убедительно, основываясь на положениях Ленина и Ста-
лина и не оставляя камня на камне от антиленинской кон-
цепции о русско-японской войне М. Н. Покровского», тем
самым построив «крепко сколоченный фундамент доводов и
аргументов».
253
Вместе с тем рецензент выразил солидарность с редак-
цией книги (А. Л. Сидоровым), которая «в весьма осторож-
ной форме отмежевалась» от выдвигаемого и аргументируе-
мого Б. А. Романовым его «давнишнего положения, что рус-
ско-японская война была целиком подготовлена политикой
Витте, представлявшего в составе царской бюрократии ко-
ренные интересы русской империалистической буржуазии, а
что клика Безобразова ничего существенно нового в полити-
ку царизма не внесла и как виновник войны может быть по-
ставлена на какое-то весьма второстепенное место». Рецен-
зент также выразил свое несогласие с тем, что «узел кон-
фликта (российско-японского.—В. П.) лежал только в
Маньчжурии, а вопрос о Корее играл в этой войне второ-
степенную роль». Отметил он также, что политика «Англии,
США и Германии, которые сыграли решающую роль в раз-
вязывании этой войны», не освещена Б. А. Романовым столь
же полно, как политика России. В целом же А. Гальперин
признал, что «новая книга проф. Б. А. Романова является
исследованием большой научной ценности и будет служить
важнейшим пособием для широкого круга читателей, изуча-
ющих эпоху империализма и российскую внешнюю полити-
ку».16
Общий характер рецензии и этот последний вывод рецен-
зента наряду с результатами обсуждения книги в Москве по-
зволяли Б. А. Романову надеяться на то, что она впредь не
разделит судьбу многочисленных работ, становящихся объ-
ектом грубой, необоснованной, заушательской критики.
Более того, вскоре ему стало известно, что книга выдвинута
на соискание высшей в стране государственной премии —
Сталинской премии.
В основном положительными были и рецензии на второй
том издания «Правды Русской», содержавший историографи-
ческие комментарии к ее статьям, хотя в них имелись кри-
тические замечания, относящиеся к принципам комментариев
и могущие при определенных обстоятельствах перерасти в
идеологические обвинения. Впрочем, то обстоятельство, что
ответственным редактором этого издания был Б. Д. Греков,
умерило критический настрой авторов отзывов. С. В. Юш-
ков, в частности, отметил, что «составители вполне справи-
лись со своей сложной и ответственной задачей — дать пол-
ный и законченный комментарий к статьям „Русской Прав-
ды“», а в целом второй том издания «является крупным
вкладом в советскую историко-юридическую науку». Основ-
ной же недостаток книги, по мысли рецензента, состоит в
недостаточном учете взглядов «современной советской исто-
254
рической науки на общественно-экономический, политиче-
ский и правовой строй Киевской Руси». Составителям ком-
ментариев, согласно С. В. Юшкову, следовало «показать,
как в зависимости от общественно-экономического развития
изменялись правовые нормы». При толковании же «отдель-
ных норм „Правды Русской"» они «должны были» «исходить
из представления о том, что в X—XII вв. развивается фео-
дальное право». Более того, авторы комментариев «должны
были отдавать предпочтение тем толкованиям, которые на-
ходятся в соответствии со взглядами на „Русскую Правду"
как на памятник возникающего и развивающегося феодаль-
ного права», и даже «дать вступительную статью к коммен-
тариям», изложив в ней «точку зрения советских историков
на характер „Русской Правды" как памятника феодального
права», и «дать оценку ее историографии». В рецензируемом
же томе «материал часто дается не столько для правильного
уяснения той или иной нормы, сколько для своеобразного
коллекционирования всех имеющихся толкований», что «для
советских читателей» является видом «ненужного ученого
снобизма». С. В. Юшков даже произвел подсчет, согласно
которому Ланге «цитируется 142 раза, Владимирский-Буда-
нов — 181 раз, в то время как акад. Б. Д. Греков цитируется
52 раза, проф. М. Н. Тихомиров <...> — 24 раза». Рецензент
попытался столкнуть авторов комментариев с ответственным
редактором работы, отметив, что они «уделили недостаточно
внимания <...> акад. Б. Д. Грекову, который принципиально
по-новому подошел к общественно-экономическому, полити-
ческому и правовому строю Киевской Руси».
Впрочем, как часто бывает в таких случаях, рецензия
страдает внутренней противоречивостью: непонятно, как
можно согласовать исходные принципы, опираясь на кото-
рые издание в ней критиковалось, с одобрением идеи
Б. Д. Грекова, заключавшейся в том, чтобы «познакомить
читателей со всеми толкованиями той или иной статьи „Рус-
ской Правды"», и с похвалой в адрес авторов комментариев
за то, что они «дали возможность читателям оценить то или
иное толкование, не навязывая им какого-либо единственно-
го и притом собственного толкования».17
Рецензия Л. В. Черепнина имела те же противоречивые
черты, что и рецензия С. В. Юшкова. С одной стороны, ее
автор одобрил стремление комментаторов «возможно полно
и дословно передать мнения отдельных исследователей»,
вследствие чего перед читателем «последовательно проходят
устаревшие оценки ученых прошлых лет, мнения классиков
марксизм a-ленинизм а и, наконец, соображения современных
255
<...> историков», и «можно проследить все главнейшие на-
правления русской историографии (норманисты и антинор-
манисты, сторонники скептической школы, славянофилы, за-
падники, представители историко-юридической школы, эко-
номического материализма, наконец, историки-марксисты)».
С другой же стороны, рецензенту недоставало директивных
оценок, подведения итогов истории изучения «Правды Рус-
ской», указаний на то, «какие наблюдения исследователей
прошлого могут считаться прочно вошедшими в современ-
ную науку; что должно быть бесспорно отвергнуто; что, на-
конец, остается спорным, возбуждает разногласия, требует
дополнительного расследования». То же Л. В. Черепнин
отнес и к советской историографии: «Следовало бы подвес-
ти» ее «итоги и достижения», указав на то, «в каких <...>
вопросах достигнуто единодушие, общее понимание и что
служит предметом наибольших дискуссий». Автор рецензии
признал, что «читатель получил превосходный аппарат», и
вместе с тем выразил сожаление о том, что «ориентироваться
он должен сам».18
Нетрудно убедиться, что оба рецензента — и С. В. Юш-
ков, и Л. В. Черепнин — выразили с оговорками несогласие
с самим принципом издания — постатейными историографи-
ческими комментариями. Поэтому в их критических разборах
не оставалось места для оценки проделанной комментатора-
ми работы по существу, исходя из тех задач, которые они
перед собой поставили. Рецензенты явно отдавали предпочте-
ние статичному подходу — итогам, оценкам. Фактически ими
было выражено недоверие к читателю, которому якобы труд-
но самостоятельно разобраться в историографии вопроса.
Оценочная история изучения статей «Правды Русской» долж-
на была, по убеждению рецензентов, заменить справочно-
библиографическую ее направленность.
Именно против такой подмены решительно выступал
Б. А. Романов в период работы над комментариями и во
время подготовки их к изданию. Но подобная критика в со-
здавшихся идеологических условиях была вполне ожидаема.
От нее был один шаг до обвинений в буржуазном объекти-
визме, и вскоре он был сделан. И все же второй том издания
«Правды Русской» еще при жизни Б. А. Романова стал ис-
пользоваться в учебных целях и в исследовательской практи-
ке. Могли ли комментаторы желать большего?
Вместе с тем Б. А. Романов в письме к Б. Д. Грекову
выразил категорическое несогласие с той постановкой вопро-
са, которая провозглашалась в рецензиях. По его глубокому
убеждению, «при постатейных комментариях не может быть
256
и речи о „ заключительном “ мнении («последнем слове») со-
ветской науки по данной статье: как видно из комментариев,
советские ученые сохраняют свои особенности каждый в
своих толкованиях и использованиях каждой статьи „Прав-
ды“, и потому надо различать между „последним высказы-
ванием", например, Романова и „последним словом" совет-
ской науки». «Вообразите, — продолжал Б. А. Романов, —
какой бы поднялся скандал, если бы нам было дано право
отделять козлищ от овец: например, „последние слова" науки
(Греков, Романов) от „последних высказываний" советских
ученых (Тихомиров, Юшков). Мы же надеемся, что советская
наука еще не сказала всех своих последних слов и будет еще
и еще развиваться, и читателю нашему, хочешь не хочешь,
придется и впредь разбираться в разногласиях внутри совет-
ской науки по отдельным статьям (о которых только и идет
речь в комментариях; а для «общих вопросов» <...> нужна
особая книга — «Итоги работы советских ученых по Киев-
скому периоду за 30 лет», где не обойдешься одной «Прав-
дой»)».
Несмотря на ряд замечаний рецензентов, комментарии к
«Правде Русской», как и книга «Очерки дипломатической ис-
тории русско-японской войны», были в целом оценены по-
ложительно. Без откликов в печати оставалась только книга
«Люди и нравы древней Руси». Рецензия, написанная
Д. С. Лихачевым, в 1948 г., как и впоследствии, опублико-
вана не была. Сказалось отрицательное отношение к этой
работе Б. Д. Грекова. Да и ситуация вокруг Института ис-
тории резко обострилась.
8 сентября 1948 г. в «Литературной газете» была опуб-
ликована статья А. Кротова ''Примиренчество и самоуспоко-
енность», в которой погромной критике был подвергнут ряд
изданий Института истории АН СССР. В частности, о книге
С. Б. Веселовского «Феодальное землевладение в Северо-Во-
сточной Руси» (М., 1947. Т. 1) говорилось, что она «страдает
серьезными пороками», что исследование ведется автором «с
антимарксистских позиций», а фактам, установленным авто-
ром, дается «буржуазное идеалистическое объяснение». Сбор-
ник статей «Петр Великий», вышедший в 1947 г. под редак-
цией А. И. Андреева, был охарактеризован также в резко
отрицательных тонах, главным образом из-за публикации в
нем статьи самого редактора, которая, по утверждению га-
зеты, «пропитана низкопоклонством перед иностранщиной»,
и статьи С. А. Фейгиной, будто бы пропагандирующей
«антинаучные взгляды буржуазных, в том числе фашистских,
историков» и цитирующей «их грязную клевету на великий
9 В. KL Панеях
257
русский народ». Книга И. У. Будовница «Русская публици-
стика XVI в.» (М., 1947) названа А. Кротовым немарксист-
ской. «Ошибочными политически порочными» оказались, по
его мнению, и «Византийский сборник», и сборник «Средние
века», изданные под редакцией Е. А. Косминского в 1947 г.
Эти факты «идейных срывов», резюмирует автор статьи, объ-
ясняются «методологической слабостью, теоретической от-
сталостью значительной части кадров» Института истории
АН СССР, что «мешает» ему «развернуть работу широким
фронтом и добиться подлинного творческого подъема».19
Погромный характер, обычный для газеты «Культура и
жизнь», носила и статья С. Павлова «Объективистские экс-
курсы в историю», опубликованная 21 сентября 1948 г.,
представлявшая собой рецензию на сборник «Труды по
новой и новейшей истории», изданный под грифом Институ-
та истории в 1948 г. В ней проработке были подвергнуты
Н. А. Ерофеев, Л. И. Зубок, Ф. И. Нотович, 3. К. Эггерт,
С. И. Ленчнер за их статьи, названные «идейно порочными».
Редакция же сборника была обвинена в отступлении «от
принципа большевистской партийности в науке» и в том, что
она «оказалась в плену буржуазной историографии».20
Эти газетные выступления послужили сигналом к новым
грубым нападкам не только на отдельных историков, но и
на Институт истории АН СССР в целом. 15—18 октября
1948 г. в этой связи в Москве состоялось специально созван-
ное расширенное заседание его Ученого совета, который был
посвящен обсуждению статей в «Литературной газете» и
«Культуре и жизни». По предписанию партийных властей
Ученый совет вынужден был признать критику «на страни-
цах нашей прессы» справедливой. Вслед за этим уже в ок-
тябрьском номере «Вопросов истории» появились рецензии
на «Труды по новой и новейшей истории» и книгу С. Б. Ве-
селовского «Феодальное землевладение Северо-Восточной
Руси», одни заглавия которых свидетельствовали о их на-
правленности — «Отход от принципов партийности»21 и «С
позиций буржуазной историографии».22
Естественно, что и ЛОИИ не могло остаться в стороне
от этой новой кампании, и Б. А. Романов хорошо понимал
это. 14 октября 1948 г. он писал А. Л. Сидорову: «В ЛОИИ
было „тихо". Ждем, что критика дойдет и до нас здесь». И
действительно, на расширенном заседании Ученого совета
ЛОИИ, состоявшемся 3 ноября 1948 г., была принята резо-
люция, в которой признавалось, что «критика советской пе-
чатью работы Института истории в полной мере относится
и к ЛОИИ», так как в его работе «имеется ряд крупных не-
258
достатков»: «отсутствие духа настоящей большевистской во-
инствующей партийности», недостаточное овладение «марк-
систско-ленинской теорией». В резолюции даже отмечалось,
что «большинство» (!) научных сотрудников ЛОИИ «не твер-
до стоят на марксистско-ленинских методологических пози-
циях». «Отсутствие в работе» ЛОИИ «духа настоящей боль-
шевистской партийности» предопределило «объективизм» в
«ряде исследований» «и некритическое отношение к русским
буржуазным авторитетам». В данной связи в качестве одного
из наиболее ярких примеров указывалось на статью
С. Н. Валка «Историческая наука в Ленинградском универ-
ситете за 125 лет». Неизжитость «отдельными работниками
преклонения и раболепства перед зарубежными буржуазными
авторитетами» привела, согласно автору резолюции, в част-
ности, к появлению книги С. Я. Лурье «Геродот».
Был в этой погромной по своему характеру резолюции
и специальный пассаж, непосредственно относящийся к
Б. А. Романову. О втором томе академического издания
«Правды Русской», содержавшем комментарии к этому зако-
нодательному памятнику, говорилось, что он написан «объ-
ективистски, с некритическим отношением к русским буржу-
азным историкам». Несомненно, что данная квалификация
непосредственно вытекала из тех критических замечаний, ко-
торые были высказаны в опубликованных рецензиях
С. В. Юшкова и Л. В. Черепнина. «Боязнью острой критики
и самокритики» авторы резолюции объяснили «факт молча-
ния сектора истории СССР» ЛОИИ, не осудившего эту
книгу, а также «и то, что до сих пор сектор не обсудил книгу
Б. А. Романова „Люди и нравы древней Руси" и не выявил
своего отношения к ней, хотя прошло больше года со вре-
мени выхода ее в свет».23
Уже один только контекст, в котором упоминалась книга
Б. А. Романова, свидетельствовал о том, что она в ближай-
шем будущем станет объектом проработочной критики. О
том свидетельствовала поспешность, с которой была уста-
новлена дата обсуждения этой книги— 18 ноября. Основным
докладчиком был определен И. И. Смирнов.24 Впрочем, это
задание он получил еще в январе 1948 г., но тогда Б. А. Ро-
манов, вероятно, воспринял перспективу ее обсуждения как
рутинное мероприятие, а сам докладчик за это время даже
еще не приступил к подготовке своего выступления.
До октября 1948 г. Б. А. Романов, как видно, не пред-
полагал, что «Люди и нравы древней Руси» могут оказаться
объектом идеологического погрома. Отвечая Н. Л. Рубин-
штейну, восторженно отозвавшемуся о книге, он писал: «В
259
университете начинаются заседания с откликами биологиче-
ской дискуссии — во всеуниверситетском масштабе. В связи
с рецензиями на В. М. Штейна, Равдоникаса, Вайнштейна —
некоторая настороженность <...> Тронут Вашим вниманием
к „Людям и нравам" <...> Если это не просто комплимент
<...> то мне приятно, что она заинтересовала даже Вас.
Свою аудиторию я видел не в столь высоких слоях атмосфе-
ры. Отсюда открывается возможность для меня обсуждения
ее (с Вами) в профессиональном плане».25 Несколько безмя-
тежный тон при упоминании в письме Б. А. Романова о
«Людях и нравах древней Руси» свидетельствует, пожалуй,
что он не связывал начавшиеся в университете погромные
заседания с вероятностью нападок на эту его книгу. Теперь
же, когда в ЛОИИ прошли чередой погромные обсуждения
работ его сотрудников, ситуация резко изменилась.
Б. А. Романов сообщал об этих заседаниях Е. Н. Куше-
вой 30 октября и 11 ноября 1948 г. почти без комментариев,
хотя и с легко уловимым негодованием в адрес тех, кто уча-
ствовал в разносах, и сочувствием к тем, кто подвергся не-
заслуженным поношениям: «Из Лурье («Геродот») уже выко-
лотили душу неделю назад»; «Скандал с „Общественной мыс-
лью" (Кочаков). Прописан ряд существенных поправок с
неограниченной переверсткой <...> среди „поправок" —пере-
стройка Радищева и Карамзина (т. е. двух «китов»); но
много переформулировок по всему тексту. Операция очень
серьезная, серьезность которой недооценивает Предтеченский
<...> Если исправления его не удовлетворят Кочакова, то
снимается марка ЛОИИ. Это равносильно тому, что и изда-
тельство откажется от издания. „Новгородские акты" про-
шли деловым планом (Сербина, Романов). „Петровский Пе-
тербург" немного потрепали (Кочин, Кочаков, Левин). Но
Анатолию Васильевичу (Предтеченскому. — В. П.) это было
уже по израненному месту. „Советская археография" прошла
сегодня хорошо. Поддал жару и я».26
Обдумывая перспективу обсуждения книги «Люди и нравы
древней Руси», Б. А. Романов рассматривал возможные вари-
анты. Он питал еще некоторые надежды на благоприятный
исход, но и осознавал, что вероятен и погром. Об этом
Б. А. Романов писал Е. Н. Кушевой 30 октября 1948 г.: «К со-
жалению, в нашей профессии нет таких обсуждений, которые
могут быть интересны автору, как работнику, любящему и бо-
леющему о своем деле. Хотя и могут быть исключения. Воз-
можно, что такое исключение будет иметь место здесь, в
ЛОИИ. Здесь поручено доложить о моей книжке Ивану Ива-
новичу (Смирнову. — В. П.). Я очень соболезную ему, но с ин-
260
тересом жду, что он скажет по существу и как он выйдет из
положения. Мы с ним никогда не касались книжки при свиде-
телях, а он — человек умный, и его замечания должны быть
метки, а это всегда интересно. <...> С другой стороны, я не
жду ничего интересного (и «хорошего») от выступления
Г. Е. Кочина. Оно бесполезно даже в том смысле, что надо
помнить, что у тебя могут быть и такие читатели: это я и сам
знаю, что такие есть. Будут ли еще выступления — неизвестно
<...> Так как наши ЛОИИсты поголовно все читали книжечку,
то, может быть, кое-кто и выйдет из заговора молчания. Пред-
почитаю ли я, чтобы тем дело и ограничилось? Конечно, да.
Но боюсь, что это предпочтение имеет ровно такую же силу,
как мое желание, чтобы завтра был солнечный день».
Последнее замечание Б. А. Романова связано с тем, что
Е. Н. Кушева сообщила ему о вероятности обсуждения его
книги «Люди и нравы древней Руси» в Москве, в секторе
истории СССР периода феодализма Института истории. Ка-
саясь этого вопроса, Б. А. Романов продолжал: «Тут воз-
можны два варианта. Это будет в отсутствии автора — это
одно. Но едва ли таков замысел предлагавших обсуждение
(хотя и это возможно, по нынешним временам и людям).
Если таков, то тут мне и разговаривать нечего. Я не участ-
ник подобных комбинаций и рассматривал бы это и в дан-
ном случае как враждебный акт. Если замысел не таков, то
все тут упиралось бы в возможность или невозможность
моего приезда. В прошлом году я приехал (в марте — на об-
суждение книги «Очерки дипломатической истории русско-
японской войны». — В. П.)9 потому, что это было мне необ-
ходимо во всех отношениях Но именно сейчас (пока) я не
испытываю никакой необходимости ехать, сам не зная на
что. Если бы я видел в составе <...> сектора людей типа
Ив. Ив-ча (Смирнова. — В. П.) — это одно. Выслушивать
лично Вас, когда Вы были бы связаны своим положением в
секторе, у меня нет ни охоты, ни бессердечия. А других
людей в секторе я не вижу таких, замечания которых были
бы мне интересны, а привычка неумеренно безвкусного пре-
клонения перед тем, что якобы сказала княгиня Марья Алек-
сеевна, совсем проела атмосферу. Это не значит, что у Вас
нет людей, мнения, т. е. наблюдения которых могли бы быть
интересны. Но я их, во-первых, не знаю (я ведь круглый не-
вежда по части Ваших «людей» и «нравов»). А во-вторых,
подозреваю, что они целиком во власти „нравов". <...> А
жаль: я усердно коллекционирую читателей на эту книжечку.
Мною в ней действительно руководило „чувство нового", и
это серьезный эксперимент не только над собой, а и над чи-
261
тателем. Это вовсе не шалость пера. Из этого эксперимента
я уже извлек для себя великую пользу. Но я видел примеры
эффективности его и на ряде читателей, то есть и с этой сто-
роны он оказался полезен. Но для иных может быть и вре-
ден. Я с величайшим интересом 1) повидал бы читателей,
поврежденных им, и 2) выслушал бы точный комментарий
врачей к заболеванию этих читателей. Но это требует обста-
новки поближе к асептически операционной, а не к охотно-
рядской потасовке».
Однако вскоре у Б. А. Романова рассеялись хоть какие-
то иллюзии: он со слов заведующего ЛОИИ С. И. Авваку-
мова узнал, что книгу осудил ответственный работник аппа-
рата ЦК ВКП(б) Удальцов. В передаче С. И. Аввакумова,
партийный функционер спросил его: «Это у вас там какой-то
Романов написал порнографическую книгу?». Конечно, ее
автор нс мог не сопоставить это высказывание о «Людях и
нравах...» со словами Б. Д. Грекова, приезжавшего в Ленин-
град с целью воспрепятствовать изданию книги, который го-
ворил В. В. Мавродину, что Б. А. Романов написал не на-
учную, а художественную книгу, подобную «Декамерону»
Боккаччо. Для Удальцова эта квалификация Б. Д. Грековым
книги, вероятно, данная не только в разговоре с В. В. Мав-
родиным, преломилась таким образом, что он и назвал ее
порнографической. В данной связи Б. А. Романов писал: «О
том, что У-цов поминал мою книжку (expressis verbis),27 мне
уже известно <...> и здесь ее будут обсуждать. Она только
лежит в моем сознании на одной чаше весов с „Дипломати-
ческими очерками". И технически и идеологически школа
одна и та же. Да и создавались они одновременно „на еди-
ном хлебе", „на единых дрожжах". Удар по одной будет уда-
ром и по другой. И я не настолько избалован, чтобы думать,
что я застрахован от ударов. Не скажу, что это будет для
меня легкая операция в моем возрасте: мне, вон, даже грыжу
запретили резать терапевты в мои годы!» (Е. Н. Кушевой.
17 ноября 1948 г.). Однако вскоре оказалось, что «И. И.
(Смирнов. — В. П.) взмолился», и обсуждение «Людей и нра-
вов...» в ЛОИИ было перенесено.
Между тем идеологическая истерия в стране, и как след-
ствие этого — вокруг исторической науки, и в частности Ин-
ститута истории, продолжала нарастать. О тревожности сло-
жившейся ситуации свидетельствовала редакционная статья
под заголовком «Против объективизма в исторической
науке», опубликованная в декабрьском номере «Вопросов ис-
тории» за 1948 г.28 Хотя в ней говорилось об Институте ис-
тории АН СССР как о самом «мощном и <...> и авторитет-
262
ном научном коллективе на историческом фронте», «состоя-
нием работы» которого в значительной степени определяется
«развитие исторической науки», хотя при этом утверждалось,
что «последнее десятилетие характеризуется подъемом исто-
рической науки в нашей стране», «немалая заслуга» в кото-
ром «принадлежит Институту истории Академии наук
СССР», однако вся редакционная статья была посвящена
обоснованию утверждения, что «достижения исторической
науки <...> далеко не соответствуют требованиям, которые
предъявляются сейчас к историкам нашим народом, партией
и правительством», а Институт истории «отстает в выполне-
нии возложенных на него обязанностей». «Основной порок»
Института, как следует из этой директивной редакционной
статьи, «заключается в том, что он не сумел полностью пере-
строить свою работу в соответствии с решениями партии по
идеологическим вопросам», ничего не сделав, «чтобы выпол-
нить указание партии о развертывании борьбы с буржуазной
идеологией», «против буржуазной историографии», не орга-
низовав, в частности, «работу по разоблачению зарубежной
буржуазной историографии», ничего не предприняв для ор-
ганизации «борьбы с низкопоклонством перед Западом» и
«для разоблачения лживой версии о несамостоятельности
русской культуры».
В качестве примеров идеологических извращений журнал
указал на второй выпуск сборника «Средние века» и сборник
«Византийский временник», в которых были якобы «чрезмер-
но превознесены виднейшие представители русской буржуаз-
ной школы историков средних веков Петрушевский, Савин
и Виноградов», а также византинисты Васильевский и Успен-
ский, а «советские историки средневековья были объявлены
хранителями и прямыми продолжателями этой школы», что
является «ошибочной и вредной идеей». С этой же позиции
были признаны вредными сборник статей «Петр Великий»,
особенно опубликованные в нем статьи С. А. Фейгиной,
А. И. Андреева и Б. Б. Кафенгауза. Эта последняя статья
была названа порочной, в частности, потому, что ее автор
рекомендовал как «надежное пособие для ориентировки» ра-
боты П. Г. Любомирова, хотя он «не являлся марксистом, а
его работы нуждаются в серьезной критической переоценке».
И вообще, «апология Любомирова свойственна не одному
только Кафенгаузу», а «распространена и среди других ра-
ботников института, пытающихся <...> причесать Любоми-
рова под марксиста и навязать советским историкам его на-
учные традиции». Столь же резко были оценены журналом
попытки «идеализации Ключевского» (в статье А. И. Яков-
263
лева), взгляды которого «по целому ряду проблем нашей ис-
тории еще полностью не преодолены среди историков». В ка-
честве свидетельства живучести «буржуазных концепций»
журнал привел книгу С. Б. Веселовского «Феодальное земле-
владение Северо-Восточной Руси», в которой, как утвержда-
лось в редакционной статье, «важнейшие вопросы истории
СССР рассматриваются с реакционно-идеалистических пози-
ций», а автор которой «открыто вступил в полемику с марк-
систской историографией». В статье приведены и конкретные
примеры «некритического отношения к источникам и лите-
ратуре, забвения партийности в научной работе», в частно-
сти указано на сборник «Труды по новой и новейшей исто-
рии», авторы которого в ряде статей «стали на точку зрения
буржуазно-империалистической и социал-реформистской ли-
тературы». Журнал, ссылаясь на рецензии, отметил также,
что «серьезные ошибки содержатся в работе Е. В. Тарле
„Крымская война**», в которой автор «повторил ошибочное
положение об оборонительном и справедливом характере
Крымской войны».
Все эти «ошибки и извращения» журнал объяснил «вли-
янием буржуазной идеологии на часть советских историков»:
авторы «порочных трудов или еще не усвоили основных
принципов марксистско-ленинской методологии и продолжа-
ют оставаться на позициях буржуазного объективизма, или
отошли от марксистско-ленинской теории и скатились в ряде
вопросов к буржуазному объективизму».
В редакционной статье было подчеркнуто, что «наиболее
широкое распространение» «объективистская точка зрения»
«получила в работах, посвященных вопросам историогра-
фии». В этой связи вновь подверглась критике «Русская ис-
ториография» Н. Л. Рубинштейна, автор которой изобразил
развитие исторической науки «как единый и плавный про-
цесс прогрессивного развития исторической мысли, в кото-
ром каждое новое направление вытекает из предшествующе-
го, сохраняет и развивает его наследие», «как простую фили-
ацию идей, в которой решающее значение имели зарубежные
влияния». Следствием этого стал отказ от раскрытия «клас-
сового характера отдельных школ и направлений». При этом
журнал считал установленным, что «ошибочные немарксист-
ские утверждения об усвоении советскими историками насле-
дия и традиций русской дореволюционной школы медиевис-
тики, или наследия и традиции русской дореволюционной
школы византиноведения, или наследия Любомирова, Клю-
чевского и т. д. однотипны с ошибками автора „Русской ис-
ториографии** и вытекают из одного и того же источника —
264
из объективистского подхода к вопросам развития истори-
ческой науки, из недостаточного усвоения многими истори-
ками основных принципов марксистско-ленинской методоло-
гии».
Единственным из ленинградских историков, раскритико-
ванным в редакционной статье «Вопросов истории», стал
С. Н. Валк. Объектом резких инвектив была его статья «Ис-
торическая наука в Ленинградском университете за 125 лет»,
в которой автор «целиком воспринял точку зрения буржуаз-
ной историографии о наличии в дореволюционной России
какой-то особой, отличной от московской, так называемой
„петербургской исторической школы**». Она, по мнению
С. Н. Валка, «начала складываться еще в дореформенное
время и просуществовала до Октябрьской социалистической
революции». Эта концепция названа в редакционной статье
«антинаучной версией» и подвергнута критике за то, что
«автор нарисовал единую линию развития от Куторги до
Преснякова и даже до Тарле и Грекова» и попытался дока-
зать «единство и преемственность в развитии исторической
науки в Петербургском университете чуть ли не на всем про-
тяжении его существования». В оскорбительном и унижаю-
щем тоне о С. Н. Валке говорилось, что он «со скрупулез-
ностью, достойной лучшего применения, прослеживает, кто
у кого учился, дает библиографию трудов историков, но чи-
татель напрасно стал бы искать в его работе развернутый
разбор их политических взглядов и исторических концепций,
а также анализ борьбы различных идейных направлений».
«Нечего и говорить, — заключает автор редакционной ста-
тьи, — что в построениях» С. Н. Валка «нет ни грана марк-
сизма». Разумеется, основными носителями «буржуазных
взглядов» и «пережитков буржуазной идеологии» названы
«историки старшего поколения».
Странной и противоречащей всему настрою статьи про-
звучала в ней критика в адрес тех историков (анонимных),
которые попытались «оправдать войны Екатерины II тем со-
ображением, что Россия стремилась к своим якобы естест-
венным границам», «пересмотреть вопрос о жандармской
роли России в Европе в первой половине XIX в. и царской
России как тюрьме народов», «поднимать на щит генералов
Скобелева, Драгомирова, Брусилова».
Если вся редакционная статья журнала «Вопросы исто-
рии» проникнута духом грубого разноса, то ее короткая за-
вершающая часть (как и чуть более развернутое ее начало),
отличается искусственным оптимизмом: стоит только прове-
сти «коренную перестройку работы института», повысить
265
СССР, почему, вопреки общей линии, отразившейся в статье
«Вопросов истории», Н. М. Дружинин в своем докладе без-
боязненно выдвигает идеи, за которые С. Н. Валк подвергся
только что грубому разносу, чем вызвано обследование «Во-
просов истории», если этот журнал печатает статьи дирек-
тивного свойства, как будто соответствующие общему идео-
логическому курсу. Следует, однако, отметить, что Б. А. Ро-
манов прекрасно осознавал, что сложилась обстановка
абсолютной простреливаем ости любой идеологической пози-
ции,30 при которой одной из важнейших мишеней станови-
лись историки старшего поколения.
Развивая эти темы, он писал 21 января 1949 г. Е. Н. Ку-
шевой: «А у нас новости. Вчера сам собой рухнул Авваку-
мов: у него отобрали самый важный личный документ, и он
снят с должности.31 <...> Здесь был А. И. Кудрявцев, и <...>
была встреча с ним. Так только дети не поняли бы, что ста-
рикам пришел конец, хоть их и не много <...>. Наш брат,
очевидно, пойдет просто на улицу — ни по потребностям, ни
по труду, да еще с выволочкой, того и гляди. С. Н. Валку
предстоит трепка с археографией. Теперь к этому прибавля-
ется: „отв. ред. Аввакумов. Что предстоит мне, точно не
знаю Но по нынешним временам могут поставить в вину и
критику Покровского в „Дипломатических очерках14: от Куд-
рявцева буквально несет Покровским. Зажились мы на этом
свете на свою голову. Как ни обдумываю происходящее, при-
хожу к одному и тому же: мрачному концу моего поколения.
Очень уж ясна у Кудрявцева тенденция — бедные 13-летние
мальчики Ерофеевы и 15-летние девочки Эггерты (авторы
раскритикованных статей из «Трудов по новой и новейшей
истории». — В. П.) свихнулись с пути под влиянием старико-
поклонства! Опять виноваты мы! Иными словами, если уж
люди с партбилетом могут свихнуться, то, значит, это стихия
(идущая от стариков). Я отлично понимаю, что Кудрявцев
не хозяин, что он представляет одно течение, что не может
не быть другого течения, но это не успокаивает меня. Пото-
му что дело не в течениях (в идеологии), а в материальных
факторах обстановки <...> Сколько злобы скопилось над
нами, и в сущности, чем быстрее мы истребимся, тем лучше
будет для страны. На меня очень острое впечатление оста-
вило посещение нас Кудрявцевым. Ничего творческого в нем
не заметно: но тормозить, хулить и т. п. он мастер. Поболь-
ше бы эта порода людей являла примеров, как надо делать,
а не ограничивалась указаниями, как не надо».
Б. А. Романова волновала не только его собственная
судьба, но и судьба того поколения историков, к которому
268
он принадлежал: «Основной вывод сводится к алгебраиче-
ской формуле: и речи не может быть о „выслуге лет*1 <...>
а наоборот, чем дольше рабочий стаж, тем хуже, ибо тем
глубже в прошлом; а чем ближе к 1934—36 годам, тем лучше
(т. е. чем ближе стаж к 12 годам!). Для стариков это—фа-
тальная висельническая формула, потому что она ведет к
„улице** (да еще с выволочкой). „Улица** висела надо мной
всю мою жизнь; мне показалось последнее время, что она не
так уж непременно висит; сейчас она повисла заново, в ос-
веженном, теоретически и практически проветренном виде, в
виде „ обоснованном “ с точки зрения „общественного“ бла-
га— под титулом „собаке собачья смерть**. И от рака не
всегда умирают <...> но, простите, рак есть рак, а исключе-
ние есть исключение. Это все законы исторического разви-
тия, и люди тут ничего поделать не в силах. Наше дело, ис-
ториков, — ясно видеть действие этих законов и не строить
себе иллюзий, используя толстовскую формулу „образуется**.
Мы, старики, ведь тоже „наследие**. И что в этом наследии
вредно, что терпимо—как тут разобрать? Презумпция же,
установленная теперь твердо, заключается в том, что „насле-
дие“ — это, прежде всего, подозрительно. Это „наследие**
вредно своими сильными сторонами; и тем менее вредно, чем
меньше в нем сильных сторон. Иными словами, лучшее, что
может быть про тебя сказано, это, что ты безвреден, как пус-
тышка. В итоге у меня давно уже не было такого острого
чувства дискриминации „по цвету кожи** (ибо не можешь же
ты переменить дату своего рождения!)» (Е. Н. Кушевой.
30 января 1949 г.).
Констатировав с бесспорностью факт решительного идео-
логического наступления на так называемую буржуазную
идеологию и начавшуюся дискриминацию по этому показа-
телю историков старшего поколения, Б. А. Романов перво-
начально еще не осмыслил только что (28 января 1949 г.)
напечатанную в газете «Правда» редакционную статью «Об
одной группе антипатриотических театральных критиков»,
давшую сигнал к резкому обострению антисемитских дискри-
минационных акций властей против деятелей культуры и
науки — евреев по происхождению. Но он был абсолютно
чужд ксенофобии, очень скоро полностью осознал эту новую
ситуацию и по мере возможности выражал к ней свое отри-
цательное отношение. Пока же он находился в смятении из-
за приближающегося юбилейного заседания в безысходной
обстановке для представителей старшего поколения истори-
ков, при которой даже опора на вчерашние и сегодняшние
партийные директивы не спасала от преследований, которые
269
фактически велись с позиций требовании завтрашнего дня.
Все это влияло на самооценку Б. А. Романовым своего места
в науке, порой крайне несправедливую: «Если вникнуть в
дело по существу, то у меня еще осенью явилось чувство,
очень тягостное, неуверенности в своих силах удержаться на
уровне тех требований, которые предъявляет тебе молодежь
<...> она, того и гляди, перерастет твои возможности. Уста-
реть, не уметь вовремя уйти со сцены — это ведь „вечные
категории*1, неконъюнктурные, угрожающие очень многим в
любых профессиях <...> Спасибо за добрые пожелания в
связи с так называемой „юбилейной датой**. Она прошла:
гранки моей первой печатной работы33 помечены сентябрем
1908 г. <...> а отдельный оттиск датирован — „январь
1909 г.“. Этот 40-летний юбилей никем и ничем не был от-
мечен (в том числе и мною)» (Е. Н. Кушевой. 26 января
1949 г.).
В состоянии этого мрачного настроения ожидал
Б. А. Романов приближающееся 60-летие. Его беспокоил и
разразившийся в ЛОИИ кризис, связанный с освободившим-
ся местом заведующего, а также подачей С. Н. Валком за-
явления об освобождении его от обязанностей зав. группой
истории СССР. ЛОИИ возглавил М. С. Иванов — специа-
лист по истории Персии в новое время, а группу —
М. П. Вяткин, «яко лауреат»,34 комментировал это назначе-
ние Б. А. Романов: «...оказывается, это звание служит как
бы квитанцией на ум!!» (Е. Н. Кушевой. 30 января 1949 г.).
Юбилейное заседание между тем приближалось. Отвечая
2 февраля 1949 г. Е. Н. Кушевой на вопрос о дате своего рож-
дения, Б. А. Романов писал: «Точная дата моего рождения
29.1 ст. ст. Нет сейчас никого, с кем в студенческие годы про-
водил я ближайшую к этому дню субботу. С тех пор у меня
никогда не „праздновался** этот день, и в этом году у меня нет
оснований изменить этому обычаю». Он имел в виду прежде
всего своих ближайших, теперь уже покойных, друзей —
Б. В. Александрова, П. Г. Любомирова, С. Н. Чернова, утра-
та которых лишила его дружеского, невосстановимого круга
общения. Оттого и такая горькая интонация в словах
Б. А. Романова.
Однако в день 60-летия его буквально засыпали много-
численными поздравлениями и пожеланиями. Особенно его
тронули письма и телеграммы от студентов университета,
прошедших через его просеминары, семинары и спецкурсы.
Поблагодарив Е. Н. Кушеву за ее теплое поздравление,
Б. А. Романов 12 февраля 1948 г. писал ей: «Над ним я уже
не плакал, т<ак> к<ак> выплакал все слезы в течение дня
270
над студенческими письмами и телеграммами. Нервы никуда
не годятся и не выдерживают действия молодых искренних
слов. Это пугает меня, как я выдержу испытание публичной
экзекуцией, на которую намекнули мне вчера».
Эта «экзекуция», т. е. официальное чествование в универ-
ситете, состоялась 26 февраля, едва только Б. А. Романов
оправился от очередного спазма мозговых сосудов. Самая
большая (50-я) аудитория исторического факультета была за-
полнена многочисленными его почитателями — студентами и
аспирантами, настоящими и бывшими коллегами по универ-
ситету, Академии наук и другим научным и учебным заведе-
ниям. При появлении юбиляра все встали и долго привет-
ствовали его аплодисментами. Доклад о жизненном и твор-
ческом пути Б. А. Романова сделал Д. С. Лихачев. Много
было выступавших с приветствиями. От ректората тепло
приветствовал Б. А. Романова проректор университета
М. И. Артамонов. С особым энтузиазмом поздравляли юби-
ляра студенты. Как вспоминает А. А. Фурсенко, тогда
третьекурсник, юбиляр во время приветствий «терял над
собой контроль», «постукивал машинально рукой по столу,
и слезы лились из его глаз».35
В заключение выступил сам Б. А. Романов. Он произнес
явно экспромтом, в обычной для него импровизационной ма-
нере пространную, блестящую по форме и чрезвычайно рис-
кованную по тем тяжелым временам речь, «выслушанную
присутствовавшими в оцепенении».36 Б. А. Романов расска-
зал о своей жизни, о своем понимании того, как развивалась
и развивается историческая наука после Октябрьской рево-
люции, о тяжелой судьбе историков его поколения. Как
вспоминает В. Л. Шейнис, занимавшийся у Б. А. Романова
в семинарах на первом и втором курсах (в 1948—1950 гг.),
присутствовавший на юбилейном заседании, он, в частности,
говорил о том, что всю жизнь чувствовал себя гвоздиком,
вбитым в стену разоренной и опустошенной квартиры преж-
ним ее хозяином, которую новый хозяин начинает обживать
и прикидывает: то ли выдернуть его, то ли приспособить
как-то, может быть, повесить картину или зеркало
(В. Л. Шейнис — В. М. Панеяху. 7 августа 1999 г.). Завер-
шил же Б. А. Романов свое выступление демонстративным
выражением удовлетворения хотя бы тем, что он в качестве
«винтика» принес отечественной науке какую-то пользу. Он
также сказал, что сегодня получил телеграмму от своих уче-
ников, из которой понял — жизнь прожита не зря. Это упо-
минание о «винтиках», о которых в одном из своих выступ-
лений оскорбительно говорил Сталин применительно к про-
271
стым, рядовым людям, вынесшим на своих плечах тяготы
войны, было столь вызывающе прозрачным, что присутство-
вавшие на чествовании встретили эти слова Б. А. Романова
в мертвой тишине. Хорошо помню, что я, тогда первокурс-
ник, проучившийся в просеминаре Б. А. Романова всего
один семестр, был потрясен происходящим. Хотя речь его
изобиловала эвфемизмами, даже мне было ясно, что он кос-
нулся, в частности, запретной темы — дал понять, что был
репрессирован по политическим мотивам.
Сам же Б. А Романов в письме Е. Н. Кушевой от
28 февраля 1949 г. так рассказывал об этом юбилейном за-
седании: «Прошло двое суток после того, как я в течение
трех часов побыл под неумолимыми колесами какой-то псих-
машины. Она была представлена преимущественно студента-
ми. И вот я и сегодня еще нет-нет да плачу настоящими сле-
зами. Откуда они? Должно быть, это болезнь. 26-го я еще
кое-как, с помощью остатков юмора, управлял собой, а те-
перь и управляемости нет <...> Мне трудно было бы расска-
зать Вам, что было 26-го. Я так был озабочен, чтобы дер-
жаться и не развалиться, что далеко не все и, вероятно, не
по-настоящему мог понять и уловить (и запомнить). Пони-
маю только, что я не вполне отдавал себе отчет, как глубоко
я отравлен страстью к нашей молодежи. Но и с ее стороны
я не ожидал такого взрыва».
Последствия этого юбилейного заседания и речи на нем
Б. А. Романова не замедлили сказаться. Правда, первона-
чально газета «Ленинградский университет» опубликовала
вполне доброжелательную информацию о нем. В заметке
отмечалось, что «с приветствиями юбиляру выступили
профессор Артамонов, представители Института истории
АН СССР, Публичной библиотеки и многие другие». Более
того, согласно этой информации, «все выступавшие отметили
высокие качества Б. А. Романова как подлинного советского
историка, его умение преподать студентам положения марк-
сизма-ленинизма, облекая их в плоть и кровь фактов».37 Сам
Б. А. Романов вскоре вынужден был лечь в больницу из-за
непроходимости сосудов ноги: сказалось постоянное и интен-
сивное курение. Не исключалась и возможность ампутации.
Именно в это время в комитете по Сталинским премиям ре-
шался вопрос о ее присуждении ряду ученых, в том числе
Б. А. Романову — за книгу «Очерки дипломатической исто-
рии русско-японской войны». 6 марта член этого комитета
Е. В. Тарле сообщал А. Д. Люблинской: «Целыми днями
сижу в Сталинском комитете по премиям <...> Б. А. Рома-
нову — вторая степень». 26 марта Е. В. Тарле возвращается
272
к этой теме: «Как мне жаль Б. А. Романова! Кажется, была,
наконец, улыбка судьбы, мы ему присудили Сталинскую пре-
мию, и вдруг эта проклятая болезнь! Неужели ему ампути-
руют ногу?».38 Как об уже принятом решении относительно
премии сообщил самому Б. А. Романову Б. Д. Греков.39
Ногу, однако, врачам удалось спасти (и после этого
Б. А. Романов вынужден был окончательно отказаться от
курения). Но в официальном правительственном сообщении
по Сталинским премиям, опубликованном 8 апреля, его фа-
милии не оказалось: сразу же после чествования на срочно
созванном заседании партбюро исторического факультета
было принято решение обратиться в Комитет по Сталинским
премиям с ходатайством об отмене только что принятого,
но еще не опубликованного решения. Само собой разумеется,
что Комитет не отказал партбюро истфака в его просьбе.40
По-видимому, этот эпизод не нашел отражения в письмах
Б. А. Романова. Судя по ним, его больше беспокоила про-
блема, связанная с возможностью и впредь работать в уни-
верситете и в ЛОИИ. Еще до юбилейного заседания, 21 янва-
ря 1949 г., Б. А. Романов сообщал Е. Н. Кушевой: «...ушел
из деканов В. В. Мавродин. На мой взгляд, декан был хо-
роший. Понимавший, что наука и учебное дело—вещи
хрупкие и требующие бережного отношения. Боюсь, что с
иным курсом оборвутся мои педагогические опыты».
В. В. Мавродин был обвинен в засорении кадров историче-
ского факультета преподавателями еврейского происхожде-
ния, а также людьми, по другим причинам не заслуживаю-
щими политического доверия. Его заменил Н. А. Корнатов-
ский, который и возглавил на истфаке борьбу с так
называемым безродным космополитизмом. Впрочем, не про-
шло и полугода, как он сам был уволен и арестован по фан-
тастическому обвинению в троцкизме.41
Когда, вернувшись из больницы 5 апреля, Б. А. Романов
ознакомился с обстановкой, сложившейся в академических
институтах и факультетах гуманитарного профиля, последние
надежды на благоприятный исход обсуждения книги «Люди
и нравы древней Руси» у него отпали. 4 и 5 апреля 1949 г.
на историческом факультете ЛГУ под руководством нового
декана Н. А. Корнатовского прошла погромная конферен-
ция «Против космополитизма в исторической науке», на ко-
торой книга Б. А. Романова «Люди и нравы древней Руси»
была названа антипатриотической (см. ниже). 5 апреля по-
добная же конференция состоялась на филологическом фа-
культете,42 6 и 7 апреля она была продублирована в Инсти-
туте русской литературы (Пушкинском Доме) АН СССР.
273
«Новости прямо со сковородки, — писал Б. А. Романов
Е. Н. Кушевой 8 апреля 1949 г., — 4 и 5-го кипели историки
в университете, 6 и 7-го кипели литераторы в Академии наук
<...> с присутствовавшими здоровяками и с отсутствующими
больными и умирающими <...> У меня пока впечатление,
что последствия будут глубокими. С университетом я считаю
дело поконченным. Здесь действительно не место „другу мо-
лодежи“. И день 26.11. внес полную ясность в эту ситуацию.
Там ловко использовали мое болезненное состояние и полу-
чили желаемое: пэвод отлучить меня от университета. За
месяц в госпитале я свыкся с этой мыслью <...> и мне оста-
ется дотаптывать отдельные людские связи и привязанно-
сти». Б. А. Романов с полным основанием связал в этом
письме происходившее на факультете и в ЛОИИ с ожидае-
мым им погромным обсуждением «Людей и нравов...» в
ЛОИИ: «Предстоит в ближайшем будущем обсуждение в
ЛОИИ „Людей и нравов1*. То обстоятельство, что это не
снято с повестки дня, свидетельствует <...> что по линии
Академии наук началось гниение ниток. А в недалеком бу-
дущем будет подведен итог: вся жизнь прожита, и работа,
проделанная, проделана зря. Что и является реальным ком-
ментарием к 26-му II 49 года, собравшему в один кулак
столько хороших личных чувств и групповых оценок в адрес
старика, препарируемого к выгонке на улицу, да еще с му-
зыкой».
И все же Б. А. Романов принял решение готовиться к об-
суждению «Людей и нравов древней Руси» и сразу по выходе
из больницы — в промежутке между 8 и 13 апреля 1949 г. —
написал свою вступительную речь, которая заслуживает того,
чтобы быть приведенной полностью:
«Я еще вернусь, — если в том встретится надобность к
концу заседания,—к вопросу о том, почему обсуждаемая
книжка вышла такой беспокойной, вроде как бы полемиче-
ской, и даже эмоциональной.
Не хотел бы я сейчас и повторяться, а только помню,
что в предисловии к ней намечены те специфические требо-
вания, которые я себе в ней ставил, и те задачи, которые
хотелось мне здесь решить.
Требования эти намеренно завышены, а следовательно, и
задачи могли быть решены только с некоторой степенью
приближения.
Блажен, кто способен пребывать в сам од о во ль и оттого,
что не завысил поставленных себе требований, и кому ка-
жется, что он решил свою задачу безупречно, окончательно
и точно! — Я далек от того, чтобы завидовать такому бла-
274
женству и этому самодоволью. Да и иду я в этом своем
опыте, впервые для себя, не совсем обычным путем, — субъ-
ективно увлекаемый „чувством нового" при пересмотре
сплошь старого, иногда затасканного, материала. А это всег-
да связано с риском. Я предпочитал лучше рискнуть загля-
деться (но зато распознать!), чем смотреть себе под ноги из
боязни споткнуться (но зато и не увидеть ничего!). Я пред-
почитал лучше 20 раз обознаться (но зато никого и не про-
пустить!), чем 19 раз пропустить (лишь бы ни разу не обо-
знаться!). Я предпочитал лучше пожертвовать кончиком соб-
ственного носа (чтобы поближе разглядеть!), чем соблюсти
эту свою конечность в чистоте и неприкосновенности (но
зато и не доглядеть еще одного шевеления жизни!). Я шел
на все это и не вижу в том беды: опыт есть опыт.
Но вот сейчас передо мною другая авторская беда, —
если не говорить об исключениях.
У всякого автора есть, как мне кажется, свой срок, в те-
чение которого он испытывает физическую, если не физио-
логическую, и притом болезненную связь со своей книгой. А
затем эта связь, от действия времени, слабеет, слабеет и, на-
конец, порывается: книга остается стоять на месте, а ее автор
(писатель) неудержимо отдаляется от нее в поступательном
движении, во времени. Пока эта нездоровая связь налицо,
автор очень чувствителен (а бывает, что и нетерпим) к кри-
тике и обычно не способен к самокритике (хотя бы и пы-
тался критиковать себя). По мере того, как эта связь слабеет
(но еще не порвалась) и началось уже это поступательное
движение с нарастающим отдалением, — автор становится
все менее чувствителен к критике и на некоторый (у каждого
свой) срок становится все более пригоден для самокритики.
В этом процессе отдаления от книги есть, для самокритики,
кульминационная точка, оптимальная не только для само-
критики, но для плодотворного восприятия и критики со
стороны. Когда же эта кульминационная точка пройдена,
вступает в силу уже не просто отдаление, а нарастает и от-
чуждение от книги, — и тогда все менее истовой становится
самокритика, а чужая критика параллельно ослабляет и на-
конец утрачивает свое действие на автора.
Введение в эту формулу переменного коэффициента срока
(от 0 до бесконечности) делает ее, на мой взгляд, широко
применимой. Во всяком случае, чем менее самоуверен автор
и чем более боковое положение занимает он в своей науке,
тем ограниченнее этот срок. У меня, например, этот срок го-
раздо ближе к нулю, чем к бесконечности, и очень далек от
бесконечности.
275
Так вот. Применяя эту формулу к себе и к данному слу-
чаю, я опасаюсь, что 14 месяцев, прошедшие со дня выхода
в свет моей книжки, — срок, при нынешних темпах и голо-
вокружительных рабочих переключениях, слишком большой,
и что кульминационная точка, о которой я говорю, мной
уже пройдена. Т. е. что отчуждение еще, по-настоящему, не
наступило, а вот отдаление зашло так далеко, что я нахо-
жусь не в наивыгоднейшем для дела положении. — Зато не
так уже далек тот день, когда я, пожалуй, окажусь самым
строгим и самым знающим критиком этой книжки, как будто
она вовсе и не моя!
Это не значит, разумеется, что мне не пришлось за ис-
текшее время с величайшим интересом и пользой выслуши-
вать (и даже выспрашивать) самые разнообразные критиче-
ские замечания как от профессионалов науки (не только ис-
торической!), так и от простых читателей, и что мне не
пришлось многое переобдумать в связи с этим самому,
многое почиркать на моем рабочем экземпляре и что ничто
в ней не режет моего слуха и моего глаза.
Это значит только, что сегодня я здесь чувствую себя не
просто обсуждаемым автором, а и рядовым участником за-
седания — с тем только преимуществом против других, что
этот участник знает о книжке немножко больше, чем любой
из присутствующих, менее равнодушен, чем они, но в то же
время творением своим уже и не болен.
В этом втором качестве (рядового участника) для меня
тут есть особливо привлекательное обстоятельство — что до-
кладчиком сегодня выступает И. И. Смирнов. Совсем недав-
но я получил большое и поучительное удовольствие от его
статьи в № 10 „Вопросов истории**. Если Ив. Ив. уделит
моей книжке хоть сотую долю того же критического мастер-
ства, то это и есть то, что явится предметом моего внимания
и интереса сегодня — в первую очередь.
Но это же поможет мне и повернуть стрелку часов не-
сколько назад, — в направлении к той оптимальной кульми-
национной точке, и воспользоваться случаем еще раз (и при-
том, надеюсь, сквозь увеличительное стекло) обревизовать не
столько текст книжки, сколько свой рабочий механизм, по-
скольку ему предстоит, по-видимому, еще поработать в
науке, — хоть и в иной сфере. Нельзя же забывать, что, как
бы ни менялись сферы работы, — он-то (рабочий механизм)
у человека ведь один.
И наконец, чтобы кончить: всяк сверчок должен осознать
свой шесток.
276
На данный случай это значит, что я не строю себе ил-
люзий относительно трех вещей.
Первое — что этот рабочий механизм снашивается от
времени и нуждается, следовательно, в периодическом техни-
ческом осмотре и ремонте.
Второе — что поколение, к которому я принадлежу,
очень недолговечно — оно, в сущности, доживает свои дни —
и в этой ситуации всякая помощь, всякий глоток свежего
воздуха, исходящие от наших более молодых (хотя бы и се-
деющих уже!) товарищей, являются для нас вопросом почти
что жизни. Для меня, по крайней мере, это именно так.
Третье — что, следовательно, в этом рабочем механизме
при этой ревизии могут обнаружиться не просто неисправ-
ности, а и такие непоправимости, с которыми дальнейшая
работа его невозможна.
Как историк я привык смотреть действительности прямо
в глаза. Ленин в науке и Лев Толстой в художественной ли-
тературе крепко научили меня не бояться, а любить выгово-
ренную правду жизни, а сам я с детских лет испытывал не-
одолимую тошноту от розовых очков. Говорят, что моряков,
в течение установленного срока не приспособившихся к
морю в этом последнем отношении (в отношении тошноты,
в отношении морской болезни), просто снимают с корабля
и исключают из списочного состава флота. Это — еще и чет-
вертая вещица, относительно которой я тоже не строю себе
никаких иллюзий.
Но не в том ведь и оптимизм — чтобы жить иллюзия-
ми!».43
Текст этой речи безусловно свидетельствует о смятении,
которое испытывал Б. А. Романов в ожидании обсуждения
книги. Похвала в адрес И. И. Смирнова и его погромной
статьи (в № 10 «Вопросов истории») о книге С. Б. Веселов-
ского «Феодальное землевладение Северо-Восточной Руси»
была столь же фальшивой, сколь и упоминание о Ленине в
сочетании с именем Льва Толстого. Вероятно, у него еще
теплилась надежда если не на благополучный исход, то хотя
бы на возможность избежать полного краха. Однако состо-
явшееся 13—14 апреля заседание Ученого совета ЛОИИ с по-
весткой дня «Борьба с буржуазным космополитизмом в ис-
торической науке» лишила Б. А. Романова хоть какой-то ил-
люзии, и эта речь так и осталась непроизнесенной.
Основной доклад на заседании Ученого совета был про-
читан новым заведующим ЛОИИ М. С. Ивановым. Сама
проблематика этого заседания свидетельствовала о том, что
объектом идеологического погрома должны были стать и
277
стали ученые-историки еврейского происхождения. Прора-
ботке подверглись работы московских историков Н. Л. Ру-
бинштейна, И. И. Минца, И. М. Разгона, А. М. Деборина,
Г. А. Деборина, Л. И. Зубока, Ф. И. Нотовича и ленин-
градских исследователей С. Н. Валка, С. Я. Лурье. Но в эту
обойму попали также А. В. Предтеченский и Б. А. Романов,
которых обвинили не в «безродном космополитизме», а
«всего только» в «антипатриотизме» — именно потому, что
они не относились к числу тех, кого стали преследовать, ис-
ходя из их национальной принадлежности.
Заседание прошло в отсутствие Б. А. Романова, который
все еще находился на больничном листе и решил не участ-
вовать в этом унизительном действии. Одним из основных
стало выступление И. И. Смирнова. Начав его с расхожего
газетного штампа, представлявшего собой констатацию того,
что «разоблачением буржуазных космополитов партия нане-
сла жестокий удар по империалистической реакции, орудо-
вавшей на различных участках идеологического фронта»,
И. И. Смирнов продолжал: «Партия раскрыла существо кос-
мополитизма как глубоко враждебной нам идеологии, пре-
следующей целью отравить сознание советских людей, идео-
логии преклонения и восхваления порочной буржуазной
культуры, несовместимой с советской идеологией, с марксиз-
мом-ленинизмом». О книге «Люди и нравы древней Руси»
И. И. Смирнов сказал, что в ней отразилось «влияние бур-
жуазной идеологии <...> и притом в сильной степени»: «Ос-
новной принципиальный порок книги <...> состоит в том,
что, посвятив свою книгу истории культуры Киевской Руси,
Б. А. Романов вместо показа людей Киевской Руси как твор-
цов русской культуры, как борцов за создание и укрепление
русской государственности, оказался объективно на позициях
„разоблачения** и „обвинения** Киевской Руси и ее деяте-
лей— позиции ложной, состоящей в прямом противоречии с
той задачей, которая стоит перед нами, — задачей воспиты-
вать на примерах истории нашей родины чувство националь-
ной гордости нашей великой Родиной, чувство советского
патриотизма».44
Установление такой прямой связи «советского патриотиз-
ма» с «государственностью» вообще, русской государствен-
ностью далекого прошлого — в частности, входило, как уже
было отмечено, в противоречие не только с марксизмом
XIX в., но и с его ленинской интерпретацией 20-х годов, ко-
торой следовал И. И. Смирнов на заре своей научной дея-
тельности в конце 20-х—начале 30-х годов.45 Но оно полно-
стью соответствовало возникшей в середине 30-х годов ста-
278
линской имперской национал-болыпевистской концепции, ко-
торая во второй половине 40-х—начале 50-х годов получила
законченное оформление.
После первого дня заседания (13 апреля) Б. А. Романов,
не оправившийся еще от тяжелой болезни и поэтому отсут-
ствовавший на нем, был ознакомлен кем-то из сотрудников
ЛОИИ с его ходом, в частности с тем, что монография
«Люди и нравы древней Руси» была названа вредной книгой,
а комментарии к «Правде Русской» — объективистскими.
Б. А. Романов никогда не забывал, что провел 13 месяцев в
камере предварительного заключения ОГПУ в полном неве-
дении относительно дальнейшей своей судьбы, что отбыл в
концлагере еще 2 с половиной года, что после этого 8 лет
был безработным. Он понимал, что петля с его шеи так и
не была снята, а всего только ослаблена, и потому его
жизнь, как и все эти 14 с лишним лет, находится под посто-
янной угрозой. Он, наконец, ощущал, что запас его физиче-
ских и душевных сил на исходе. В обстановке «охоты на
ведьм», охватившей науку и культуру, обязательной ритуаль-
ной частью которой стали унизительные публичные покаян-
ные выступления тех, кто являлся объектом истерической
травли, Б. А. Романов вынужден был задуматься о своей
дальнейшей судьбе. Безысходность и страх, который сопро-
вождал жизнь ученого с момента ареста, страх утраты рабо-
ты, страх мучительной смерти, страх, превратившийся в уни-
версальное орудие сталинского режима для приведения своих
граждан в покорность, — все это толкало его на уже прото-
ренный современниками путь.
Вечером 13 апреля 1949 г. Б. А. Романов сел за пишу-
щую машинку и стал набрасывать заявление в адрес Ученого
совета ЛОИИ. Напомнив о том, что 3 его крупные работы —
«Люди и нравы древней Руси», «Очерки дипломатической ис-
тории русско-японской войны» и комментарии к «Правде
Русской» — «создавались в основном одновременно» и тогда,
когда он еще «не избавился от тяжелого мозгового заболе-
вания», Б. А. Романов возлагал на себя вину за то, что «в
1946 г. не пересмотрел сам для себя <...> вопрос о целесо-
образности с государственной точки зрения их издания». И
хотя «в субъективистском, индивидуалистическом порядке»
«сомнения» у него «являлись», но «в том же порядке эти со-
мнения подавлялись» им, и «в конечном счете» в нем «во-
зобладало <...> индивидуалистически-авторское начало, то
есть желание „избавиться** от работ, в которые было вложе-
но много труда, „освободиться** от них, то есть выпустить в
свет, хотя бы это и было сопряжено для тебя с большим
279
риском». Б. А. Романов высказал далее надежду («крепко
надеюсь»), что этот его «природный недостаток, взращен-
ный» всей его «научной работой, может быть должным об-
разом ограничен в своем вредном с государственной точки
зрения действии товарищеской помощью коллектива
ЛОИИ». Ученый выражал далее убеждение в том, что «сто-
ящая на очереди» последняя его работа — комментарий к
Судебнику 1550 г. — «явит образец настоящей научной рабо-
ты благодаря этой помощи», которой он «теперь будет до-
биваться всегда как чего-то лежащего в природе вещей» и
даже как его «права». Б. А. Романов далее писал, что не от-
казывается «от доли ответственности, которая (не формаль-
но, а по существу) ложится» на него «за объективистский ха-
рактер комментариев» к «Правде Русской». Но «точности
ради», отмечал Б. А. Романов, «по-настоящему» он «не ус-
воил, не сделал своей мысль, что подобного типа издания,
чтобы быть научными, должны быть партийными». С другой
стороны, писал Б. А. Романов, «надо быть откровенным до
конца и сказать», что если бы в 1938 г. в ЛОИИ ему «было
бы предложено принять участие в комментировании „Прав-
ды“ не в объективистском плане», он «не мог бы взять на
себя ответственность за составление иного типа коммента-
рия: это потребовало бы гораздо большего времени», чем
было ему дано, и «кончилось бы тем», что он «дал бы субъ-
ективистский комментарий, что было бы недопустимо в кол-
лективном издании». «Выскочив» же «из петли объективиз-
ма», он «попал в петлю противоположную, которая тогда ка-
залась свободою (в старом, индивидуалистическом смысле
слова)». «Такова была ситуация», в которой он «взялся за
работу над „Людьми и нравами14», и «в этой ситуации ниче-
го, кроме провала с книгой в целом, приключиться не
могло».46
Процитированные фрагменты первоначального проекта
письма не вошли в его окончательный текст. Он датирован,
в отличие от первого варианта, не 13, а 14 апреля и писался,
скорее всего, утром этого дня. Он выдержан в менее лич-
ностном тоне, в нем автор попытался уравновесить призна-
ние «пороков» в книге «Люди и нравы древней Руси» и в
комментариях к «Правде Русской» выдвижением на первый
план книги «Очерки дипломатической истории русско-япон-
ской войны», которая-де отражает «основную линию» «рабо-
чей жизни» автора и должна была «явиться политически и
теоретически сугубо ответственным документом», «быть пар-
тийной книгой или вовсе не быть». Б. А. Романов выражал
осторожную надежду, что он «как будто в известной мере
280
<...> в этом преуспел», в результате чего «книга принята в
советскую науку». Поскольку же ближайшая задача состоит
в том, чтобы «дать переработанное ее издание, можно ви-
деть», что он принимает многие из сделанных ему «печатных
и устных замечании», «особенно касающихся двух предметов:
корейского вопроса и недостаточно разоблаченного импери-
ализма США, который надо изучить не в меныпих масшта-
бах, чем то сделано» у него «с империализмом английским».
Что же касается «Людей и нравов древней Руси» и коммен-
тариев к «Правде Русской», то книга «носит резко субъекти-
вистский характер», а комментарии, напротив, — «объекти-
вистский характер» потому, что их автору «далеко не сразу»
даже по выходе этих работ стало ясно, что «книга, для того
чтобы стать научной, должна быть и партийной, независимо
от ее темы», и только теперь ему стало понятно, что субъ-
ективизм и объективизм «ставят» ее «вне советской науки».
Книга «о людях и нравах» «обречена была <...> на провал»
«как субъективистская, ошибочная, теоретически не проду-
манная», потому что «не бывает „случайных**, „неосознан-
ных** партийных книг», «не может быть и нейтральных (не
вредных и не полезных) книг». Исходя из этого, Б. А. Рома-
нов и выстроил силлогизм: «раз книга не партийна» (и в то
же время и не нейтральна), то «она вредна». Поэтому он за-
явил, что «ни о какой переделке» книги «речи быть не
может», и тем самым избавил себя от опасности получить
предписание о ее переработке.
Не останавливаясь «на конкретных ошибках» книги
«Люди и нравы древней Руси», поскольку «речь о них пойдет
в особом заседании», Б. А. Романов все же счел необходи-
мым назвать одну, «не откладывая»: взяв «для <...> читателя
(и для себя) в качестве гида по древней Руси XI—XII вв. фи-
гуру мизантропа», он «поставил» и своего «читателя в необ-
ходимость все видеть сквозь черные очки и крайне односто-
ронне» и «сковал» и «себя как автора» «этой фигурой и с
индивидуалистической позиции придал этой фигуре типиче-
ское значение». Этот прием Б. А. Романов назвал субъекти-
вистским, причем «чем последовательнее и маниакальнее он»
им «проводился», тем в большей степени он ставит автора
«под обвинение в национальном нигилизме», а «такая одно-
сторонность книжки, попав на подходящую почву, может
принести вред <...> читателю» — «тем более, что перед со-
ветским историком стоит прежде всего почетная задача вос-
питывать советских людей в духе животворного советского
патриотизма».47
231
Все это сколь искусное, столь же и искусственное, полное
фальши построение призвано было отвести непосредствен-
ную опасность, смягчить возможные последствия нападок на
автора попавших под удар исследований, сохранить жизнь и
возможность работать, чтобы завершить подготовку коммен-
тариев к Судебнику 1550 г. и переиздания «Очерков дипло-
матической истории русско-японской войны», которые, по
мысли Б. А. Романова, должны были стать его лебединой
песней. Нет никакого сомнения в том, что для него «Люди
и нравы древней Руси» и впоследствии оставались самой лю-
бимой из его работ, и уже потому автор не мог считать эту
свою книгу вредной. Следует также отметить, что в системе
воззрений Б. А. Романова дидактический аспект его деятель-
ности как исследователя-историка отсутствовал вовсе, и в
этом он коренным образом расходился с И. И. Смирновым,
который, считая себя марксистом, склонен был политизиро-
вать прошлое с целью воспитания «советского патриотизма»
и перешел, руководствуясь «указаниями партии», от огуль-
ного обвинения прошлого в раннебольшевистском духе к его
идеализации, основанной на новой имперско-государствен-
ной концепции 30—40-х годов. Сам Б. А. Романов, как было
уже отмечено, не склонен был идеализировать прошлое, но
по совершенно иным, по сравнению, например, с М. Н. По-
кровским, основаниям: он видел в нем истоки пороков на-
стоящего.
Но так или иначе, именно этот демарш Б. А. Романова,
вероятно, повлиял на заключительную резолюцию Ученого
совета в той ее части, которая касалась его лично. В целом
же она свидетельствовала о том, что политическая истерия
захлестнула не только прессу, но и научный коллектив. «Бур-
жуазный космополитизм» был назван «идеологическим ору-
дием империалистической экспансии англо-американского
империализма», призванным «расчистить путь для империа-
листической агрессии» и подорвать «мощь нашей Советской
Родины», а «буржуазные космополиты» обвинены в том, что
«орудовали прежде всего на самых ответственных участках
исторического фронта». В частности, отмечалось, что в об-
ласти истории СССР советского периода «некоторое время
орудовала антипатриотическая группка, возглавляемая Мин-
цем и Разгоном». В области же новой и новейшей истории
«свое отражение буржуазный космополитизм нашел в дея-
тельности акад. Деборина, проф. Деборина, Зубока, Нотови-
ча и др.», допустивших «явную идеализацию и апологию
американского империализма и принижение международной
роли СССР». «Ярким проявлением буржуазного космополи-
282
тизма» была признана и книга Н. Л. Рубинштейна «Русская
историография», в которой «развитие русской историогра-
фии» «изображается» «как результат влияния идей и течений,
возникших на Западе и перенесенных в Россию». «Буржуаз-
но-космополитические воззрения в области средневековья»
были обнаружены также в книге О. Л. Вайнштейна «Исто-
риография средних веков», в которой «русская наука загнана
на задворки европейской науки», и в его книге «Россия и
Тридцатилетняя война», в которой автор «переоценивает
иностранные источники и игнорирует русские источники».
Сотрудникам ЛОИИ С. Н. Валку и А. В. Предтеченско-
му были поставлены в вину ошибки буржуазно-объективист-
ского характера. В частности, С. Н. Валк в статье «Истори-
ческая наука в Ленинградском университете за 125 лет» и в
книге «Советская археография» «не проводит грани между
советской исторической наукой и буржуазной историогра-
фией, восхваляет неокантианца Лаппо-Данилевского и т. д.».
Что же касается Б. А. Романова, то было констатировано,
что в его книге «Люди и нравы древней Руси» проявились
«элементы национального нигилизма, выразившиеся в при-
нижении русской культуры, в искажении облика и в отсут-
ствии показа героизма русских людей эпохи Киевского госу-
дарства».
Из сотрудников ЛОИИ основным объектом разнузданно-
го шельмования стал С. Я. Лурье — коллега Б. А. Романова
также и по университету. Он был обвинен не только в «упор-
ном протаскивании идей так называемой мировой науки», в
«отрицании освободительных войн и идей патриотизма в
древности», «в беспринципном пресмыкательстве перед бур-
жуазной западноевропейской наукой», но и в срыве издания
«Корпуса боспорских надписей», подготовку которого он
возглавлял и просил продлить срок окончания работ до но-
ября 1949 г.48 В результате С. Я. Лурье оказался уволенным
из ЛОИИ (а впоследствии и из университета). Б. А. Романов
был возмущен этой несправедливой акцией. Впоследствии,
когда коллектив, состоявший из 8 человек под руководством
акад. В. В. Струве, из года в год откладывал завершение
этой работы (она вышла только в 1965 г.!), он многократно
в резкой форме выступал на заседаниях Ученого совета
ЛОИИ, напоминая, что С. Я. Лурье просил на это всего не-
сколько месяцев, и всегда голосовал против пролонгации
сроков.
С. Н. Валк и А. В. Предтеченский вынуждены были вы-
ступить на заседании Ученого совета с унизительным при-
знанием своих ошибок. Эти шаги затравленных коллег, в
283
том числе и письмо Б. А. Романова, были встречены Уче-
ным советом «с удовлетворением», особенно «выраженное
всеми ими искреннее желание исправить» свои ошибки.49
После этого Ученого совета прошла всего неделя, и на
заседании группы истории СССР 21 апреля 1949 г. состоя-
лось так называемое обсуждение книги «Люди и нравы древ-
ней Руси». Еще 8 апреля Б. А. Романов решил: «Если с этим
будут спешить, то, пожалуй, это будет заочно, так как пока
я на бюллетене, а если будут ждать, то при мне» (Е. Н. Ку-
шевой). Дожидаться его, однако, не стали, не посчитавшись
с болезнью ученого, а всего только передали ему текст до-
клада И. И. Смирнова.
Текст доклада И. И. Смирнова распадается на две нерав-
ные части. Под первой, состоящей из 29 страниц, стоит да-
та— 20.III.49 г. Далее следует дополнительный недатирован-
ный четырехстраничный фрагмент.50 По-видимому, какие-то,
нам пока неизвестные, новые обстоятельства привели к тому,
что И. И. Смирнов сделал эту приписку, в которой инвек-
тивы в адрес Б. А. Романова сформулированы особенно
резко.
И. И. Смирнов, по его собственным словам, поставил
перед собой задачу произвести «разбор исторической концеп-
ции Б. А. Романова, изложенной в его книге „Люди и нравы
древней Руси“». Впрочем, начал докладчик со стандартного
упрека, сводящегося к тому, что «содержание» книги «не со-
ответствует названию»: в ней излагается история «основных
социальных категорий общества Киевской Руси», вследствие
чего она превратилась в очерки по истории «социального
строя» древнерусского государства. Докладчик даже усилил
свои претензии подобного рода указанием на то, что отсут-
ствует в книге. В частности, Б. А. Романов «оставил вне
сферы своего внимания людей древней Руси по крайней мере
в двух разрезах их деятельности: 1) как строителей русской
государственности и 2) как создателей древнерусской культу-
ры». Именно в данной, очевидно, связи И. И. Смирнов осу-
дил Б. А. Романова за то, что в книге «,,люди“ выступают
лишь в одной сфере, в сфере отношений государства и под-
чинения, в сфере отношений эксплуатации, зависимости и
т. д.».
Но докладчик вскоре вошел в противоречие с этим утвер-
ждением, отметив, что автор книги «счел нужным уделить
<...> внимание характеристике, говоря его словами, „вопро-
сам семейной морали, физиологии, гигиены и 6ыта“», но это
внимание было почему-то квалифицировано И. И. Смирно-
вым как «чрезмерное» (без выдвижения критериев соразмер-
284
ности). Более того, «введение этого сюжета в книгу», по мне-
нию И. И. Смирнова, не приблизило ее автора к заявленной
им теме, а «еще более способствовало тому, что картина
„людей" и „нравов" оказалась не соответствующей истори-
ческой действительности». Почему обращение к данной про-
блематике в «историко-бытовых очерках» ей противоречит,
докладчик объяснять не стал.
Напомню, что Б. А. Романов еще за год до этого засе-
дания, при обсуждении книги 20 апреля 1948 г. на Ученом
совете исторического факультета ЛГУ, говорил о причинах
того, почему он считал необходимым коснуться в ней «во-
просов пола» (см. выше). Хотя И. И. Смирнов, вероятно, не
присутствовал на этом обсуждении, он все же был знаком с
его ходом. Во всяком случае, копия стенограммы хранится
именно в его архивном фонде.51
Суровой критике подверг далее И. И. Смирнов интер-
претацию Б. А. Романовым процесса классообразования в
феодализировавшейся Руси. Она «в корне меняет наше
(чье? — В. П.) представление о путях и методах развития кре-
постнической зависимости крестьянства, о природе законода-
тельства Киевской Руси, о политике государственной власти
и о роли церкви киевской эпохи». «У нас нет никаких осно-
ваний, — говорил И. И. Смирнов, — чтобы согласиться с
Б. А. Романовым, что исходное положение в истории смер-
дов — это положение члена завоеванного племени в его от-
ношении к племени завоевателя», поскольку «еще со времен
„Анти-Дюринга" известно, что в основе процесса классооб-
разования лежат факторы не военно-политические, а соци-
ально-экономические». Не видел И. И. Смирнов «никакой
возможности и оснований эпоху Правды Ярославичей» опре-
делять как время, «когда смерд начинает выходить из своего
почти колониального бесправия и включается в „союз кня-
жой защиты", под „охрану княжого права"» потому, что в
«Замечаниях И. В. Сталина, А. А. Жданова и С. М. Кирова
по поводу конспекта учебника по истории СССР» «эпоха
Правды Ярославичей середины XI в.» характеризуется как
«„время, когда подводятся самые первые итоги процесса за-
крепощения смердов феодалами", грань, отделяющая „дофе-
одальный период, когда крестьяне не были еще закрепощен-
ными", от периода феодального, в котором центральной фи-
гурой становится закрепощенный крестьянин». При этом
«классовый характер общества Киевской Руси не уничтожает
прогрессивного характера общества». Ведь Маркс, «перечис-
ляя в своем знаменитом „Предисловии к критике политиче-
ской экономии" „азиатский, античный, феодальный и совре-
285
выводы рецензии <...> правильными о том, что книга
Б. А. Романова немарксистская и вредная».53
И доклад И. И. Смирнова, и ход «обсуждения», с кото-
рым Б. А. Романов был сразу ознакомлен, и заключитель-
ный вердикт группы истории СССР, и унизительная необхо-
димость фальшивого (хотя и заочного покаяния) — все это
привело Б. А. Романова, который конечно не мог согласить-
ся с предъявленными ему обвинениями, в смятение, выбивало
у него почву из-под ног, навевало мрачные мысли, вызывало
растерянность. Ему казалось даже, что теперь его участие в
любых коллективных предприятиях может дискредитировать
саму эту работу, тем более что некоторые недоброжелатель-
но настроенные коллеги пытались его в этом убедить. Через
месяц после заседания в ЛОИИ Б. А. Романов писал в ответ
на ободряющее письмо Е. Н. Кушевой: «С ужасом от раза
к разу убеждаюсь в том, что процесс разрушения идет не-
укоснительно и заметно для невооруженного глаза. С тем
вместе все выпадает из рук. На первой очереди „Повести
временных лет“: на днях была беседа с моими коллегами,
которые уяснили мне, что я могу только загубить издание —
и по существу, и в отношении сроков. Многого я попросту
не понимаю в том, что нужно делать с этим изданием. От-
стал от бега жизни! <...> Соответственно этому и состояние
головы: про дом говорят, что он „сел“, и оттого трещины
пошли вкривь и вкось. Так и тут: голова „села“ — и все
пошло вкривь и вкось. Мне приятно, что Вы „успокоились"
за меня. Похоже на то, что все же я „не вовсе" спятил, и
вообще если со мной что-то произошло, то „не вовсе". Но
я никогда и сам не думал, что уже „вовсе" что-то. Я только
вижу, что кончается иллюзия осмысленной жизни, осмыслен-
ной работы — что из „винтика" я опять стал гвоздиком, на
этот раз поржавевшим» (25 мая 1949 г.).
«Обсуждение» в ЛОИИ книги «Люди и нравы древней
Руси», опиравшееся на извращенное представление о природе
патриотизма и его связи с наукой о прошлом, привело в ка-
честве ближайших последствий и к осложнениям в универси-
тете. На аттестации, проводившейся 21 июня 1949 г. на ис-
торическом факультете под председательством нового декана
Н. А. Корнатовского, было зафиксировано, что «Б. А. Ро-
манов пришел из старой буржуазной школы (Платонов) и до
сих пор еще не освободился от влияния буржуазной истори-
ографии». Не забыто было и то, что Б. А. Романов «был
репрессирован». О книге «Люди и нравы древней Руси» го-
ворилось как о работе, в которой автор допустил серьезные
ошибки, проявившиеся в элементах «национального нигилиз-
288
ма», извращающих «подлинную историю древней Руси». В
условиях политической истерии неожиданно под удар попали
и «Очерки дипломатической истории русско-японской
войны», о которых было сказано, что они «не свободны от
объективистских ошибок». Они в глазах ревнителей нацио-
нал-патриотической идеи состояли в том, что Б. А. Романов
не делал различий между империалистической политикой
России и Японии, считая их обеих виновниками русско-япон-
ской войны. Наконец, Б. А. Романову припомнили и речь на
его чествовании: «Отдельные выступления проф. Б. А. Рома-
нова содержали политические ошибки». При формулировке
заключительного вердикта: «Своей должности соответствует.
Может быть использован в качестве руководителя специаль-
ных занятий» — было принято во внимание то обстоятельст-
во, что «в письменном заявлении» Б. А. Романов «признал
свои ошибки» и сообщил о подготовке им «новой работы
по истории Киевской Руси».54
Это признание было вырвано у Б. А. Романова под угро-
зой увольнения из университета и носило условно-ритуаль-
ный характер. О том, что сам ученый не придавал ему ни-
какого значения, свидетельствует его упоминание о подго-
товке им новой работы по истории Киевской Руси, которая
не стояла не только в его ближайших, но даже и отдаленных
планах. Показательно, что для придания заключению аттес-
тационной комиссии большей убедительности Б. А. Романо-
ву была приписана принадлежность к школе С. Ф. Платоно-
ва, тогда как он всегда подчеркивал, что является учеником
А. Е. Преснякова.
Возможно, с той же целью Л. В. Черепнин причислил
Б. А. Романова (наряду с А. И. Андреевым и С. Н. Валком,
что в отношении их справедливо) к школе учеников
А. С. Лаппо-Данилевского. В ставшей одиозной, чрезвычай-
но предвзятой статье об этом выдающемся ученом Л. В. Че-
репнин утверждал, что его ученики «не сумели полностью
преодолеть методологию своего учителя». Б. А. Романов
был обвинен в том, что «его не удовлетворяет в историче-
ском исследовании феодального общества применение „от-
стоявшихся социальных категорий"» («народные массы, во-
влеченные в сеньорию», «они же оставшиеся в составе общи-
ны», «феодалы двух видов — светские и церковные»), а ему
«кажется необходимым „ввести мотив перекликания" в „сим-
биоз этих категорий и мотив внутрикатегоричных (внутрика-
тегорных. — В. П.) пустот"». Л. В. Черепнин также инкри-
минировал Б. А. Романову то, что автора «интересует
„поперечная динамика, мятущая этих людей как в географи-
10 В. М. Панеях
289
ческом, так и в социальном пространстве — пока-то их проч-
но прибьет к тому или иному берегу, определенному стан-
дарту"». Б. А. Романову, наконец, ставилась в вину мысль
«о необходимости введения в свое изложение „культурно-ис-
торического типа" „в качестве живого действующего лица и
своего рода реактива при пользовании иными историческими
памятниками, с их стандартными формулировками"». Все эти
неточные и потому обессмысливающие текст Б. А. Романова
цитаты понадобились Л. В. Черепнину для того, чтобы про-
возгласить, что автор книги «Люди и нравы древней Руси»
«возвращается к методам психологической и типизирующей
интерпретации, развитым Лаппо-Данилевским», и «классо-
вый анализ источников» подменил «их психологической
интерпретацией и идеально-типическим и построениями».55
Л. В. Черепнин то ли не уловил, то ли намеренно игнори-
ровал провозглашенную Б. А. Романовым цель работы —
показать древнерусский социум в социальной динамике, т. е.
процесс классообразования, а не социальную статику. Автор
статьи, вероятно, был прав, указав на влияние, которое ока-
зал на Б. А. Романова А. С. Лаппо-Данилевский, в социо-
логическую систему которого в качестве важного компонен-
та входила психологическая интерпретация. Б. А. Романова
с самого начала его творческого пути интересовал человек,
а следовательно, социально-психологические мотивы его дей-
ствий, хотя он не отвергал и классовых их побуждений. Но
так или иначе, в данном контексте критика Л. В. Черепни-
ным Б. А. Романова (как и С. Н. Валка и А. И. Андреева)
была направлена на его дискредитацию.
Что касается возможных личных бесед с И. И. Смирно-
вым и другими участниками обсуждения книги «Люди и
нравы древней Руси», то они, судя по всему, так и не состо-
ялись. Да и вряд ли Б. А. Романов испытывал в них необ-
ходимость. Только через два с половиной месяца после об-
суждения книги в письме И. И. Смирнову из Сигулды, где
он проводил отпуск, имел место первый (и, вероятно, един-
ственный) отклик на это «обсуждение». Упомянув о том, что
он взял с собой книгу Ф. Энгельса «Анти-Дюринг»,
Б. А. Романов написал, что ссылкой в докладе на нее
И. И. Смирнов его «поддел»: «Оказалось, судя по пометам,
что он («Анти-Дюринг». — В. П.) был у меня в работе перед
войной, — и это меня еще больше поддело. Хочу посмотреть
именно этот экземпляр <...> по своим следам. Поддели же
Вы меня, в частности, тем, что приписали мне некую, свою,
„теорию классообразования". Это было для меня совершен-
ной неожиданностью. Теперь я думаю, что приписываете мне
290
слишком много. Но мне хотелось бы разобраться с этим до
конца прежде, чем побеседовать с Вами».5® Разумеется, со-
перничество Б. А. Романова с И. И. Смирновым в интер-
претации цитат из произведении основоположников марксиз-
ма заведомо не могло быть успешным. Но сама такая по-
пытка симптоматична: только осознаваемая им нависшая
угроза репрессий вынудила Б. А. Романова искать спасения
на этом пути.
Таким образом, тяжелая идеологическая атмосфера
1949 г. и последующих годов все в большей степени давила
на представителей петербургской исторической школы. Не-
которых из них впрямую касалась откровенно антисемитская
кампания, спровоцированная властью.57 Была продолжена
линия, направленная на подрыв авторитета классиков рус-
ской науки и их учеников. Помимо статьи Л. В. Черепнина
о А. С. Лаппо-Данилевском были опубликованы обскуран-
тистские статьи А. П. Погребинского о П. Г. Любомирове,58
того же Л. В. Черепнина об А. Е. Преснякове,59 И. У. Бу-
довница о М. Д. Приселкове,60 В. Т. Пашуто об А. А. Шах-
матове.61 В их появлении Б. А. Романов видел подтвержде-
ние своего мироощущения, согласно которому власти стре-
мились вытеснить из исторической науки ученых его
поколения.
Б. А. Романов по-прежнему с отвращением относился к
идеологическим погромам в ЛОИИ и в университете, вновь
прокатившимся в связи с появлением работ Сталина «Марк-
сизм и вопросы языкознания», «Экономические проблемы со-
циализма в СССР», а также после нападок на Институт ис-
тории на XIX съезде компартии. Он писал в апреле 1952 г.,
во время одного из обострений его болезней: «У меня перед
глазами сейчас пример исторического факультета моей alma
mater. Тут были сказочные события последние три недели,
на которые не хватит ни Гоголя, ни Щедрина — по их вре-
дительской сущности. Причем свершались они не в тишине
и скромной скрытности, а у всех на глазах и даже со стено-
граммами и газетными отчетами, в ноздревской шашечной
манере! За время лежания мне было настрого запрещено чи-
тать. Но посетители ко мне пробирались сквозь домовые за-
поры, и этот кинофильм от начала до конца протекал перед
моим духовным взором. Говорят, впрочем, что лента еще
прошла не вся. Но основная суть происшедшего уже ясна,
как бы оно ни кончилось в последнем звене. Во всем этом
деле так называемый „ученый совет" факультета играл фее-
рическую роль трижды унтер-офицерской вдовы при доволь-
но многоголовом городничем, которого точно назвать осте-
291
регаюсь. В моем больном положении вся эта история вос-
принималась мною преувеличенно удручающе».
В этой удручающей и опасной обстановке вновь обостри-
лись старые хронические болезни Б. А. Романова — спазмы
головных сосудов, повреждение глазного нерва. В цитиро-
ванном выше письме речь идет именно об очередном при-
ступе этих недугов. Лишь в конце сентября 1952 г. болезнь
временно стала отступать. Об этом он писал В. Г. Гейману
29 сентября 1952 г.: «...мне разрешено теперь учиться читать
и писать, но 10—15 минут враз. Писать значительно легче
(если не перечитывать написанное, что мне недоступно). Чи-
тать — это целая проблема пока».62
Преследования и болезни лишь на время прерывали ис-
следовательскую работу Б. А. Романова, к которой он воз-
вращался вновь и вновь. Именно в ней и в общении с уче-
никами находил он утешение и черпал убывающие силы:
«Если бы не книга (речь шла о только что вышедшем из
печати втором, дополненном и исправленном издании «Очер-
ков дипломатической истории русско-японской войны». —
В. П,), не вылезти мне бы было из моих „болестей", ее
власть надо мной оказалась сильнее тяги книзу. Ту же роль
сыграла, думаю, и работа с моей молодежью: они тоже та-
щили меня кверху и к жизни» (Г. В. Сидоровой. 13 февраля
1956 г.).
В промежутках между болезнями Б. А. Романов работал
с пугающей его родных, друзей и учеников интенсивностью,
на износ, и это в свою очередь провоцировало новые их при-
ступы, которые чем дальше, тем чаще повторялись. Угнетаю-
ще действовала на ученого и общая идеологическая обста-
новка в стране, в Академии наук, в Институте истории. Пре-
следования, которым он сам подвергся, вернули ему
самоощущение бокового положения в науке, своего аутсай-
дерства. А в апреле 1953 г. последовали события, которые
были восприняты Б. А. Романовым как смертельный удар
по исторической науке в Ленинграде, оправиться от которо-
го будет едва ли возможно.
ПРИМЕЧАНИЯ
1 См. об этом: Азадовский К., Егоров Б. 1) О низкопоклонстве и кос-
мополитизме: 1948—1949//Звезда. 1989. № 6. С. 157—176; 2) «Космополи-
ты»//Новое литературное обозрение. 1999. № 2 (36). С. 83—135.
2 Культура и жизнь. 1948. И марта.
3 Там же.
4 Ленинградский университет. 1948. 7 апр.
292
5 Протокол заседания Ученого совета исторического факультета Ле-
нинградского гос. университета. 20 апреля 1948 г.: Архив СПб. ФИРИ,
ф. 294, on. 1, д. 44, л. 48—54.
6 Там же, л. 57—63.
7 Там же, л. 64—68.
8 Я. С. Лурье, присутствовавший на этом обсуждении, в беседе со
мной утверждал, что Б. А. Романов говорил несколько иначе: «В необхо-
димости освещать такие вопросы виноваты две дамы. Одна из них — пра-
вославная церковь, уделявшая очень большое внимание вопросам семейной
морали, физиологии, гигиены и быта. Другая — Октябрьская революция,
приведшая к тому, что эти церковные вопросы совсем не знакомы нынеш-
нему читателю». Свою запись этого выступления Б. А. Романова
Я. С. Лурье любезно предоставил мне. Согласно его рассказу, после засе-
дания из-за этих слов разразился скандал, особенно бушевал проф.
Н. А. Корнатовский.
9 Архив СПб. ФИРИ, ф. 294, on. 1, д. 44, л. 74—84.
10 Зегжда Н. Покончить с объективизмом в исторической науке (с за-
седания Ученого совета)//Ленинградский университет. 1948. 12 мая.
11 Анпилогов Г. Н. [Рец.] Петр Великий: Сб. статей под ред. А. И. Анд-
реева. М.; Л., 1947 //ВИ. 1948. № 4.
12 Советская книга. 1948. № 2.
13 ВИ. 1948. № 5.
14 Вестник древней истории. 1948. № 3.
15 О травле С. Я. Лурье в 1948—1949 гг. см.: Копржива-Луръе Б. Я.
[Лурье Я. С.] История одной жизни. Париж, 1987. С. 191—205.
16 Гальперин А. [Рец.] Романов Б. А. Очерки дипломатической истории
русско-японской войны. 1895—1907. М.; Л., 1947//ВИ. 1948. № 8. С. 122—
128.
17 Юшков С. В. [Рец.] Правда Русская. Т. 2 / Комментарии составили
Б. В. Александров, В. Г. Гейман, Г. Е. Кочин, Н. Ф. Лавров и Б. А. Ро-
манов; Под редакцией акад. Б. Д. Грекова. М.; Л., 1947//ВИ. 1948. № 7.
С. 104—107.
18 Черепнин Л. В. [Рец.| Правда Русская. Т. 2//Советская книга. 1948.
№ 2. С. 68—70.
19 Кротов А. Примиренчество и самоуспокоенность//Литературная га-
зета. 1948. 8 се иг.
20 Павлов С. Объективистские экскурсы в историю // Культура и жизнь.
1948. 21 сент.
21 Застенкер Н. Отход от принципов партийности//ВИ. 1948. № 10
(рец. на «Труды по новой и новейшей истории»).
22 Смирнов И. И. С позиций буржуазной историографии//Там же (рец.
на книгу С. Б. Веселовского).
23 Резолюция расширенного заседания Ученого совета ЛОИИ АН
СССР. 3 ноября 1948 г.: ПФА РАН, ф. 133, on. 1 (1948 г.), д. 9, л. 71 —
71 об.
24 Протокол заседания сектора истории СССР ЛОИИ. 8 января 1948 г.:
Там же, д. 10, л. 1.
25 Б. А. Романов — Н. Л. Рубинштейну. 27 сентября 1948 г.: ОР РГБ,
ф. 521, картон 26, д. 39, л. 30.
26 Из перечисленных работ только «Геродот» С. Я. Лурье к моменту
обсуждения уже вышел в свет (об обсуждении этой книги см.: Копржива-
Лурье Б. Я. [Лурье Я. С.] История одной жизни. С. 191 —194). Монография
А. В. Предгеченского «Очерки общественно-политической истории России в
первой половине XIX в.», сборник статей «Петербург Петровского времени»
293
(под ред. А. В. Предгеченского), книга С. Н. Валка «Советская археогра-
фия» и сборник документов «Грамоты Великого Новгорода и Пскова» об-
суждались в корректурах. Книга А. В. Предгеченского вышла в свет только
в 1957 г.
27 expresses verbis (лат.)— решительно, категорично.
28 Против объективизма в исторической науке//ВИ. 1948. № 12. С. 3—
12.
29 Известия АН СССР. Серия истории и философии. 1949. Т. 6. № 2.
С. 195—197.
30 Термин «абсолютная простреливаем ость» заимствован мной из
книги: Копржива-Лурье Б. Я. (Лурье Я. С.| История одной жизни. С. 196.
Авторство здесь приписывается «одному остроумному наблюдателю».
С. И. Аввакумов, в то время зав. ЛОИИ, был исключен из партии,
а вскоре и арестован (впоследствии реабилитирован и вернулся на работу
в ЛОИИ). После войны он недолгое время был директором Музея обороны
Ленинграда и подвергся репрессиям по «Ленинградскому делу».
32 Книга С. Н. Валка «Советская археография» вышла в свет в 1948 г.
под ред. С. И. Аввакумова. Автора, успешно прошедшего через обсуждение
книги в корректуре в 1948 г., в 1949 г. обвинили в том, что, по его мнению,
на выработку правил публикации источников в советское время оказали
влияние принципы издания грамот Коллегии экономии, подготовленные
А. С. Лаппо-Данилевским.
33 Романов Б. А. Смердий конь и смерд (В Летописях и Русской Прав-
де)//Известия отделения русского языка и словесности. СПб., 1908. Т. 13,
кн. 3. С. 18—35.
34 М. П. Вяткин получил в 1948 г. Сталинскую премию за книгу
«Батыр Срым» (М.; Л., 1947).
35 Фурсенко А. А. О жизненном пути Б. А. Романова//ВИ. 1989. № И.
С. 159.
36 Там же.
37 Ленинградский университет. 1949. 2 марта.
38 Каганович F. С. Письма академика Е В. Тарле к А. Д. Люблин-
ской//Новая и новейшая история. 1999. № 3. С. 157—158.
39 См.: Фурсенко А. А. О жизненном пути Б. А. Романова. С. 159.
40 Там же.
41 Этот мрачный сталинист вернулся в 1955 г. из лагеря ярым антиста-
линистом и стал вновь преподавать на истфаке.
42 См. о ней: Азадовский К., Егоров Б. О низкопоклонстве и космопо-
литизме: 1948—1949. С. 165—171.
43 Текст непроизнесенной вступительной речи Б. А. Романова на об-
суждении его книги «Люди и нравы древней Руси» в ЛОИИ. Апрель 1949 г.:
Архив СПб. ФИРИ, ф. 298, on. 1, д. 106, л. 11 — 12 об.
44 Текст выступления И. И. Смирнова на заседании Ученого совета
ЛОИИ 14 апреля 1949 г.: Архив СПб. ФИРИ, ф. 294, on. 1, д. 29, л. 6—7
(авто гр аф).
45 См.: Валк С. Н. Иван Иванович Смирнов//Крестьянство и классовая
борьба в феодальной России: Сб. статей памяти Ивана Ивановича Смирно-
ва. Л., 1967. С. 5—41.
46 Проект заявления «Председательствующему на заседании Ученого со-
вета ЛОИИ АН СССР». 13 апреля 1949 г.: Архив СПб. ФИРИ, ф. 298,
on. 1, д. 106, л. 13—14.
47 Заявление Б. А. Романова «Председательствующему в заседании Уче-
ного совета ЛОИИ АН СССР». 14 апреля 1949 г.: Архив СПб. ФИРИ,
ф. 298, on. 1, д. 106, л. 17—17 об.
294
48 Подробно см.: Ко прж ива-Лурье Б. Я. [Лурье Я. С.] История одной
жизни. С. 199—203.
49 Резолюция Ученого совета ЛОИИ от 14 апреля 1949 г.: ПФА РАН,
ф. 133, on. 1 (1949 г.), д. 7, л. 31—33.
50 Архив СПб. ФИРИ, ф. 298, on. 1, д. 284 (машинопись, отпуск. С ка-
рандашными пометами Б. А. Романова).
51 Там же, ф. 294, on. 1, д. 44 (Стенограмма заседания Ученого совета
исторического факультета ЛГУ 20 апреля 1948 г. Заверенный отпуск).
Заявление Б. А. Романова председательствующему на заседании
группы истории СССР ЛОИИ М. П. Вяткину. 20 апреля 1949 г.: Архив
СПб. ФИРИ, ф. 298, on. 1, д. 106, л. 18.
53 Протокол заседания группы истории СССР ЛОИИ. 21 апреля 1949 г.:
ПФА РАН, ф. 133, on. 1 (1949 г.), д. 16.
54 Личное дело Б. А. Романова в Ленинградском государственном уни-
верситете: Архив ЛГУ, ф. 1, оп. 46, связка 17, л. 29.
55 Черепнин Л. В. А. С. Лаппо-Данилевский — буржуазный историк и
источниковед//ВИ. 1949. № 8. С. 51.
56 Б. А. Романов — И. И. Смирнову. 6 июля 1947 г. Из Сигулды в Ле-
нинград: Архив СПб. ФИРИ, ф. 294, д. 82, л. 34—34 об. В отпуск
Б. А. Романов отправился, еще не залечив полностью болезнь ноги. Он об
этом писал жившему в Риге И. В. Егорову: «Я буду прикован к месту бо-
лезнью моей ноги и обречен просидеть все лето. Очень это не хочется. И
вот мысль: нельзя ли в Риге где-нибудь достать (напрокат или купить) ин-
валидную колясочку на ручном ходу» (Б. А. Романов — И. В. Егорову.
Позднее 16 июня 1949 г.: ОР РНБ, ф. 273, д. 315, л. 5). К счастью, она не
понадобилась.
37 См.: О задачах советских историков в борьбе с проявлениями бур-
жуазной идеологии//ВИ. 1949. № 2. С. 3—13.
58 Погребинский А. Исторические взгляды П. Г. Любомирова//Там же.
№ 3. С. 82—93.
59 Черепнин Л. В. Об исторических взглядах А. Е. Преснякова//ИЗ.
1950. Т. 33. С. 203—231.
60 Будовниц И. У. Об исторических построениях М. Д. Приселкова//
Там же. Т. 35. С. 199—231.
61 Пашуто В. Т. А. А. Шахматов — буржуазный источниковед//ВИ.
1952. № 2. С. 47—73.
62 Б. А. Романов — В. Г. Гейману. 29 сентября 1952 г.: ОР РНБ,
ф. 1133, д. 210.
— 13 —
«КРУПНОЕ НАУЧНОЕ ДЕЛО»:
КОММЕНТАРИИ К СУДЕБНИКУ 1550 г.
И ИЗДАНИЕ СУДЕБНИКОВ XV—XVI вв.
Альтернатива — «антик или модерн?», возникшая перед
Б. А. Романовым по выходе в свет написанных еще до
войны трудов, разрешилась тем, что ему пришлось заняться
и русским средневековьем, и продолжить свои штудии по
дипломатической истории конца XIX—начала XX в., допол-
няя и перерабатывая свои «Очерки...» для второго издания.
Работа по русскому средневековью была связана с решением
продолжить комментированное издание законодательных па-
мятников, обратившись прежде всего к трем Судебникам —
1497 г., 1550 г. и 1589 г. Комментирование Судебника Ива-
на IV и было поручено Б. А. Романову осенью 1947 г. Как
уже было отмечено, он первоначально неохотно взялся за эту
работу, видя в ней повинность. К тому же он считал, что ее
следовало бы выполнить И. И. Смирнову, незадолго до того
опубликовавшему большую статью о Судебнике 1550 г.1 Од-
нако И. И. Смирнов уклонился от этого задания, так как не
хотел отвлекаться от работы над исследованием политиче-
ской истории России середины XVI в., которым тогда зани-
мался, и первоначально вовсе отказался от участия в подго-
товке издания Судебников.
Когда Б. Д. Грековым была задумана серия «Законода-
тельные памятники Русского централизованного государства
XV—XVI веков», являвшаяся непосредственным продолжени-
ем издания «Правды Русской», то уже при подготовке пер-
вой публикации этой серии — Судебников XV—XVI вв. —
было принято решение отказаться от постатейного историо-
графического комментария и подготовить «советского Вла-
димирского-Буданова», имея в виду тот тип комментариев,
296
который дал последний в неоднократно переиздававшихся до
октября 1917 г. выпусках «Хрестоматии по истории русского
права».
Б. А. Романов вскоре интенсивно втянулся в эту работу.
И как всегда в таких случаях, его отношение к служебному
заданию, принятому под давлением обстоятельств, резко из-
менилось: «мертвый прежде» документ «как будто ожил».
Объясняя перемену своего отношения, он писал: «...это дав-
нее мое свойство: какую дрянь не дай мне, в конце концов
всюду найду интерес». Первый вариант комментария был
подготовлен очень быстро — уже к середине 1948 г.
Правда, работа Б. А. Романова была затруднена тем, что
он не имел еще комментария Л. В. Черепнина к Судебнику
1497 г., и это обстоятельство не позволяло считать, что его
собственный комментарий полностью завершен. И все же он,
памятуя обвинения в объективизме авторов комментариев к
«Правде Русской», счел необходимым представить на обсуж-
дение группы истории СССР ЛОИИ образец комментария к
одной из статей Судебника 1550 г. и отчитаться о проделан-
ной работе.
Выступая 2 июня 1948 г. на этом заседании, Б. А. Рома-
нов подробно охарактеризовал задачи, которые он ставил
перед собой при комментировании, противопоставив «фор-
мальную» цель — «дать „советского Владимирского-Будано-
ва“ Судебника II» — существу дела: «Я стремлюсь помочь
читателю этого памятника понять содержание его текста,
читая его не юридическим, а историческим глазом». Если
перед «взором Владимирского-Буданова», составителя и ав-
тора комментариев многократно переиздававшихся выпусков
«Хрестоматии по истории русского права», Судебник 1550 г.
«лежал довольно безмятежным судоустройственно-судопрои-
зводственно-граждански-и-уголовно-правовым бегемотом»,
то Б. А. Романов, по его убеждению, «должен был помочь
читателю уловить мельчайшие следы» «острой социально-по-
литической борьбы на критическом этапе истории Русского
государства, из „пекла** которой он вышел». Для этого
нужно было «не упустить и при малейшей возможности
осмыслить прежде всего отличия текста Судебника II от его
старой основы — Судебника I». «В остальном, — говорил
Б. А. Романов, —это реальный исторический комментарий к
новизмам Судебника II <...> с помощью привлечения иных
документов». Б. А. Романов особо подчеркивал, что он не
занимается «аподактическим вещанием собственных мнений:
анализ и изредка догадка — основной прием комментария,
никогда, однако, не переходящий в прямой перевод статьи».
297
В конечном счете, по замыслу Б. А. Романова, «у читателя
комментария <...> должны отложиться представления не о
том, что сделала наука для понимания Судебника II, или ка-
ково было значение Судебника II в науке, а о том, что дает
Судебник для понимания русской жизни в условиях его вре-
мени и для реконструкции существенных черт русского исто-
рического процесса на данном этапе».2
Уже в это время Б. А. Романов осознал значение издания
Судебников. Так, в письме к А. И. Андрееву от 16 июня
1948 г. он отметил: «С точки зрения университетского пре-
подавания Судебники — издание очень потребное. С точки
зрения нашей национальной науки — издание и неизбежное,
раз начало положено „Русской Правдой**».3 Несколько позд-
нее (14 октября 1948 г.) он написал А. Л. Сидорову, что из-
дание Судебников — «крупное научное дело», которое «в ос-
новном готово».
В процессе работы над своим комментарием Б. А. Рома-
нов обнаружил, что он принципиально расходится с
И. И. Смирновым в вопросе о социальной направленности
реформ 50-х годов XVI в. и Судебника в частности.
И. И. Смирнов пришел к выводу, что Судебник явился от-
ражением антибоярской политики Ивана Грозного, опирав-
шегося на дворянство и посад. Б. А. Романов же по-иному
оценивал и Судебник, и политику Ивана IV. В этой связи он
стал обдумывать возможность предварительного выступле-
ния в научной печати, чтобы обозначить характер разногла-
сий и инициировать полемику, которая, как ему казалось,
поможет выработке окончательного варианта комментария.
23 августа 1948 г. он написал И. И. Смирнову письмо, со-
общая о своем еще не до конца оформленном намерении:
«Может быть, примощусь написать в „Исторические запис-
ки" нечто вроде отклика на Ваш Судебник».
Через неделю, 1 сентября 1948 г., Б. А. Романов отправ-
ляет И. И. Смирнову следующее письмо, в котором изложил
наметившийся уже план статьи: «...пришли сроки, писать или
не писать мне о Судебнике в „Исторические записки** <...>
Тем временем мобилизуюсь и напрямик обдумываю кон-
струкцию. Что скажете о заглавии: „Судебник Ивана Гроз-
ного (По поводу исследования И. И. Смирнова)**? <...> Ос-
нова — мои комментарии, только несколько сокращенные и
приспособленные к Вашей работе как развернутая рецензия
на нее. Ведь на нее не было еще откликов в печати, а она
очень и очень того заслуживает. Вы уже знаете отчасти мое
отношение к ней. Не надейтесь, что будет только „акафист",
как Вы однажды выразились. Вы будете фигурировать в
298
окружении и в соотношении с Садиковым, Веселовским, Вла-
димирским-Будановым, Пресняковым и П. П. Смирновым и
в сопутствии предлагаемых мной разъяснений, дополнений и
поправок <...> Логическим подлежащим здесь будут отдель-
ные элементы политической программы правительства Ива-
на IV, вскрываемые Вами для [15]47—50 гг. Логическим ска-
зуемым — выверка толкований соответствующих текстов,
иногда заострение, иногда ограничение этих толкований.
Мне хочется подвести самому себе некоторый итог моей ра-
боты в самом существенном, произвести самопроверку своей
мелочной работы над всеми деталями».4
Еще через несколько дней Б. А. Романов сообщал
И. И. Смирнову, что уже подготовил статью, которую
«писал, не отрываясь, пять дней» и которая вышла «гранди-
озно — около 4 лл.». Далее он более подробно излагает ее
содержание, не касаясь, впрочем, существа их расхождений:
«Я построил ее (статью. — В. П.) параллельно Вашей <...>
Это дало мне повод и возможность переобдумать целый ряд
пунктов в тексте моего комментария и додумать до конца
недоговоренности и даже неслаженности. Это коснулось
группы социальных статей <...> Вышло, что я их „чувствую"
иначе, чем Вы. Но связывать итоги в один узел я все же
воздержался. Читатель (и Вы сами) увидит, что здесь у меня
не разрозненный текстологический педантизм, а за ним стоит
цельное восприятие <...> Впрочем, это новое для меня вос-
приятие оказалось возможным по Вами наторенной тропин-
ке, по которой сами Вы идете, четко отбивая шаг и никогда
не заметая следы». Понимая, что эта статья нескоро выйдет
в свет, Б. А. Романов стремился инициировать и устную по-
лемику. В том же письме он сообщил об этом: «Когда мы
планировали <...> заседания в ЛОИИ, я сделал заявку на два
заседания, хочу прочесть о „вопчих грамотах" и о „вотчинах
суд". Вопрос был только, когда появитесь Вы».5
Два из этих трех заседаний состоялись уже в сентябре
1948 г. В своих докладах Б. А. Романов, по его словам,
«воздавая должное, внимательно обсуждал свои разногласия
с Ив. Ив-чем» (Смирновым. —В. П.) (Е. Н. Кушевой. 30 ок-
тября 1948 г.). Полемика была острой, но корректной.
Затем, в 1949 г., вышел в свет т. 29 «Исторических записок»,
в котором была опубликована написанная в 1948 г. большая
статья Б. А. Романова о Судебнике.6 Так он впервые всту-
пил в печатную полемику с И. И. Смирновым.
Ход же работы над всем изданием не вполне удовлетво-
рял Б. А. Романова. На первом этапе его редактирование и
подготовка комментария к Судебнику 1589 г. были поручены
299
А. И. Андрееву. Но дело не двигалось. Так, 30 октября
1948 г. Б. А. Романов в письме к Е. Н. Кушевой сетовал:
Л. В. Черепнин «все не шлет <...> своего комментария. Анд-
реев тоже. А ведь так можно и опоздать». Вскоре выясни-
лось, что А. И. Андреев в связи с тем, что он подвергся про-
работочной критике за сборник статей под его редакцией
«Петр Великий», отстранен от работы по редактированию
Судебников. Во втором квартале 1949 г. его сменил на этом
посту И. И. Смирнов. Несмотря на свои ученые расхожде-
ния с ним, Б. А. Романов одобрительно отнесся к этому на-
значению, о чем он и сообщил И. И. Смирнову: «Я виделся
с В. И. (Шунковым. — В. П.)1 и был обрадован полным со-
впадением взглядов на дело с Судебниками: издание будет
перенесено в Ленинград (из Москвы. — В. П.) под Вашу ре-
дакцию. Разве что какой-нибудь номинал оставит за собой
Б. Д. (Греков. — В. П.) (чего не думаю)».8
В конце декабря 1949 г. Й. И. Смирнов передал
Б. А. Романову свои «Замечания о комментарии Б. А. Рома-
нова к Судебнику 1550 г.» на 25 машинописных страницах,
содержащие критический постатейный разбор его коммента-
риев. И. И. Смирнов полностью отверг критику в свой
адрес, а следовательно, и общую концепцию Б. А. Романова,
касающуюся Судебника.9 Вскоре Б. А. Романов отправил
И. И. Смирнову письмо, в котором отметил: «В своем пере-
смотре всех своих комментариев я испытываю ясную потреб-
ность — до такой степени это было давно10 и, судя по Вашим
замечаниям, необходимо—прощупать каждое тут слово
(есть у меня, вероятно, и не отформулированные по-настоя-
щему места)».11
Реализовал это намерение Б. А. Романов уже через пол-
года. Еще до отчета о проделанной работе он вновь высту-
пил на заседании группы истории СССР ЛОИИ — с докла-
дом «К вопросу о земельной политике Избранной Рады», ко-
торый представлял собой комментарий к ст. 85 Судебника
1550 г. Прения были весьма острыми и растянулись на два
заседания (25 мая и 1 июня 1950 г.). Выступавшие по докла-
ду Г. Е. Кочин, А. И. Андреев, В. Г. Гейман, В. А. Петров
и М. П. Вяткин поддержали докладчика и не солидаризиро-
вались с И. И. Смирновым, критиковавшим концепцию
Б. А. Романова. Этот доклад был затем опубликован в виде
статьи.12 Комментарии к отдельным статьям Судебника
1550 г. стали предметом еще двух статей Б. А. Романова.13
Дорабатывал свой комментарий Б. А. Романов в февра-
ле—марте 1950 г. Он ввел в него новый материал, углубил
свою аргументацию, учел конкретные замечания И. И. Смир-
зоо
нова, но по концептуальным вопросам утвердился еще в боль-
шей степени в своих воззрениях.
Отчитываясь о проделанной работе на заседании группы
истории СССР ЛОИИ 7 июня 1950 г., Б. А. Романов, в част-
ности, говорил: «Замечания И. И. Смирнова коснулись 35-ти
из 100 статей Судебника и заголовка <...> Остальные 65 ста-
тей не встретили возражений со стороны И. И. Смирнова. В
21 случае <...> я согласился с меткостью замечаний И. И-ча
и, приняв их во внимание, думаю, улучшил свой текст (за
что благодарен И. И-чу). В 4-х случаях И. И. Смирнов
ограничился репликой, что он тут „сохраняет свои позиции**,
не сформулировав возражений. В этих случаях я тоже сохра-
нил свои позиции, но в двух из них я не ограничился этим,
а постарался еще раз обревизовать позиции и дополнитель-
ными исследованиями переукрепитъ их. В 10-ти случаях <...>
возражения И. И. Смирнова не переубедили меня и в ряде
случаев помогли мне переработать свои тексты в смысле
уточнения и укрепления своей аргументации при толковании
текста статьи».
На этом же заседании Б. А. Романов вернулся к вопросу
о типе комментария. Спор шел о том, насколько исследова-
тельским должен он быть. Б. А. Романов считал неправиль-
ным составление хрестоматии из высказываний советских ис-
ториков «даже <...> с формальными реверансами в адрес
одних и с критическими бросками в адрес других» — «это бы
значило сводить роль автора комментария к такому полити-
чески животрепещущему документу, как Судебник, — к роли
подносчика торфа к печи или фасовщика развесного товара
порционами, легкими для переноски». Отвергая такой путь,
Б. А. Романов говорил, что «отсюда <...> создавалась неиз-
бежная ситуация, толкавшая» его «к исследованию». «Я ско-
рее готов принять упрек, — заметил он далее, — в том, что
не всюду мне удалось осуществить эту позицию». И далее:
«Мне пришлось на днях слышать мнение, что комментарий
Л. В. Черепнина (к Судебнику 1497 г.—В. П.) потому и
комментарий, что его можно не читать (посмотрел, что такое
«противень», и можно на этом кончать, а что такое «пош-
лина», можешь и не смотреть), а что комментарий мой по-
тому и не комментарий, а „научное исследование**, что его,
если начал читать, изволь читать все относящееся к этой ста-
тье, так все с другим связано. Можно, конечно, раздавать
ладанки на паперти и считать, что ты исполняешь долг перед
человечеством. Но можно и объяснить человеку, чем он
болен и как вылечиться, и считать, что это минимум, что от
тебя требуется (если не можешь предложить и лекарства).
301
Второе я предпочел <...> с работой (не по формальному
разъяснению-переводу Судебника 1550 г.) по внедрению его
через каналы науки в научный оборот <...> и по промывке
текста этого бывшего политического мертвеца наподобие
промывки зеркала, с помощью которого на основе всех пос-
ледних научных достижений можно видеть действительность
в гораздо более широком масштабе и на большей глубине,
чем то выражено в словах и в строках формально переведен-
ного на современный русский язык памятника. Именно так,
а не иначе, я понимаю задачу научного комментария к древ-
нему памятнику. Только такой подход даст представление
читателю о значении данного памятника и в науке. Только
такой подход введет читателя и в жизнь, в данном случае
весьма не сонную, самой науки».14
И. И. Смирнов, однако, нашел комментарий Б. А. Рома-
нова «чересчур исследовательским» и настаивал на его пере-
делке «ради равнения по Черепнину». В письме к Е. Н. Ку-
шевой от 8 июня 1950 г., т. е. написанном на следующий
день после этого заседания, Б. А. Романов сообщал также,
что И. И. Смирнов «решительно отказался от редактирова-
ния» его комментария, так как «это для него (И. И. Смир-
нова. — В. П.) „ психо логически** невозможно подписать то,
где с ним полемизируют», хотя, — далее Б. А. Романов про-
цитировал слова И. И. Смирнова — «„мотивов политическо-
го и методологического порядка у него нет**». Сообщил
Б. А. Романов и о решении «подыскать» ему «редактора из
среды сотрудников ЛОИИ <...> Предложено просить Б. Д.
(Грекова. — В. П.) возглавить все издание, наподобие „Прав-
ды [Русской]**». Изложил Б. А. Романов и ход заседания, в
частности, позиции его участников: «Выступали все поголов-
но и не раз» — «М. С. Иванов (зав. ЛОИИ.—В. П.), Вят-
кин, Валк, Мюллер, Гейман, Кочин, Маньков, Копанев,
Ив. Ив. и я <...> Среди выступавших выдавался С. Натаныч
(Сигизмунд Натанович Валк. — В. П.), который очень помог
сдвигу дела с мертвой точки — выяснением „психологиче-
ской** невозможности редактуры И. И-ча и защитой возмож-
ности выпуска и „разнотипных** комментариев (вернее, не-
возможности комментариев однотипных). За ним и шло
большинство. А Вяткин кроме того высказался за исследо-
вательский тип комментария (т. е. мой). Я старался вдолбить
органическую разницу между самими Судебниками и между
их историографическим положением — откуда неизбежное
различие комментариев Ч[ерепнина] и Романова]. Но все об-
суждение шло под невидимым знаком „личного вопроса**, а
не принципиальных точек зрения. Я должен был отметить,
302
что я не раз просил группу обсудить мой комментарий в
целом в 1948 и 1949 гг. (и не добился ничего), что я три
раза докладывал на группе образцы моего комментария, и
никто ни словом не обмолвился о неподходящем типе его (с
признанием его «интересным»), причем и И. И. в своих „за-
мечаниях** тоже не обмолвился о неподходящем его типе.
Что сейчас это — неожиданно возникший вопрос. Но что
иного типа — для Судебника Грозного — я и не представляю
и считаю, что мой комментарий мало исследовательский.
Ибо этот Судебник, как и эта эпоха, как и советская лите-
ратура по этой эпохе настолько выдвигают его вперед (про-
тив Судебника 1497 г.), что без исследования ряда капиталь-
ных вопросов, выдвигаемых Судебником и его литературой,
в комментарии обойтись просто преступно. Эту историогра-
фическую советскую ситуацию отразить в комментарии обя-
зательно (тогда как Черепнину приходится гарцевать на Сы-
ромятникове, да на Дювернуа, а крупных социальных и по-
литических вопросов выстукать из Судебника 1497 г. не
удается). Мне же эти вопросы подбрасывает советская исто-
риография и первый И. И. Смирнов! Как видим, пока все
разрешилось <...> Как оно пойдет дальше, с авторской
точки зрения меня не интересует. Склонен думать, что оно
свихнется на личные полозья, от чего делу бывает только
вред. Но аргументы свои я изложил ясно и письменно, а
драться мне не по силам, не по возрасту и не по времени.
Я нисколько не жалею, что много вложил труда и старания
в эту работу, даже увлечения, как всегда, и многому научил-
ся на старости лет. Мне только неприятно, что вокруг чисто
научного вопроса навернулис» личные мотивы».
Вскоре после этого заседания состоялись важные реше-
ния, касающиеся дальнейшей работы над Судебниками XV—
XVI вв. Б. Д. Греков согласился взять на себя обязанности
ответственного редактора всего издания, а С. Н. Валк был
назначен редактором раздела, касающегося Судебника
1550 г., при сохранении за И. И. Смирновым редакторских
функций по двум другим Судебникам. Вспоминая о июнь-
ском заседании в ЛОИИ и состоявшихся решениях, Б. А. Ро-
манов писал Е. Н. Кушевой 28 июля 1950 г. из Сигулды, где
он отдыхал: «Единственно кому написал отсюда без дела,
это Сигизмунду Натановичу Валку], поблагодарить за его
благородное выступление при решении вопроса о судьбе
моего комментария. Оно было единственным и глубоко тро-
нуло меня в принципе. А от всего остального осталась такая
глубокая травма (не столько личная, сколько политическая),
что нужно большое время, чтобы она заросла. Так все ого-
зоз
лилось и так все прыснули кто куда в кусты, что и не при-
думал бы, хоть и видывал виды. Самое назначение С. Н-ча
редактором после всего мне почти безразлично (если не счи-
тать, что его с этим поздравить не могу), как и дальнейшая
судьба моей работы, лишь бы меня ею больше не тревожили.
Из-за нее, проклятой, я проболел и потерял столько времени,
что мне едва ли будет управиться с моей работой над кни-
гой».15
По возвращении Б. А. Романова из Сигулды в Ленин-
град обнаружилось, что принятые организационные решения
по подготовке Судебников к изданию не сняли напряжения.
Б. А. Романов писал Е. Н. Кушевой в этой связи: «Сопри-
косновение с Институтом раскрыло зажившую рану: говорят,
И. И. (Смирнов. — В. П.) все еще не утратил надежды, что
Б. Д. (Греков. —В. П.) откажется от идеи комментариев при
Судебниках!!! Вероятно, назначение Валка его не удовлетво-
рило, что ли! Мне это огорчительно только потому, что это
означает, насколько интоксицирован И. И. идеей избавиться
от вторжения в сферу Ивана Грозного- посторонних элемен-
тов. Какой все-таки это яд — дух монополии и трепотня о
критике и самокритике, пока дело не коснется тебя самого!».
Между тем С. Н. Валк начал читать комментарий
Б. А. Романова. «Из первого проходного разговора с ним»,
пишет Б. А. Романов Е. Н. Кушевой 30 августа 1950 г., вы-
яснилось, что, по его мнению, «25 страниц о происхождении
Судебника „очень трудны**», «отчего бы не опубликовать это
в виде статьи, очень „интересной** как исследование и т. п.
Я предложил говорить по прочтении всего комментария. Во-
обще же принял решение — вся власть редакторскому каран-
дашу, но никакой власти над моим писательским временем,
которое мне необходимо для выполнения плановой работы.
Больше „шутить** с этой последней (как в прошлом году,
когда валял дурака, затратив полтора лучших месяца на рас-
ширение и исправление комментария по указаниям И. И-ча,
ради того чтобы в июне получить замечание, что весь ком-
ментарий, оказывается, никуда не годится как комментарий)
я уже не дам: из длинного короткое делайте сами! На то и
существует редакторский карандаш: отродясь все редакторы
так поступали, и я сам так действовал, редактируя большую
„Правду**».
21 сентября 1950 г. Б. А. Романов сообщил Е. Н. Куше-
вой, что состоялось очередное совещание, посвященное Су-
дебнику 1550 г., и что его комментарий отдан «Манькову на
теоретическую ревизию, от которой он тщетно отбрыкивает-
ся под справедливым предлогом, что И. И. не находит там
304
теоретических грехов. Но С. Н. (Валк.— В. П.) настоял»:
«Протекало совещание быстро. Я опоздал и застал хвостик.
Говорят, что к лучшему, — ибо и без меня в начале было
стеснительно (так молчаливо-обструкционистски держал себя
И. И. Смирнов, ссылаясь на свою весеннюю записку). Я за-
стал только уговаривание А. Г. Манькова. Припоминаю,
что весной И. И. (Смирнов. — В. П.) предлагал его в каче-
стве редактора. Может быть, теперь это то же блюдо, но
под другим соусом? С. Н. (Валк. — В. П.) заявил, что в те-
чение недели он может редакторски перечитать текст, и
затем „мы с Б. А.“ завершим работу. После совещания
И. И. просил меня поехать с ним вместе в машине и довез
меня до дому, в партикулярной беседе. До того, узнав о
моем возвращении, первым написал мне письмо. На днях,
вернувшись, сам первый мне звонил с приветом. Сопоставляя
это с его позицией на совещании», Б. А. Романов пришел к
неутешительному выводу: «...это признаки твердого решения
„в деле“ быть непреклонным и не допускать выхода моего
комментария в свет через московские каналы».
Уже 4 октября А. Г. Маньков закончил чтение коммен-
тария «и не нашел ничего теоретически порочного». В этом
же письме Е. Н. Кушевой от 21 сентября 1950 г. Б. А. Ро-
манов отметил также, что ему по телефону сказал
И. И. Смирнов «о существовании документа, свидетельству-
ющего о продаже вотчины, к которому должен быть в Ис-
торическом музее соотносительный документ о выкупе той
же вотчины». «После наших полемик, — продолжал
Б. А. Романов, — И. И. заказал <...> копию и, получив ее
на днях, убедился, что выкуп совершался не по рыночной
цене (как утверждал он в полемике), а по продажной (как
настаивал я).16 А на этом острие стоял весь спор. Мне эта
документация ничего не прибавляет, потому что текст ст. 85
и так ясен. Все же это сдвиг в распутывании завязавшегося
узла». Что же касается мнения А. Г. Манькова, то Б. А. Ро-
манов изложил его в письме Е. Н. Кушевой от 10 октября:
«...я имел с ним личную беседу <...> в которой мы прошли
весь текст по его заметкам. Их было мало. Две для меня
ценных <...> Интересно признание, что при первом чтении
стиль показался трудным, а некоторые места непонятными,
причем по мере чтения процесс чтения все легчал, а при по-
вторном чтении непонятных мест они оказались понятными».
Началась работа и с С. Н. Валком (письмо Е. Н. Куше-
вой от 13 декабря 1950 г.): «...отсиживаю с С. Н. за текстом
комментария, накапливая материал для переделок текста».
Конечно, и здесь возникли разногласия: «Мои редакционные
305
свидания с Валком крайне растянулись. Ему было все неког-
да <...> Результатом такого редактирования были споры о
трудности чтения из-за множества „текстов** и их размеров:
они то и дело „летели** как лишние <...> Человек все время
исходил из своего столичного положения и из наличия соб-
ственной прекрасной библиотеки — я противопоставлял
этому провинциального потребителя, для которого все долж-
но быть тут же под руками и которого глухие ссылки на
АЮ17 и АЭ18 только бесят. Так что в этом отношении я ос-
тался недоволен. Затем шло гонение на иностранные слова:
аспект, перерегистрация, объективность, куртаж, казус и
т. п. Здесь тоже получилась пестрота — в зависимости от на-
строения данной минуты. Но в основном текст сохранен. А
кое-что, благодаря спорам и задержкам, удалось найти и
вставить новое» (Е. Н. Кушевой 12 января 1951 г.).
Интересы Б. А. Романова отнюдь не ограничивались
судьбой собственного комментария к Судебнику 1550 г. На-
против, он внимательно следит за работой своих коллег по
изданию — Л. В. Черепнина, А. И. Андреева, А. И. Копане-
ва, Р. Б. Мюллер, высказывая свои суждения по отдельным
ее аспектам. Сложность с подготовкой текста и комментиро-
ванием Судебника 1497 г. состояла в том, что Л. В. Череп-
нин, которому поручена была эта работа, жил в Москве,
тогда как все другие участники издания — в Ленинграде. На-
пряженная ситуация возникла с комментариями к Судебнику
1589 г. Первоначально они были подготовлены А. И. Анд-
реевым, но оказались слишком лаконичными и не удовлетво-
рили И. И. Смирнова, который дал поручение А. И. Копа-
неву подготовить свой вариант комментариев, не определив
окончательно судьбу проделанной А. И. Андреевым работы.
Б. А. Романов, сообщая Е. Н. Кушевой в письме от
30 августа 1950 г. о том, что А. И. Андреев живет на даче
по соседству с И. И. Смирновым, отметил: «...при встрече
пока у них ни слова не было о Судебнике [15]89 г. Копанев
пыхтит над комментарием к последнему, не зная, какие же
статьи ему подлежат, а какие останутся за А. И. (Андрее-
вым.— В. П.). Впечатление какой-то игры с порохом, в тай-
ной надежде, что дождем смочит». Вскоре (21 сентября)
Б. А. Романов писал о том же: «Неловко как-то выходит с
Андреевым. И. И. (Смирнов. — В. П.) летом предложил ему
редактировать Копанева, и А. И. (Андреев. — В. П.) принял
это как посажение на привычного коня. Копанев понесся на
всех парусах и очень удачно. Но М. С. (заведующий ЛОИИ
М. С. Иванов. — В. П.) не назначил А. И. (Андреева. —
В. П.) редактором, а комментарий оставил в руках Копане-
306
на!»- Ю октября Б. А. Романов констатирует: «Копанев на
скоростях творит комментарий <...> а завтра читает ввод-
ную статью о соотношении редакции (опрокидывает Андрее-
ва!). Его комментарий, конечно, будет готов в срок». А
13 октября 1950 г. Б. А. Романов описывает Е. Н. Кушевой
это заседание: «...был прекрасный доклад Копанева о при-
оритете краткой редакции Судебника [15]89 г. Андреев отка-
зался от своей обратной теории. Было очень оживленное об-
суждение, проведенное преимущественно стариками (Андре-
ев, Валк, я, не считая Смирнова по обязанности). На днях
Копанев выезжает к вам на 10 дней».
Впрочем, 30 октября 1950 г. Б. А. Романов отмечает, что
работа А. И. Копанева «только в начале», и далее: «Сами
по себе мысли о происхождении краткой редакции веропо-
добны и отдают реализмом мышления А. И. — без чего не
может быть историка. Остается самое трудное и кропотли-
вое: на основании разысканий для реального комментария
(ко всем статьям пространной редакции) воссоздать работу
кого-то над „пространной редакцией**. И тогда, если колеи
сойдутся в этой подземной трубе, —выйти на свежий воздух
и отпраздновать победу. В одном я уверен, что комментарии
его будут интересны, и Судебник этот у него заживет. От-
кровенно скажу — в таком случае второстепенно, в какой
именно ипостаси («краткой» или «пространной»). А лучше
бы, если бы в обеих, каждой в отдельности. Что, впрочем,
отдает жадностью».
Что касается Судебника 1497 г., то обнаружились проти-
воречия между Л. В. Черепниным и И. И. Смирновым по
вопросу о передаче его текста, а также о целесообразности
публикации перевода. «Черепнин, — пишет Б. А. Романов
Е. Н. Кушевой 21 сентября 1950 г. — <...> отказался от
каких-либо уступок И. И-чу!». Вскоре (10 октября) Б. А. Ро-
манов сообщает: «...остается загадка с Черепниным: он на-
писал И. И-чу, что ни с чем не согласен и хочет издавать
все, как у него есть, т. е. и новую нумерацию статей, и пере-
вод, и фотографию (а не фотовоспроизведение) и т. п., т. е.
„учинился сильным** по всему фронту». Б. А. Романов по
поводу упорства спорящих недоумевал: «Поскольку рукопись
Судебника I уникальна, то я не понимаю, почему не сделать
уступки Черепнину и почему не пустить фототипию (но уж
конечно не набор, для которого, может быть, и шрифта не
найдется, а модерном набирать с титлами и прочей мурой
просто безвкусно). Но не вижу резонов и другой стороне
упорствовать, чтобы дать перевод к Ивану III: эта привиле-
гия не имеет никакого оправдания в языке (он всюду одина-
307
ков)». Напряженность возросла в еще большей степени после
того, как Л. В. Черепнин, дав согласие упростить принципы
передачи текста Судебника 1497 г. с тем, чтобы они совпали
с принципами, которыми руководствовалась Р. Б. Мюллер
при подготовке текстов Судебников 1550 и 1586 гг., на деле,
как выразился Б. А. Романов, «перехватил и упростил текст
до современного вида». Совещание, собравшееся по этому
поводу в Ленинграде (в отсутствие Л. В. Черепнина), «нача-
лось, — по словам Б. А. Романова, — с того, что-де надо Че-
репнина вновь подтянуть назад до Мюллер. Но затем, —
пишет Б. А. Романов, — (мной и Копаневым) поднят был
вопрос, не оставить ли совершившееся в неприкосновенно-
сти, поскольку у Черепнина будет фототипия. Против пос-
леднего выступил С. Н. (Валк. — В. П.), что-де типограф-
ский текст должен совпадать с фототипией! Заикнувшись,
что тогда можно и отменить фототипию, как просто нату-
ралистический снобизм, я затем бросил участие в разговоре,
тем более, что в него вступил Андреев с неясной тенденцией,
под смешки, поддержать Черепнина. А затем его поддержал
и И. И. (Смирнов. — В. П.) (как выяснилось потом, он-то и
попутал Черепнина на нарушение протокола). Затем вынул
„святцы“ (т. е. переплетенные оттиски всяческих «правил»)
С. Н. (Валк. — В. П.) и, во отвержение орфографии Мюллер,
цитировал Шахматова и др<угих> в пользу того, чтобы рас-
крыть титла и спускать выносные „по-современному“,—и
Мюллер была опрокинута <...> Все это обсуждение по тону,
на мой взгляд, носило безответственный характер. Мюллер
мне потом с изумлением говорила, что она приняла свой
способ передачи по указанию Андреева, полтора года кор-
пела над вылавливанием вариантов, и вдруг такой поворот!
<...> Зрительно меня это не устраивает» (Е. Н. Кушевой. 15
марта 1951 г.). Вскоре (18 марта) Б. А. Романов сообщает,
что «по инициативе С. Н. Валка предпринимается исправле-
ние в обработке текстов Судебников II и III, с упрощением
правописания до принятого сейчас в СССР».
Верный своим взглядам, согласно которым «преимущест-
венная задача советской археографии состоит в том, чтобы
не жалеть усилий на создание максимально развитого и
удобного обслуживающего памятник аппарата в виде всяче-
ских указателей», которые Б. А. Романов считал «в сущно-
сти душою издания», Б. А. Романов был озабочен тем,
чтобы и эта фундаментальная публикация была снабжена
развернутыми указателями. Он сам разработал программу
этой части книги, которую называл условно четвертым вы-
пуском: «...хочу <...> организовать группку по созданию 4-го
308
выпуска, с аппаратом, человека в три или в четыре рьяных
людей, способных отнестись к этому делу без цинизма. Со-
став аппаратного выпуска — таблица соотношения статей и
указатели: 1. Библиографический (с усл. сокр.); 2. Именной;
3. Географический; 4. Терминологический (судебниковый);
5. Предметно-терминологический (научные понятия, терми-
ны, термины других источников и названия других источни-
ков)» (Е. Н. Кушевой. 7 марта 1951 г.). Это предложение
Б. А. Романова было принято, и образовалась «особая
группка (с непременным участием Копанева)» (Е. Н. Куше-
вой. 18 марта 1951 г.). 20 сентября 1951 г. Б. А. Романов
писал, что «Копанев с Савельевой трудятся над словником
указателей вовсю».
Б. А. Романов внимательно следил за всеми процедурны-
ми моментами прохождения Судебников через официальные
обсуждения, в частности в Археографическом совете Инсти-
тута истории в Москве. Он считал принципиально неприем-
лемым поручение А. А. Зимину подготовить внутренний
официальный отзыв на Судебники для издательства, по-
скольку А. А. Зимин готовил свой комментарий к Судебни-
ку 1550 г. по заказу Института государства и права АН
СССР для «Памятников русского права». В этой связи
Б. А. Романов писал Б. Д. Грекову: «Ксения Николаевна
(Сербина. — В. П.) привезла (из Москвы. — В. П.) всякие
новости. Не разделите ли Вы следующие положения относи-
тельно одной из них.
1. Один и тот же предмет может быть предметом различ-
ных наук. В частности:
2. Судебник может быть предметом изучения языковеда
(и это одно), историка права (и это другое) и историка об-
щественно-политической жизни (и это третье).
3. Следовательно, и исследования о нем и комментарии
к нему неизбежно должны быть различны в каждом из своих
случаев.
4. Если историк будет мерить языковедческий или юри-
дический комментарий своей меркой и vice versa,19 то не
будет ли он мерить яблоки метрами?
5. Если два лица (учреждения) издают один и тот же па-
мятник, один, опаздывая против другого, что значит давать
на решающий отзыв идущее впереди издание лицам, прикос-
новенным к опаздывающему? <...>
6. В частности, принимая во внимание силу традиции, не
грозит ли историкам-марксистам здесь опасность со стороны
эпигонии „юридической0 школы? Комментарии Черепнина
показывают, что в сфере Судебника Ивана III самое позднее,
309
что дала советская юридическая наука, это Сыромятников
1915-го года!».
В результате этого решительного демарша рецензирова-
ние издания Судебников было поручено другим лицам, и
книга благополучно вышла в свет в 1952 г.20
По мере своей работы над комментарием к Судебнику
1550 г. Б. А. Романов все более убеждался в необходимости
исследования ряда капитальных вопросов, без чего, по его
убеждению, обойтись было просто невозможно. В коммента-
рии были также учтены результаты внутренней полемики
между Б. А. Романовым и И. И. Смирновым, частью печат-
ной, частью устной, сопровождавшей весь период работы.
Они касались главным образом вопросов оценки общей со-
циально-политической направленности законодательной ра-
боты 1549—1551 гг. В отличие от И. И. Смирнова, Б. А. Ро-
манов пришел к выводу, что Судебник 1550 г. не являлся
документом, в котором отразилась антибоярская политика
Ивана IV, и что, настаивая на этом, И. И. Смирнов «не-
сколько упреждает ход событий», видит уже в 50-х годах
«следы микро опричнины».
Б. А. Романов считал, что в сфере социальной «внутри-
классовые интересы» еще не были «разрешены», почему и
тексты статей Судебника «носят следы этой неразрешимости
и закулисной борьбы, следы, требующие пристального вни-
мания к расстановке борющихся сил».21 Не отрицая «расхож-
дения интересов крупных вотчинников и мелких помещиков
уже в данный момент», Б. А. Романов констатирует в то же
время, что невозможно «отрицать в составе правительства
царя Ивана в 1550 г. <...> представительства интересов „дво-
рян-помещиков “».22 Именно поэтому, по его мнению, соци-
альные статьи Судебника носят компромиссный характер,
что накладывает отпечаток и на весь кодекс. Общая точка
зрения Б. А. Романова на Судебник 1550 г. примыкает в не-
которой мере к оценке С. В. Бахрушиным политики Избран-
ной рады, хотя последний высказал свою идею в общей
форме, недостаточно ее аргументировав, а Б. А. Романов
обосновал ее на материалах Судебника и последующего за-
конодательства 50-х годов подробно и последовательно.
Эта оценка Судебника и расхождение с концепцией
И. И. Смирнова проявились, пожалуй, наиболее отчетливо
при комментировании ст. 85, которая отразила общие тен-
денции в политике правительства Ивана IV в сфере феодаль-
ного землевладения. Если И. И. Смирнов считал, что она
ограничивала право родового выкупа и тем самым должна
была способствовать переходу боярских земель в «чужие
зю
руки», т. е. в руки дворян-помещиков, то Б. А. Романов
определил эти «чужие руки» в качестве рук монастыря. «Мо-
настырский ростовщический капитал» представал здесь «в
совершенно разнузданном виде, как грызун, принявшийся то-
чить оборонный земельный фонд государства», а право ро-
дового выкупа вотчин в ст. 85 выступило как «всеобщее для
вотчинников всех мирских общественных групп и масштабов
орудие обороны против „стороннего человека" в лице мо-
настыря».23 В «основных установках земельной политики
правительства царя, таким образом, пока не было ничего
направленного „против княжат и бояр" (в противополож-
ность мнению И. И. Смирнова. — В. П.), т. е. к подрыву их
вотчинного землевладения».24
В том же духе Б. А. Романов интерпретировал, напри-
мер, и ст. 43 Судебника, касающуюся иммунитета, острие ко-
торой было направлено не против привилегированного зем-
левладения вообще, а только против землевладения церков-
ного,25 и новеллу о полном холопе в ст. 88, отрицая
толкование ее И. И. Смирновым в плане защиты интересов
помещиков от боярских вотчинниковых «обид»,26 и ст. 81 и
82, которые, по мнению И. И. Смирнова, были направлены
к защите детей боярских от угрозы закабаления, а по оценке
Б. А. Романова — имели в виду трудовой резерв именно из
состава детей боярских (неслуживых), каковой данные статьи
гонят именно в кабальную зависимость.27 Число подобных
примеров можно было бы увеличить.
Работа над Судебником 1550 г., несмотря на перво-
начальную нерасположенность Б. А. Романова к его ком-
ментированию, очень увлекла его и даже вновь подтолкнула
к размышлениям о воплощении давней мечты — написании
работы о времени Ивана Грозного в форме книги о людях
и нравах XIV—XVI вв. (наподобие «Людей и нравов древней
Руси»),28 мечты, которой так и не суждено было осущест-
виться.
В появившейся вскоре рецензии А. А. Зимина на издание
Судебников XV—XVI вв. оно было оценено весьма благоже-
лательно. Правда, ряд замечаний рецензент высказал в адрес
Р. Б. Мюллер, готовившей к опубликованию текст Судебни-
ка 1550 г. Не согласился А. А. Зимин и с обоснованным
А. И. Копаневым взаимоотношением между краткой и про-
странной редакциями Судебника 1589 г. Автор рецензии
склонялся к тому, что пространная, а не краткая редакция
была первичной, и тем самым солидаризировался с
А. И. Андреевым. А. А. Зимин особо отметил комментарии
к Судебникам. В частности, комментарий Л. В. Черепнина,
311
по мнению рецензента, «приобретает особую убедительность
<...> потому, что автор стремился вскрыть социально-эконо-
мическое, классовое содержание юридических норм». «Об-
ширный комментарий» Б. А. Романова, «много лет изучав-
шего» Судебник 1550 г., ценен тем, что автор «убедительно
доказал» «компромиссный характер постановлений» этого
памятника. «Судебники XV—XVI вв.», писал в завершение
своей рецензии А. А. Зимин, «бесспорно, полезная книга, ко-
торая подводит итоги изучению важнейших законодательных
памятников Русского государства XV—XVI вв. и открывает
новые возможности для их дальнейшего изучения». Оно
«принесет большую пользу историкам и особенно историкам
права». Рецензент выразил также пожелание, «чтобы начатая
серия „Законодательных памятников Русского централизо-
ванного государства XVI—XVII вв.“ была продолжена...».29
Однако пройдет еще 35 лет, и только тогда это пожела-
ние получит свое осуществление в полном объеме усилиями
младших коллег и учеников Б. А. Романова.30 В этих изда-
ниях авторы комментариев стремились реализовать принци-
пы комментирования правовых памятников, выработанные и
осуществленные им.
ПРИМЕЧАНИЯ
1 Смирнов И. И. Судебник 1550 г.//ИЗ. 1945. Т. 24. С. 267—352.
2 Архив СПб. ФИРИ, ф. 298, on. 1, д. 105.
3 ПФА РАН, ф. 934, оп. 5, д. 296.
4 Б. А. Романов — И. И. Смирнову. 1 сентября 1948 г.: Архив СПб.
ФИРИ, ф. 294, оп. 2, д. 82, л. 31.
5 Б. А. Романов — И. И. Смирнову: Там же, л. 27—28.
6 Романов Б. А. Судебник Ивана Грозного (По поводу исследования
И. И. Смирнова)//ИЗ. 1949. Т. 29. С. 200—235.
7 В. И. Шунков в то время занимал пост заместителя директора Ин-
ститута истории АН СССР.
8 Б. А. Романов — И. И. Смирнову. 2 февраля 1949 г.: Архив СПб.
ФИРИ, ф. 294, оп. 2, д. 82, л. 22.
9 Там же, ф. 298, on. 1, д. 285.
10 Имеется в виду время написания первого варианта комментариев.
11 Б. А. Романов — И. И. Смирнову. 19 января 1950 г.: Архив СПб.
ФИРИ, ф. 294, оп. 2, д. 82, л. 38.
12 Романов Б. А. К вопросу о земельной политике Избранной рады
(ст. 85 Судебника 1550 г.)//ИЗ. 1951. Т. 38. С. 252—269.
13 Романов БА. 1) О полном холопе и сельском попе в Судебнике
Ивана Грозного//Академику Б. Д. Грекову к дню семидесятилетия: Сб. ста-
тей. М., 1952. С. 140—145; 2) К вопросу о 15-рублевом максимуме в служи-
лых кабалах XVI в.//ИЗ. 1955. Т. 52. С. 325—335.
312
14 Романов Б. А. О характере комментария к Судебнику Ивана Грозно-
го [гл. 3 текста доклада «О комментариях к Судебникам Ивана III и Ивана
IV» на заседании группы истории СССР ЛОИИ 7 июня 1950 г.] / Подгот.
текста, вступ. статья и коммент. В. М. Панеяха//АЕ за 1990 год. М., 1992.
С. 280—284.
15 Речь идет о работе над вторым изданием «Очерков дипломатической
истории русско-японской войны».
*6 Речь идет о купчей 1527/28 г. священника Симонова монастыря Иг-
натия и других у Степана Александрова сына Нелединского и у его детей
на село Перемут с деревнями и пустошами. См. об этом: Романов Б. А.
Комментарий [к Судебнику 1550 г.]//Судебники XV—XVI веков / Подгот.
текстов Р. Б. Мюллер и Л. В. Черепнина; Коммент. А. И. Копанева,
Б. А. Романова и Л. В. Черепнина; Под общей редакцией Б. Д. Грекова.
М.; Л., 1952. С. 304. Купчая опубликована: Акты феодального землевладе-
ния и хозяйства: Акты Московского Симонова монастыря / Составитель
Л. И. Ивина. Л., 1983. № 30. С. 34—35.
17 Имеются в виду: Акты юридические, или Собрание форм старинного
делопроизводства. Изд. Археографической комиссии. СПб., 1838.
Имеются в виду: Акты, собранные в библиотеках и архивах Россий-
ской империи Археографическою экспедицею Императорской Академии
наук. СПб., 1836. Т. 1—4.
19 vice versa (лат.) — наоборот.
20 Судебники XV—XVI веков. М.; Л., 1952.
21 Романов Б. А. Судебник Ивана Грозного... С. 235.
22 Романов Б. А. К вопросу о земельной политике Избранной рады...
С. 269.
23 Судебники XV—XVI веков. С. 313.
24 Там же. С. 315.
25 Там же. С. 218—232.
26 Там же. С. 319—325; Романов Б. А. О полном холопе и сельском
попе в Судебнике Ивана Грозного. С. 140—145.
27 Судебники XV—XVI веков. С. 291—296.
28 Валк С. Н. Борис Александрович Романов//ИЗ. 1958. Т. 62. С. 280.
29 Зимин А. А. [Рец.] Судебники XV—XVI вв. М.; Л., 1952 //ВИ. 1953.
№ 5. С. 113—117.
30 Законодательные акты Русского государсгва второй половины XVI—
первой половины XVII века: Тексты / Подгот. текстов Р. Б. Мюллер; Под
ред. Н. Е. Носова. Л., 1986; Законодательные акты Русского государства
второй половины XVI—первой половины XVII века: Комментарии / Авторы
комментариев Ю. Г. Алексеев, А. И. Копанев, Р. Б. Мюллер, Н. Е. Носов,
В. М. Панеях, К. Н. Сербина; Под ред. Н. Е. Носова и В. М. Панеяха. Л.,
1987; Соборное Уложение 1649 года: Текст. Комментарий / Подгот. текстов
Л. И. Ивиной; Коммент. Г. В. Абрамовича, А. Г. Манькова, Б. Н. Миро-
нова, В. М. Панеяха; Руководитель авторского коллектива А. Г. Маньков.
Л., 1987.
— 14 —
«УЧРЕЖДЕНИЕ И КОЛЛЕКТИВ
УБИТЫ НАПОВАЛ И НЕПОПРАВИМО»:
УПРАЗДНЕНИЕ ЛЕНИНГРАДСКОГО ОТДЕЛЕНИЯ
ИНСТИТУТА ИСТОРИИ АН СССР
В период идеологических проработок 1949—1952 гг. в
ЛОИИ фактически прошла чистка, мотивированная, главным
образом, «непригодностью» ряда его сотрудников для рабо-
ты в Академии наук по политическим соображениям. За это
время было уволено около половины научных сотрудников
ЛОИИ—14 человек. Среди них оказались такие ученые
старшего поколения, как В. Г. Гейман, С. И. Ковалев,
Р. Б. Мюллер, С. Я. Лурье, О. Л. Вайнштейн, В. А. Пет-
ров, А. И. Болтунова, а также некоторые представители
среднего поколения, например О. А. Ваганов. Чистки эти ве-
лись, как уже было отмечено, под флагом борьбы с буржу-
азным объективизмом, антипатриотизмом, космополитизмом
и с теми, «кто равнодушно относится к борьбе с враждебной
идеологической системой, кому чужды основные задачи, сто-
ящие перед советской наукой».1
В результате было признано, что произошло «укрепление
<...> коллектива Ленинградского отделения», поскольку при-
нятые взамен научные сотрудники были моложе и, главное,
«работают в области истории советского периода».2 Из Уче-
ного совета ЛОИИ были выведены А. И. Молок,
И. П. Петрушевский, С. И. Ковалев, А. Ю. Якубовский,
У. А. Шустер, после чего в нем образовалось «партийное
ядро в 7 человек» (из 16), и он мог «лучше контролировать
и руководить научной работой». Все эти меры квалифициро-
вались как «положительная работа по освежению кадров»5 и
сопровождались травлей представителей петербургско-ленин-
градской школы историков. В отношении к ленинградцам
314
вообще сказывались давнее недоброжелательство и подозри-
тельность властей. В частности, выдвигались обвинения в
противопоставлении Ленинграда Москве. В сфере историче-
ской науки оно усматривалось, например, в самом признании
факта существования петербургско-ленинградской историчес-
кой школы, в стремлении выпятить роль Петербурга—Ле-
нинграда в истории страны. Борьба с этими проявлениями
«сепаратизма» приобретала порой курьезные формы. Так, го-
товящееся в ЛОИИ многотомное исследование по истории
города на Неве от его возникновения до современности было
предписано назвать «Очерками истории Ленинграда» — в от-
личие от «Истории Москвы», издававшейся в то же время.
Следствием нападок на Институт истории на XIX съезде
партии стало образование в начале 1953 г., согласно указа-
нию ЦК партии, комиссии во главе с философом Ц. А. Сте-
паняном для обследования Института истории с последую-
щим обсуждением отчета о его работе на заседании Прези-
диума АН СССР. Одновременно Отдел экономических и
исторических наук и вузов ЦК КПСС проводил собственную
проверку работы Института истории. По ее итогам Секрета-
риатом ЦК КПСС была образована комиссия во главе с
М. А. Сусловым для подготовки и внесения в ЦК предложе-
ний «о мерах улучшения работы Института».4
Институту истории ставилось в вину, что он не возглавил
советских историков «в деле перестройки научной работы»,
что в нем «наблюдается стремление уйти от разработки и
освещения актуальных проблем исторической науки», нако-
нец, что допущены «серьезные ошибки в деле подбора, рас-
становки и подготовки кадров». В результате Институт ока-
зался засоренным «людьми, политически сомнительными»,
исключенными «из партии за политические ошибки», привле-
кавшимися «в прошлом к судебной ответственности за анти-
советскую деятельность», «примыкавшими ранее к меньшеви-
кам, эсерам, бундовцам и др. враждебным партиям и груп-
пам».5
В Институте к тому времени назрел внутренний кризис,
вызванный сначала тяжелой болезнью, а затем уходом с
много лет занимаемого поста директора акад. Б. Д. Грекова.
А. Л. Сидоров, только что назначенный заместителем и
вскоре ставший исполняющим обязанности директора, и
член ЦК КПСС член-корр. АН СССР А. М. Панкратова в
письме от 17 февраля 1953 г. секретарю ЦК М. А. Суслову
и А. М. Румянцеву выдвинули программу, призванную вы-
править положение. Походя коснувшись перестройки плана
работы, предусматривающей подготовку трудов по таким
315
«актуальным проблемам», как «Вопросы исторической науки
в свете гениального труда товарища Сталина „Экономиче-
ские проблемы социализма в СССР**», «Сталинская мирная
политика» и «Борьба с англо-американскими фальсификато-
рами исторической науки», они сосредоточили внимание на
срочных мерах «по дальнейшему укреплению дирекции <...>
и руководства важнейшими секторами».
Основным препятствием для «выполнения намеченных
практических мероприятий» в письме было названо то, что
«до недавнего прошлого дирекция целиком состояла из спе-
циалистов по ранним разделам истории феодализма». Авто-
ры письма целили здесь лично в Б. Д. Грекова. За его спи-
ной они просили направить в Институт в качестве заместите-
лей директора работника Отдела науки ЦК Л. С. Гапоненко
и зав. кафедрой Академии общественных наук при ЦК
КПСС И. С. Галкина, а на должность заведующего секто-
ром истории советского общества — тогдашнего главного
редактора Госполитиздата Д. А. Чугаева. В тот же сектор
намечалось привлечь полковников Г. Н. Голикова и
Г. В. Кузьмина.6 В письме Президента АН СССР А. Н. Не-
смеянова и ее главного ученого секретаря А. В. Топчиева
М. А. Суслову от 21 марта 1953 г. эти просьбы были под-
держаны, поскольку, по мнению руководителей Академии,
«институт недостаточно обеспечен квалифицированными,
марксистски подготовленными кадрами», а «подбор сотруд-
ников и подготовка кадров <...> до самого последнего вре-
мени проходили неправильно: основное внимание уделялось
укомплектованию кадрами секторов, занимающихся изучени-
ем древней истории, феодализма и средних веков».7
Возможно, ввиду отсутствия Б. Д. Грекова, вышедшего
из недр Ленинградского отделения Института истории и
обычно оказывавшего ему поддержку, основной удар было
решено нанести по ЛОИИ. Этот шаг был направлен и про-
тив самого Б. Д. Грекова. Ведь в феврале—марте 1953 г. в
вину именно ему было поставлено то, что за 2 года до этого
он возражал против увольнения из ЛОИИ А. И. Болтуновой
и В. Г. Геймана, которые, впрочем, по настоянию ЦК были
все же уволены Президиумом АН СССР.8
Итак, в феврале 1953 г. партийно-бюрократическая ма-
шина начала свои действия с целью компрометации ЛОИИ
как научного учреждения в целом, и его ведущих сотрудни-
ков в частности. ЦК затребовал справки о состоянии кадров
в ЛОИИ. Одна из них, цитированная выше, подписана за-
местителем директора Института и секретарем партбюро
ЛОИИ, вторая — начальником управления кадров АН СССР
316
С. И. Косиковым,9 третья — секретарем Ленинградского об-
кома КПСС Н. Д. Казьминым.10 Из одной справки в другую
переходила фраза о том, что «состав научных работников
Ленинградского отделения Института истории» является
«особенно неудовлетворительным».11
Доминирующий мотив справок один: в ЛОИИ много со-
трудников, которые «имели проступки против Советской
власти», «не внушающих политического доверия», «непри-
годных в деловом и политическом отношении», «сомнитель-
ных в политическом отношении». Те же обвинения содержат-
ся и в докладных записках Румянцева и Лихолата Маленко-
ву; Румянцева и Ю. Жданова Пегову; секретарей ЦК КПСС
Суслова, Михайлова, зав. отделом ЦК Румянцева, президен-
та АН СССР Несмеянова и ответственного работника ЦК
Лихолата Маленкову; Румянцева Шаталину.
Во всех этих документах фигурировали одни и те же
имена. Речь шла об известных ученых. Доктор исторических
наук К. Н. Сербина оказалась неугодна тем, что в «мае
1938 г. как жена репрессированного В. Н. Кашина была
арестована и приговорена к 3 годам в трудовом исправитель-
ном лагере», хотя «в ноябре 1938 г. освобождена». Разуме-
ется, ничего не сказано в докладных о ее самоотверженности
во время блокады Ленинграда, где она сохранила ценнейший
архив ЛОИИ, за что была награждена орденом Красной
Звезды. Доктор исторических наук Д. П. Каллистов в 1928 г.
«был подвергнут аресту и высылке в административном по-
рядке» «по делу философского студенческого кружка в
ЛГУ», но «в дальнейшем за работу на Беломорстрое досроч-
но освобожден». При этом было отмечено, что он «родст-
венник акад. Б. Д. Грекова» и «родился в Варшаве».1* Кан-
дидат исторических наук Ш. М. Левин, «будучи студентом,
примыкал к взглядам интернационалистов», а согласно дру-
гой записке, «примыкал к меньшевикам-интернационалис-
там».14 У доктора исторических наук Е. Э. Липшиц с 1928 г.
в Париже «проживает ее дядя Карновский М. А.».15 Доктор
исторических наук А. В. Предтеченский то ли издавал «в
1918 г. газету для Колчака», то ли «на территории, занятой
Колчаком, занимался артистической деятельностью», а «в ра-
ботах имел ошибки буржуазно-объективистского характе-
ра».16 Кандидат исторических наук А. И. Копанев «с 1941 по
1945 г. находился в плену у немцев», что соответствовало
действительности, но в другом документе он обвинялся в
том, что работал там переводчиком и, «выполняя поручения
немецкой администрации <...> собирал сведения и доносил
немецко-фашистским захватчикам о советских гражданах, бо-
317
ровшихся против оккупационного режима».17 А это была уже
клевета, поскольку Копанев не проходил даже через совет-
ские фильтрационные лагеря и никогда не обвинялся орга-
нами безопасности в предательстве, о чем на запрос из
ЛОИИ был дан недвусмысленный ответ.
Относительно Б. А. Романова в этих документах сообща-
лось, что он «в 1930 г. был арестован и осужден по т. н.
„академическому делу" на пять лет» за участие в антисовет-
ской организации «Всенародный союз борьбы за освобожде-
ние России» («Всенародный союз борьбы за возрождение
свободной России». — В. П.) и «досрочно освобожден в
1933 г.».18 Указано было и на то, что в вышедшей в 1947 г.
книге «Люди и нравы древней Руси» он «представил извра-
щенное понятие о культуре Киевской Руси», а в феврале
1949 г. в ЛГУ на чествовании его в связи с 60-летием «дал
ложную характеристику отношения общественности к старой
профессуре».19
Что касается организационных выводов из факта «засо-
рения кадров» ЛОИИ, то в этом вопросе обнаружились не-
которые различия. Сидоров и Носов сообщали в ЦК: дирек-
ция Института истории и партийная организация ЛОИИ,
«учитывая эти данные биографий указанных сотрудников, но
отмечая их деловые качества и научные труды, считают воз-
можным в данное время использовать их на работе. В даль-
нейшем мы считаем целесообразным их постепенное замеще-
ние молодыми кадрами».20 Секретарь же обкома Казьмин в
письме Румянцеву ставит его в известность, что «руководству
ЛОИИ <...> предложено в ближайшее время освободить от
работы Копанева А. И.» (что сразу было исполнено) и про-
сит заведующего отделом ЦК «поставить вопрос перед Пре-
зидиумом АН СССР об освобождении от работы в ЛОИИ
<...> Сербиной, Левина, Романова и Каллистов а».21
Формулировкам решения комиссии ЦК партии был при-
дан, как водится, более бесцветный характер. В записке Сус-
лова, Михайлова, Румянцева, Несмеянова и Лихолата Ма-
ленкову предлагалось, чтобы Президиум АН СССР «в опе-
ративном порядке» принял «меры по укреплению дирекции
института и его ведущих секторов»; ему поручалось «попол-
нить состав научных сотрудников квалифицированными ра-
ботниками, в первую очередь по истории советского обще-
ства, освободив от работы в Институте лиц, не отвечающих
требованиям, предъявляемым к работникам Академии
наук».22
В записке Румянцева Шаталину сообщалось, что «Прези-
диуму АН СССР (тт. Несмеянову и Топчиеву) поручено при-
зм
нять оперативные меры по улучшению состава кадров и ру-
ководства Ленинградским отделением Института истории».23
Однако омоложение кадров ЛОИИ, которое было произве-
дено прежде (путем замены ранее изгнанных) и о котором
одобрительно отзывались партийные инстанции, стало при-
чиной того, что «значительная группа сотрудников» Отделе-
ния «в течение длительного времени не дает печатных науч-
ных работ».24
На состоявшемся 20 марта 1953 г. заседании Президиума
АН СССР был рассмотрен вопрос «О научной деятельности
и состоянии кадров Института истории АН СССР». После
доклада Сидорова, содоклада Степаняна и прений было при-
нято постановление.25 В нем отмечалось, что «в целом ра-
бота Института истории не соответствует задачам, постав-
ленным перед советской исторической наукой гениальными
трудами И. В. Сталина и решениями XIX съезда Коммуни-
стической партии Советского Союза»; что в работах Инсти-
тута дается «неправильное освещение <...> прогрессивного
значения присоединения нерусских народов к России, харак-
тера национальных движений»; что в Институте «нет долж-
ной бдительности по отношению к враждебным к марксиз-
му-ленинизму концепциям и „точкам зрения"», а, напротив,
«имеет место терпимое отношение к идеологическим ошиб-
кам».
Основной удар в постановлении наносился по ЛОИИ:
«Особенно неудовлетворительным является состав научных
сотрудников Ленинградского отделения Института истории.
Несмотря на отчисление в последние два года значительного
числа сотрудников, непригодных для работы в Академии
наук СССР (Лурье, Мюллер, ГеГгман, Болтунова и др.), в Ле-
нинградском отделении находится еще немало лиц, не отве-
чающих требованиям Академии наук СССР (А. И. Копа-
нев,26 Б. А. Романов, Р. М. Тонкова, П. В. Соловьев и др.)
<...> Немногочисленные работы, подготовленные Ленинград-
ским отделением, подверглись серьезной критике в печати
(работы Валка, Предтеченского и др.). Большинство сотруд-
ников Отделения имеет узкую квалификацию и не может
быть использовано для разработки актуальных проблем ис-
торической науки. Две трети сотрудников являются специа-
листами по истории феодализма и древнего мира».
Таким образом, ведущие ученые объявлялись не соответ-
ствующими академическим требованиям, а их квалифика-
ция — препятствием для решения актуальных научных задач.
Выполненные в ЛОИИ работы опорочивались, хотя некото-
рые из их авторов были лауреатами Сталинских премий. Не-
319
верным было определение доли специалистов по истории фе-
одализма и древнего мира в составе ЛОИИ (она едва дости-
гала половины).
Недобросовестной оценке положения в ЛОИИ соответст-
вовало решение Президиума АН СССР: «В целях сосредото-
чения кадров и улучшения организации работы Института
истории считать целесообразным упразднить Ленинградское
отделение Института истории, оставив в г. Ленинграде лишь
Архив Института». В статье, опубликованной по поручению
ЦК КПСС, А. М. Панкратова, обосновывая это решение,
утверждала: «В течение многих лет бесконтрольно и бесплод-
но работало Ленинградское отделение Института истории».27
Это утверждение стало расхожей формулой при предъяв-
лении обвинений в адрес ЛОИИ. Так, в информационной
статье о работе Института истории она повторена дословно:
«Долгое время бесконтрольно и бесплодно работало Ленин-
градское отделение Института истории. План его работы не
был увязан с планом института, научная тематика была со-
средоточена на проблемах античной и феодальной эпохи».28
Реализуя постановление Президиума АН СССР, дирекция
Института истории на заседании 16 апреля 1953 г. решила
«с 20 апреля с. г. ликвидировать Ленинградское отделение,
предупредив всех сотрудников о предстоящей ликвидации».
Из «бывшего ЛОИИ» на работе в Институте истории были
оставлены Е. В. Тарле, И. И. Смирнов, В. В. Струве,
М. П. Вяткин, М. В. Левченко, С. Н. Валк, С. С. Волк,
Б. М. Кочаков, Н. В. Киреев, Э. Э. Крузе, Ш. М. Левин,
Н. Е. Носов и И. А. Бакланова (с временным проживанием
в Ленинграде). В отношении их было решено «считать необ-
ходимым в течение 1953 г. принять меры к переводу <...>
их из Ленинграда в Москву».
В штат Архива «из бывшего ЛОИИ» переводились
А. Г. Маньков, В. И. Рутенбург, Б. А. Романов, Г. Е. Ко-
чин, Т. М. Новожилова и 3. Н. Савельева. Из Института
были отчислены Д. П. Каллистов, А. В. Предтеченский,
К. Н. Сербина, М. Е. Сергеенко, В. Е. Бондаревский,
М. С. Иванов, Е. Э. Липшиц, 3. В. Степанов, Р. М. Тонко-
ва, С. П. Луппов, А. В. Паевская, В. И. Садикова,
В. Ф. Варфоломеева и Е. И. Маслова.
Так прекратил свое существование коллектив, немало сде-
лавший для развития исторической науки. Чтобы отвести от
себя гнев партийного начальства, руководство Академии и
Института истории принесло в жертву целое научное учреж-
дение, сохранявшее традиции петербургской исторической
школы. Ход дела не изменили даже события, связанные со
320
смертью Сталина (5 марта 1953 г.). Парадокс трагической
ситуации состоял именно в том, что решение о ликвидации
ЛОИИ принималось до смерти Сталина, а приказ об этом
был подписан вскоре после его смерти. Ведь все ленинград-
ское в глазах высших партийных органов особенно после
«Ленинградского дела» все еще продолжало оставаться заве-
домо подозрительным.
Разгром академического учреждения ленинградских исто-
риков нанес ущерб всей отечественной историографии. Пар-
тийно-бюрократическая машина проехала по судьбам кон-
кретных людей — ученых, лишившихся работы или, в луч-
шем случае, вырванных из сложившегося творческого
коллектива. Упразднение ЛОИИ было результатом многолет-
ней дискриминационной практики, направленной против ле-
нинградской школы историков и академических учреждений,
ее олицетворяющих. Политическая конъюнктура начала 50-х
годов оказалась как нельзя более благоприятной для реали-
зации этой политики.
Лишь наличие ценнейшего архива и библиотеки помеша-
ло довести погром исторической науки в рамках ленинград-
ских академических учреждений до полной ликвидации.
Вскоре на базе архива был создан Отдел древних рукописей
и актов Института истории АН СССР, где нашла приют не-
многочисленная группа не уволенных сотрудников бывшего
ЛОИИ, в том числе Б. А. Романов.
Он с тревогой следил за развитием событий, интуитивно
чувствуя, что его судьба вновь повисла на волоске. Еще 5
мая 1952 г. Б. А. Романов писал Е. Н. Кушевой о работе
московской комиссии, состоявшей из Б. Д. Грекова,
А. А. Новосельского и В. И. Шункова: «А. А. (Новосель-
ский. — В. П.) начал с того, что доклад (Б. М. Кочакова,
зав. ЛОИИ. — В. П.) не дал ничего нового, зато выступле-
ния сотрудников показывают, что положение в ЛОИИ хуже,
чем это представлялось издали. Это значило, что доклад был
несамокритичным, а выступления сотрудников рисуют поло-
жение <...> в тревожном свете <...> На другой день была
составлена резолюция, которая осталась неизвестной <...>
Завтра начинает работу комиссия по кадрам. Есть ли в этой
последовательности какая-нибудь связь, не знаю». Очевидно,
связь все же была, ибо именно вторая половина 1952 г. и
стала временем, когда готовилось закрытие ЛОИИ.
Неопределенность судьбы страны после смерти Сталина
переплеталась в сознании Б. А. Романова с неясностью судь-
бы ЛОИИ и его собственной участи, особенно в условиях
нового приступа болезни. Это его настроение проявилось в
11 В. М. Панеях
321
письме Г. В. Сидоровой от 30 марта 1953 г.: «Март был
очень тяжек. По домоседству, я был весь во власти радио и
своего сознания в 4-х стенах. Молодежи и здоровым, навер-
ное, было не так беспрерывно тяжело — хотя бы за суетой
собственных забот и дел. Меня совсем придавило к земле. И
работа валилась из рук <...> Ваше хорошее письмо застало
меня в утро после неспанной ночи, полной тревожных мыс-
лей. Почвой для них тогда послужил слух (теперь подтвер-
дившийся) о ликвидации ЛОИИ. Слух же этот моментально
еще оброс и еще слухами, и в результате тревога, широко
охватившая людей. Меня пытаются успокоить (добрые
люди!). И внешне я держу себя в узде. Но для меня ясно,
что это — „начало конца1*, которого остается покорно
ждать, сжавшись, в формах, самых для меня бедственных.
Угнетает, что я увлекаю за собой Лелю,29 которая, отработав
всю войну на Ленфронте, демобилизовалась в 46 г. и не во-
зобновляла гражданской медработы, став на страже моего
напряженного труда. А теперь она потеряла стаж (тогда 25-
летний), да и сил уже тех нет, какие требуются для акушер-
ско-гинекологической работы. Судите сами, каким мраком
это выглядит сегодня <...> Очень бы хотелось избавиться от
ужасного гнета, висящего надо мной скоро как четверть века
и составляющего нервный ствол твоей второй жизни. Если
бы только могли себе представить, какой это ужас. Чем
менее безнадежным становится мое медицинское состояние,
тем более выступает безнадежность этого ужаса».
В письме Е. Н. Кушевой от 8 апреля 1953 г. Б. А. Рома-
нов рассматривал проблему перемен в исторической науке в
более общем плане, в частности в связи с уходом Б. Д. Гре-
кова с поста директора Института истории АН СССР: «На-
чался новый период в судьбе Института истории, да и исто-
рической науки. Выражение „засилье грековской школы**,
думаю, надо переводить не дословно, смысл в том, что Б. Д.
(Греков. — В. Il.)t делая свое дело в области древностей,
делая его успешно, поддерживал и кадры, которые несли ра-
боту в этой сфере, а что касается времен новых, то, не
мешая, умывал руки и предоставлял другим (кому?) делать
это дело (и оно, конечно, не клеилось). Это умывание рук
приводило и приводит в бешенство. И немудрено. Политика
„невмешательства** не может почитаться у нас нейтральной.
И вот результат! Но все же это явление не местное, а всесо-
юзное. По-видимому, тут тоже потребуется некий сдвиг. А
пока он не произошел, придется пройти болезненную зону
переходного периода. Что мы родились не раньше и не
позже, этого не переменишь».
322
Чуть позже — с 23 по 25 апреля 1953 г. — Б. А. Романов
принимается за новое письмо Е. Н. Кушевой, сохранившееся
в трех вариантах, из коих отправленным оказалось последнее
(от 25 апреля). Здесь переплелись раздумья о судьбе истори-
ческой науки, ЛОИИ, личной судьбе: «Все исторически от-
жившее отмирает внезапно, и первое время „не верится", что
его не стало. А на поверку выходит, что готовилось оно дав-
ным-давно! Так и с ЛОИИ. Но не бывало еще случая, чтобы
барыня рассчитывала прислугу, не устроив ей предваритель-
но громкого скандала, не оплевав ее». «Как с „принцем и
нищим": бездельничал принц, а высекли нищего». «Я при-
слушивался, не раздастся ли при всем том шепот „самокри-
тики",— и не уловил ничего похожего <...> Но дело сдела-
но. В Ленинграде с научным производством в области исто-
рии дело прикончено. Оно централизовано в Москве. Это
вопрос общегосударственный, в частности бюджетный, не на-
шему брату судить о целесообразности „упразднения" (уж
очень знакомый термин выбран для обозначения того, что
сделано с ЛОИИ: его очень любил покойный Михаил Ев-
графович (Салтыков-Щедрин. — В. /7.))». «Шоферы, которые
все знают, говорят, что оно (ЛОИИ. — В. П.) будет открыто
вновь! Моя способность предвидеть так далеко не идет. Мне
кажется, что тут мы имеем довольно глубокие корни — рас-
тение, которое вышло наружу сейчас на историческом ого-
роде, а завязалось несколько лет назад в виде Академии об-
щественных наук. К тому она и предназначалась, чтобы сме-
нить старую (советскую однако же!) „школу". Как Вы знаете,
это — не первый опыт применения большого плуга. Это до-
рогостоящее удовольствие. Но мы же и живем в эпоху „экс-
каваторов". К тому же—и момент (в конъюнктурном смыс-
ле) уж очень подходящий. Дело тут, однако, не просто в ис-
торическом фронте. Под вопросом, возможно, вообще
организация науки в Союзе <...> В области базиса масштабы
и темпы диктуются новой высшей техникой. В сфере явлений
надстроечных те же масштабы и аналогичные темпы должны
поддерживаться силой живого человеческого организма — и
нет тут никаких протезных мастерских в помощь людям. От-
сюда неизбежные корчи. И не обойдется тут без естествен-
ного отбора — сильнейших (даже физически). В узкой исто-
рической сфере — кончилась „эпоха Грекова" и началась
новая <...> Трудно приходится на таких рубежах старикам,
да еще с подорванным здоровьем <...> Я не знаю текста ре-
шения Президиума (АН СССР. — В. 77.), и потому не знаю,
что вменяется Институту истории и что Ленинградскому от-
делению. Судя по тому, что от меня скрыли текст решения,
323
я подозреваю, что там есть и вообще „клевета от вчерашнего
дня“, которую пришлось официально опровергать по инстан-
циям. Серьезно меня интересует, каковы цели и программа
реорганизации Института. Я еще не читал статьи Панкрато-
вой, но боюсь, что в ней не найду ответа на мой вопрос —
ибо ответ мне нужен конкретный, а не декларативный. Что
касается меня лично, то мне сказано: продолжайте работать,
как работали, над книгой, хотя вы и в Архиве».
Чутье не изменило Б. А. Романову и теперь. В решении,
о котором он писал, действительно речь шла и о нем. Но
стараниями А. Л. Сидорова, который вел переговоры в Ле-
нинградском обкоме партии, Б. А. Романов не был уволен
вместе с рядом других ученых и оказался среди нескольких
сотрудников, оставленных при Архиве бывшего ЛОИИ.
17 июня 1953 г. Б. А. Романов снова возвратился к вол-
нующей его проблеме и писал Е. Н. Кушевой: «Решение о
нашем учреждении носило открыто репрессивный характер и
задумано было в этом плане давно. Оно рассчитано на фи-
зическое изничтожение здешних работников в порядке более
или менее ускоренного доживания. Оргсвязи с Институтом
типа поездок В. (М. П. Вяткина? — В. П.) — только ускорят
этот процесс (поскольку будут плодить рабочие недоразуме-
ния на каждом шагу). А эти недоразумения будут все громче
вопиять о бессмысленности такой „организации" <...> В ре-
зультате, как уже много лет, живем в страхе за завтрашний
день, — и ни о какой пресловутой возможности „спокойно
работать" и речи быть не может. Наоборот, можно только
„спокойно ждать" внезапных ударов по переносице — за
„бесплодие". Пока эта гениальная формулировка не дезавуи-
рована, чего можно ждать?». К тому же, как выяснилось,
«московские сектора тяготятся ленинградскими сотрудника-
ми под предлогом трудности руководить ими издалека! Это
и естественно. Но отсюда следует, что наступает время
упразднить уже не учреждение, а и самих людей». И снова
об этом Б. А. Романов писал 21 октября 1953 г.: «...тяжелая
сторона была в том, что это факт — учреждение и коллектив
убиты наповал и непоправимо». Тем более, что сложилась
ситуация, при которой «надо становиться с протянутой
рукой (т. е. выпрашивая себе)» нагрузки (Е. Н. Кушевой.
20 ноября 1953 г.).
Отношение московского академического начальства к ле-
нинградским историкам — по-прежнему постоянный предмет
размышлений Б. А. Романова и критической оценки. 19 сен-
тября 1953 г. он писал Е. Н. Кушевой: «...в сфере нашей
науки Москва страдает внутренним косоглазием и ходит, так
324
сказать, носками внутрь, кроме себя ничего не видя». Тут же
он отверг предположение о возможности изменении при вы-
борах в Академию наук: «Ваше впечатление о новом харак-
тере выборов — иллюзия <...> Эта местная свистопляска во-
круг дач и премии утратила всякий общий интерес. В своем
соку и на инстинктах».30
Того же круга вопросов коснулся Б. А. Романов в пись-
ме к Н. Л. Рубинштейну от 7 ноября 1953 г.: «Заседания в
бывшем ЛОИИ — пока только суррогат. Да они и нелюдны,
так что прежний коллективности уже нет. Сказать, как при-
няли в Ленинграде выборы, поэтому не могу. По личному
моему мнению, выборы погоды не сделают (в судьбах нашей
науки). В частности, ничего не изменится в наших здесь судь-
бах: мы прокляты и отлучены, ни за что ни про что, окон-
чательно и, по-видимому, к удовольствию избранных. Конеч-
но, было бы хорошо, если бы на наших трупах взросли
новые всходы в Москве. Но для этого надо верить в чудеса,
к чему я с детства не приучен. Менделеевых там я не вижу.
А что произойдет от охотников обвинять нас в бесплодии
по случаю собственного бесплодия — сказать не берусь. Это
уже дело будущих историографов — подвести итог происхо-
дящей смене двух „эпох“. Только автоисториография всегда
была и будет кривым зеркалом, с отлаживанием собственно-
го живота».
Болезненная реакция Б. А. на ликвидацию ЛОИИ опре-
делила его отношение к московскому академическому на-
чальству, причастному к этой акции. Так, когда стали упор-
но говорить, что в Ленинград «едет „сессия" с Тихомировым
во главе лицезреть ленинградских живых покойников»,
Б. А. Романов расценил это как «своеобразный академиче-
ский садизм. Убили, а потом едут нюхать, чем пахнет <...>
Я всегда испытывал отвращение к академическому садизму
и снобизму. И вот: чем больше меняется, тем больше все то
же самое. Приедут чванливые енералы, а ты точно зверь в
клетке. Верблюды — те хоть плюнуть могут из клетки. А
тебе остается только легко доказывать, что ты — не вер-
блюд» (Е. Н. Кушевой. 11 мая 1954 г.).
Тревога о судьбе жалких остатков ЛОИИ не покидала
Б. А. Романова. К тому были и реальные основания. Ходили
слухи, что архив и библиотека бывшего ЛОИИ могут быть
поглощены Библиотекой АН СССР (БАНом), в которой они
располагались, а сотрудники вовсе лишатся работы. «Здесь
только что возник переполох с внезапным переселением быв-
шего ЛОИИ вон из БАН, —писал Б. А. Романов в феврале
1954 г. Е. Н. Кушевой. — Переполох, в котором вскрылась
325
полная наша беззащитность в качестве упраздненного учреж-
дения <...> Переполох длился два-три дня и взял много нер-
вов. Хотели распихать: архив в одно место, а библиотеку в
другое, то есть окончательно распылить остатки коллектива
научных сотрудников». Впрочем, эти слухи и мрачные пред-
чувствия не оправдались.
Лишь через год ошибочность административных санкций,
направленных против ЛОИИ, была признана. 5 января
1954 г. Б. А. Романов писал в связи с этим Н. Л. Рубин-
штейну: «Здесь поговаривают о той или иной форме восста-
новления ленинградского коллектива. Состояние рассеянной
мануфактуры, видимо, показало себя как наименее удобное
практически. Жизнь возьмет свое». О том же он писал 31 де-
кабря 1954 г.: «История описала круг — и вернулась к исход-
ной точке». Но потребовались еще сложные переговоры в
ЦК и обкоме КПСС, а также в Академии наук, прежде чем
появилось решение о восстановлении ЛОИИ. Первое заседа-
ние его нового Ученого совета состоялось в ноябре 1955 г.
Это был теперь маленький коллектив, значительно уступав-
ший по численности тому, который был до упразднения
ЛОИИ. Восстановить его оказалось гораздо труднее, чем
ликвидировать. Правда, с конца 1955 г. в ЛОИИ начали
вливаться новые молодые силы.
ПРИМЕЧАНИЯ
1 Доклад зав. ЛОИИ М. П. Вяткина на общем собрании сотрудников
ЛОИИ 12 марта 1953 г. (стенограмма хранится в делах Ученого совета
ЛОИИ).
2 Справка о состоянии научных кадров ЛОИИ по состоянию на 10
февраля 1953 г. за подписью зам. директора Института истории АН СССР
А. Л. Сидорова и секретаря партбюро ЛОИИ Н. Е. Носова. 12 февраля
1953 г.: Российский государственный архив социально-политической исто-
рии, ф. 17, оп. 133, д. 303, л. 147.
3 Там же, л. 147—148.
4 Докладная записка зав. отделом ЦК КПСС А. М. Румянцева и зав.
отделом ЦК КПСС Ю. А. Жданова секретарю ЦК КПСС Н. М. Пегову.
27 февраля 1953 г.: Там же, л. 142.
5 Докладная записка зав. отделом ЦК КПСС А. М. Румянцева и от-
ветственного работника отдела А. В. Лихолата секретарю ЦК КПСС
Г. М. Маленкову: Там же, л. 24—30.
6 Отечественные архивы. 1992. № 3. С. 65—66.
7 Там же. С. 66—67.
8 Докладная записка А. М. Румянцева и Ю. А. Жданова секретарю
ЦК КПСС Н. М. Пегову. 27 февраля 1953 г.: Российский государственный
архив социально-политической истории, ф. 17, оп. 133, д. 303, л. 140; До-
326
хладная записка А. М. Румянцева секретарю ЦК КПСС Н. Н. Шаталину.
14 марта 1953 г.: Там же, л. 139.
9 Докладная записка начальника Управления кадров АН СССР
С. И. Косикова Отделу экономических и исторических наук и вузов ЦК
КПСС (А. В. Лихолату). 25 февраля 1953 г.: Там же, л. 157—160.
10 Докладная записка секретаря Ленинградского обкома КПСС
Н- Д- Казьмина А. М. Румянцеву. 21 февраля 1953 г.: Там же, л. 155—156.
" Там же, л. 28.
12 Там же, л. 150; ср. л. 28, 155, 158. В одной из докладных
В. Н. Кашин назван меньшевиком (л. 159), в другой — эсером (л. 142).
13 Там же, л. 150, 158.
14 Там же, л. 151, 141.
15 Там же, л. 158.
16 Там же, л. 28, 158.
17 Там же, л. 139, 142, 158.
18 Там же, л. 151, 158.
19 Там же, л. 159.
20 Там же, л. 151.
21 Там же, л. 156.
22 Там же, л. 72.
23 Там же, л. 139.
24 Там же.
25 Архив РАН, ф. 2, оп. 6а, д. 103, л. 66—101.
26 Он к тому времени был уже уволен из ЛОИИ.
27 Панкратова А. Насущные вопросы советской исторической науки//
KouMvwwrT 1953 Nb 6 С 57
J Л. П. В Институте истории АН СССР//ВИ. 1953. № 5. С. 126.
29 Елена Павловна Романова.
30 На этих академических выборах действительными членами АН СССР
стали Н. М. Дружинин, А. М. Панкратова, П. Н. Поспелов, М. Н. Тихо-
миров.
— 15 —
«УНИВЕРСИТЕТ БЕРЕТ МНОГО СИЛ,
НО И ПИТАЕТ МОРАЛЬНО»: Б. А. РОМАНОВ —
ПРОФЕССОР ЛЕНИНГРАДСКОГО УНИВЕРСИТЕТА
Б. А. Романов приступил к работе на историческом фа-
культете Ленинградского университета осенью 1944 г. Еще в
письме в Ташкент В. В. Мавродин, ссылаясь на широкий
диапазон его исследовательских интересов, выразил пожела-
ние, чтобы Б. А. Романов «взял на себя и древности, и два-
дцатый век».
Состав студентов был тогда, как никогда, пестрым. В ау-
дитории пришли молодые люди и со школьной скамьи, и
опаленные войной, бывшие солдаты и офицеры, недавно по-
кинувшие госпитали. Впоследствии, после войны, состав сту-
дентов пополняли возвращавшиеся из армии после демоби-
лизации.
Уже 24 октября 1944 г. Б. А. Романов писал Е. Н. Ку-
шевой в Москву: «Занятия в университете начал. Веду про-
семинарий (по «Русской Правде»), читаю специальный курс
для III—IV—V курсов (о внешней политике 1880-х—
1907 гг.). Спецсеминарий, вероятно, будет по тому же перио-
ду — по настоянию кафедры, бывшей на этих днях. Итого 6
недельных часов — как в старые времена. Пока я не жалею
об этом шаге. Отношения хорошие, но я очень быстро и
легко устаю». Эти занятия Б. А. Романов вел на протяжении
ряда лет: просеминар и спецсеминар — ежегодно, спецкурс —
эпизодически. Со временем, когда у него появились ученики,
занимавшиеся историей средневековой России, Б. А. Рома-
нов кардинально изменил тематику своего спецсеминара, те-
перь он был посвящен основным проблемам русской истории
XV—XVII вв.
328
Просеминар по «Русской Правде» отличался той особен-
ностью, что занятия велись по учебному пособию, где
Б. А. Романову принадлежали комментарии к основным ста-
тьям Краткой и Пространной редакций, вышедшему в свет
накануне войны, а с 1948 г. —и по его историографическим
комментариям, опубликованным в академическом издании
этого памятника в 1947 г.1 Спецкурс по внешней политике
конца XIX—начала XX в. также основывался на собствен-
ной исследовательской работе Б. А. Романова — первой его
книге («Россия в Маньчжурии») и второй книге, вышедшей
в свет через 3 года после начала преподавания автора на ис-
торическом факультете («Очерки дипломатической истории
русско-японской войны»).
Пожалуй, наибольшее значение для студентов имели про-
семинарские занятия по «Русской Правде» на I курсе, потому
что они направлены были прежде всего на решение пропе-
девтических задач. Н. Е. Носов, один из ближайших учени-
ков Б. А. Романова, на заседании, посвященном его памяти
(ноябрь 1957 г.), рассказывая о них, указал на особенности
педагогической методики учителя. Он справедливо отметил,
что основной целью, «которую преследовал <...> Б. А. Ро-
манов, было не столько изучение „Русской Правды" как за-
конодательного памятника, сколько обучение студентов на-
выкам работы над источником, умению читать источник гла-
зами историка, проникнуть через его „призму", как любил
говорить Борис Александрович, в подлинную жизнь изучае-
мой эпохи». Для этого он «стремился как бы изолировать
участников семинара от существующего историографическо-
го окружения и поставить их перед необходимостью самим
(без ссылок на какие-либо установившиеся точки зрения) ра-
зобраться и дать толкование той или иной статье „Русской
Правды"». Однако «постановкой вопросов Б. А. Романов
незаметно управлял ходом мышления участников семинара,
постепенно все усложняя и усложняя стоявшие перед ними
задачи». В результате «смысловые, логические и текстологи-
ческие мелочи, на которые студенты раньше не обращали
внимания, приобретали теперь для них большую научную
значимость, поскольку они на собственном опыте видели,
как из того или другого толкования именно этих „мелочей"
вырастали нередко диаметрально противоположные трактов-
ки крупных исторических явлений». Б. А. Романов учил
«увидеть за, казалось бы, мертвыми юридическими формула-
ми живых людей древней Руси». Когда же к концу года сту-
денты готовили курсовые работы по отдельным статьям
«Русской Правды» или по разным аспектам ее изучения в
329
целом, «они убеждались, что проделанная ими работа по по-
статейному <...> изучению „Русской Правды" была по суще-
ству своеобразным отражением историографического осмы-
сления» памятника «в „большой науке"».*
Будучи одним из участников просеминара Б. А. Романо-
ва в 1948/49 учебном году, хорошо помню, как он впервые
появился у нас в аудитории в октябре 1948 г. Невысокого
роста, хорошо сложенный, в «чеховском» пенсне, от которо-
го опускался черный шнурок, приколотый миниатюрной бу-
лавкой к узкому черному галстуку, с коротко стриженными
седеющими усами, с узкой, едва намеченной, коротко под-
стриженной полоской бороды, идущей от середины нижней
губы, по сторонам которой подбородок гладко был выбрит,
коричневая деревянная трость лежала своим изгибом на со-
гнутой в локте руке. В костюме и во всем облике Б. А. Ро-
манова ощущалась едва уловимая старомодность. Опросив
каждого из нас, какой областью истории мы хотим зани-
маться, записав фамилии и имена отчества и попросив
впредь сидеть на тех же местах, Б. А. Романов заговорил о
задачах просеминара, о том, в каких формах он будет вес-
тись, затем он остановился на характеристике «Правды Рус-
ской». Прозвенел звонок на перерыв, потом второй звонок,
возвестивший окончание занятий. Казалось, Б. А. Романов
их не слышал, но мы все, завороженные его яркой речью,
манерой говорить, метафоричностью его языка, даже и не
подумали о том, что можно его прервать. При этом он, га-
лантно попросив разрешения у студенток, постоянно курил,
в заключение попросив, чтобы к его приходу всегда на столе
была пепельница, а у каждого студента — экземпляр учебно-
го пособия «Правды Русской». Обращался Б. А. Романов к
нам по имени-отчеству, и уже одно это поразило и смущало
нас. Лишь на II курсе, когда я стал учеником Б. А. Романо-
ва, часто общался с ним вне аудитории (первоначально по
телефону и на кафедре, затем — у него дома), он спросил,
может ли он обращаться ко мне просто по имени. Занятия,
которые он вел, помимо их познавательной ценности, были
чрезвычайно интересны и увлекательны. Мы не слышали
звонков на перерыв и об окончании занятий. Вместо поло-
женных полутора часов они продолжались не меньше трех и
воспринимались как одно мгновение. Б. А. Романов никогда
и никого не ограничивал временем и стимулировал всесто-
роннее обсуждение, уважительно относился к высказыванию
самых фантастических мнений. Поэтому анализ, к примеру,
одной только ст. 1 «Краткой Правды» продолжался на про-
тяжении нескольких занятий.
ззо
Когда же запас аргументов у студентов исчерпывался или
Б. А. Романов убеждался в том, что новых идей никто боль-
ше не высказывал, он подводил итоги, иногда кратко, ино-
гда пространно, но всегда захватывающе интересно. Его речь
была чрезвычайно образной и яркой, но в то же время пре-
дельно ясной. Б. А. Романов раскрывал внутренний смысл
той или иной статьи, показывал ход мысли при ее интерпре-
тации, привлекал при необходимости летописные рассказы,
т. е. по существу проводил в присутствии студентов исследо-
вание, комментируя его этапы и тем самым обучая технике
анализа сложного источника.
Выбор Б. А. Романовым для ведения просеминарских за-
нятий именно «Русской Правды» не был для него случайным
не только потому, что он сам плодотворно комментировал
ее важнейшие комплексы статей и привлекал для исследова-
ния проблем, возникших при работе над книгой «Люди и
нравы древней Руси», но и исходя из необходимости решения
собственно педагогических задач. Б. А. Романов был уверен
в том, что учить начинающих студентов следует на источни-
ках немассовых, даже единичных, исследование которых
имеет большую историографическую традицию. Он считал,
что оттачивается мастерство историка именно на таких ис-
точниках вследствие того, что при этом ему приходится фор-
мулировать свою оригинальную позицию и выискивать
новые аргументы в крайне неблагоприятной историографи-
ческой ситуации, поскольку на этих материалах, как говорил
Б. А. Романов, «проели зубы» целые поколения предшест-
венников. Именно поэтому Б. А. Романов, который много
лет работал в архивах, в течение десятилетий занимался пуб-
ликацией источников, построил на новых материалах свою
первую монографию и частично вторую, все же неоднократ-
но высказывал парадоксальную мысль: «На новых архивных
материалах каждый дурак напишет работу, — говорил наш
профессор, — попробуйте построить свое исследование на
изъезженных-переизъезженных источниках, сказать при этом
новое слово; вот в чем подлинное мастерство».
Эта точка зрения вытекала из убеждения Б. А. Романова
в том, что естественный путь формирования историка лежит
первоначально через своеобразный тренинг на материалах
древних периодов истории, будь то античность, западное сре-
дневековье или Киевская Русь. Это и понятно: применитель-
но именно к этим источникам несколькими поколениями ис-
ториков была выработана изощренная методика их исследо-
вания. Лишь впоследствии можно профессионализироваться
в других периодах, в частности в области новой и новейшей
331
истории. Н. Е. Носов в данной связи вспоминал слова
Б. А. Романова, который говорил: «Так же, как хирург
перед тем, как проводить операции над живыми людьми,
длительное время практикуется на трупах, так же и мы, ис-
торики, должны сперва научиться работать (при помощи не
только ножа, но и лупы и пинцета) над древними (умерши-
ми) формациями перед тем, как перейти к работе над новой
историей, отнюдь не более легкой (как иногда предполагает
наша молодежь), а значительно более сложной и трудной для
ее изучения и осмысления»?
И действительно, пройдя через просеминарские занятия
по «Правде Русской» на I курсе у Б. А. Романова, далеко
не большинство студентов избирало своей специальностью
историю древней Руси; многие стали историками, занимаю-
щимися историей России XIX и даже XX вв., некоторые
перешли на другие кафедры — новой и новейшей истории,
даже археологии. Но уроки, полученные у Б. А. Романова,
общение с ним — все это не было забыто и наложило отпе-
чаток на всю их дальнейшую профессиональную деятель-
ность. По окончании занятий на I курсе (в 1947 г.) одна из
групп преподнесла Б. А. Романову миниатюрную книжечку,
содержащую переписанную от руки Краткую редакцию «Рус-
ской Правды» и лупу, при помощи которой только и можно
было прочитать текст. И книжечка, и лупа помещались в
шкатулке. Дарственная надпись особенно порадовала
Б. А. Романова: «От студентов 4 группы исторического фа-
культета ЛГУ в знак восхищения и благодарности за увле-
кательные, глубокие, неповторимые занятия по „Русской
Правде"». Б. А. Романов по этому поводу писал: «Надпись,
которой (впервые в жизни) горжусь. Значит, недаром я вкла-
дывал всего себя в эти занятия, если вместо отвращения мне
удалось создать такое воздействие на эти молодые головы».4
Б. А. Романов и сам придавал особое значение своим за-
нятиям с первокурсниками. Так, сообщая 15 октября 1945 г.
А. Л. Сидорову, что после тяжелой болезни «пока <...> вы-
скочил из петли, хоть и в сильно посиневшем виде», продол-
жал: «Очень уж не хотелось расставаться с университетской
молодежью, которая для меня, что мешок с кислородом.
Особенно первокурсники. Подталкивать и наблюдать рост их
именно на первом году их въезжания в науку — очень уж ин-
тересно и живительно». Через полгода, 21 апреля 1946 г., в
письме к товарищу своих студенческих лет И. В. Егорову
Б. А. Романов возвращается к этой теме: «По-прежнему ра-
дуют меня мои студенты-первокурсники. Славный народ, и
растут на глазах (в желательном для меня направлении, то
332
есть усваивают кое-что из прививаемых мной навыков). Во-
обще университет берет много сил, зато и питает морально.
Вроде бы как и полезен!».5
Обучающие цели ставил перед собой Б. А. Романов и
при чтении специального курса по внешней политике России
в конце XIX—начале XX в. Он стремился не столько сооб-
щить студентам новые факты или нарисовать картину дип-
ломатического противоборства на международной арене,
сколько показать, как им самим анализировались источники
и устанавливались факты, как выявлялись связи между ними,
какие трудности возникали на этом пути, при помощи каких
методов их удавалось преодолевать, как при недостатке ма-
териалов строились гипотезы и догадки и как в некоторых
счастливых случаях удавалось их подтверждать. Обычно
Б. А. Романов начинал чтение спецкурса с заявления, что
фактическую сторону событий можно почерпнуть из его
работ, а на лекциях он будет рассказывать о том, как их
писал, т. е. фактически знакомить слушателей с собственным
опытом решения профессионально-исторических задач, с тех-
никой своего «исторического ремесла»?
Б. А. Романов не читал общего курса — и не случайно.
Он считал, что существуют разного типа преподаватели:
одни — преимущественно читающие общие курсы, другие —
для семинаров и специальных курсов. Себя Б. А. Романов
относил к последним. Ему важно было непосредственное об-
щение со студентами, в процессе которого только и возмож-
но их обучение, чему Б. А. Романов придавал первостепен-
ное значение.
Показательно, что, когда в конце 1948 г. академическое
руководство стало чинить препятствия работе в университете
по совместительству, Б. А. Романов решился перейти в
ЛОИИ на полставки, чтобы не покидать исторический фа-
культет: «...ведь нельзя же обескровливать университет <...>
Дело-то ведь государственное», — писал он Е. Н. Кушевой
11 ноября 1948 г.
У Б. А. Романова в 1947 г. появилась группа студентов
(Л. Айзенштадт, Н. Горкунова, Э. Готлиф, И. Карлович,
И. Либерзон, Н. Носов, М. Струнина), которые уже на
II курсе выразили желание под его руководством специали-
зироваться по проблемам истории России XVI—XVII вв. По
этому поводу Б. А. Романов писал 14 октября 1948 г.
А. Л. Сидорову: «Преподавание по-прежнему увлекает меня.
Наметилось некоторое подобие „учеников" в миниатюре».
Радовало его и «новое поступление», которое оказалось
«определенно уровнем выше прежних годов». Поступила в
ззз
аспирантуру и начала работать над диссертацией ученица
Б. А. Романова Д. Сот. Своим учителем считали Б. А. Ро-
манова и двое студентов, специализировавшихся на кафедре
истории международных отношений и по формальным при-
чинам работавшие над курсовыми и дипломными сочинения-
ми под руководством других профессоров (Р. Ганелин и
А. Фурсенко). Наконец, кафедрой истории СССР Б. А. Ро-
манову было поручено организовать студенческий научный
кружок, руководителем которого он был с декабря 1948 по
1951 г. Кружок стал авторитетным центром научной жизни
факультета. В его работе принимали активное участие не
только студенты, но и представители профессорско-препода-
вательского коллектива, а также историки из других научных
и учебных заведений Ленинграда.
Студенты глубоко уважали и любили Б. А. Романова и
выделяли его среди других преподавателей факультета.
Я. С. Лурье даже писал о Б. А. Романове как о профессоре,
«ставшем после войны, пожалуй, наиболее любимым студен-
тами».7 Через его просеминары прошли более 100 человек,
несколько меньшее число студентов слушали его спецкурсы.
Он привлекал их к себе не столько своими замечательными
исследованиями, сколько неповторимостью личностных ка-
честв, выдающимся педагогическим талантом, расположен-
ностью к молодежи, безупречным, несколько старомодным
тактом в отношениях с ними, искрометным, но не навязчи-
вым остроумием, парадоксальностью мышления.
Но решение аттестационной комиссии исторического фа-
культета от 21 июня 1949 г., лишавшее Б. А. Романова воз-
можности преподавать на I курсе (см. выше), вело к посте-
пенному его вытеснению из университета. Это по существу
было неизбежно в условиях развернувшейся «охоты на
ведьм». Она приобрела в университете специфические
формы, в частности потому, что, как правило, объектом пре-
следований становились самые уважаемые профессора и к
тому же все эти унизительные проработки происходили в
присутствии, а в отдельных случаях с участием студентов.
Процветало и доносительство. Особенно отвратительной на
историческом факультете была двухдневная конференция
«Против космополитизма в исторической науке», прошедшая
в переполненном лектории истфака 4 и 5 апреля 1949 г.
Председательствовал на этих заседаниях новый декан фа-
культета проф. Н. А. Корнатовский. С основным докладом
партийное начальство вынудило выступить В. В. Мавроди-
на, недавно снятого с поста декана и пока остававшегося за-
ведующим кафедрой истории СССР. Для него, лишившегося
334
поддержки уже арестованного по «Ленинградскому делу»
А. А. Вознесенского, близость к которому компрометирова-
ла его в глазах властей, выступление с докладом стало свое-
образным тестом на лояльность, «символом веры».
В. В. Мавродин был встречен студенческой частью аудито-
рии, составлявшей большинство в лектории, демонстратив-
ными бурными аплодисментами. Он вообще пользовался в
студенческой среде любовью. Его лекции на I курсе были по-
верхностными, его многочисленные книги и статьи также не
отличались глубиной. Но В. В. Мавродин как декан привле-
кал к себе студентов доброжелательностью, терпимостью, го-
товностью пойти навстречу. Его доклад был прочитан тихим
голосом, скороговоркой и выслушан в мертвой тишине.
В. В. Мавродин произнес требуемые политическим момен-
том слова осуждения буржуазного объективизма, космополи-
тизма, антипатриотизма, признал свои ошибки, особенно в
подборе кадров преподавателей. В его речи, однако, не чув-
ствовалось озлобления.
Вслед за докладом В. В. Мавродина начались прения, в
которых грубые нападки на ряд профессоров и преподавате-
лей перемежались покаянными выступлениями тех, кто стал
объектом проработок. Некоторые выступающие пытались
перевести огонь с себя на своих коллег.
Я, как и многие студенты, присутствовал на этой конфе-
ренции. Определенно помню, что симпатии аудитории были
на стороне тех, кто стал объектом проработок. Грубым на-
падкам подверглись, в частности, профессора Н. Н. Пунин,
Л. 3. Трауберг, О. Л. Вайнштейн, С. Я. Лурье, С. Н. Валк,
А. В. Предгеченский, М. А. Гуковской, С. Б. Окунь, доц.
Н. Г. Сладкевич, доц. М. С. Каган и мн. др. Особенно рез-
кие выпады были допущены в отношении С. Я. Лурье. В
частности, К. М. Колобова прочитала по поручению отсут-
ствовавшего С. И. Ковалева его речь, и сама тоже произне-
сла речь, в которой призналась в том, что всегда ценила
С. Я. Лурье за его исследовательский талант и ученость, но
лишь теперь, под влиянием партийных указаний, поняла,
какой идеологический и политический вред приносят его
враждебные космополитические работы. С. Я. Лурье был
обвинен в том, что его работы характеризуются смесью
«биологизма, вульгарного материализма, метафизического
детерминизма, космополитизма, преклонения перед ино-
странными авторитетами, модернизации и полной недооцен-
ки русской и советской науки».8 Акад. В. В. Струве в ответ
на выпады в его адрес заявил, что он хотя и не подлинный
марксист, но учится марксизму у своих коллег по кафедре,
335
своих аспирантов, своих студентов и вообще у учеников,
среди которых есть очень высокопоставленные деятели, на-
пример Ю. П. Францев. Н. Г. Сладкевич требовал «вырвать
нашего Чернышевского из рук космополита Таубина» (тогда
преподавателя Военно-политического института). М. С. Ка-
ган выступил решительно и смело, в отличие от многих дру-
гих, весьма достойно, не признал, что является носителем
космополитических взглядов. Б. А. Романов, отсутствовав-
ший на конференции, был обвинен в ошибках буржуазно-
объективистского характера, которые он допустил в книгах
«Люди и нравы древней Руси» и «Очерки дипломатической
истории русско-японской войны».
Вся эта конференция произвела на студентов угнетающее
впечатление. Сам я никогда — ни до, ни после не присутст-
вовал на столь унизительных мероприятиях, хотя и в даль-
нейшем мне приходилось, к сожалению, бывать на прорабо-
точных собраниях.
Ход конференции был освещен газетой «Ленинградский
университет». В статье студента Степана Волка, ученика
С. Н. Валка, «За партийность исторической науки» говори-
лось, что «ученые, коммунисты и беспартийные, вскрыли се-
рьезные ошибки космополитического и буржуазно-объекти-
вистского характера в работах и лекциях профессоров
С. Я. Лурье, О. Л. Вайнштейна, С. Б. Окуня, С. Н. Валка,
А. В. Предгеченского, Б. А. Романова и некоторых других».
Специальный абзац был посвящен С. Я. Лурье: «На факуль-
тете долгое время подвизался проф. С. Я. Лурье, последова-
тельный выразитель идей буржуазного космополитизма. Он
беспринципно пресмыкался перед немецкими „авторитета-
ми“, игнорировал советскую науку. За свое раболепие перед
западной „ученостью" проф. Лурье удостоился сомнительной
чести печататься в гитлеровской Германии и фашистской
Италии».9 Разумеется, с гитлеровской Германией С. Волк до-
пустил передержку, так как этого не могло быть в силу ев-
рейского происхождения С. Я. Лурье.
Уже в 1949 г. на факультете прошла серия арестов. «Ис-
чезли» профессора Н. Н. Пунин и М. А. Гуковский, доцент
М. Б. Рабинович, был арестован также ряд студентов и ас-
пирантов. В течение 1949 г. и последующих лет из универ-
ситета были уволены С. Я. Лурье, О. Л. Вайнштейн,
Н. П. Полетика, В. В. Мавродин, О. А. Ваганов и др. По
остроумному, как вспоминал М. Б. Рабинович, подсчету
А. В. Предгеченского, «на историческом факультете в год
выгоняли по одному доктору с четвертью».10 Пожалуй, это
была слишком заниженная оценка.
336
Вероятно, именно эта тяжелая атмосфера на факультете,
ситуация, сложившаяся вокруг самого Б. А. Романова, ожи-
дание увольнения привели его к вынужденному решению
передать своих учеников, завершивших под его руководством
учебу на III курсе, другому преподавателю. Его выбор пал
на профессора И. И. Смирнова — коллегу по ЛОИИ и ист-
факу, недавно выступавшего с погромным основным докла-
дом во время проработочного «обсуждения» «Людей и нра-
вов древней Руси». 6 июля 1949 г. Б. А. Романов обратился
к нему с письмом, в котором обрисовал сложившуюся ситуа-
цию: «Очень жалею, что 27-го (июня. — В. П.) Вы не были
в Институте, ибо 28-го мне пришлось (в университете) дей-
ствовать, не согласовавшись с Вами. 28-го я собрал своих
третьекурсников, чтобы дать им совет — самоопределиться к
диплому (и к жизни), выбрать себе оптимальное теоретиче-
ское руководство на одном из двух путей: 1) древностей или
2) советского периода. Для первого я указал им на Вас, для
второго — на О. А. Ваганова. Беседе этой я придал характер
совета, а не диалога, но из дальнейшего нашего разговора
стало ясно, что к советскому периоду у них склонности нет.
Следовательно, у меня есть основания предупредить об об-
ращении этой маленькой феодальной группы к Вам. Наде-
юсь, что Вы, зная их, не будете возражать против такого
оборота дела. У меня же это продумано со всех сторон, ка-
сающихся пользы их же». Б. А. Романов просто опасался,
что может бросить тень на студентов, работавших под его
руководством.
И. И. Смирнов ответил согласием взять под свое покро-
вительство его учеников. После этого Б. А. Романов сооб-
щил И. И. Смирнову, что «очень рад» его готовности «при-
нять к себе» этих студентов, и отметил: «Они очень нужда-
ются, по-моему, в Вашем руководстве». Разумеется, научное
руководство И. И. Смирнова обеспечивало этим студентам
беспроблемное окончание университета. Но они за 3 года
настолько привязались к Б. А. Романову, что по-прежнему
тесно сотрудничли с ним, а некоторые (в частности,
Н. Е. Носов) продолжали считать себя его учениками.
Решение отказаться от руководства ими было тем более
трудным для Б. А. Романова, что в новом 1949/50 учебном
году он, в соответствии с предписанием аттестационной ко-
миссии, лишился просеминара на I курсе. Однако в сентябре
1949 г. вновь группа студентов, которая перешла на II курс
(Ю. Афанасьев, Л. Гурова, К. Козлова, В. Нардова, В. Па-
неях, Р. Скрынников, В. Федорова, Р. Цимеринов,
Р. Цомук, В. Шейнис, а также студентка III курса, ученица
337
Д. С. Лихачева М. Салмина), обратилась, заручившись со-
гласием Б. А. Романова, на кафедру и в деканат с заявлени-
ем о разрешении продолжить занятия у Б. А. Романова и
получила его. В виде исключения для них также был орга-
низован спецсеминар (по существовавшим правилам они на-
чинались на старших курсах). Темой его стал Судебник
1550 г. Занятия по этому памятнику с Б. А. Романовым от-
личались той особенностью, что проходили синхронно со
временем, когда сам ученый работал над исследовательским
комментарием к его статьям, и это счастливое для участни-
ков семинара совпадение давало возможность им по исчер-
пании споров относительно той или иной статьи стать слу-
шателями преподавателя, который читал им написанный не-
давно и еще не опубликованный свой комментарий.
По окончании этого учебного года оказалось, что на бу-
дущий (1950/51) учебный год осталось только двое студентов,
выразивших желание специализироваться у Б. А. Романова
по русскому средневековью. Это беспокоило его. Едва нача-
лись занятия, как Б. А. Романов 15 сентября 1950 г. писал:
«...по-видимому с преподаванием у меня дело тихо идет ко
дну, очень плотно организованному. Не исключено, что это
к лучшему, как все в мире сем. Но субъективно переживаю
больно».
Тревожные ожидания не обманули Б. А. Романова: 1 ок-
тября он был уволен из университета. Об этом он сообщил
Е. Н. Кушевой 4 октября, на следующий день после того,
как в вызывающе хамской форме ему сообщили о случив-
шемся: «...туча продолжает надвигаться. Вчера, проведя се-
минар и ничего не слыхав на факультете, в бухгалтерии
нашел приказ о моем отчислении из университета „как со-
вместителя”. Значит, сколько организованного вранья было
потрачено в 1949 г.!!!». Б. А. Романов конечно имел в виду
организованное историческим факультетом чествование.
Свое увольнение он отчасти связывал с арестом по «Ленин-
градскому делу» А. А. Вознесенского. Б. А. Романов считал
увольнение незаконным — и из-за его внезапности, и потому,
что оно было произведено после начала учебного года. Но,
имея за собой приговор 1931 г. по политической 58-й статье,
ученый даже и не мог подумать о том, чтобы поднять вопрос
о нарушении его прав.
Через неделю он писал: «Прошла первая неделя после
увольнения из университета. Свыкаюсь. Еще Достоевский
сказал, что „человек — это существо по преимуществу ко
всему привыкающее”» (Е. Н. Кушевой. 10 октября 1950 г.).
Еще через 3 дня: «Я все же думаю, что старушка-формула —
338
„все к лучшему" —должна быть применена к моему случаю.
Полной неожиданностью это для меня не стало: нож надо
мной был занесен еще с осени 1948 г. (в пределах видимого
на поверхности). Весной этого года он должен был опустить-
ся, но „не вышло оказии"; сейчас она вышла запоздалой по
советским законам <...> Как это ни странно, от меня не от-
няли исторического кружка; спецсеминары на III курсе от-
менены, и у меня осталось с прошлого года два волонтера
<...>, желающие заниматься у меня и XVI веком. Мое от-
числение на них не подействовало пока, и они упорствуют.
Это побудило меня не отказаться вовсе от университета и
остаться на почасовом положении, поскольку об этом просил
Мавродин. Конечно, все это кончится в будущем году само
собой, но до будущего года надо еще дожить! А горечь
пройдет, как „проходит все"» (Е. Н. Кушевой. 13 октября
1950 г.). Из письма Б. А. Романова А. Л. Сидорову от 30
декабря 1950 г. становится ясным, что в оставлении за ним
исторического кружка сыграл свою роль и другой фактор:
«Тут меня не отпустили студенты-основатели кружка. Ано-
малия, которую я принял как таковую».
С середины следующего (1951/52) учебного года к
Б. А. Романову пришел и стал работать студент-четверо-
курсник, специализировавшийся на проблемах международ-
ных отношений в конце XIX—начале XX в. Вскоре, переме-
нив тему, ушел к другому руководителю один из двоих сту-
дентов, специализировавшихся по проблемам русского
средневековья. Итак, в 1953 г. защитили дипломные сочине-
ния двое учеников Б. А. Романова, и на этом его связи с
Ленинградским университетом окончательно порвались.
Ученый болезненно переживал кажущуюся ему возмож-
ность отдаления учеников, связанную с некоторыми фор-
мальными обстоятельствами — окончанием ими университе-
та, аспирантуры. Вопреки этим опасениям Б. А. Романова,
круг его учеников хотя становился все более узким, но не
распался, а замкнулся на пятерых (разных годов поступления
на исторический факультет) — Р. Ш. Ганелине (1945 г.),
Н. Е. Носове и А. А. Фурсенко (1946 г.), Б. В. Ананьиче и
В. М. Панеяхе (1948 г.).
«Короткая, но блестящая преподавательская работа
Б. А. Романова в Ленинградском государственном универси-
тете, — писал Д. С. Лихачев, вместе с ним работавший на
историческом факультете, — заслуженно принесла ему славу
одного из лучших преподавателей <...> и позволила ему вос-
питать целый ряд талантливых исследователей как древней,
так и новейшей русской истории».11
339
ПРИМЕЧАНИЯ
1 Правда Русская: Уч. пособие/Под ред. Б. Д. Грекова. М.; Л., 1940;
Правда Русская: Комментарии / Под ред. Б. Д. Грекова. М.; Л., 1947. Т. 2.
2 Изложение выступления Н. Е. Носова на заседании памяти Б. А. Ро-
манова см.: Ананьин Б. В., Панеях В. М. Заседание, посвященное памяти
Б. А. Романова//ИЗ. 1958. Т. 62. С. 288—289.
3 Там же. С. 289.
4 Цит. по: Валк С. Н. Борис Александрович Романов // Исследования
по социально-политической истории России: Сб. статей памяти Бориса
Александровича Романова. Л., 1971. С. 37.
5 Б. А. Романов — И. В. Егорову: ОР РНБ, ф. 273, д. 315, л. 1.
6 Рассуждения Б. А. Романова об этом см.: Романов Б. А. Люди и
нравы древней Руси (Историко-бытовые очерки XII—XIII вв.). Л., 1947.
С. 5—12.
7 Копржива-Лурье Б. Я. [Лурье Я. С.] История одной жизни. Париж,
1987. С. 205.
8 ЦГАИПД СПб., ф. 984, оп. 3, д. 99, л. 6.
9 Волк С. За партийность исторической науки//Ленинградский универ-
ситет. 1949. 20 апр.
10 Рабинович М. Б. Воспоминания долгой жизни. СПб., 1996. С. 151.
11 Лихачев Д. С. Борис Александрович Романов и его книга «Люди и
нравы древней Руси»//ТОДРЛ. Л., 1958. Т. 15. С. 495.
— 16 —
КРУГ БЛИЖАЙШИХ УЧЕНИКОВ: «СЫНЫ»
Общение с ближайшими учениками — особая страница в
творческой биографии Б. А. Романова. Их круг складывался
постепенно начиная с 1946 г.
В 1946/47 учебном году Б. А. Романов вел просеминар в
одной из групп I курса, где вокруг него сложилась группа
учеников, которые продолжали заниматься под его руковод-
ством на II и III курсах (см. выше). Среди них он особо вы-
делял Н. Носова, бывшего фронтовика, незадолго до того
демобилизованного из армии. Когда же Б. А. Романов летом
1949 г. вынужден был принять решение о передаче этой не-
большой группы И. И. Смирнову (см. выше), Н. Носов, как
и другие студенты, не только не порвал связей с Б. А. Ро-
мановым, но очень скоро вошел в число его ближайших уче-
ников, хотя считал себя также и учеником И. И. Смирнова.
О Б. А. Романове Н. Носов постоянно рассказывал
А. Фурсенко, своему однокурснику и другу студенческих и
многих последующих лет. Когда же А. Фурсенко упомянул
дома о своем желании познакомиться с Б. А. Романовым, то
оказалось, что его мачеха была дочерью умершего во время
блокады Б. В. Александрова, одного из немногих ближай-
ших со времен учебы в университете друзей Бориса Алек-
сандровича. Будучи студентом II курса, в 1947/48 учебном
году А. Фурсенко записался на спецкурс Б. А. Романова по
истории международных отношений на Дальнем Востоке
конца XIX—начала XX в. За год до этого к нему на кафедру
пришел, чтобы проконсультироваться и познакомиться,
Р. Ганелин. Б. А. Романов обратил внимание на этих спо-
собных студентов, сказав Н. Носову, что забросил удочку с
двумя крючками и будет наблюдать, клюнут ли они на на-
живку. Очень быстро произошло сближение между этими
341
студентами и профессором, что определило их дальнейший
путь в науке. «Формально», вспоминал Б. А. Романов в
1953 г., Р. Ганелин «был учеником Полетики, но тот два
года назад откочевал в Ташкент», а руководителем ему «на-
значили абсолютно непричастного некоего Кухарского. Ко
мне же» Р. Ганелина «прибило еще на втором курсе, а когда
я его спросил, что его ко мне тянет, он объяснил между про-
чим, что учился конкретному распознаванию империализма
на моей „России в Маньчжурии“ (!), и у нас установились
не „ученические“, а просто дружеские отношения (и я думаю,
что он только тут познакомился с тем, что такое вниматель-
ное отношение к чужой работе и интересам)» (Е. Н. Куше-
вой. 6 июля 1953 г.). Б. А. Романов только из деликатности
не называл вначале Р. Ганелина своим учеником, но на деле
вполне обоснованно стал его им считать, да и сам Р. Гане-
лин уже тогда говорил о Б. А. Романове как о своем учите-
ле. Формально, как и в случае с Р. Ганелиным, научным ру-
ководителем А. Фурсенко оставался Н. П. Полетика. И хотя
А. Фурсенко порывался перейти к Б. А. Романову, но он
этого не допустил, считая такой шаг неэтичным, особенно в
связи с тем, что между ним и Н. П. Полетикой были взаим-
но уважительные отношения. А. Фурсенко, таким образом,
писал дипломную работу у Н. П. Полетики, но еще со сту-
денческих лет стал считать себя учеником Б. А. Романова,
подпав под его мощное влияние. Скоро Б. А. Романов стал
приглашать к себе домой Р. Ганелина, Н. Носова и А. Фур-
сенко, и между ними установились доверительные отноше-
ния.
В 1948/49 учебном году Б. А. Романов вел свой послед-
ний, как оказалось, просеминар на I курсе, и мне посчастли-
вилось быть в той группе, с которой он занимался. Уже по
завершении учебного года я попросил его руководить моей
дальнейшей работой. Так и я вошел в число учеников
Б. А. Романова и вскоре стал бывать у него дома. На
II курсе я принял участие в работе спецсеминара по изуче-
нию Судебника 1550 г., объявленного им по просьбе ряда
студентов, занимавшихся в прошлом году в просеминаре
Б. А. Романова. На III же курсе (1950/51 учебный год) у
него осталось двое студентов — Р. Скрынников и я.
Б. А. Романов в октябре 1950 г. был уволен из университета
и остался только на почасовой оплате (см. об этом выше).
На IV курсе (в 1951/52 учебном году) к нам прибавился
Б. Ананьич, занимавшийся историей международных отно-
шений конца XIX—начала XX в. Но вскоре ушел Р. Скрын-
ников, и мы остались вдвоем.
342
В 1949 г. заканчивал университет Р. Ганелин и был ос-
тавлен в аспирантуре. В 1951 г. должна была состояться за-
щита дипломных работ Н. Носовым и А. Фурсенко.
Б. А. Романов загодя озаботился тем, чтобы связать их судь-
бу с ЛОИИ. По этому поводу он писал позднее: «Я давно
обмышляю и веду дело о приобщении к постоянной работе
в науке моих учеников <...> Вспоминая мое время, нахожу,
что в нынешнее время это удается проще, хотя и не обяза-
тельно автоматически и сразу. Меня в свое время отбросило
от науки на 8 лет. У Вас ни у кого не образовалось этой
пропасти, и я знаю, что не образуется, хотя будут и вариан-
ты (пока я жив)» (В. М. Панеяху. 4 марта 1956 г.).
Заботу о Н. Носове Б. А. Романов разделил с И. И.
Смирновым. Им удалось добиться зачисления его в штат
ЛОИИ на должность младшего научного сотрудника. Вари-
ант же в данном случае заключался в том, что Н. Е. Носову
надлежало в первую очередь написать главу для очередного
(«советского») тома «Очерков истории Ленинграда», посвя-
щенную народному образованию в городе в 20—30-х годах.
По-другому был привлечен в ЛОИИ А. Фурсенко.
Б. А. Романов еще за год до окончания им университета
начал хлопоты в Академии наук не только о выделении для
него аспирантской вакансии, но и об официальном письме в
университет, чтобы А. Фурсенко был направлен именно в
ЛОИИ, хотя и на историческом факультете было проявлено
стремление оставить его там. Уже в самом начале 1951 г.
Б. А. Романов получил известие о положительном решении
этого вопроса. Он писал в этой связи: «Сегодня у меня ра-
дость: пришла бумажка из Министерства высшего образова-
ния о направлении в распоряжение Президиума АН моего
пятикурсника-американиста, которому грозила аспирантура
в университете без моего „руководства11 <...> Это очень хо-
рошо и для ЛОИИ — иметь американиста, притом серьезно-
го и способного» (Е. Н. Кушевой. После 19 января 1951 г.).
Осенью 1951 г. А. Фурсенко успешно сдал вступительные эк-
замены и стал аспирантом Б. А. Романова.
Его тесное общение с ближайшими учениками и отече-
ское отношение к ним сблизило и их. В письмах Б. А. Ро-
манова начинают мелькать слова «мои сыны», «дети». Каж-
дый успех любого из учеников безмерно радовал Б. А. Ро-
манова. Так, сообщая 10 июня 1957 г. Е. Н. Кушевой о
доложенной Б. В. Ананьичем на заседании в ЛОИИ части
его «диссертационной главы», Б. А. Романов с гордостью
отмечал: «Все слушатели говорили мне, что он больше, чем
кто-либо другой, проявил себя моим учеником <...> Мне это
343
было очень приятно». Б. А. Романов с удовольствием про-
цитировал далее слова Р. Ш. Ганелина: «Приятно было слу-
шать молодого Романова». А 25 апреля 1953 г. он писал
Е. Н. Кушевой: «Сейчас вокруг меня растут (и радуют) мо-
лодые работы: две дипломные и две диссертации (одна из
коих лежит на моем столе). Дипломы — Панеяха „Некоторые
вопросы истории кабального холопства" и Ананьина „Роль
английского империализма в дипломатической подготовке
раздела Персии в 1898—1907 гг.“. Диссертации — Ганелина
"Американская агрессия на Тихом океане в 60—70-х годах
XIX столетия". Носов пишет и читает мне диссертацию о
губных старостах XVI в. А в Москве сейчас сидит Фурсенко,
который начал писать у меня по Америке 90-х годов <...>
Болезненно переживаю необходимость расставаться с этими
моими сынами: их отнимают от меня живьем». Эти же мо-
тивы Б. А. Романов развивал и в других письмах: «Конча-
ются связи с молодежью. Это очень больно: отнимают
„детей" живьем и при жизни» (Е. Н. Кушевой. 23 апреля
1953 г.); «Живу преимущественно интересами своих учеников
(горжусь, что все мальчики). Но болею и их горестями, когда
бывают» (В. Н. Куну. 28 сентября 1953 г.); «Сколько у меня
обязательного чтения своего и моих сыновей. Они в самом
писучем состоянии сейчас!» (Е. Н. Кушевой. 10 октября
1953 г.); «Мои сыны усердно пишут диссертации <...> Мне
кажется, что на них должно хорошо действовать сознание,
что я пишу, и тоже тороплюсь, и тоже бывает мучаюсь»
(Е. Н. Кушевой. 23 июня 1954 г.); «В основном живу радос-
тями и интересами моих сынов, у которых у всех происходит
движение вперед. Начинаю свыкаться с мыслью, что подхо-
дят времена, когда они будут становиться нужнее мне, чем
я им. С их стороны, впрочем, пока я не имею и намека на
это обстоятельство» (Е. Н. Кушевой. 3 января 1954 г.); «Не
выхожу из отцовских забот» (Е. Н. Кушевой. 15 марта
1955 г.). Даже кратковременная разлука с учениками (отпуск,
отъезд кого-нибудь из них в командировку) остро пережива-
лась Б. А. Романовым. В этом отношении наиболее вырази-
телен фрагмент из его письма (от 27 февраля 1956 г.) из са-
натория одному из учеников: «Чего мне недостает, — это
Ваших звонков и обмена мыслей. Я так привык все про всех
вас знать и во всем участвовать, что сейчас точно осиротел».
И действительно, Б. А. Романов стремился хотя бы через
день поговорить с каждым из учеников по телефону. Если
же почему-либо кто-нибудь не звонил два дня, то на третий
он звонил сам и мог сказать: «Что-то Вы меня начинаете
забывать». Его забота была трогательной и поистине отечес-
344
кой. Так, через год после поступления в аспирантуру
А. Фурсенко, как он сам рассказал мне, в результате нерв-
ного переутомления тяжело заболел и попал в санатории на
Каменном острове в Ленинграде. Хотя врачи настаивали на
прогулках и активном поведении, он, находясь в мрачном
настроении, связанном с мыслями об исходе болезни, прово-
дил все время лежа. Узнав об этом, Б. А. Романов стал при-
езжать к нему каждый день, чтобы «вывести» А. Фурсенко
на прогулку. Он и сам уже был в то время серьезно болен,
страдал сосудистыми расстройствами и нарушением зрения.
Но Б. А. Романов старался поддерживать веселый разговор,
пытаясь отвлечь А. Фурсенко от мрачных мыслей, обсуждал
структуру его будущей диссертации, рассказывал интересные
истории из своей жизни. Лишь однажды в ответ на жалобы
А. Фурсенко Б. А. Романов сказал: «Я же не жалуюсь на то,
как я себя чувствую, хотя мое дело неважно, а у Вас впереди
целая жизнь и все будет в порядке». Фактически именно
Б. А. Романов помог А. Фурсенко вырваться из этой бо-
лезни.
В начале лета 1953 г. защищал кандидатскую диссерта-
цию Р. Ганелин и попросил Б. А. Романова выступить в ка-
честве официального оппонента. «Когда он, — писал
Б. А. Романов Е. Н. Кушевой 6 июля 1953 г., уже после ус-
пешной защиты, — (в полном сознании моей болезни, полу-
слепоты и рискованности ставить ставку на такую лошадь)
все же издалека завел речь о моем оппонентстве, вместо ре-
комендуемого мной Тарле, у меня не оказалось силы вовсе
отказать ему, хотя я ясно дал ему понять всю непрактич-
ность его желания. И до самого дня диспута дело висело на
ниточке. Я и сейчас не уверен, что мой отзыв поможет ему».
Разумеется, Б. А. Романов имел в виду то обстоятельство,
что его судимость по политической 58-й статье уголовного
кодекса не была с него снята. Что касается Р. Ш. Ганелина,
то по окончании аспирантуры и успешной защиты он был
принят на работу на кафедру истории Ленинградского биб-
лиотечного института.
В том же 1953 г. заканчивали университет последние из
учеников Б. А. Романова — Б. Ананьич и я. В этой связи он
также предпринял попытку привлечь нас к работе в бывшем
ЛОИИ (превратившемся после его упразднения в отдел Ин-
ститута истории АН СССР): «Затеял рекомендовать своих
птенцов в аспирантуру Института, откуда пришел запрос
ректору ЛГУ с просьбой рекомендовать кандидатов»
(Е. Н. Кушевой. 6 июля 1953 г.). Эта же беспокоящая
Б. А. Романова проблема стала предметом его частного
345
письма от 19 мая 1953 г. директору Института истории
А. Л. Сидорову: «Есть у меня долг, о котором некому по-
ведать, кроме как Вам. Долг перед наукой и перед двумя
способными молодыми историками, только что защитивши-
ми на истфаке очень хорошие дипломы, написанные при
моем руководстве. Это два моих, выражаясь по библейски,
„Вениамина": дальше за ними у меня никого нет и не будет».
Но ЛОИИ только недавно было упразднено, и эта попытка
как-то связать своих младших учеников с научным учрежде-
нием, в котором работал сам Б. А. Романов, тогда не уда-
лась. Б. В. Ананьич получил распределение в недавно вос-
становленный Музей революции, куда он поступил на служ-
бу, будучи еще студентом V курса, а я стал преподавать
историю в старших классах одной из школ рабочей молоде-
жи.
В конце 1954 г. заканчивался срок пребывания в аспи-
рантуре А. А. Фурсенко. Еще до этого дирекцией Института
истории было принято решение о зачислении его на долж-
ность младшего научного сотрудника. Защищать же диссер-
тацию на тему «Борьба за раздел Китая и американская док-
трина „открытых дверей" (1895—1900 гг.)» по условиям того
времени ему можно было только в Москве, в Ученом совете
Института истории АН СССР, куда он и отправился прямо
из Крыма, где отдыхал перед кандидатским диспутом.
Б. А. Романов писал ему и в Ливадию, и в Москву, ободрял,
советовал, как построить вступительное слово: «Считаю, что
все деловое прошло у Вас хорошо, и Вы можете спокойно
предаваться отдыху <...> Обдумывать Вам можно только
текст речи, с карандашом в руках. Начать ее, конечно, лучше
всего с „открытых дверей". Но сделать ее нужно больше чем
вдвое короче автореферата: на 10 минут ровно, по секундо-
меру. Этой средневековой гимнастикой речи и займитесь на
спокое» (А. А. Фурсенко. 19 октября 1954 г.). В следующем
письме, отправленном через 8 дней уже в Москву, Б. А. Ро-
манов сообщал, что «вполне одобряет <...> замысел»
А. А. Фурсенко «для вступительного слова», и добавлял:
«Первым планом все же должны идти „открытые двери",
вторым — Чайна девелопмент» (А. А. Фурсенко. 27 октября
1954 г.).
Защита прошла весьма успешно, и А. А. Фурсенко при-
ступил к подготовке книги, в основу которой была положена
диссертация. Ее выход в свет в 1956 г. под редакцией
Б. А. Романова доставила ему радость едва ли меньшую,
чем испытал автор книги.
346
Несколько позднее (также в Москве и тоже с блеском)
защитил кандидатскую диссертацию о губных старостах и
городовых приказчиках Н. Е. Носов. Он к этому времени
занял один из ключевых постов (ученого секретаря) в вос-
станавливаемом ЛОИИ и был обременен административны-
ми обязанностями. Его книга, также выросшая из диссерта-
ции, «Очерки по истории местного управления Русского го-
сударства первой половины XVI века» вышла в свет под
редакцией И. И. Смирнова в начале 1957 г.
Между тем решение о восстановлении ЛОИИ было при-
нято летом 1955 г., и Б. А. Романов возобновил свои попыт-
ки привлечь сюда остальных своих учеников. В отношении
Р. Ш. Ганелина у него была достигнута договоренность с
А. Л. Сидоровым о принятии его на работу с определенны-
ми заданиями: участие в подготовке сборника документов
«Экономическое положение в России накануне революции»
(в двух частях), вышедшего в свет в 1957 г., и сбор матери-
алов в ленинградских архивах для книги А. Л. Сидорова об
экономическом положении России во время первой мировой
войны. Б. А. Романов был очень доволен этим. Он писал,
что приказ пришел вскоре после отъезда Р. Ш. Ганелина в
санаторий в Старую Руссу и ему «стоит труда заставить»
своего ученика «кончить курс грязи» (В. М. Панеяху. 1 ав-
густа 1955 г.).
Одновременно Б. А. Романов возобновил попытки как-
то связать с ЛОИИ последних своих учеников. «Предстоит
расширение ЛОИИ, — писал он Е. Н. Кушевой 26 ноября
1955 г. — Надеюсь ввести двух младших». Упорная работа в
этом направлении (в Ленинграде — в администрации ЛОИИ,
что было облегчено тем, что Н. Е. Носов занимал в ней вто-
рой по значимости пост, и в Москве -через А. Л. Сидорова
и его заместителя Е. М. Жукова) завершилась первоначаль-
но тем, что на работу был принят Б. В. Ананьич, который
под руководством Б. А. Романова сразу же интенсивно
включился в подготовку сборника документов «Внешние
займы самодержавия» (см. ниже).
Что же касается меня, то эта попытка тогда вновь закон-
чилась неудачей из-за сопротивления, оказанного зав. ЛОИИ
М. П. Вяткиным. По словам Б. А. Романова, причина, по
которой ему было отказано в приеме меня на работу, его
«приводила в бешенство» (В. М. Панеяху. 4 марта 1956 г.).
Но еще через полгода, осенью 1956 г., по распоряжению
А. Л. Сидорова и Е. М. Жукова специально для Б. А. Ро-
манова была выделена аспирантская вакансия, на которую я
и был принят, тем самым, как и другие его ближайшие уче-
347
ники, навсегда связав свою судьбу с ЛОИИ (ныне СПб.
ФИРИ). Правда, моему учителю пришлось преодолеть упор-
нейшее сопротивление М. В. Вяткина, который предпринял
ряд хитроумнейших уловок с целью помешать этому. Когда
возникла угроза благополучной реализации задуманного
Б. А. Романовым, он с горечью писал: «Намерение дать мне
аспиранта, выраженное Е. М. [Жуковым], очень меня трону-
ло. Но это не меняет дела. С 1950 г. я готовил человека в
науку, почти до конца довел дело до печатабельной диссер-
тации — и все для того, чтобы и его и мой труд выбросить
в корзинку. Я не рассчитываю прожить еще 6 лет, чтобы
повторить аналогичную работу, да еще с риском такого же
выброса. Выращивание научного работника — это не изго-
товление бифштекса с вымачиванием его в уксусе»
(А. А. Фурсенко. 18 сентября 1956 г.).
Б. А. Романов скончался всего через полгода после
моего зачисления в аспирантуру. Б. В. Ананьич и я лиши-
лись его научного руководства и столь необходимой опеки.
Наш учитель тяжело болел и предполагал, что не сможет до-
вести всех своих учеников до кандидатской степени. Одному
из них он писал в этой связи 15 марта 1956 г.: «Мне доста-
точно Вашего признания, что кое-чему научились у меня
(профессиональному) <...> Плавать научились? Выплывите!».
И действительно, Б. В. Ананьич и я защитили свои кан-
дидатские диссертации в первой половине 1961 г. Впрочем,
сам Б. А. Романов считал диссертации не самоцелью, а по-
бочным продуктом исследовательской работы. Поэтому он
стремился прежде всего продвигать в печать статьи и книги
своих учеников. Б. А. Романов писал по поводу лежавшей в
редакционном портфеле журнала статьи одного из них: «Я
придаю большое значение этому вопросу — опубликование
его работы до конца. Это вечное, остальное преходяще»
(А. А. Фурсенко. 18 сентября 1956 г.).
В общей форме свое отношение к ближайшим ученикам
Б. А. Романов выразил в двух письмах, отличающихся осо-
бым чувством: «Сердечно благодарю за трогательную теле-
грамму (поздравление с днем рождения. — В. П.)> поспевшую
в ту самую минуту, когда вся моя дружина учеников толь-
ко-только успела усесться за стол <...> Этот день уже кото-
рый год отмечается сбором всего моего потомства — и это
счастливейший для меня день в году, когда я могу на смотру
отмечать себе поступательные признаки роста моих молод-
цов. На этот раз один из них (А. А. Фурсенко. —В. П.) за-
кончил корректуру и ждет „сверку" своей книги <...>, другой
(Н. Е. Носов. —В. П.) неделю назад отправил на утвержде-
348
ние дирекции рукопись своей диссертации <...>. Третий (речь
идет обо мне. — В. П.) получил корректуру своей статьи в
„Проблемах источниковедения“ <...> Четвертый (Р. Ш. Га-
нелин.— В. П.) близок к окончанию юбилейного сборника
документов об экономических предпосылках Октябрьской ре-
волюции. И отсутствует только пятый (Б. В. Ананьич. —
В. П.) — по той уважительной причине, что командирован в
Москву для последнего сбора материалов к своей кандидат-
ской диссертации <...> Как видите, ничто и никто не стоит
на месте. Это ли не высший вид радости для старика, когда
он периодически может обсматривать свою „смену"?»
(Г. В. Сидоровой. 13 февраля 1956 г.). А в письме от 7 ок-
тября 1952 г. к А. А. Фурсенко Б. А. Романов подчеркивал:
«Ученичество, оказывается, нечто большее, чем кровная
связь (для учителя, вероятно, больше даже, чем для ученика,
хотя бы из-за возрастной разницы). Для меня это не личная
привязанность, а смысл и цель жизни в широком смысле».
Конечно же, и для нас — его учеников Б. А. Романов
был гораздо больше, чем учитель. Мы его любили и были
бесконечно преданы ему. Его кончина стала для каждого из
нас невосполнимой утратой и большим личным горем.
Встречи в день рождения Б. А. Романова продолжались —
вначале у его вдовы, а после ее смерти у кого-нибудь из уче-
ников. Мы также ежегодно встречаемся в день его кончины
у могилы на Охтинском кладбище, где похоронен Б. А. Ро-
манов.
— 17 —
«ЭТО ПОСЛЕДНИЙ МОЙ ДОЛГ В ЖИЗНИ»:
ВТОРОЕ ИЗДАНИЕ КНИГИ
«ОЧЕРКИ ДИПЛОМАТИЧЕСКОЙ ИСТОРИИ
РУССКО-ЯПОНСКОЙ войны»
«Опыт с дальневосточной эпопеей», писал Б. А. Романов,
показал, что «можно чуть ли не всю жизнь заниматься боль-
шой темой и вновь и вновь находить новые факты и новые
аспекты» (Е. Н. Кушевой. 10 апреля 1957 г.). Это была
принципиальная установка ученого, опираясь на которую он
приступил к работе над вторым, дополненным и исправлен-
ным, изданием своей книги «Очерки дипломатической исто-
рии русско-японской войны» и которая блестяще подтверди-
лась по ее выходе в свет. Однако от замысла, возникшего в
момент обсуждения ее первого издания в Москве, в Инсти-
туте истории АН СССР в начале 1948 г., когда автору было
сказано: «„за Вами Портсмут** (и второе издание)»
(Е. Н. Кушевой. 30 ноября 1950 г.), и до выпуска в свет
книги прошли долгих 8 лет.
Б. А. Романову обещан был допуск в Архив внешней по-
литики России (АВПР). В дирекции Института его заверили
в том, что речь пойдет всего лишь о подаче заявления с
оформлением по нему в течение месяца-двух, и надежды, свя-
занные с этим, не покидали Б. А. Романова в течение 1948—
1949 гг. Но, как оказалось, ученый секретарь ЛОИИ первую
половину 1949 г. тянул с возбуждением дела о разрешении
работать в АВПР, а в конце года Б. А. Романов получил
известие, что с этим делом, по-видимому, ничего не выйдет.
Тогда в декабре он сам отправился в Москву просить о раз-
решении и даже получил ответ, что о результатах ходатай-
ства будет сообщено в письменном виде. Вскоре, однако,
пришел отказ.
350
Поняв, что придется «откинуть расчеты на архив», и
оказавшись неожиданно в совершенно новой ситуации,
Б. А. Романов «принялся за перестройку всего плана рабо-
ты». Это был чрезвычайно неприятный, но при объективной
оценке ситуации вполне ожидаемый сюрприз. О сложившем-
ся положении он писал: «...в результате вместо русского
Портсмута1 мне нужно сделать американский монтаж на
тему о стержневом положении США в 1905 г. с его преце-
дентами <...> но я ведь не историк Америки и земного шара,
и для такой работы, выяснившейся в своем характере в 1950-
м году, нужны совсем иные сроки вообще. Но виноват ли я,
что такова была постановка дела с сырым материалом для
моего производства, т. е. что я долго простоял в позе нище-
го с протянутой за милостыней рукой, как уругвайский част-
ник,— для выполнения государственного советского задания
по плану, который сейчас объявлен непререкаемым законом
(а условия для его выполнения не обеспечены непререкаемым
законом!!!)». Все это доводило Б. А. Романова «до крайней
точки отчаяния». «Бесит меня, — продолжал он, — не пред-
стоящее за невыполнение плана увольнение из Института, а
то, что я не могу никак ухватиться за „конец веревки" —
точно пальцы обмерзли. Виною тому, помимо существа дела,
т. е. противоестественной постановки работы, надвинувший-
ся срок, делающий положение бессмысленным практиче-
ски, — и это создает скрещение мотивов, раздувающих один
другой» (Е. Н. Кушевой. 39 ноября 1950 г.).
Некоторое время Б. А. Романов пребывал в растерянно-
сти. Но вскоре он пришел к вынужденному решению постро-
ить новые главы книги исключительно на зарубежной лите-
ратуре и сборниках документов. Работа проходила на фоне
обостряющихся болезней и потому многократно прерыва-
лась. «Представляете себе, — писал он Е. Н. Кушевой 26 мая
1951 г.,—какой это атлетический труд для моей состарив-
шейся головы? Судебник — это игрушечный грузовичок в
сравнении с этими космическими громадами». Но уже 1 но-
ября 1951 г. Б. А. Романов сообщал, что в этот же день он
сдает «увесистый пакет с первым экземпляром машинописи
<...> книги» объемом 42 печатных листа (938 машинописных
страниц). «Это не окончательно все,—продолжал он. — Но
надо дать пищу рецензентам. Остается еще подбросить около
80 страниц в четыре места книги, что надеюсь сделать, пока
рецензенты будут читать. Из этих мест два — переделки го-
товых старых текстов, и два — новые небольшие параграфы.
Даже если бы из этой моей затеи и ничего не вышло, книга
может идти. Но надеюсь, что хоть что-нибудь да выйдет. К
351
сожалению, к такому условному финишу прихожу с безус-
ловной истощенностью сил и тяжелой „игрой мозговых со-
судов Но мы старые лошади, как-то скачем, пока не оты-
грала труба» (Е. Н. Кушевой. 1 ноября 1951 г.).
Утверждение рукописи второго издания «Очерков дипло-
матической истории русско-японской войны» к печати в ян-
варе 1952 г. прошло на заседании группы истории СССР
ЛОИИ без особых проблем, хотя и не избежало неприятного
эпизода. Оно началось вступительным словом Б. А. Романо-
ва. Отметив, что «первое издание книги разошлось в течение
нескольких месяцев», он напомнил о высказанном в марте
1948 г. при ее обсуждении в Москве (в Институте истории),
а также в журнальной рецензии пожелании о переиздании
«Очерков...», главным образом для того, «чтобы восполнить
бросавшийся в глаза пробел в виде отсутствия в „Очерках
дипломатической истории русско-японской войны" сущест-
веннейшего звена этой истории, главы о Портсмутских мир-
ных переговорах». Охотно приняв «это справедливое указа-
ние», автор поставил своей задачей в первую очередь «вос-
полнить этот пробел». Это, однако, потребовало «ряда
дополнительных исследований по смежным вопросам,—не
говоря уже о том, что и сама дипломатическая работа, про-
исходившая в Портсмуте, не была <...> предметом специаль-
ного исследования». «Хотя хорошо известно, — продолжал
Б. А. Романов, —что потому и созвана была мирная конфе-
ренция» в Портсмуте, «что в организации мирных перегово-
ров и в самом ходе и исходе их острозаинтересованное учас-
тие принимала американская дипломатия в лице Теодора
Рузвельта, первого по-настоящему империалистического пре-
зидента США», но «не столь общеизвестно, что одновремен-
но и параллельно с развитием военных действий на Дальнем
Востоке и с дипломатической подготовкой ликвидации даль-
невосточной войны (и притом в строгой от них зависимости)
в сфере европейских международных отношений возник и
быстро принял угрожающий для европейского мира характер
мароккский вопрос, поднятый германской дипломатией
после англо-французского соглашения 8 апреля 1904 г. с
целью, главным образом, разорвать англо-французское со-
глашение 8 апреля 1904 г. <...>, англо-французскую антанту
и не дать ей превратиться, по окончании русско-японской
войны, в четверной англо-франко-русско-японский союз».
Этим Б. А. Романов аргументировал необходимость введе-
ния в текст книги и параграфов «о дипломатических акциях,
связанных прямым или косвенным образом с выходом аме-
352
риканского империализма на мировую арену в 1904—
1905 гг.», и раздела о марокканском кризисе.
Все это, по мнению Б. А. Романова, помогло ему «пока-
зать на примере русско-японской войны, как с началом соб-
ственно военных действии не ослабевает, а тем более не за-
мирает, а только перестраивается дипломатическая работа
правительств всех заинтересованных империалистических
держав — перестраивается на подготовку оптимальных (для
каждого из как раз неучастников войны) позиций на время
после войны».
В качестве официальных рецензентов на заседании высту-
пили доцент восточного факультета Ленинградского универ-
ситета Л. А. Березный и сотрудник ЛОИИ Н. В. Киреев. Их
отзывы были в целом весьма благожелательными и даже
комплиментарными и содержали отдельные частные замеча-
ния, которые Б. А. Романов сразу же принял с благодарно-
стью, выразив намерение учесть их при доработке книги. Не-
которым диссонансом прозвучало выступление А. В. Пред-
теченского, который, несмотря на то что прочитал всего
2 главы работы, высказал по отношению именно к ним
«наибольшие сомнения». Правда, он признал, что книга
«представляет примечательное явление в советской истори-
ческой науке», но отметил, что, хотя цусимская катастро-
фа— «самая трагическая страница в истории России», все же
«о ней ничего не сказано, а сразу же показана борьба ино-
странных держав вокруг русско-японской войны». Россия
после Цусимы, по его мнению, не показана; в книге гово-
рится «только о том, что происходило в Зимнем и Петер-
гофском дворцах». А. В. Предтеченский усмотрел также
«умаление суверенитета России» в том, что она якобы изо-
бражается только как «объект в руках иностранных госу-
дарств».
Б. А. Романов небезосновательно расценил это выступ-
ление как рецидив недавних обвинений в буржуазном объ-
ективизме и антипатриотизме, вследствие чего отвечал
А. В. Предтеченскому резко и с явным раздражением. Он не
видел «надобности в расширении текста изложения в том
пункте, где речь идет о Цусиме (в отношении резонанса, ко-
торый эта трагическая страница в истории нашей родины
имела внутри страны)» потому, что в книге приведена для
этого «краткая и вместе с тем исчерпывающая характеристи-
ка этого предмета, данная у Ленина, и разводнять эту харак-
теристику» Б. А. Романов «считает просто вредным для
ударности изложения — в промежутке между двумя главами,
посвященными сложной дипломатической работе 4-х столиц,
12 В. М. Пансях
353
в которой Цусима имела значение удара грома и была
использована этими четырьмя дипломатиями немедля, на
другой же день, как раз и именно не дожидаясь никаких из-
вестий о резонансе». Всякое «удлинение остановки в изложе-
нии,— продолжал Б. А. Романов,—ради удовлетворения
интереса тов. Предгеченского к подробностям резонанса
внутри страны (о чем читатель волен читать в других книгах,
посвященных внутренней истории России) — рискует разо-
рвать впечатление сплошности в работе дипломатий вокруг
хищнического использования поражения у Цусимы заинтере-
сованными державами».
В заключение группа истории СССР приняла решение, в
котором признавалось, что Б. А. Романов «учел замечания
критики и коренным образом переработал свою книгу путем
привлечения значительного нового материала по выяснению
агрессивной роли американского империализма». Рекоменда-
ции группы не носили обязательного характера, и рукопись
книги тем самым была в целом одобрена.2 Но, как уже было
отмечено, Б. А. Романову еще предстояло написать несколь-
ко параграфов, работа над которыми затянулась из-за его
болезни.
Летом 1952 г. она вновь проявилась в очень тяжелой
форме. Только к концу сентября начался процесс выздоров-
ления. «Мне разрешено теперь учиться читать и писать, —
отмечал Б. А. Романов. — Читать — это целая проблема
пока. Она значительно труднее, чем в свое время было в
Ташкенте».3 В марте 1953 г. он сообщал, что продолжает ра-
ботать над текстом книги, но «недоволен тем, как идет ра-
бота»: «Идет не гладко, с частыми упадками воли. Штопаль-
ная работа над текстом Портсмута требует особых волевых
усилий» (Е. Н. Кушевой. 22 марта 1953 г.). В феврале 1954 г.
Б. А. Романов вынужден был констатировать, что он «всту-
пил в ту полосу, когда уверенность в твоих силах постепенно
изменяет тебе», и что он ведет борьбу «за жизнь и труд»
(И. У. Будовницу. 13 февраля 1954 г.). В мае 1954 г.
Б. А. Романов сообщал, что хотя и пишет, но возникли
новые трудности: московская Библиотека общественных
наук, из которой он получал иностранные книги по межбиб-
лиотечному абонементу, потребовала их возвращения: «Про-
сто проклятие висит над работой: в архив не пустили, книги
отбирают, точно ты нищий на паперти. И это называется
„организация"! Например, только вчера получил разрешение
на работу в спецхране—когда книга кончается, а сам одной
ногой в могиле стою. Этот проклятый спецхран мне нужен
354
сейчас, как корове пятая нога» (Е. Н. Кушевой. 11 мая
1954 г.).
Готовящуюся к печати книгу Институт почему-то наме-
чал издать в Государственном издательстве политической ли-
тературы (Госполитиздате), а не в академическом издатель-
стве, и это обстоятельство тоже крайне беспокоило Б. А. Ро-
манова. В этой связи он писал: «...живу я чем ближе к сроку,
тем с большим отвращением к „будущему" <...> Представ-
ляете себе операцию без наркоза? Так вот, это и есть тонус
моей жизни сейчас. Представляете, как это отражается на
тебе, когда пишешь? Вот я и пишу сейчас с приступами на-
плевательства. Почему в животноводстве возможны речи об
уходе за скотом, а авторы-человеки рассматриваются вроде
как жмыхи? Буду умирать, не пойму этой „закономерности"
эпохи» (М. Я. Гефтеру. 10 июня 1954 г.).
О том, как тяжело Б. А. Романову далась сложная рабо-
та над вторым изданием «Очерков...», он писал 23 мая
1953 г. В. Н. Куну: «Я постарел и сполз в инвалиды. Не вы-
держала кора головного мозга доставшейся ей в жизни на-
грузки и год назад ответила на нее оборонной спазмой моз-
говых сосудов. Летом в жаркие дни спазма захватила глаза
и явилась угрозой зрению. Корректура Судебника доконала
меня (в самую жару). Сейчас это — уже доживание — с на-
двигающейся потерей зрения и постепенным онемеванием
правой стороны (то приходящим, то ослабевающим). Мозг
все время точно в повязке и чувствуется отдельно от черепа
(то ему тесно, то излишне свободно) <...> Между тем изда-
ние книги — это последний мой долг в жизни».
В этом болезненном состоянии, которое сопровождало
Б. А. Романова на всем протяжении его работы над вторым
изданием книги, ему самому казалось странным, что удалось
ее завершить: «Трудная была пора: тяжелая болезнь наехала
на неимоверно трудную работу по пяти чужим специально-
стям. Но такова уж природа империализма и международных
отношений. Не чаял, что дотяну до конца. Читаю написан-
ное за последний год и глазам своим не верю» (М. Я. Геф-
теру. 30 декабря 1954 г.). Закончить книгу, писал Б. А. Ро-
манов в 1955 г. Н. М. Дружинину, «оказалось не так про-
сто, так как я любезно не был допущен к русским архивным
материалам, и сейчас книга имеет такой вид, точно для ее
дополнения и переработки я удалился в заграничную коман-
дировку и, порвав с историей СССР, заделался историком
стран нерусских, в заботах исключительно о расширении
международного горизонта дипломатической истории родной
страны. Благодаря этому забавному обороту дела <...> я по-
355
лучил возможность провести несколько лет в обстановке не-
бывало интересной (несмотря на болезнь) интенсивной рабо-
ты над многонациональным материалом, требовавшим тако-
го построения, которое обеспечивало бы ему органическое
единство и бесперебойное кровообращение всей венозной
дипломатической системы на пространстве 12 лет с охватом
обоих полушарий».
Некоторые проблемы возникли у Б. А. Романова при на-
значении ответственного редактора — обязательного в совет-
ских условиях атрибута любой научной книги, которому
предназначалась роль своего рода идеологического цензора
на первой стадии прохождения работы в печать. А. Л. Си-
доров, будучи директором Института истории, был перегру-
жен своими служебными обязанностями и, ссылаясь на это,
отказался снова стать ответственным редактором «Очер-
ков...». Но он же рекомендовал обратиться к Е. М. Жукову,
который легко дал на это согласие.
С Е. М. Жуковым у Б. А. Романова не возникло серьез-
ных разногласий, он сделал лишь несколько конкретных за-
мечаний, касающихся японских аспектов книги. Затрудняли
работу с ним только его частые зарубежные поездки именно
в такие моменты, когда необходимо было получить его под-
пись. «Пропал Жуков, — писал он. — Не возвращает экзем-
пляра, посланного ему еще 5 июля <...> Звонил — ответа
нет. Написал <...> — и пока в ожидании ответа» (В. М. Па-
неяху. 1 августа 1955 г.).
Но эта легко разрешившаяся трудность не идет ни в
какое сравнение с неожиданно возникшей угрозой существен-
ного сокращения уже написанной книги — из-за того, что в
руководстве, курирующем общественные науки в Академии,
возникло гонение на «пухлые книги». В этой связи в письме
к Н. М. Дружинину Б. А. Романов резко и горько высказал-
ся по поводу существовавших порядков: «В Президиуме (АН
СССР. — В. П.) высказываются против „пухлых книг" <...>
Вы знаете, что это — итог длительных моих работ и, веро-
ятно, последнее, что я мог бы довести до конца. Для меня
перспектива сокращения — тягчайший удар <...> Я работал
три года по плану, в котором книга значилась размером
около 60 лл. <...> В работе именно над американским мате-
риалом я к 52-му году сорвал свои силы и здоровье, и книга
„пухла" именно в процессе этой работы. Теперь вдруг перед
самым изданием — пухлые книги оказываются одиозными!
<...> Я своей книги сокращать не могу, и <...> речь идет не
о мешке с лапшой, которую можно отсыпать механически до
потребованного внезапно и произвольно веса. Речь могла бы
356
идти, после убийства одной книги, о создании нового текста
новой книги, который надо заново писать <...> Но это не
отнимает у меня права протестовать против произвольного
обращения с трудом автора, который все-таки человек и пре-
тендует на человеческое обращение и не утратил понимания,
что такое голый произвол и пренебрежение к труду человека,
проработавшего всю жизнь и воспитанного в уважении к
труду».
Не менее резко Б. А. Романов оценил этот эпизод в пись-
ме от 19 января 1955 г. к Н. Л. Рубинштейну: «Я не питаю
никаких иллюзий, пока творческие работники моего типа на-
ходятся целиком и полностью в зависимости от аппаратчи-
ков <...> а в верхах философо-экономических царствует бо-
язнь „пухлых книг*1 <...> Твержу себе в утешение, что все
равно осталось недолго жить, а „нравы** и „людей** тебе все
равно не изменить, а потому и рыпаться нечего».
О том же ученый писал А. С. Ерусалимскому («Это ито-
говая работа всей моей жизни, и перспектива искромсания
моего детища причиняет мне настоящее страдание: у меня
никогда не было детей, а мои книги — мои дети»), И. У. Бу-
довницу («Можно, конечно, предупредить старика, что,
когда ты помрешь, мы закажем тебе гроб поэкономнее — по-
короче и тогда обрубим тебе ноги ниже коленок, но пред-
ложить произвести эту операцию над собой при жизни, да
еще без наркоза — это что-то чудовищное!»), Е. Н. Кушевой
(«Для меня „сокращать** — означает писать заново меньшую
книгу, а вовсе не вырезать вон отдельные кусочки. У меня
все детали так связаны одна с другой сплошь и рядом на
громадном расстоянии одна от другой, что полоснуть
здесь — означает не досчитаться там и разрушить связь
вещей <...> Вот проклятие — родиться в такой век!»),
А. А. Фурсенко («После смерти моей сокращайте, при жизни
сам сокращать не буду и другим не дам. Если не пойдет в
этом году, пусть лежит и ждет. Все же это для меня лишнее
потрясение. Но это — ветер, который дует все с тех же объ-
ективных высот, и я не строю себе илллюзий»).
В письме к И. У. Будовницу от 10 ноября 1955 г.
Б. А. Романов рассматривает данный эпизод в контексте
других обстоятельств своего жизненного опыта: «Тут надо
притаиться, сжаться и ждать, пронесет или не пронесет. В
конце концов работали же люди (и в области истории),
когда не было книгопечатания <...> Это дурная наследствен-
ность. Моя бабка по отцу <...> была крепостная-дворовая
<...> и ее драли и тогда, когда она подавала пухлые пончи-
ки, и тогда, когда она подавала после того непухлые. Бары-
357
ня с капризным вкусом на „пухлое" и „непухлое" знакома
моему бытовому воображению и как историку нашей матуш-
ки-России. Проклятие этого рабства я несу на себе всю со-
знательную жизнь. Так что и в данном случае скрестилось
обще-конъюнктурное с чисто-личным. Та барыня (моей ба-
бушки) не уважала труд людской. Откуда у этой барыни
явиться уважению к чужому труду, когда она тоже сама тру-
диться не умеет, не трудится...».
Из этих высказываний видно, что Б. А. Романов впал в
полное отчаянье. Впрочем, и эту атаку на книгу, хотя и с
трудом, удалось отбить.
Однако Б. А. Романова поджидала еще одна атака. Из-
дательство, отправив корректуру книги на «контрольную ре-
цензию» генерал-майору А. И. Сорокину, автору несколько
раз переиздаваемой книги «Оборона Порт-Артура»,4 получи-
ло грубо разносный отзыв, датированный 10 августа 1955 г.,
который и был передан автору, чтобы выяснить его «прин-
ципиальное отношение» к нему, имея в виду необходимость
«добиться», чтобы из работы были устранены «недостатки».
Лейтмотивом рецензии А. И. Сорокина стали обвинения
Б. А. Романова в том, что он «особенно недружелюбен <...>
ко всему русскому», что «при чтении книги возникает вывод,
что в России все и вся дрянь, разве только Витте, да и тот
свинья», что «по автору, все в русской армии и флоте чер-
ное, негодное и т. д.», тогда как хотя и «было много негод-
ного, реакционного, но ведь лучшая винтовка — основа
огня — была русская, то же полевая пушка, то же военно-ин-
женерное дело — это признано всеми военными историками».
«Нельзя все красить черной краской, — поучал автора книги
А. И. Сорокин. — Это не только непатриотично, но и исто-
рически совершенно неверно». Свои собственные политиче-
ские и идеологические предпочтения рецензент продемон-
стрировал сполна, противопоставив утверждению Б. А. Ро-
манова о том, что «российская феодальная реакция искала
побед <...> на фронтах внутренних», в частности «в Финлян-
дии, где с 1898 г. ген. Бобриков проводил уничтожение фин-
ляндской буржуазной конституции всей силой унтер-офицер-
ских приемов», поразительное возражение: «Бобриков в Фин-
ляндии, на мой взгляд, был мягкотел. Следовало действовать
энергичнее. Об этом хорошо сказано у Куропаткина в „Ито-
гах войны", т. 4». А. И. Сорокин увидел недостаток книги
и в том, что автор «тщательно, до мелочей» исследует «каж-
дый шаг многих царей, министров, генералов», обращает
внимание на «болтовню шлиффенов, муленов и пр.», кото-
рую «нужно убрать», и вообще в книге «главное утонуло в
358
многоглаголании». А. И. Сорокин обвинил Б. А. Романова
и в том, что в его «труде много т<ак> н<азываемого> объ-
ективизма, беспартийного отношения к событиям и людям».
Рецензия изобиловала вульгаризмами, оскорбительными для
автора книги, такими, как «ерунда», «пшик». В заключение
рецензент пришел к выводу, что, «увеличившись в объеме по
сравнению с изданием 1947 г. вдвое, труд т. Романова не
стал от этого лучше».5
Б. А. Романов был не столько расстроен, сколько раздо-
садован и возмущен этой рецензией. Ее содержание было на-
столько одиозным и безграмотным, что ему не стоило боль-
ших трудов написать ответ, в котором отвергались все ос-
новные претензии рецензента. Свое первое впечатление
Б. А. Романов выразил словами «? черная сотня?», которые
он написал карандашом поверх пассажа о Бобрикове. С дру-
гой стороны, эта рецензия не могла не воскресить в памяти
Б. А. Романова атмосферу 1949—1953 гг. и обвинения в
антипатриотизме и буржуазном объективизме, которые были
выдвинуты против него и в связи с книгой «Люди и нравы
древней Руси», и, хотя и в меньшей степени, в связи с пер-
вым изданием «Очерков дипломатической истории русско-
японской войны».
Поэтому ученый тщательно готовил свой ответ, который
он адресовал дирекции Института истории. Были написаны
2 его варианта — пространный и краткий. Последний и стал
официальным документом, а его неподписанная копия была
представлена и в Издательство АН СССР.
О своем отношении к рецензии генерала Сорокина
Б. А. Романов написал решительно и определенно: «...рецен-
зент и я стоим на диаметрально противоположных позици-
ях», так как он взял «на себя роль апологета национальной
шовинистической политики», тогда как автор книги пытается
«создать своему читателю <...> настрой беспощадный и кри-
тический ко всем проявлениям феодальной и буржуазной ре-
акции, воплощенной в доживающем свои исторические сроки
царизме», что «неизбежно» должно «раздражать и приводить
в негодование поклонников бобриковщины всех видов».
Именно в результате этой «идейной настроенности» рецен-
зент, по убеждению Б. А. Романова, оказался не в состоянии
дать «научную рецензию», «научно-о б основанные советы
<...> в сфере, где они автору могли бы быть полезны — в
сфере военно-исторической». К тому же «рецензент явственно
испытывает слабость к сюжетам батальным и отвращение к
сюжетам дипломатическим», вследствие чего «его приговор
второму изданию „Очерков" носит просто непристойный ха-
359
рактер». Б. А. Романов отметил, что в целом рецензент де-
монстрирует «беспрецедентное пренебрежение к чужому
труду и к историческому источнику», в котором он «едва ли
что понимает», а его отзыв представляет собой «достопри-
мечательный документ-удостоверение в том, что не переве-
лись еще поклонники бобриковского стиля расправ в плане
историческом, готовые перенести стиль этих расправ в науч-
но-литературный обиход нашего советского времени».6
Негодование Б. А. Романова, связанное с «контрольной
рецензией» генерала Сорокина, было столь велико, что это
нашло адекватное отражение в его письмах. Так, он сообщал
Н. Л. Рубинштейну 31 августа 1955 г.: «Издательство пере-
дало мне контрольную рецензию генерала Сорокина, разнес-
шего меня в пух за отсутствие патриотизма, недружелюбие
ко всему русскому, за пристрастие к „болтовне" дипломатов
и за краткость в отношении всего военного (хочет батальной
патриотической книги с разносом Стесселя и Куропаткина).
Приходится отписываться в дирекцию Института. Тратить
уйму сил». Свое отношение к этому отзыву Б. А. Романов
выразил и в письме к директору Института А. Л. Сидорову
от 24 августа 1955 г.: «...с отвращением прочитал это фельд-
фебельское, озлобленное и непристойно-грубиянское произ-
ведение человека, забывшего свое звание и делающего выго-
воры даже Бобрикову за „мягкотелость" его в Финляндии в
1900-х гг.».
Ответ Б. А. Романова на «контрольную рецензию»
А. И. Сорокина, вероятно, произвел надлежащее впечатле-
ние, и он был признан исчерпывающим, снимающим с авто-
ра подозрение в антипатриотизме. Наконец 25 ноября 1955 г.
книга была подписана к печати, благополучно миновав по-
следние цензурные рогатки.
Итак, если в первом ее издании в основном рассматри-
валась проблема от предыстории до дипломатического раз-
вязывания войны, то во втором исследовалась также дипло-
матия военного времени, дипломатическая ликвидация состо-
яния войны в форме мирных переговоров, подписания
Портсмутского мира и его политические последствия. Но и
в первой части — «На путях к войне», повторяющей издание
1947 г., были сделаны существенные дополнения о политике
США на Дальнем Востоке. Две другие части — «Война
1904—1905 гг.» и «Политические итоги войны» — писались
специально для нового издания.
Анализируя дипломатию времен русско-японской войны,
Б. А. Романов глубоко исследовал цели, мотивы и механизм
внешнеполитической активности не только непосредственных
360
участников войны, но и государств, заинтересованных в
ней,— Германии, Англии, США, Франции, которые вели
сложную игру на международной арене. Смысл этой актив-
ности, как показал Б. А. Романов, состоял в том, чтобы вы-
нудить Россию встать на одну из сторон в вызревавшем
англо-германском конфликте, для чего необходимо было
ценой военного ослабления не дать царизму в случае миро-
вой войны сохранить за собой роль стороннего зрителя и
«третьего радующегося». Подталкивание Германией России к
войне с Японией и поощрение Англией и Соединенными
Штатами Японии к агрессии — важные вехи политики вели-
ких держав до и во время русско-японской войны. Пораже-
ние царизма на театре военных действий и неудержимо на-
раставший натиск революции положили конец этой полити-
ке, поскольку все страны испытывали страх перед возможной
победой революции в России. Следствием этого стали все-
сторонне изученные историком попытки мирного посредни-
чества и Портсмутская мирная конференция. Детальный
обзор всех 12 заседаний конференции дал ясное представле-
ние о ее ходе, позиции держав, в ней участвовавших, заку-
лисной стороне дипломатической борьбы и посреднической
роли Соединенных Штатов Америки в лице президента
Т. Рузвельта.7
В результате Б. А. Романов исчерпывающе ответил на
поставленный им вопрос, почему царская Россия и Япония
пришли к войне именно в тот момент, который выбрала
Япония, и как и почему царское правительство было вынуж-
дено прекратить войну в то время, когда это явилось необ-
ходимым для истощившей свои силы Японии.
Важным аспектом книги, значительно расширившим ее
международно-политический горизонт, стало исследование
марокканского кризиса, возникшего одновременно с разви-
тием военных действий на Дальнем Востоке и с дипломати-
ческой подготовкой окончания русско-японской войны.
Б. А. Романов показал, что Германия вмешалась в дела Ма-
рокко с целью разрыва англо-французской антанты в мо-
мент, когда Франция была лишена возможности получать
помощь от России, воевавшей с Японией. Прекращение же
войны возвращало Россию в Европу и усиливало позиции
Франции в марокканском кризисе. Рузвельт также был заин-
тересован в мирном разрешении кризиса, в частности пото-
му, что война в Европе помешала бы сохранению серьезных
противоречий между Россией и Японией после мирного до-
говора между ними. У Америки могли быть развязаны руки
361
на Дальнем Востоке только в условиях сохранения здесь на-
пряженности.
Заключительные разделы монографии посвящены полити-
ческим итогам русско-японской войны. Они рассмотрены
Б. А. Романовым максимально расширительно — от Портс-
мута к двум антантам: в Европе и на Дальнем Востоке, т. е.
в тесной связи с генеральной линией развития международ-
ных отношений, определявшихся вызреванием англо-герман-
ского империалистического конфликта. В работе показано,
что русско-японская война и Портсмутский мир были важ-
ными шагами на пути к образованию четверной антанты —
англо-франко-русско-японской.
Так книга, посвященная, казалось бы, узкой проблеме,
фактически превратилась в дипломатическую историю меж-
дународных отношений конца XIX—первого десятилетия
XX в.
Во втором издании Б. А. Романов продолжил создание
ярко написанных портретов политических деятелей — Нико-
лая II, Т. Рузвельта и других, тонко прослеживая мельчай-
шие психологические побудительные причины их поступков.
Наконец, Б. А. Романов развил и углубил тот аспект своих
исследований дипломатической истории, который касается
взаимозависимости внешней и внутренней политики как в
России, так и в Японии, в частности, сопоставил календарь
дипломатических фактов с календарем событий русской ре-
волюции и показал в результате такого сопоставления, что
царизм ради подавления революции был готов принести в
жертву интересы империи — лишь бы отсрочить свою конеч-
ную гибель.
Б. А. Романов работал над монографией с большим тру-
дом, с перерывами, связанными с обострением болезней, но
и с колоссальным увлечением. Он писал 20 мая 1953 г.
В. Н. Куну: «В этой работе (поистине каторжной, как вспо-
минаю, и для мозговых сосудов, и для глаз) меня увлекало
то, что я называю сцепкой фактов, рассыпанных по всему
земному шару и сплетавшихся во взаимозависимости. Тако-
ва, например, перекличка шести империалистических столиц
во время Портсмутской конференции <...> Или сцепка рево-
люционных событий с дипломатическими сцепками и акта-
ми— в календарной ясности. Когда подобные сцепки удава-
лись, я радовался, как дитя. В результате не жалею, что за-
губил на этом жисть свою». По существу о том же
Б. А. Романов писал Е. Н. Кушевой 19 ноября 1951 г.:
«Самое для меня интересное было следование по пятам за
жизнью, выслеживание в ней реальных невидимых связей в
362
пространстве и во времени — и создание „занимательного из-
ложения “ в „хронологической последовательности*1 (и реаль-
ной связанности). Это возможно было только на рассмотре-
нии „бесконечно малых**. Словом, как и прежде, у меня это
был эксперимент „приема** работы». Впрочем, для него «при-
стальное рассмотрение мелочей <...> мелких конкретностей
с одновременным охватом широкого фона» необходимо
было для того, чтобы «разглядеть как раз то, что скрывается
за фоном, а вовсе не то, во что всматриваешься». «Теперь
по опыту могу сказать, — писал Б. А. Романов Н. Л. Ру-
бинштейну 31 декабря 1954 г., — что писать на международ-
ные темы — это вроде исполнения нескольких ролей в одном
спектакле. А у меня в данном случае было шесть ролей:
шесть стран и шесть национальностей, за которые отдувался
один я».
Важную задачу «интернационализации» всего построения
книги Б. А. Романов рассматривал, в частности, и в аспекте
ее «американизации». Его заботило, удалось ли ему «урав-
новесить политические фигуры Витте и Рузвельта в дейст-
вии». «Я дал им волю жить,—писал Б. А. Романов, — по
„свободному расписанию**, только искоса присматривая за
ними, и мне бы хотелось проверить применимость этого ме-
тода на таком широком пространстве. Наоборот, в крайне
тесные рамки я поставил (даже замуровал) Вильгельма с Ни-
колаем в Бьорке (тоже за политическим занятием) — и эта
задача в свое время очень увлекала меня (в профессиональ-
ном плане) <...> Не так уж трогает меня, что скажет „пе-
чать“ (т. е. все те же «Вопросы истории», ведущие жизнь
укутанного от сквозняков схимника): к тому времени и в
живых-то не чаю быть» (М. Я. Гефтеру. 4 января 1956 г.).
Американский аспект книги, несмотря на частичную
конъюнктурность этого сюжета, был сопряжен Б. А. Рома-
новым с общим контекстом исследования: «Максимум уси-
лий потрачен на рассмотрение американского участия. Но
это потянуло за собой всех прочих империалистов. Так что
в иных случаях являются рецидивы „переклички шести сто-
лиц“» (Е. Н. Кушевой. 19 ноября 1951 г.). Автора радовало,
что книга существенно выросла в объеме по сравнению с
первым ее изданием «за счет ряда новых сюжетов» и в ре-
зультате «выходит действительно „дипломатическая история
войны**, и очень детально демонстрирует дипломатическую
работу именно месяцев военных действий в подрыв представ-
ления, что работу дипломатов сменяет работа генералов, а
затем работу генералов, за ее истощением, сменяет работа
363
отдохнувших за стойкой дипломатов» (А. С. Ерусалимскому.
27 октября 1951 г.).
Еще накануне выхода книги в свет и сразу после этого
Б. А. Романов стал в своих письмах подводить некоторые
итоги работы над ней. Так, 17 января 1955 г. он писал
Е. Н. Кушевой: «...я не жалею, что поработал эти годы над
кучей вопросов, для меня новых и очень интересных, очень
расширивших мой горизонт знаний и мой опыт по части ис-
следовательских приемов». Те же мотивы были затронуты
Б. А. Романовым в письме 1955 г., адресованном Н. М. Дру-
жинину: «Не мне судить, насколько этот невольный опыт
оказался удачным. Но он — первый в нашей (и не нашей)
литературе, и я не испытываю стыда за то, что не отступил
перед подброшенной мне судьбой задачей, хотя и превышав-
шей мои силы. Не жалею я и о том, что я несомненно их
подорвал, спеша соблюсти сроки. Никто другой за меня не
проделал бы этой работы сейчас». А накануне подписания
книги в печать, 4 ноября 1955 г., Б. А. Романов писал
А. Л. Сидорову: «И все же я не жалею, что <...> вынужден
был перебазировать всю работу на иностранные источники
и придать книге международный характер: для меня это был
адов труд — парадировать поочередно в шести националь-
ных шкурах. Меня поддержал тут пример моего учителя
(А. Е. Преснякова), никогда не замыкавшегося в рамках на-
ционального пошехонья, а увлекал меня нараставший инте-
рес к новому и неведомому и чувство нового в самой зада-
че— создать международно-политическую книгу такого меж-
дународного горизонта, которого не достигало пока ни одно
единоличное советское исследование. Не мне судить, на-
сколько удался этот опыт, но насколько полезно и интересно
для меня было проделать такое расследование и воздвигнуть
такое сложное и объемное построение, — кому же это и
знать, как не мне самому. Потому и не жалею, что пришлось
под конец дней поработать в несколько противоестественной
позе, но зато оглядывая весь почти горизонт».
Книга (объемом в 60 печатных листов) вышла в свет
1955 годом,8 но на самом рубеже 1956 г. (дарственные эк-
земпляры книги датированы декабрем 1955—январем
1956 г.). Представляя ее в предисловии («От автора»), от-
мечая «изменения» в «строении и пропорциях»9 и указывая
на те разделы, части и дополнения, которые теперь внесе-
ны во второе издание, Б. А. Романов настаивал на том,
что, «хотя книга выросла почти вдвое — это только пере-
издание», поскольку «основной предмет <...> исследова-
ния— по-прежнему дипломатическая история русско-япон-
364
ской войны, как войны, которая всей тяжестью легла на
великий русский народ прежде всего и которая в какой-то
мере вторглась в решение его судеб».10
Во втором издании книги Б. А. Романов стремился ми-
нимизировать конъюнктурные элементы, свойственные пер-
вому ее изданию. Он снял эпиграф, представлявший собой
цитату из речи Сталина в день победы над Японией (3 сен-
тября 1945 г.). Оставшиеся ритуальные ссылки на «классиков
марксизм а-ленинизм а» получили несколько иное звучание.
Об этом Б. А. Романов писал 15 марта 1955 г. Е. Н. Куше-
вой: «У меня отвращение к так называемым „спискам лите-
ратуры и источников**. Такое же отвращение у меня к глухим
ссылкам на Ленина: том, страница — о чем и что, в какой
день — якобы читателю наплевать. Даю развернутые ссылки
повсюду: Ленин у меня скорее суфлер событий, страстный
современник, а вовсе не склад цитат».
После выхода «Очерков...» в свет Б. А. Романов неодно-
кратно возвращался в письмах к отдельным их особенностям
и своему самоощущению: «Сам по себе выход книги в свет
не полностью отделяет ее от организма автора, и все та же
нагрузка продолжает давить все на те же точки его костяка.
Пока — книга действительно взяла от меня все, что могла,
опустошила и обессилила <...> Книга пока все еще не сошла
и с моего стола. Видимо, и в нашем деле есть своя „биоло-
гия“ (и ее закономерности). И все же, если бы не книга, не
вылезти бы мне было из моих болестей, ее власть надо мной
оказалась сильнее тяги книзу» (Г. В. Сидоровой. 13 февраля
1956 г.).
Подобным же образом Б. А. Романов описывал свое со-
стояние Е. Н. Кушевой: «Сейчас еще не совсем пришел в
себя и не могу еще освоиться с новым своим положением.
Работа эта висела надо мной тяжелым колпаком, готовым
вот-вот свалиться на меня и раздробить мне череп. Глав-
ное— был страх, что не закончу и некому будет закончить!».
В другом письме тому же адресату (от 24 января 1956 г.)
Б. А. Романов писал: «Страсть к поискам „связей между
массой фактов**—давняя моя страсть. Она же очень облег-
чила мне работу над „людьми и нравами**! Этим же приемом
я работал тут. В свое время Н. Н. Воронин, принимавший
от меня „людей**, когда они еще числились в „Культуре
Древней Руси**, прочитав мое „дипломатическое развязыва-
ние войны**, сказал, что только теперь понял, как я мог сде-
лать именно „людей** <...> Этот прием — в высшей степени
изнурительный <...> За ним стоит движущийся лабиринт ли-
хорадочно мелькающих гипотез, нащупывающих эти связи.
365
Сознаюсь, что, перечитывая отдельные места, я впадаю
часто в недоумение, как я подхватил ту или иную связь — в
том больном состоянии мозга, которое постигло меня в 52
году. И в то же время я подозреваю, что только перенапря-
жение диалектически вытащило меня тогда из пропасти, в
которую я было провалился».
Радовала Б. А. Романова и проверка на практике приме-
няемых им приемов работы: «Есть <...> забавный эпизод с
рискованной (особенно для эпохи империализма, перенасы-
щенной материалами, не в пример нашим XVI-м векам) ги-
потезой, изложенной в первом издании на стр. 265—267 и
передоложенной уже не в виде гипотезы, а с абсолютными
фактами в руках на стр. 258—260 — уже без всякого риска!
Наконец, в книге нет „заключения", к которым я всегда ис-
пытывал неодолимое отвращение» (Е. Н. Кушевой. 8 января
1956 г.).
Переживания, связанные с выходом второго издания
«Очерков...», нервное напряжение, сопровождавшее весь пе-
риод работы над ними, итоговый их характер, по оценке
самого Б. А. Романова, наконец, предчувствие скорой кон-
чины неизбежно возвращали его к размышлениям о своем
жизненном пути. Отсюда — соотнесение его с обстоятельст-
вами появления последней крупной работы: «...моральное со-
стояние у меня не такое, чтобы „отдыхать" или радоваться
выходу книги. Наличие последней, наоборот, только подчер-
кивает отвратительность окружающего и несвоевременность
твоего появления на свет» (Е. Н. Кушевой. 16 декабря
1955 г.). Тот же мотив звучит в письме от 4 декабря 1955 г.
М. Я. Гефтеру: «Беда в том, что отдых мне нужен от самого
себя, а я буду везде с собою. Глазами пока еще вижу, хотя
и хуже. Но душа моя полна мрака...».
Второе, дополненное и исправленное, издание книги
«Очерки дипломатической истории русско-японской войны»
стало лебединой песней Б. А. Романова.
ПРИМЕЧАНИЯ
1 Имеется в виду новая глава о Портсмутской мирной конференции
для второго издания «Очерков...».
2 Протокол заседания группы истории СССР ЛОИИ от 10 января
1952 г.: Архив СПб. ФИРИ, фонд текущей документации, on. 1, ч. 1, д. 19,
л. 5—13.
3 Б. А. Романов — В. Г. Гейману. 29 сентября 1952 г.: ОР РНБ,
ф. 1133, д. 210.
4 Сорокин А. И. Оборона Порт-Артура. 3-е изд. М., 1954.
366
5 Сорокин А. И. Рецензия на монографию Б. А. Романова «Очерки
дипломатической истории русско-японской войны. 1895—1907 гг.». 2-е изд.,
доп. Изд-во Академии наук СССР, 1955: Архив СПб. ФИРИ, ф. 298, on. 1,
д. 286, л. 1—10.
6 Письмо Б. А. Романова в дирекцию Института истории АН СССР
«по поводу „рецензии генерал-майора Сорокина1*» на «Очерки дипломати-
ческой истории русско-японской войны». 29 августа 1955 г.: Архив СПб.
ФИРИ, ф. 298, on. 1, д. 131, л. 1—24.
7 Статья, посвященная исследованию хода Портсмутской мирной кон-
ференции, была опубликована еще до издания книги. См.: Романов Б. А.
Портсмутская мирная конференция//ИЗ. 1954. Т. 46. С. 63—126.
8 Романов Б. А. Очерки дипломатической истории русско-японской
войны. 1895—1907. 2-е изд., испр. и доп. М.; Л., 1955.
9 Там же. С. 7.
10 Там же. С. 10.
— 18 —
«ЭТО ОЧЕРЕДНАЯ МОЯ ФАНТАЗИЯ,
БЕЗ КОТОРЫХ Я НИКОГДА НЕ ОБХОДИЛСЯ»:
РАБОТА НАД СБОРНИКОМ ДОКУМЕНТОВ
«ВНЕШНИЕ ЗАЙМЫ САМОДЕРЖАВИЯ». РЕАБИЛИТАЦИЯ.
ПОСЛЕДНИЕ МЕСЯЦЫ
Второе издание книги «Очерки дипломатической истории
русско-японской войны» было еще в производстве, а
Б. А. Романов уже обдумывал, чем он будет заниматься в
дальнейшем. 13 февраля 1955 г. он писал Е. Н. Кушевой:
«...мой план на 1955 г. делится между двумя перспективными
работами: комментированием мемуаров Витте и подготовкой
к изданию материалов эпохи империализма. Какая-то из этих
двух должна возобладать над другой, но какая — это зависит
не от меня. Спокойнее для меня было бы комментирование,
тем более, что с него я начинал в 20-х годах свои опыты по
истории империализма. С архивом же дело сложнее, посколь-
ку все же мне в 1949 г. было отказано в разрешении его ис-
пользовать. Сам — второй раз я не стану ломать ногтей и
стоять с протянутой рукой. Да и физически это труднее —
сидеть часами на публике без переменки: всему свое время,
да и давно не пробовал публичной работы».
Однако обстоятельства с прохождением книги сложились
так, что в 1955 г. Б. А. Романов не мог и подумать о начале
работы над новой темой. Когда же на рубеже 1955—1956 гг.
книга вышла в свет, после нервотрепки с нею, наступило ес-
тественное для больного ученого ухудшение состояния здо-
ровья. За несколько месяцев до этого Б. А. Романов писал:
«Основное, что я в 1952 г. не стал полным инвалидом и даже
дотянул до книги — остается чудом, в частности удивитель-
ным для меня достижением живучести. Неудивительно, что
должна была произойти когда-нибудь „разрядка напряжен-
368
ности“. Сравнительно удивительно, что она прошла в срав-
нительно легкой форме» (В. М. Панеяху. 3 августа 1955 г.).
Необходимы были отдых и лечение, и Б. А. Романов от-
правился в подмосковный (ныне в черте города) санаторий
Академии наук «Узкое». Он прибыл туда 25 февраля 1956 г.,
как раз в последний день работы знаменитого XX съезда
КПСС.
27 февраля Б. А. Романов писал, что его ограничили в
прогулках, да и сам он «еще не ходок» (В. М. Панеяху. 27
февраля 1956 г.). Доносящиеся до него известия о только что
прошедшем партийном съезде разбередили старую мораль-
ную травму. Б. А. Романов писал в связи с этим: «Должен
признаться, что чувствую себя хуже — и физически, и мо-
рально. Вижу хуже. Шатает неотступнее. На фоне абсолют-
ного безделья не находишь себе сопротивления taedio vitae1
<...> Это отвращение к инвалидности, освеженное XX съез-
дом» (В. М. Панеяху. 5 марта 1956 г.). В начале марта в уч-
реждениях и на открытых партийных собраниях начали пуб-
лично читать закрытый доклад Н. С. Хрущева на XX съезде
КПСС, разоблачавший «культ личности», и Б. А. Романов
стал получать письма от ближайших учеников из Ленинграда
с глухими упоминаниями о нем. В этой связи он ответил с
раздражением: «Я уже направил» Н. Е. Носову, А. А. Фур-
сенко и Р. Ш. Ганелину «репреманд за бурчание о каком-то
документе, о котором я-де, разумеется, знаю»: Р. Ш. Гане-
лин пишет, что «жалеет о моем отсутствии на открытом со-
брании всех сотрудников», А. А. Фурсенко «„радует4*, что
меня не было. Вы теперь пишете, что оно — „закрытое44. Все
это я могу понять, как гробовую крышку, досрочно опустив-
шуюся над моей исстрадавшейся головой» (В. М. Панеяху.
15 марта 1956 г.). К тому же Б. А. Романов заболел грип-
пом, который еще больше обессилил его.
В самом конце пребывания Б. А. Романова в санатории
приехавший в командировку в Москву А. А. Фурсенко по-
сетил его в Узком и изложил содержание доклада Хрущева.
Реакция была чрезвычайно бурной. Рассказ о зверствах сле-
дователей ЧК—ОГПУ—НКВД—МВД—КГБ всколыхнул в
Б. А. Романове воспоминания о тяжелейших месяцах его за-
ключения в следственной тюрьме ОГПУ. Он плакал, взвол-
нованно говорил о своем неравноправном положении — «по
цвету кожи», о дискриминации, которой подвергался на про-
тяжении четверти века. Позднее, по приезде в Ленинград,
Б. А. Романов прочитал этот «секретный» доклад во фран-
цузском коммунистическом журнале. Свидетель этого
(Б. В. Ананьич) рассказывал, что он, читая, также плакал.
369
Вернулся в Ленинград Б. А. Романов в самом конце
марта или в начале апреля, и здесь ближайшие ученики
стали уговаривать своего учителя срочно подать заявление о
реабилитации. Первоначально он и слышать не хотел об
этом. Всякое напоминание о перенесенных им страданиях вы-
зывало у него волнение и раздражение. Б. А. Романов спра-
ведливо считал, что поскольку он ни в чем не виновен, по-
стольку не ему следует выпрашивать прощения, а власть, ни
за что, ни про что отправившая его в тюрьму и концлагерь,
должна сама позаботиться о реабилитации и принести тем
самым свои извинения. Но по существовавшему законода-
тельству трудовой стаж, накопленный до ареста у тех ре-
прессированных, кто не был реабилитирован, аннулировался,
и это обстоятельство могло катастрофически отразиться на
размере пенсии не только самого Б. А. Романова, но и его
супруги, которой в случае его кончины полагалась бы не-
сколько более увеличенная пенсия по сравнению с уже полу-
чаемой ею. Именно этот аргумент стал тем рычагом, при по-
средстве которого удалось убедить Б. А. Романова подать
все-таки заявление о реабилитации. Предварительно на
приеме у заместителя прокурора Ленинграда побывал
А. А. Фурсенко, которому было сказано, что вопрос будет
рассмотрен по получении заявления от Б. А. Романова.
Оно было направлено Генеральному прокурору СССР
29 апреля 1956 г. В заявлении излагалась суть «дела», предъ-
явленные обвинения в принадлежности к «контрреволюцион-
ной организации», «возглавлявшейся якобы», «как объяснил
<...> следователь», «академиками Платоновым и Тарле». Что
касается «конкретных обвинений», то они заключались в по-
лучении от С. Ф. Платонова денег «для написания <...> вы-
шедшего в 1928 г. научного исследования под заглавием
„Россия в Маньчжурии"» и в составлении сводок «о положе-
нии русской деревни». Б. А. Романов особо подчеркнул, что
«следователь отказался назвать <...> лиц», выдвинувших эти
обвинения, и «отказал <...> в очной ставке» (о существе
«Академического дела» см. выше). Главное же внимание
Б. А. Романов обращал на последствия бессудного пригово-
ра: конфискацию научных материалов, запрещение прожива-
ния в Ленинграде в 30-х годах, высылку из города в 1939 г.,
попытку высылки из Ташкента в 1942 г., незаконное уволь-
нение из университета осенью 1950 г., отказ в допуске в
Архив внешней политики России, угрозу увольнения из
ЛОИИ в 1952—1953 гг., тяжелую болезнь, утрату политичес-
кого доверия, утрату трудового стажа до 1941 г., когда его
наконец приняли на работу в ИИМК.2 К заявлению Гене-
370
ральному прокурору была приложена характеристика с места
работы — ЛОИИ, подписанная его заведующим, секретарем
партбюро и председателем местного комитета профсоюза.3
Одновременно с подготовкой этого заявления Б. А. Ро-
манов занялся судьбой своих двух последних по времени уче-
ников, еще находящихся вне научных учреждений, по его
терминологии, — «младших». Он сумел добиться зачисления
в ЛОИИ Б. В. Ананьича, имея, в частности, в виду совмест-
ную с ним подготовку сборника документов, первоначально
названного «Русские финансы и евро-американский финансо-
вый рынок (1891—1914)». Б. А. Романов задумал переизда-
ние вышедшего в свет еще в 1926 г. сборника документов
«Русские финансы и европейская биржа». Проект предусмат-
ривал опубликование не только переводов документов, как
это было сделано в 1926 г., но и их оригиналов, в основном
на французском языке. 14 апреля 1956 г. Б. А. Романов
писал: «Читаю воспоминания Витте и мотаю на ус, а затем
бываю в Архиве, где за работу посажен мой „четвертый*4 (по
терминологии XVI века!)» (Е. Н. Кушевой. 14 апреля
1956 г.). А уже в конце мая он с удовлетворением сообщал:
«...дела понемногу налаживаются»: Б. В. Ананьич «втянулся
по уши в работу по собиранию материалов для сборника
<...> а за ним втягиваюсь и я. Мне сдается, что найдется
достаточно нового материала, освещающего ежедневные от-
ношения русской и иностранной финансовых сфер. Мне хо-
чется создать представление о том, чем жили эти две сферы
(таинственные сферы!) за кулисами видимой финансовой дей-
ствительности, на ком и на чем держался этот механизм —
представление, которое отсутствует в нашей исторической
науке (и литературе). Словом, это очередная моя фантазия,
без которых я никогда не обходился. Затея моя не рассчита-
на на немедленный эффект. Но я убежден, что со временем,
когда материал этот попадет в умелые руки, он, в искусном
построении, заиграет по-настоящему». Что же касается ком-
ментариев к мемуарам Витте, то эта работа, по словам
Б. А. Романова, его пока «не очень увлекает»: «...во всяком
деле нужен разгон, и у меня достаточно опыта, чтобы не
приходить в смущение» (Е. Н. Кушевой. 26 мая 1956 г.).
Изредка Б. А. Романов приезжал в РГИА (тогда —
ЦГИАЛ), где усиленно занимался Б. В. Ананьич, смотрел
некоторые документы, но основная работа по их выявлению
и отбору лежала на помощнике-ученике. В июне 1956 г. у
Б. А. Романова в который уже раз обострилось заболевание
глазного нерва, и он лишился на некоторое время возмож-
ности не только читать, но и писать. Это затруднило, но не
371
прервало работу над сборником документов. Б. А. Романову
приходилось участвовать в переводе документов на русский
язык на слух, под их чтение Б. В. Ананьичем. Именно таким
образом проходила работа до середины октября, когда оку-
лист разрешил ему писать, понемногу читать и даже дал «ус-
покоительное заключение о почти полной реставрации до-
июньского положения». «Сейчас,—писал он,—пишу на
всех полных правах. Субъективно это легче (просто легко),
чем читать, чему мне надо еще „учиться". И все же мои за-
нятия» с Б. В. Ананьичем «почти совсем вошли в норму, то
есть на место слуха выступило зрение» (Е. Н. Кушевой.
26 октября 1956 г.).
Осенью 1956 г. Б. А. Романов вплотную занялся судьбой
«пятого» (моей). Он считал желательным, чтобы совместно
с ним была начата работа над комментированием «Воспоми-
наний» Витте. В этой связи Б. А. Романов писал: «Теперь и
работа над Витте должна пойти иначе. Конечно, было бы
идеально, если бы и здесь у меня явился помощник, которого
я бы и ввел в источниковедение (эпохи империализма) попут-
но, что мне представляется нормальным путем аспирантской
подготовки на текущей работе. Тут дело не в помощнике-со-
труднике, а в помощнике-ученике. Сомневаюсь, чтобы это
новшество мне удалось провести при косности и злобном за-
вистничестве не имеющих подобной возможности лиц. Этот
„дух", по-видимому, забрался к нам окончательно и надолго
<...> А я серьезно думаю (вслед за Леоном Орбели), что это
единственно правильный путь в науку — через производство
об руку с учителем, а не через экзамены и минимумы и не
через скороспелые диссертации» (Е. Н. Кушевой. 26 октября
1956 г.).
Эту идею Б. А. Романову, как он и предполагал, осуще-
ствить не удалось. Но он приложил исключительные усилия,
получив от директора Института истории А. Л. Сидорова
специальное место в аспирантуре ЛОИИ, для того чтобы я
был принят, несмотря на ряд искусственных препятствий, ко-
торые необходимо было преодолеть и которые были преодо-
лены при поддержке «старших» учеников.
Между тем работа над сборником продолжалась. В него
вошли документы о переговорах Министерства финансов и
агентов этого министерства с иностранными банкирами с
1891 по 1914 г. Кроме того, в сборник были включены не-
которые материалы по истории денежного обращения в Рос-
сии в период русско-японской войны и накануне первой ми-
ровой войны. Б. В. Ананьич ездил в Москву для работы в
АВПР и отобрал там ряд материалов для сборника.
372
Что же касается хода реабилитационного дела, то оно
продвигалось медленно, несмотря на неоднократные теле-
фонные звонки туда А. А. Фурсенко. Прокуратура Ленин-
града, куда оно поступило, ссылалась на то, что в заявлении
Б. А. Романова не зафиксированы обвинения, предъявлен-
ные ему и легшие в основу приговора «Тройкой» ОГПУ.
Этим он вынуждался к тому, чтобы вторично писать заявле-
ние о реабилитации. 15 февраля 1957 г. оно было подано
прокурору г. Ленинграда. В нем указано, что «под нажимом
следователя» Б. А. Романов подписал протоколы допросов,
в которых «значится, что „Кружок молодых историков" был
антисоветским». Вопреки этим, данным под психологическим
и иным давлением показаниям, в заявлении утверждалось,
что они «не соответствуют действительности», так как «кру-
жок носил сугубо академический характер», заседания его
проходили легально, открыто, не тайно, преимущественно «в
красной гостиной Дома ученых и аудиториях Ленинградско-
го университета», на заседаниях «зачитывались доклады на
исторические, а отнюдь не политические темы», часть их из-
давалась в журналах.4
Не прошло и недели, как 21 февраля 1957 г. прокурор
Ленинграда оформил протест (в порядке надзора), направив
его в Президиум Ленинградского городского суда, в котором
указал, что «постановление Тройки ПП ОГПУ» в ЛВО под-
лежит отмене, а дело прекращению. При этом прокурор ссы-
лался на только что поданное второе заявление Б. А. Рома-
нова и пришел к выводу, что он и «остальные члены кружка
„молодых историков" не указали на практическую антисо-
ветскую деятельность как свою, так и других участников
кружка», а «со стороны лиц, производивших расследование
по настоящему делу, применялись недозволенные методы ве-
дения следствия, в связи с чем протоколы допросов» подпи-
саны «вынужденно».5
Б. А. Романов об этом решении ничего не знал. Он про-
должал усиленно вместе с Б. В. Ананьичем заниматься сбор-
ником. Они также решили подготовить для журнала «Исто-
рический архив» часть вновь выявленных документов, объ-
единив их под заголовком «Попытка С. Ю. Витте открыть
американский денежный рынок (1898—1902 гг.)». Б. А. Ро-
манов писал об этой публикации: «...это было четыре листа
американской переписки, требовавшей тщательного перевода
и такого детального обсуждения, чтобы ясно написать слож-
ную вводную статью. А заключает она в себе два открытия:
во-первых, то, что Витте пытался выйти с русским займом
на американский рынок в 1899—1901 гг., и, во-вторых, то,
373
что он предлагал директору Нэшинал Сити банк (создать. —
В. П.) антианглийский, русско-американский банк для опера-
ций в Китае по образцу Русско-китайского. Для специалис-
тов это немаловажные диковинки. Это было рискованное
предприятие — написать нечто вразумительное <...> после
многих месяцев полного молчания» (Е. Н. Кушевой. 23 ап-
реля 1957 г., почерк Е. П. Романовой, подпись Б. А. Рома-
нова).
О публикации этой подборки документов Б. А. Романов
договорился с В. И. Шунковым, который был редактором
«Исторического архива», и 16 апреля 1957 г. Б. В. Ананьич
повез ее в Москву. Весной же у Б. А. Романова произошло
кровоизлияние в мозг. Инсульт, однако, был не очень тяже-
лым, недели на две незначительно нарушилась речь, невос-
становим оказался лишь парез лицевой мышцы. Конечно, ни
о чтении, ни о том, чтобы самостоятельно писать, теперь не-
возможно было и помыслить. Отныне свои письма Б. А. Ро-
манов диктовал жене и только расписывался под ними. В
эти тревожные дни, 23 апреля, из ЛОИИ за подписью уче-
ного секретаря, должность которого занимал тогда один из
«старших» учеников Б. А. Романова Н. Е. Носов, было на-
правлено официальное письмо председателю Ленинградского
городского суда, в котором выражалась просьба «ускорить
находящееся на рассмотрении» суда дело Б. А. Романова,
«опротестованное городской прокуратурой», ввиду того, что
он «после перенесенного недавно кровоизлияния в мозг на-
ходится в тяжелом состоянии».6 Возможно, это ускорило за-
седание президиума Ленинградского городского суда, кото-
рый 26 апреля 1957 г. установил, что «в материалах дела нет
никаких данных, которые свидетельствовали бы о том, что
Романов совершил какое-либо преступление», исходя из чего
суд «постановил: постановление Тройки ПП ОГПУ в ЛВО
от 10 февраля 1931 г. в отношении него прекратить за от-
сутствием в его действиях состава преступления».7 А 29 ап-
реля была датирована справка за подписью председателя
Ленгорсуда о полной его реабилитации,8 которая в тот же
день была получена А. А. Фурсенко по доверенности
Б. А. Романова, написанной его женой.9
Чувства, которые испытал Б. А. Романов, получив этот
документ, были сложными и неоднозначными. С одной сто-
роны, он был рад тому, что тем самым завершился этот тра-
гический, длиною в 27 лет, этап его жизни, и сразу же дал
несколько телеграмм с сообщением об этом (в том числе
А. Л. Сидорову и Е. М. Жукову). С другой же, Б. А. Рома-
нов остро ощущал, что жизнь приближается к концу, и по-
374
тому считал бессмысленной эту акцию. Он не мог не думать
о том, сколь укорочен был его век, исковеркана жизнь, не-
реализованы возможности таланта.
Реабилитация Б. А. Романова облегчила реабилитацию
других лиц, в основном не доживших до нее. В декабре
1957 г., уже после его кончины, было возбуждено дело о ре-
абилитации П. А. Садикова, Н. И. Сидорова, О. Е. Корни-
лович, С. И. Руденко, П. В. Виттенбурга, проходивших, как
и он, по «Академическому делу». Прокуратура города, фор-
мулируя протест, направленный в суд, опиралась в том числе
и на факт реабилитации Б. А. Романова как на прецедент.10
Несмотря на тяжелую болезнь, он рассчитывал вскоре
продолжить свое сотрудничество по подготовке сборника до-
кументов. Так, 23 апреля он сообщал: «На июнь <...> месяц
я заказал себе „плацкарту" на доклад о состоянии работы
по сборнику о русских финансах эпохи империализма, кото-
рый мы предполагаем сдать в первом квартале 1958 г. Он
будет весьма сложного состава, и объем его грозит вырасти
до 80 листов (двуязычного текста). Это будет стоить извест-
ных усилий — провести такого бегемота! <...> Но счастье в
том, что, во-первых, Боря (Б. В. Ананьич. — В. П.) очень
хорошо вработался в дело, и, во-вторых, уже виден конец»
(Е. Н. Кушевой. 23 апреля 1957 г., почерк Е. П. Романовой,
подпись Б. А. Романова).
В мае Б. А. Романов переехал в Пушкин, где по-прежне-
му снимал часть дачи. Сюда к нему ежедневно, часа на три-
четыре, приезжал Б. В. Ананьич для совместной работы над
сборником документов. Б. А. Романов сообщал в этой связи:
«Мне разрешено заниматься (на слух) очень осторожно <...>
Читать самому запрещено до сентября. Действительно, утом-
ляюсь я очень быстро. Я не представлял себе, что переводы
с иностранных языков на слух требуют такого напряжения,
и работа эта имеет отношение к зрительным центрам. Буду
ли я действительно в состоянии сам (и что) читать — посмот-
рим. Теперь же я действительно читать не могу» (Е. Н. Ку-
шевой. 10 июня 1957 г., почерк Е. П. Романовой, подпись
Б. А. Романова). Эта работа так и продолжалась во второй
половине июня и в первой половине июля. Конечно, доклад
Б. А. Романова в ЛОИИ не состоялся. Но он продолжал
вместе с Б. В. Ананьичем работать над сборником докумен-
тов, прогуливался по бульвару, на котором располагалась
дача. В июне знакомый семьи Романовых навестил их и сде-
лал несколько фотографий Б. А. Романова, сидящего в саду
в кресле и живо беседующего с кем-то из гостей.
375
10 июля 1957 г. он продиктовал последнее свое письмо —
А. И. Копаневу, в котором выражалась благодарность за
присланную книгу. Судя по почтовому штемпелю, оно было
отправлено позднее— 17 июля. Однако адресат его получил
после кончины Б. А. Романова, умершего 18 июля 1957 г.
скоропостижно, во время бурной грозы и связанного с нею
резкого перепада атмосферного давления.
До завершения работы над сборником документов
«Внешние займы самодержавия», с которым ученый связывал
такие большие надежды, оставалось совсем немного. Нереа-
лизованными оказались и другие планы Б. А. Романова. За
полгода до кончины ему минуло 68 лет.
ПРИМЕЧАНИЯ
1 taedio vitae (лат.), дательный падеж от taediu vitae — отвращение к
жизни.
2 Архив Управления ФСБ по С.-Петербургу и области, д. П-82333, т. 9,
л. 35—39.
3 Там же, л. 40—43.
4 Там же, л. 34.
5 Там же, л. 32—33.
6 Там же, л. 46.
7 Там же, л. 47—48.
8 Там же, л. 50.
9 Там же, л. 53.
10 Там же, л. 72—73.
— 19 —
«В ПЛАНЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ИСТОРИЧЕСКОМ
(И ДАЖЕ ТЕХНИКИ НАШЕГО ИСТОРИЧЕСКОГО РЕМЕСЛА)
МНОЮ РУКОВОДИЛО „ЧУВСТВО нового*»
Анализируя в этой книге труды Б. А. Романова, я уже
отмечал, что их системообразующими особенностями были
верность школе и новаторство. Столь, казалось бы, проти-
воречащие друг другу, они сочетались в его исследованиях с
редкостной гармоничностью и цельностью. Здесь же я хотел
бы остановиться на самом трудно уловимом процессе твор-
чества Б. А. Романова, отчасти опираясь на высказывания
его самого, отчасти на мнение более или менее близко знав-
ших его коллег, наконец, отчасти на свои собственные на-
блюдения, а также коснуться того, как он, исходя из собст-
венного профессионального опыта, оценивал труды истори-
ков и некоторые текущие события жизни науки, о которых
не шла речь выше. При этом я постараюсь по возможности
не повторять уже сказанное в предыдущих главах, хотя в от-
дельных случаях придется возвращаться к нему для того,
чтобы высветить те грани творческого почерка Б. А. Рома-
нова, которые были охарактеризованы, как мне представля-
ется, недостаточно.
Его верность школе выражалась в убеждении, что в ос-
нове любого построения лежат источники и устанавливаемые
в результате их углубленного анализа факты. При этом
Б. А. Романов не был склонен к формулированию превен-
тивных и тем более отвлеченных теоретических концепций,
связанных с философским осмыслением исторического зна-
ния. В этом отношении он был далек от того направления,
которое в Петербурге олицетворял А. С. Лаппо-Данилев-
ский, хотя у него в семинаре Б. А. Романов почерпнул не-
обходимые навыки работы с актовым материалом. Он был
377
прежде всего профессионалом-практиком. Правда, однажды
в предисловии к книге «Люди и нравы древней Руси»
Б. А. Романов сформулировал ряд методологических прин-
ципов, обобщающих его собственный опыт работы с источ-
никами, восходящими к раннему периоду истории Руси, тон-
кий и мастерский анализ которых позволил ему вступить в
диалог с прошлым и тем самым преодолеть, казалось бы,
непреодолимые барьеры, отделяющие это прошлое от насто-
ящего.
Поэтому противоположные точки зрения, высказанные
Б. С. Кагановичем и А. Я. Гуревичем, по поводу отношения
Б. А. Романова к методологии равным образом представля-
ются мне односторонними и не опирающимися на твердые
основания. Б. С. Каганович привел со ссылкой на аноним-
ного свидетеля слова, якобы как-то связанные, с Б. А. Рома-
новым: «Заниматься методологией — то же, что доить
козла». Автор не связал это высказывание с навязшей у всех
на зубах «марксистско-ленинской методологией».1 Ему тут
же возразил А. Я. Гуревич, указавший на то, что слова
Б. А. Романова, автора замечательной книги «Люди и нравы
древней Руси», «следует понимать в контексте идеологиче-
ской ситуации сталинской эпохи, когда под словом „методо-
логия" подразумевалась определенная догма, отступление от
которой неукоснительно каралось».2 Но, быть может,
Б. А. Романов и оба вступивших в дискуссию уважаемых ис-
торика — каждый из них — вкладывали разное содержание в
понятие «методология», равным образом отличное, разуме-
ется, от догматического?
Преобладающее влияние на формирование Б. А. Романо-
ва как историка-профессионала оказала та ветвь петербург-
ской исторической школы, которая восходила к В. Г. Васи-
льевскому и была представлена прежде всего С. Ф. Плато-
новым и особенно А. Е. Пресняковым. Непосредственный
учитель Б. А. Романова, историк «необычайно глубокого
образования и разносторонних интересов», осторожный,
вдумчивый и чуткий критик древнерусских текстов, обладав-
ший острым критическим глазом и пытливой внимательно-
стью «ко всему, что им самим не было замечено и что да-
вало бы ему повод еще и еще раз пересмотреть, казалось бы,
„решенный" для него вопрос»,3 всегда оставался для
Б. А. Романова наибольшим авторитетом, с мыслимой ог-
лядкой на которого он работал на протяжении всей своей
творческой жизни.
Б. А. Романов считал, что именно под руководством
университетских учителей у него выработалась «острота и
378
изощренность документального зрения и изучения».4 Он был
глубоко убежден, что наука «не может по-настоящему дви-
гаться вперед» без умения «брать от технических традиций
русской историографии»,5 и сам был неизменным носителем
общих фундаментальных принципов, провозглашенных пе-
тербургской исторической школой и реализованных на прак-
тике ее крупнейшими представителями.
Вслед за А. Е. Пресняковым Б. А. Романов стремился к
«упорному и упрямому, неуклонному и мелочному» «восста-
новлению прав источника и факта»/ очищенных от давления
«теории», «идеологии» и «историографической традиции», а
в необходимых случаях — к «возведению непроницаемой
плотины из фактов».7 Он ценил «тщательность и упорство в
обследовании любого источника для извлечения из него хотя
бы мельчайшей крупицы в интересах восстановления истори-
ческого факта или измерения степени достоверности сооб-
щаемой источником детали, как бы мелка она ни была». Ему
импонировала «прозрачная» манера изложения, ведущая к
тому, что «автор <...> трактует своего читателя, как спутни-
ка в его авторских разысканиях, в присутствии которого
автор работает над своими источниками и мыслит вслух по
поводу того, что в них находит, не отступая от <...> дис-
курсивного метода ни на шаг, ни на минуту». «Благодаря
этому приему изложения, — считал Б. А. Романов, — читате-
лю легко видеть, как автор приходит к любому своему вы-
воду и как капризные показания источников создают тупики,
из которых надлежит искать выхода посредством предполо-
жений». При этом автор должен обладать «необычайной вы-
держкой» и «тонким мастерством» «в ведении „следствия“ и
учинении форменных допросов свидетелей, не проявляя при-
страстия ни к одному из них и терпеливо выслушивая их по-
казания до последнего слова». Это «помогает <...> до пре-
дела доводить <...> сдержанность <...> в своих ответствен-
ных заключениях и точность в формулировках даже весьма
приблизительных вычислений, каждый раз с отметкой степе-
ни приближения», что только и «гарантирует автору» необ-
ходимый «самоконтроль». Историк, отмечал Б. А. Романов,
не может не «считаться с неписанным и нигде не высказан-
ным требованием» — «взявшись за тему <...>, исчерпать ее
до конца, до малейшей соринки». Только в этом случае для
него становится «дорогой, на вес золота, не только любая
фактическая деталь, но и любая источниковедческая загадка,
хотя бы решение ее ограничилось установлением лишь ис-
точниковедческого эпизода». Неуклонное следование этим
принципам при «овладении <...> материалом, в обращении
379
с которым» обнаруживаются «и уверенность, и насторожен-
ность, и чутье, и зоркость глаза», «в совокупности образуют
то, что можно назвать настоящим исследовательским мастер-
ством»,8 — был убежден Б. А. Романов.
К вопросу о «зоркости исследовательского глаза, иссле-
довательской находчивости, сдержанности в выводах при
анализе источников», необходимости «выворачивания наиз-
нанку уже использованных (ранее. — В. П.) источников <...>
с целью — до отказа отжать любой источник и не упустить
мелочей, пригодных для исследования изучаемых явлений»,
«дискурсивного пути» изложения, что дает «возможность
ясно видеть все машинное отделение <...> исследовательской
лаборатории» автора, он возвращался не один раз. Б. А. Ро-
манов считал, что не может быть предела «ухищрениям че-
ловеческого мозга» и «усилиям <...> рабочего аппарата» ис-
торика с целью «высосать из источника все без остатка».
Именно и только для этого, согласно его убеждению, на
пути решения возникающих источниковедческих задач следу-
ет прибегать к инструментарию, каким являются вспомога-
тельные исторические дисциплины. Но Б. А. Романов реши-
тельно расходился с А. С. Лаппо-Данилевским и его учени-
ками, придававшими им самодовлеющее значение. Недаром
один из них, С. Н. Валк, особо подчеркнул, что для
Б. А. Романова «дипломатика являлась в точном смысле
этого слова вспомогательною к историческому исследованию
дисциплиной», играющей именно и только «служебную»
роль «для собственно исторического исследования».9 Иной
подход к служебным дисциплинам Б. А. Романов восприни-
мал как оторванный от жизни бесплодный формализм. В
этом контексте представляет интерес его суждение о работе
А. А. Зимина над книгой о Пересветове: «Исторически тема
с Пересветовым очень трудна и требует очень многочислен-
ной „труппы" и „хоров". Если же ее свести к ковырянию в
списках, то она перестанет быть исторической <...> Пересве-
тов — соло невозможен, неинтересен, скучен». Он требует
опыта и вкуса «для сложных постановок» и «слуха для сим-
фонических подач <...> Много нужно пожить с этой темой,
много каши съесть с Иваном Семеновичем, чтобы загово-
рить о нем на языке эпохи, а не на языке текстолога»
(Е. Н. Кушевой. 17 февраля 1954 г.). Также и в рецензии на
книгу Д. С. Лихачева «Русские летописи и их культурно-ис-
торическое значение» Б. А. Романов одобрительно отнесся к
тому, что у автора чувствуется «отвращение к формалисти-
ческой трактовке своего специального материала и тяга к
380
<...> реалистическому, плотно примкнутому к бурям и буд-
ням общественного развития литературоведению».10
Само собой разумеется, что Б. А. Романов высоко оцени-
вал выдающиеся труды А. А. Шахматова, А. Е. Преснякова и
М. Д. Приселкова в области летописного источниковедения,
равно как и штудии А. С. Лаппо-Данилевского и его учеников
по актовому источниковедению, но у него самого не было
вкуса к такого рода специальным исследованиям. Однако на
разработанные ими методики он постоянно опирался в своих
изысканиях. Так, критика Б. Д. Грекова, допустившего, по
словам Б. А. Романова, «протокольную» трактовку «в наив-
но-реалистическом роде», «литературных» (летописных) текс-
тов, в частности о Долобском съезде древнерусских князей
перед походом на половцев (с признанием того, что и он сам
в первой своей, еще студенческой, работе «отдал дань прото-
кольной трактовке» этого же текста),11 явно опиралась на фун-
даментальные концепции А. А. Шахматова. Точно так же
Б. А. Романов применил элементы клаузального анализа при
исследовании одной из самых загадочных жалованных грамот
русского средневековья.12
В процессе занятий проблемами древней и средневековой
истории Руси, отличающейся скудостью материала, проявил-
ся особый дар Б. А. Романова «в сотый раз переворачивать
давно известные источники и из крупиц строить и перестра-
ивать наши исторические представления об эпохе».13 В книге
о «людях» и «нравах» он даже высказался против того,
чтобы считать, как полагал А. Е. Пресняков, «вопрос о
смердах» «крайне спорным — надолго, может быть, навсег-
да»: «...у меня нет разумных оснований считать, что этот во-
прос— как спорный — вовсе уже вышел в тираж»; что же
«касается „скудости данных**, то новые данные историки,
может быть, будут еще искать и находить не только в текс-
тах с термином „смерд**, айв иных текстах, а главное, в
иных аспектах при изучении даже старых данных».14
Б. А. Романов и сам в своих исследованиях виртуозно
искал и находил в езженных-переезженных источниках новые
аспекты для воссоздания тех или иных элементов прошлого,
новые возможности анализа источников и их интерпретации
и был убежден (в том числе применительно к своим иссле-
дованиям по международно-политической проблематике рус-
ско-японской войны), что «можно <...> всю жизнь занимать-
ся большой темой и вновь находить новые факты и новые
аспекты». И даже после выхода в свет получившей признание
книги И. И. Смирнова «Восстание Болотникова» и в связи
с последующей критикой ее А. А. Зиминым Б. А. Романов
381
высказал мнение, что опять «настало время заняться источ-
никоведческими экскурсами вокруг» этой проблемы, выразив
убеждение, что «на этом пути явятся кое-какие новые факты»
(Е. Н. Кушевой. 15 декабря 1953 г.).
Б. А. Романова неизменно увлекало «„чувство нового"
при пересмотре сплошь старого, иногда затасканного мате-
риала», в силу чего в его руках «мертвый прежде документ»
неожиданно оживал. Его интерес «к новому и неведомому»
постоянно, по мере углубления в ту или иную проблематику,
нарастал. Д. С. Лихачев справедливо заметил, что Б. А. Ро-
манов, используя «хорошо известные источники <...> ставит
этим источникам такие вопросы, которые им еще не предла-
гались»,15 и тем самым не только раскрывает их информа-
тивные возможности, но и показывает резервы человеческого
мозга и исследовательской техники, позволяющие углублять-
ся в прошлое. В то же время Б. А. Романов проявлял при
этом крайнюю осторожность и даже бдительность. Он под-
черкивал, что обращение, например, к «литературным памят-
никам древности с прямыми требованиями прямых ответов
на прямые вопросы, которые интересуют историка, но чужды
старому автору, — угрожает утратой исторической, жизнен-
ной правдивости построения, утратой должной перспекти-
вы».16 Такого рода «литературные повествования <...> не
застрахованные часто от плеоназмов (pars pro toto),17 учетве-
рения терминов, повторений, недомолвок, нельзя тракто-
вать» строго логически.18
Это глубокое понимание характерных особенностей раз-
ных эпох и различных источников, признание их неисчерпа-
емости для исторической реконструкции и в то же время спе-
цифичности познавательных потенций отдельных их видов
позволяли Б. А. Романову, проявляя поразительную прони-
цательность и применяя все новые и новые приемы их ана-
лиза, не выходить за пределы реалистической их интерпре-
тации. «Реализм мышления», считал он, такая черта, без ко-
торой «не может быть историка» (Е. Н. Кушевой.
30 октября 1950 г.), решающего задачу — заставить истори-
ческие источники «заговорить <...> на языке жизненной
правды» и тем самым попытаться отобразить многообразие
«реальной жизни».19 Свои исследования «недавнего прошло-
го», в частности экономических и социально-политических
проблем, Б. А. Романов неизменно ставил на твердую реа-
листическую почву, не принимая манеру изложения, которой
были присущи «причитания», «воздыхания» и «выражения
печали».
382
Но «ухищрения человеческого мозга», о которых он
писал, не сводятся только лишь к рациональному анализу.
Первичным толчком к нему всегда служит интуиция, являю-
щаяся мощным инструментом научного творчества. У
Б. А. Романова это, вероятно, врожденное свойство ума
было развито исключительно сильно. Сам он называл его чу-
тьем, «историческим чутьем», ощущением, «чувством». Роль
этого побудительного толчка к последующему анализу в
творчестве Б. А. Романова была отмечена впервые
С. Н. Валком, который в еще студенческой его статье отме-
тил самопризнание автора: «...началась его работа с того,
что ему „чувствовалось <...> неприемлемым“ обычное в ли-
тературе мнение о двух смыслах термина „смерд“ (широком
и узком) и что теперь произведенное им исследование „по-
зволило несколько обосновать это ощущение**».20 Так и во
всем дальнейшем творчестве интуитивные прозрения
Б. А. Романов всегда проверял строгим источниковедческим
анализом, стройной логикой аргументов, что позволяло ему
подтверждать либо отвергать первоначальные чувственные
восприятия. Впрочем, как правило, интуиция не изменяла
ему и являлась своеобразным лучом прожектора, направля-
ющим исследовательский поиск ученого.
Этот поиск был устремлен на то, чтобы, комбинируя
цели, методы и приемы анализа источников, предложить чи-
тателю новое их прочтение и на этой основе глубже проник-
нуть в толщу жизни людей прошлого или их социальных
групп, понять движущие силы их деятельности, поступков,
выявить механизм социальных, политических или экономи-
ческих процессов.
Глубокое понимание природы источников, соотношения
между ними и историческими фактами позволяло Б. А. Ро-
манову прибегать не только к апробированным в историче-
ской литературе методам и приемам их анализа, но всякий
раз изыскивать новые, либо только и применимые к отдель-
ным их видам, либо носящие универсальный характер.
Даже следуя за А. А. Шахматовым, А. Е. Пресняковым
и М. Д. Приселковым в работе над литературными текстами
(летописями) в новаторской книге «Люди и нравы древней
Руси», он внес новое содержание в способы их интерпрета-
ции. Б. А. Романов, «применяя к ним метод литературного
анализа», рассматривал летописное повествование «не как
счастливо сохранившееся подобие „газетной** (хотя и бедной)
хроники, а как литературное произведение данной историче-
ской секунды, отразившее прежде всего эту секунду с ее зло-
бами дня, полемиками и борениями, — трактуя автора лето-
383
писной записи, как одного из тех „людей"», которых он имел
в виду в исследовании о «людях» и «нравах» древней Руси,
«то есть как безымянное действующее (в данном случае —
пишущее) лицо». Только «беря летописный текст как призму,
через которую преломляется прежде всего этот литературный
факт», принимая во внимание ничем не сдерживаемую тен-
денцию пишущих — «либо к идеализации, либо к осуждению,
даже опорочиванию описываемого действия, лица или груп-
пы», Б. А. Романов позволял себе «осторожно пользоваться»
всего только «силуэтными отображениями в этом тексте так
называемых исторических фактов, попавших в летописное
изложение».21 Заслуживает внимания осторожность, с кото-
рой автор подходит к результатам анализа летописей. Ведь
недаром он «факты», устанавливаемые данным способом,
квалифицирует в качестве «так называемых». Насколько это
противостоит тенденции использования в исторической лите-
ратуре летописей вкривь и вкось — безотносительно ко вре-
мени и месту их создания, и вообще как «газеты», сообщаю-
щей о тех или иных «фактах»! С легкой руки С. Н. Чернова
этот способ стал характеризоваться как потребительское от-
ношение к источникам.
В известной степени аналогичный, но в данном аспекте
абсолютно новаторский (небывалый, по словам С. Н. Валка)
прием Б. А. Романов применил к юридическим памятникам
(преимущественно к «Русской Правде») — «прием тоже лите-
ратурной трактовки литых юридических формул, задаваясь
каждый раз вопросом, какие конкретные варианты житей-
ских ситуаций имелись в виду авторами этих памятников».
Он снова подошел к ним как к «призме», своеобразно пре-
ломлявшей не только правовые нормы, но и все многообра-
зие «реальной жизни, которую законодатели тщились уло-
жить в прокрустово ложе своей законодательной воли».22 Ин-
терпретируя правовые нормы, Б. А. Романов не отказывался
от того, чтобы «идти путем умозаключения от наличия за-
прета или кары к распространенности запрещаемого или ка-
раемого действия и от наличия совета или предписания — к
отсутствию в повседневном быту предписываемой нормы по-
ведения или к обычности ее нарушения». И в этом случае
он допускал, что не исключена ситуация, вынуждающая «от-
казаться от поисков подлинного факта», но она, по мнению
Б. А. Романова, не фатальна, поскольку «остается ценить
возможность всмотреться в мелочи жизни, в людей, в черты
быта и нравов эпохи».23
Не менее новаторским оказался прием, который был на-
правлен на поиски в «литературе» этой «эпохи» отражения —
384
«не косвенно и частично, а непосредственно и цельно, как
проблема или сюжет» — «процесса классообразования», но
не абстрактного социального феномена, а в виде облеченной
«в плоть и кровь фигуры субъекта этого процесса, возможно
шире способной к социальной передвижке — на деле или в
потенции, все равно». Б. А. Романов стремился к преодоле-
нию «статического характера» построения, чему служило вве-
дение в композицию изложения не только «мотива динамики
<...> во времени» каждой из «отстоявшихся» социальных ка-
тегорий (челядь, смерды, феодалы двух видов — светские и
духовные), даже и «с отметкой всякий раз тенденции» их
«развития», но и мотива «перекликания этих тенденций в
симбиозе этих категорий» и мотива внутрикатегорных про-
тиворечий, чтобы «заштриховать межкатегорные пустоты и
уловить следы людских резервов процесса классообразова-
ния». Б. А. Романов исходил из убеждения, что «в сложном
и извилистом ходе этого процесса, завязывающего и рвущего
узлы в жизни „людей“, есть своя не только (во времени), но
и, так сказать, поперечная динамика, мятущая этих людей
как в географическом, так и в социальном пространстве —
пока-то их прочно прибьет к тому или иному берегу, обще-
ственному стандарту».24
Но поскольку «бесполезно было обращаться к привыч-
ным <...> источникам» «в поисках этого рода фигуры», «в
расчете найти ее там готовой», Б. А. Романов поставил
перед собой новаторскую задачу — «реконструировать этого,
недостававшего среди вовлеченных» в его «исследование
„людей", человека чисто литературоведческим (хотя, кажет-
ся, не очень популярным среди <...> литературоведов древ-
ности) приемом воссоздания, путем анализа данного литера-
турного произведения, облика читателя, на которого оно
рассчитано и для которого имело бы животрепещущий инте-
рес».25 Этот прием был применен Б. А. Романовым к
«Слову» Даниила Заточника, «довольно позднему, но зато
итоговому и разностороннему, острому и вдумчивому „чело-
веческому документу" из литературного наследия эпохи».
Тем самым он ввел в свое построение и изложение найден-
ный им культурно-исторический тип «как живое действую-
щее лицо и как своего рода реактив при пользовании иными
историческими памятниками с их стандартными формулиров-
ками». Анализ содержания этого памятника и «родство его
с отдельными элементами иных современных ему русских па-
мятников» привели Б. А. Романова «к построению понятия
(под условным названием) „заточничества" (ничего общего
не имеющего с представлением о «заточении» куда бы то ни
13 В. М. Панеях
385
было), как широко распространенного общественного явле-
ния XII—XIII вв.». Автор пользовался реконструируемой им
«силуэтной фигурой читателя „Слова" («заточника», «заточ-
ников»)» на протяжении всего своего изложения «как не
предусмотренной никакими юридическими стандартами раз-
новидностью жертвы или субъекта классообразования, —
разновидностью, которую конкретная историческая случай-
ность может поставить в то или иное общественное положе-
ние в зависимости от конъюнктурных обстоятельств». Само
же содержание «Слова» Даниила Заточника послужило авто-
ру «еще одной призмой, через которую преломилось немало
кусков и закоулков русской жизни XII—XIII вв.».26
Д. С. Лихачев указал на то, что введение Б. А. Романо-
вым в ткань своего изложения в качестве «посредствующего
звена между собой и читателем Даниила Заточника», своеоб-
разного «ища», «чтобы водить с его помощью читателя
книги по всем кругам социальных мытарств древней Руси»,
внесло «в историческое исследование столь необходимый со-
циальным наукам научный эксперимент».27 Эта оценка может
быть распространена на книгу Б. А. Романова в целом. Экс-
периментальными были и его другие находки в этой работе.
Д. С. Лихачев же обратил внимание на то, как он «мыслен-
но заставляет» автора одного произведения, Даниила Заточ-
ника, читать другое — «Слово о полку Игореве», и считал
этот новаторский прием исключительно оригинальным и
едва ли повторимым: «...он типично „романовский"».28 По-
добные примеры можно было бы умножить.
Важно, однако, подчеркнуть, что эксперименты, которые
проводил Б. А. Романов в этой книге (над источниками, над
собой и над читателями), были присущи вообще его твор-
ческому почерку. «Промывка текста» Судебника 1550 г.,
«этого бывшего политического мертвеца, наподобие промыв-
ки зеркал», была тоже экспериментом. Сам Б. А. Романов
писал, что он экспериментировал и на материалах новой ис-
тории России, попробовав «применить к одному из протоко-
лов (Портсмутской мирной. — В. П.) конференции анализ
феодального типа и получил неожиданный для самого себя
вывод...». Экспериментом «приема работы» было и «рассмот-
рение „бесконечно малых"» в книге о дипломатической ис-
тории русско-японской войны, и следование, благодаря
этому, «по пятам за жизнью», выявление «в ней реально не-
видимых связей в пространстве и во времени» и создание
«занимательного изложения в хронологической последова-
тельности и реальной связанности». Иногда Б. А. Романов
ставил «микроэксперименты», «безделки эксперименты», как
386
это было с привлечением изданной еще в середине XIX в.
Оболенской боярской книги 1556 г. для воссоздания поме-
щичьих денежных бюджетов и объяснения, опираясь на них,
причин введения статьей 78 Судебника 1550 г. 15-рублевого
максимума при оформлении служилых кабал.29
Эксперименты, искусные комбинации ранее известными и
новыми приемами, стремление «дышать обоими „легкими11
всякой исторической работы», сочетая «зоркость наблюдения
при изучении текста» «с обобщающим осмыслением наблю-
денной в источнике (и в исторической жизни) всякой харак-
терной мелочи», были генеральной линией поиска Б. А. Ро-
манова. Повышенное внимание «к так называемым „мело-
чам1*» не было случайным, поскольку он считал, что
«пренебрежение ими мстит исследователю тем, что оставляет
его без настоящих улик». Благодаря этому приему Б. А. Ро-
манов сумел, в частности, «уловить» в Судебнике 1550 г.
«мельчайшие следы» социально-политической борьбы в 50-х
годах XVI в.
«Мелочи» для него были интересны не только, а во мно-
гих случаях не столько сами по себе, сколько в качестве ору-
дия проникновения в ткань реальной жизни. Внимание к ним
вообще было присуще «школе». Так, в написанном в 1917 г.
А. С. Лаппо-Данилевским отзыве об ученых трудах
П. Б. Струве с одобрением отмечалось, что автор прибегал
к «кропотливым мелочным изысканиям», «пренебрежитель-
ное отношение к которым так еще распространено, к сожа-
лению, в кругу наших ученых обществоведов, свидетельствуя
о недостаточно строгой научной школе».30 Но для Б. А. Ро-
манова «мелочи» служили инструментом особого рода: «Я
тут работал, — писал он, — осознанно примененным и из-
любленным приемом пристального рассмотрения мелочей на
широком фоне — не с тем, чтобы разглядеть мелочи, а чтобы
показать, что кроется за этим фоном». В несколько модифи-
цированном виде сформулировал он эту же мысль в другой
раз: «Здесь я работал осознанно выбранным и любимым
моим приемом рассмотрения мелких конкретностей с одно-
временным охватом широкого фона — с тем, чтобы разгля-
деть как раз то, что скрывается за фоном, а вовсе не то, во
что всматриваешься».
«Страсть к поискам связей между массой фактов — дав-
няя моя страсть, — писал Б. А. Романов. — Она очень облег-
чила мне работу над „людьми и нравами11! Этим же приемом
я работал и тут (при подготовке второго издания «Очерков
дипломатической истории русско-японской войны». — В. П.)
<...> Этот прием — в высшей степени изнурительный <...>
387
За ним стоит движущийся лабиринт лихорадочно мелькаю-
щих гипотез, нащупывающих эти связи». Б. А. Романов счи-
тал, что гипотеза призвана также возмещать недостаточность
материала, а «наука о раннем прошлом» без гипотезы вооб-
ще «ничего не стоит». «До старости лет, — писал он, — донес
свое пристрастие к гипотезам и убеждение, что ими-то и дви-
жется наука, поскольку они вызывают споры <...>, то есть
движение, а не окаменение мысли человеческой». «Мне любы
гипотезы, свободно покачивающиеся, но укрепленные не на
гвоздях, а на тугих винтах», — отмечал Б. А. Романов. Он
ценил такую систему аргументации, при которой «в кружеве
доказательств <...> не торчит ни одной ниточки, за которую
бы, ухватясь, можно было бы распустить все кружево»
(слова, произнесенные Б. А. Романовым при обсуждении в
1941 г. доклада А. И. Копанева о «куплях» Ивана Калиты
и записанные самим А. И. Копаневым). Но в то же время
Б. А. Романов говорил, что не всякий материал позволяет
выстраивать столь прочную цепь гипотез. В этих случаях он
считал необходимым прибегать к ничему не обязывающим
предположениям, предлагать читателю — на выбор — два
или несколько возможных вариантов решения.
Ранее мной уже было отмечено, что Б. А. Романов был
первым, кто еще в 20-х годах виртуозно применил приемы
исследования, выработанные при анализе древних памятни-
ков, к публицистическому, мемуарному, эпистолярному и до-
кументальному материалу нового времени. Он обосновал эту
методику ро время своего докторского диспута в 1941 г.,
подчеркнув необходимость «микроскопического текстуально-
го изучения» источников, относящихся к «недавнему прошло-
му», — «не хуже, а то и почище древних летописных сво-
дов».31
Одним из важных компонентов исследовательского по-
черка Б. А. Романова, как заметил С. Н. Валк,32 было вооб-
ражение, которое для него «играло всегда» «роль програм-
мы». Он сам себя называл «выдумщиком», «фантазером». Без
фантазий, писал Б. А. Романов, «я никогда не обходился».
Именно фантазия позволяла ему сопрягать и сопоставлять
отдаленные, на первый взгляд, источники, факты и явления,
парадоксальным образом комбинируя их, и в результате на-
ходить такие сцепки, которые сплетали факты в картину, де-
монстрирующую их взаимозависимость. При этом проявля-
лись особые, присущие ему свойства — яркость, темперамент,
свобода мастера, осознающего неординарность своего дара.
Б. А. Романов как-то сказал, что если бы его книгу о
«людях» и «нравах» мог прочитать А. Е. Пресняков, то он
388
бы, «вероятно сказал: „Ну и фантазер же Вы, Борис Алек-
сандрович “». Этим шутливым допущением он дал самооцен-
ку своему месту в ряду историков его же выучки и указал
на то, чем его собственный творческий почерк отличается
даже в сравнении с его учителем. Б. А. Романов особо ценил
индивидуальное авторское начало и потому был горячо вос-
приимчив к фантазиям своих коллег и учеников.
Характеризуя технику исторического ремесла, присущую
Б. А. Романову, и его исключительное мастерство, необхо-
димо отметить, что он обладал не только интуицией иссле-
дователя-историка, но и особым художественным чутьем,
«художественным воображением», а также «литературной
изысканностью языка», придающей убедительность точной
мысли.33 «Ученый, — писал Д. С. Лихачев, — сочетался в
Б. А. с художником», благодаря чему отличительной чертой
его работ является, как правило, своеобразный художествен-
ный замысел.34 Так, автор, «взяв на себя» в книге «Люди и
нравы древней Руси» задачу, «как толмач, перевести старин-
ные слова» на язык современного языка,35 «тут же, — пишет
Д. С. Лихачев,—на глазах у читателя, демонстрирует в
книге и подлинный текст, и его интерпретацию в современ-
ных понятиях, в современных представлениях» (но «не язы-
ковой перевод, а перевод понятий, представлений»): «Этот
„перевод11 сближает древние понятия с современными и одно-
временно, путем этого сближения, вскрывает их различия.
Чтобы приблизить жизнь древней Руси к взору и слуху со-
временного читателя, Б. А. обильно вводит в свой текст
вполне современные нам выражения, совмещая их с архаиз-
мами, взятыми из подлинных древнерусских материалов. Эти
современные нам выражения возможны в книге только по-
тому, что рядом с ними Б. А. ставит выражения XI—XIII вв.
Вместе с тем глубокие архаизмы XI—XIII вв. звучат для нас
по-новому только потому, что рядом даны их „эквиваленты*4
XX в. Отсюда своеобразная гротескность положений <...>
Б. А. ни разу не уклоняется от тонко найденной им необыч-
ной линии изложения — ни в сторону преобладания архаиз-
мов, ни в сторону преобладания модернизмов. Всякое укло-
нение привело бы изложение либо к модернизации, либо к
чрезмерной его архаизации. В данном же необычайно остром
сочетании жизнь древней Руси приближается к современному
читателю до почти полной ее ощутимости и зримости в от-
дельных ее проявлениях».36
Б. А. Романов весьма отрицательно относился к истори-
кам, в трудах которых не было ничего, кроме, как он гово-
рил, шелеста книжных страниц, прочитанных автором. Он
389
сам, согласно наблюдению Д. С. Лихачева, «стремился про-
честь в памятниках XI—XIII вв. непосредственные, живые
следы исторической действительности <...> к конкретному,
до мелочей воспроизведению „жизни11 XI—XIII вв. и, на-
стойчиво пересматривая источники, проделывает работу,
близкую литературоведам».37 Художественный эффект его
книги состоял, как показал Д. С. Лихачев, именно в том,
что «читатель воспринимает прошлое Руси как свое про-
шлое», поскольку «оно настолько приближено <...> к совре-
менному читателю, что вызывает в нем сострадание к „сред-
нему “ человеку того времени, к Даниилу Заточнику, до „от-
каза хлебнувшему полынной горечи жизни** <...> к
подневольному холопу или „свободному11 смерду». Именно в
этом «поразительный художественный эффект книги, а вмес-
те с тем ее подлинный патриотизм».38
Образное, живое воспроизведение человека прошлого
наиболее полно несомненно проявилось в книге «Люди и
нравы древней Руси». Но и другие исследования Б. А. Рома-
нова, в том числе и те, которые были посвящены изучению
истории нового и новейшего времени, характеризуются изы-
сканным литературным стилем и художественной образно-
стью. При этом, в зависимости от исследовательской задачи,
Б. А. Романов прибегал к различным изобразительным при-
емам. В книге «Россия в Маньчжурии», в которой автор впе-
рвые в отечественной историографии предпринял монографи-
ческое изучение «недавнего прошлого», в частности полити-
ки России на Дальнем Востоке в конце XIX—начале XX в.
в аспекте международных отношений, он считал необходи-
мым, подобно А. Е. Преснякову (в его книге «Образование
Великорусского государства»), прибегнуть к такому научно-
литературному изложению, при котором, как отметил
С. Н. Валк, «перед читателем развертывается текучая цепь
фактов, следующих один за другим, как они определены изу-
чением источников», и тем самым — к возведению непрони-
цаемой плотины из фактов. Другое дело — книга «Очерки
дипломатической истории русско-японской войны», в кото-
рой «ни мысль Б. А., ни его литературная манера не были
скованы» обилием «привлеченного к исследованию архивно-
го материала».39 Здесь автор использовал в том числе разно-
образные чисто литературные средства, воссоздавал с их по-
мощью яркие портреты исторических персонажей, «живых
людей», густо «населявших» его исследование, в необходи-
мых случаях прибегал к драматизации повествования.
Б. А. Романов умел давать не только всесторонне, по-
дробно и выпукло нарисованные характеристики, часто ока-
390
зывавшиеся неожиданными, но точными (например, Влади-
мира Мономаха, С. Ю. Витте, Николая II, Д. Н. Шипова и
многих других), но и кратко, двумя-тремя словами выразить
определяющие их черты. Так, никто — ни до Б. А. Романо-
ва, ни после него — не сумел столь лаконично и остроумно,
как это сделал он, указать на самые глубинные свойства лич-
ности и судьбы Талона: «Исторический дикарь-одиночка»,
«герой навылет».
Б. А. Романов прибегал в своих работах к литературным
приемам с двоякой целью: во-первых, дополнить рационалис-
тическое восприятие читателями дискурсивного изложения
проблемы воздействием на их чувства и, во-вторых, чтобы
работу, особенно, если речь идет о книге, сделать интересной
для чтения. Поэтому он считал необходимым строить свое
изложение в форме той или иной степени занимательного
рассказа, создающего у читателей иллюзию, что они и есть
современники описываемых фактов и событий. Б. А. Рома-
нов еще в ранних своих работах выступал за то, чтобы ис-
следования и издания источников были доступны не только
профессионалам-историкам, но и возможно более широкой
читательской массе, и никогда не отказывался от этого тре-
бования. А в «Людях и нравах древней Руси» выразил глу-
бокое убеждение, «что задача преодолеть противоположение
„научного11 и „популярного” в области исторической науки
стоит в наше время как очередная и разрешимая — в конце
концов».40 О «широком читателе» думал он, и когда писал
книгу «Очерки дипломатической истории русско-японской
войны». В ней Б. А. Романов шел «навстречу интеллигент-
ному читателю, неспециалисту, чтобы приблизить к нему
тему средствами литературными», не отрывая, в частности,
изложение «от живых людей».41
Именно поэтому, считал он, обязанность автора любой
исторической книги состоит в том, чтобы изложение было
занимательным и приняло форму рассказа. Он неизменно
придерживался этого правила, стремясь увлечь читателя.
Б. А. Романов вел рассказ, продуманно расставляя логиче-
ские ударения и подчиняя текст внутреннему ритму, прида-
вавшему фразе упругость.
Проблемы «занимательности изложения» в исторической
работе Б. А. Романов коснулся в последнем своем письме,
продиктованном 10 июля 1957 г., но отправленном
А. И. Копаневу из г. Пушкина в Ленинград, судя по почто-
вому штемпелю, 17 июля, т. е. за день до кончины. Побла-
годарив А. И. Копанева «за присылку (его. — В. П.) книги
о населении Петербурга» и отвечая на сообщение автора о
391
том, что, по «дамскому мнению», «книга получилась сухой»,
Б. А. Романов сообщал, что из-за нездоровья «мог ознако-
миться пока только с введением», почему не имеет оснований
«судить о „сухости11 книги». «Но, — шутливо продолжал
он, — и дамские суждения о книгах не всегда можно игнори-
ровать; все зависит от качества мозгов самих дам!». А далее
он высказал свое мнение о связи между авторской фантазией,
его воображением и характером изложения: «Судя по ее
(книги. — В. П.) строению, здесь было место для фантазии
автора, что значительно оживило бы самый рассказ. Рассказ
же — это вопрос не только удачи автора, но и доброй его
воли, конечно, сопряженной с большим трудом и значитель-
ным усилием воображения. Если Вы не дали себе труда по-
заботиться о своем рассказе и ограничились заботой о про-
стом изложении данных статистического характера, то ниче-
го иного и получиться не могло, кроме впечатления сухости
изложения при всей ее научности. Между тем, судя по оглав-
лению, которое мне прочитали, там есть место для „расска-
за11, и книгу можно было бы сделать занимательной, на что
имеют право не только читательницы, но и некоторые чита-
тели. Я бы, например, причислил себя к таковым и на Вашем
месте поискал бы так называемого конца веревки, за кото-
рую постарался бы ухватиться».42
При всем присущем Б. А. Романову стремлении к точ-
ности, о чем он не раз писал, он проявлял глубокое пони-
мание сложностей, всегда сопровождающих работу историка
и связанных с опосредованностью, а следовательно, неточ-
ностью исторической ретроспекции. И чем в большей степе-
ни отдалено было описываемое время, считал он, тем менее
доступно адекватное воспроизведение людей, их бытового
поведения, особенностей их социальности и формы их связей.
«Меткость глаза историка не абсолютна, и „недолет—пере-
лет—попадание*1 есть тоже закон для твердого исторического
суждения», — утверждал Б. А. Романов, почему считал толь-
ко и возможным при интерпретации событий, отстоявших
всего только на столетие, совмещать оценку явлений «мер-
ками того (т. е. начала XIX в. — В. П.) и нашего» (т. е. на-
чала XX в. — В. П.) и, «взаимно их корректируя, найти про-
изводную, которая и будет подлинно историческою».
Что же касается времен более ранних, и прежде всего ис-
тории древней Руси, то к ее воспроизведению Б. А. Романов
подходил с такой осторожностью, которая свидетельствовала
о понимании им трудностей проникновения в чуждое совре-
менному человеку мировидение и мышление его далекого
предка. Недаром он в иных случаях вынужден был «отказы-
392
ваться от поисков подлинного факта» и пользоваться «силу-
этными отображениями так называемых фактов».43 В «оби-
ходе» историка древней Руси, утверждал Б. А. Романов, «до-
казательство» — «термин слишком претенциозный, если дер-
жаться прямого его математического смысла», хотя оно,
«конечно, и для него является условием „необходимым'1», но
только тогда, «когда оно возможно».44 Он в деликатной
форме выразил несогласие с крылатыми словами В. О. Клю-
чевского о том, что «Правда Русская» — «хорошее, но раз-
битое зеркало русского права XI—XII вв.», заменив «зерка-
ло» «призмой». Именно ею, особым образом преломляющей
лучи, которые исходят из древности, называл Б. А. Романов
все без исключения источники этого времени. «В мелочи
жизни, в людей, в черты быта и нравов эпохи», полагал он,
можно «всмотреться» именно «сквозь призму близкого ей со-
временника (хотя бы иной раз он и пользовался не своими,
а чужими словами и когда-то заимствованными формула-
ми)», поскольку «привычные оценки и скрытые за ними пра-
вила возмещают, в известной мере, нехватку действительно
бывших примеров поведения», а «вопрос о том, как жили
люди той или иной эпохи, тесно соприкасается с вопросом
о том, как, по их мнению, надлежало жить в условиях их
времени». Это давало ключ к расшифровке особенностей
«„содержания сознания"» тех авторов, сквозь призму кото-
рых рассматривал Б. А. Романов при помощи «мозаичной
реконструкции» будничную жизнь людей,45 искусно избегая,
как отметил Д. С. Лихачев, «подстерегающих его на этом
пути опасностей: принять за достоверный факт традицион-
ный литературный мотив (в анализе литературных произве-
дений) или традиционное церковное установление (в анализе
церковно-канонических памятников) или в специфических
особенностях средневекового мышления увидеть отражение
какой-либо определенной политической точки зрения».46
Все сказанное о книге «Люди и нравы древней Руси» по-
зволяет утверждать, что в ней Б. А. Романов, написавший ее
в ссылке накануне Великой Отечественной войны и уже по
одному этому не имевший возможности ознакомиться с ра-
ботами французских историков, принадлежавших к школе
«Анналов», параллельно с ними двигался в том же направ-
лении— на пути выявления особенностей мышления людей
далекого прошлого, их бытового, в том числе в интимной
сфере, поведения, связанного с религиозным, «автоматиче-
ским», сознанием, ментальности, по современной терминоло-
гии. Но в отличие от «Новой исторической школы», пред-
принявшей коллективные усилия при исследовании этой та-
393
инственной для современного человека области, Б. А. Рома-
нов был одинок, не имел соратников и потому не только не
нашел адекватного отклика на свои поиски, но до конца
жизни подвергался гонениям за эту уникальную книгу, полу-
чившую лишь запоздалое, посмертное признание.
Со школой «Анналов» его творчество поразительным об-
разом перекликается не только в том, что он понимал необ-
ходимость вступать в диалог с прошлым, искал, не имея
предшественников, и находил нетривиальные методы этого
диалога, но и в том, с каким неизменным интересом и с
каким упорным постоянством Б. А. Романов исследовал
прежде всего человека в истории, стремился распознать мель-
чайшие подробности «шевеления жизни», шел «по пятам за
жизнью», через человека распознавал механизмы и динамику
социальных, экономических и политических процессов, ста-
вил человека прошлого в центр своего повествования. Впро-
чем, об этом я писал на протяжении всей книги, характери-
зуя отдельные труды Б. А. Романова, а здесь вынужден вер-
нуться к данной их особенности в попытке сопоставить его
творчество с мировыми достижениями исторической мысли,
от которой ученый, как и его коллеги-соотечественники, на-
сильственно был отгорожен железным занавесом. Конечно,
интересно было бы представить Б. А. Романова, читающего
журнал «Анналы» и другие труды представителей «Новой ис-
торической школы», но для этого надо обладать его вооб-
ражением. Однако в одном отношении можно высказать
даже уверенность в том, что, в случае знакомства Б. А. Ро-
манова с программной книгой Марка Блока «Апология ис-
тории...»47 (изданной во Франции в 1949 г., т. е. через 2 года
после выхода в свет «Людей и нравов древней Руси»), он
наверняка обратил бы внимание на второй заголовок этой
работы — «Ремесло историка» — и поставил его в связь со
своими собственными поисками в сфере «техники историче-
ского ремесла».
При знакомстве с исследованиями Б. А. Романова — от
первой статьи до последней книги — поражаешься не только
и даже не столько хронологической и тематической широте
охвата источников, анализируемых им, и проблем, подверг-
нутых изучению, сколько легкости, с которой он переходил
от «Правды Русской» и летописей к мемуарам Витте, донесе-
ниям агентов Министерства финансов, документам, отража-
ющим процесс заключения Брестского мира, и к стенограмме
допроса Колчака, и даже занимался, как чаще бывало, ими
одновременно — и это особым образом характеризует его
мастерство историка. Может даже показаться, что оно не
394
эволюционировало, не совершенствовалось, а неповторимая
профессиональная техника была приобретена сразу, в целом
и навсегда. Но это, конечно, не так. Б. А. Романов пребывал
в постоянном поиске новых приемов исследования, которые
были ему необходимы для работы с источниками и для вос-
создания как далекого, так и недавнего прошлого.
Вопреки мнению К. Н. Сербиной, утверждавшей, что он
не склонен был обсуждать с коллегами профессиональные
проблемы своего научного творчества, «не вводил в свою
творческую лабораторию»,48 можно привести множество фак-
тов, свидетельствующих об обратном. В частности, в этом
нетрудно убедиться, опираясь на одни только цитировавшие-
ся выше письма Б. А. Романова, где он постоянно, подроб-
но, с живейшим интересом и с разных сторон затрагивал во-
просы, связанные с его собственным опытом работы истори-
ка. Б. А. Романова радовала любая возможность ее
обсуждения «в профессиональном плане». Так, отвечая
Н. Л. Рубинштейну на его письмо, где был высказан ряд
суждений о книге «Люди и нравы древней Руси», он писал
о своем сожалении о том, что «у нас сейчас все обернулось
так, что негде работникам исторической науки поговорить
лабораторно — точно наш брат выскакивает на сцену, как
Венера из пены морской или как мать родила, а не проходит
его жизнь и работа в „репетиционном зале11». «Это прене-
брежение именно к лабораторной части в науке, — продол-
жал он, — отдает расточительностью и барством и пренебре-
жением к технике научной работы. Тут какое-то искривление
самого пагубного свойства».49 «Сегодня меня неожиданно на-
вестили москвичи из молодежи, — писал Б. А. Романов 24
января 1956 г. Е. Н. Кушевой. — <...> Побеседовали часа
четыре по вопросам работы. Я люблю такие профессиональ-
ные разговоры».
Такой же живой интерес проявлял он к трудам и докла-
дам своих коллег, вообще к текущей жизни науки, условиям
ее функционирования и перспективам развития и часто ка-
сался этих сюжетов в письмах. Естественно, что в своих
оценках Б. А. Романов опирался на собственный богатый
опыт и свои представления о задачах, целях, методах и при-
емах работы историка.
Так, в письме Н. Л. Рубинштейну от 31 мая 1941 г. в
связи с сообщением автора о выходе в ближайшее время его
книги «Русская историография» Б. А. Романов делился сво-
ими соображениями о значении историографических исследо-
ваний: «Пожалуй, трудно назвать сейчас более актуальную,
в подлинном значении этого, к сожалению, затасканного
395
слова, тему — для вдумчивых историков. Не думаете ли Вы,
что собственный путь к повышению теоретического уровня
(тоже в подлинном смысле слова) лежит именно через все-
стороннее осознание себя в историографическом плане — что
касается историков, которые действительно бы хотели отде-
лить в себе пшеницу от плевел? Я думаю, что и в Отделении
(истории и философии АН СССР. — В. П.) следовало начать
с этого, а не просто с шельмования Покровского: нет такой
мичуринизации, которая из шакалов вырастила бы льва».50
Откликнулся Б. А. Романов и на издания духовных и до-
говорных грамот,51 Тысячной книги и Дворовой тетради.52
5 февраля 1951 г. он сообщил Е. Н. Кушевой: «Здесь сразу
появились Договорные <...> и Тысячная книга <...> Боюсь
за опечатки в Договорных и думаю, что они требовали бы
комментария не с меньшим основанием, чем Судебники и за-
конодательные акты позднейшие.53 Это издание обречено на
незаслуженно узкий круг „специалистов11, подобно новгород-
ским актам.54 Между тем по тому и другому изданию следо-
вало бы учить и учиться. Очень заманчива Тысячная книга
и Тетрадь дворовая». Издание А. А. Зиминым «Тысячной
книги...» вызвало одобрение Б. А. Романова: оно «произво-
дит очень благоприятное впечатление. Видна настоящая за-
бота и об издании, и о читателе. Пользование текстом —
легко. Тетрадь дворовая заняла подобающее и осмысленное
место. Сравнительно с тем, что было, этот том —громадный
шаг вперед. Пробы <...> указателя дают хорошие показатели
<...> Единственно, на что я могу пожаловаться, как на не-
хватку в издании Тысячной книги, это на то, что, при нали-
чии двух приложений, не дано третьего приложения: так на-
зываемой Боярской книги 1556 г., которую издать отдельно,
боюсь, не будет случая, а здесь она была бы очень уместна,
особенно тем, что влилась бы в один <...> указатель, не го-
воря уже о практическом удобстве пользоваться ею в связи
с обоими основными документами этого издания» (Е. Н. Ку-
шевой. 17 февраля 1951 г.).
Напротив, издание Л. В. Черепниным «Духовных и дого-
ворных грамот» вызвало острую критику со стороны
Б. А. Романова, которая Е. Н. Кушевой казалась чрезмер-
ной и несправедливой. По этому поводу они обменялись не-
сколькими письмами, порой достаточно колкими, но тем не
менее неизменно уважительными.
Б. А. Романов не увидел «здесь <...> заботы о читателе»:
«При чтении, особенно при отыскании термина по указате-
лю, глаз точно продирается сквозь колючий кустарник через
два сорта скобок и сквозь три сорта шрифта». Обратил вни-
396
мание он и на отсутствие в издании «шпон (что напоминает
дешевые одесские подстрочники и темники для классических
гимназий времен Делянова!!). Здесь читатель чувствует себя
не персона грата, а жертвой, которую возлагает издатель на
алтарь не отечества, а неудачно обслуживаемого „филологи-
ческого" снобизма. Все эти скобочки (одинаково и для вы-
носных и для подтитленных знаков!) и курсивы, может быть
(и только — может быть), могли бы служить „филологиче-
ской" потребности только в том случае, если бы они явились
заменителем фотографии, т. е. точно (не приблизительно, а
точно) отражали некую зримую в рукописи действитель-
ность. Но уже для мало-мальски знакомого с издательским
делом человека (филолога в том числе) ясно, что точности
в этом отношении в настоящем издании нету и помину: тому
свидетель неимоверный по площади список опечаток <...>
Если это заключение наивного читателя соответствует дейст-
вительности, и, следовательно, предполагаемый „филолог" не
может твердо опереться ни на одну скобочку и ни на одну
курсивенку, то зачем было ставить в жертвенное положение
„простого" читателя? А самое издание подводить под кате-
горию того литературного героя, „которые хочут свою уче-
ность показать и все говорят о непонятном" <...> Вызывает
недоумение также, почему у Зимина дано описание докумен-
тов, а в „Духовных" на него нет и намека. Вызывает недо-
умение и оформление датировок (при оговорке в предисло-
вии, что-де датировки даны «в соответствии с выводами»
«Феодальных архивов»).55 Понятно, что этих выводов не сле-
дует скрывать и полезно их дать в легендах. Но за какие
грехи читатель должен терпеть неудобство, когда его одолеет
сомнение в „выводах" издателя, и должен всякий раз выпрас-
тывать хилую простыню с таблицей датировок, вместо того,
чтобы иметь эти датировки вслед за документом на равных
правах с „выводами" <...> Эта техническая подробность сви-
детельствует о квалифицированном пренебрежении к покупа-
телю книги и о квалифицированном самомнении „авторедак-
тора", как именует он себя в предисловии <...> По сути дела,
такое переиздание всех духовных и договорных грамот долж-
но было быть торжеством советской исторической науки. К
сожалению, оно омрачено первыми же впечатлениями от
всего лишь просмотра его. Оно выглядит как чисто и рев-
ниво „личное" дело саморедактора, делавшего все, что и как
ему хотелось, и не пожелавшего ни с кем разделить труд, а
следовательно, и ответственность и честь, с ним связанные.
Отсюда все и качества <...> Я люблю эту группу памятников
не меньше Русской Правды. И еще А. Е. (Пресняков. —
В. П.) привил мне мечту, что когда-то они будут переизданы
по-хорошему. И, конечно, с комментариями, не говоря уже
о словаре. А вышло бедно и с дырками в неподлежащих мес-
тах» (17 февраля 1951 г.).
Вскоре (24 февраля) Б. А. Романов подробно развил свои
мысли об издании духовных и договорных грамот: «Меня
поразило, что на самого себя Черепнин взял составление ука-
зателей именного и географического <...> а предметный вы-
пустил из своих рук. Между тем именно предметный указа-
тель является „душой" подобного издания, научным отобра-
жением содержания издаваемого памятника и до известной
степени комментарием к нему <...> Между тем именно с
предметным указателем здесь оплошности и несуразности
произошли от отсутствия всякой заботы о нем у издателя».
Б. А. Романова, по-видимому, глубоко огорчил выход в
свет столь неудачного, с его точки зрения, издания. Завершая
его обсуждение с Е. Н. Кушевой, он отправил ей 10 мая
1951 г. заключительное большое письмо, посвященное дан-
ному предмету. Его волновало будущее археографии, т. е.
то, «к чему надо стремиться не в обход состояния советской
исторической науки и не в отрыве от нее», то, что «может
отразить ее состояние, впитать в себя ее результаты и вы-
годно отразиться на научной судьбе издаваемого (первично
или вторично — все равно) памятника». Б. А. Романов вы-
ступил против такой ситуации, когда «одно ведомство издает
себе памятники как глухая тетеря, а другое на основании их
пописывает себе „историю" и только то и делает, что кла-
няется и благодарит первое ведомство от лица второго. И я
глубоко убежден, что при переиздании памятников эти пере-
издания должны стоять на высшем уровне, чем досоветские,
и должны быть откомментированы — с помощью советской
исторической науки, а не хватает ее, то и с помощью досо-
ветской историографии. Переиздатели памятников, если они
хотят впредь выполнить задачу советской историографии,
должны отразить судьбу этого памятника по меньшей мере
в советской историографии <...> Говоря о задачах будущего,
я позволил себе настолько оптимизма, чтобы выразить свою
веру в быстрый прогресс машинной техники, которая грозит
вытеснить <...> „археографа" (в нашем стариковском пони-
мании термина) <...> Если бы речь шла о дореволюционных
кустарях-одиночках-любителях-находчиках-старателях, то к
ним я не предъявлял бы никаких требований, кроме добро-
совестной подготовки текста найденного памятника к изда-
нию, и даже не настаивал бы на „правилах". Но я думаю,
что такое сосредоточение научных мощностей, как АН
398
СССР, не может идти в сравнение даже с „Гераклитовыми"
и во многих случаях имеет возможность тотчас после „на-
хождения находки" передать ее для научного осмысления
своему сотруднику — что и является зачатком комментария
к тексту».
Б. А. Романов неуклонно придерживался изложенных им
идей, относящихся к задачам археографии. Они основыва-
лись на его собственном опыте издания источников, приоб-
ретенном еще в 20-е годы, которые до сих пор оцениваются
современными археографами как образцовые, и обогащен-
ном работой над изданиями «Правды Русской» и Судебников
XV—XVI вв. Поэтому он столь же решительно высказался
по дискуссионному вопросу, связанному с подготовкой пра-
вил публикации законодательных актов второй половины
XVI—первой половины XVII в. Ленинградские археографы,
которым было поручено осуществление этого издания, при-
держивались точки зрения, согласно которой их следует раз-
мещать в строго хронологической последовательности, не-
взирая на то что эти акты сохранились, как правило, в со-
ставе указных книг приказов. Московские же коллеги, от
которых тогда зависело окончательное решение, твердо сто-
яли на том, что печатать можно указные книги только в
целом. Между прочим, этот затянувшийся спор стал одной
из причин временного прекращения работы над изданием,
который разрешился только с приобретением ленинградским
филиалом института большей самостоятельности, что и при-
вело к публикации законодательных актов в соответствии с
разработанными его сотрудниками правилами.
Б. А. Романов высказал свое мнение в обычной для него
образной форме: «У меня своя твердая точка зрения на этот
предмет — не схожая ни с москвичами, ни с ленинградцами.
Обе стороны болеют здесь неизлечимой болезнью снобизма
и пере-„павлиньей“-учености <...> Я же держусь требований
покупателя (не сноба из очереди на подписные издания, а
читателя). И очень боюсь, что за вялыми разговорами на ка-
лендарно-канцелярские темы ученые снобы позабудут о бо-
гатой палитре шрифтов <...> и о том, что читатель будет
издание читать своими рабочими глазами, а не нанизывать
его на хвост в честь и память покойного Ивана Андреевича
(как было с «духовными»)» (Е. Н. Кушевой. 14 апреля
1954 г.). Как видим, и через 3 года Б. А. Романов не забыл
о неудачном, с его точки зрения, издании духовных и дого-
ворных грамот и, как и прежде, выступил, исходя из инте-
ресов «читателя-потребителя».
399
Откликнулся Б. А. Романов и на заседания, посвященные
обсуждению периодизации истории СССР: «Первым шел до-
клад И. И. (Смирнова. — В. 77.), вторым Предгеченского.
Второго я не слыхал и не читал. Мнение публики — что
А. В. (Предтеченский.— В. П.) очень хорошо критикнул
И. И-ча в первой части и был очень слаб во второй, пози-
тивной части. Доклад И. И. построен и задуман блестяще.
В первой части собрано все, что можно было собрать по
части периодизации у Ленина и Сталина, которые-де руко-
водились политическими принципами — с упреком, что авто-
ры „Вопросов истории" игнорировали это богатейшее насле-
дие классиков, отчего и все их рассуждения порочны теоре-
тически. Отсюда (не у И. И., а у публики) вывод, что,
хочешь не хочешь, надо начинать (в журнале) все с начала,
то есть с тщательного учета всего того, что уже решено в
трудах наших классиков и что оспариванию не подлежит, а
подлежит внимательному изучению. Опыт применения тако-
го изучения у И. И. представляет вторая часть его доклада,
выдвигающая <...> схему членения феодального периода:
1) Киевское государство, 2) феодальная раздробленность,
3) централизованное государство, Иван III — 1613 г., 4) са-
модержавие с Думой и приказами, 5) то же XVIII в. по Ле-
нину. Может быть, я не очень точно уловил последние стра-
ницы второй части, но в заключительном слове И. И. <...>
сделал упор на первой. Ему возражали многие, а некоторые
вспоминали и „государственную школу". При всей моей сим-
патии к построению доклада И. И. у меня осталось два во-
проса: 1) имели ли в виду классики, им цитированные, пе-
риодизацию истории России или Союза ССР?, и 2) не будет
ли тем труднее создать и периодизировать историю СССР,
чем отточеннее будет создана периодизация истории России
по рецепту И. И.? Я в дискуссии не участвовал, и так как
никто этих двух вопросов не поставил, то я с ними так и
остался сам с усам при своем недоумении» (Е. Н. Кушевой.
30 ноября 1950 г.). Это суждение Б. А. Романова явно пере-
кликается с его же высказыванием 1936 г. в изложении сек-
ретного сотрудника НКВД по поводу замечаний Сталина,
Кирова и Жданова о конспекте учебника по истории СССР
(см. выше, с. 155—157).
Большой интерес проявил Б. А. Романов и к докладу
И. И. Смирнова о боярском мятеже 1553 г., состоявшемся в
ЛОИИ 21 ноября 1951 г.: «Сам доклад был с выдумкой и с
интересными подсчетами. Но там, где И. И. действовал с по-
вязкой предвзятости, это торчало грубо. Например, так
вышло с Адашевым, который присягал с ближней думой на-
400
ряду с Висковатым, а попал в число сторонников Владимира
Андреевича. Так было с Федором Адашевым, который кри-
чал против рецидива боярского правления, а попал в гла-
шатаи настроений реакционного боярства. Так случилось с
22-мя боярами „всеми", о которых от И. И. мы узнали, что
они все „сказанцы" самого Ивана («свое») и все восстали
против него же. „Сказанных" до 49-го года было на 53 год
8 человек, и они никак не отличены в изложении от тех 22-х.
А все оттого, что уже в 1550 г. была опричнинская ситуация!
Никакого внимания не уделено хронологии составления
„приписки", а также выяснению ее тенденций в отношении
отдельных деталей и лиц. И оттого пол в избе оказывается
нечистый и с выбоинами. Очень интересен этюдик о Виско-
ватом и попытка привлечь иконные дела к установлению по-
литических персональных связей: это сделано мастерски, хотя
и в рискованном полете» (Е. Н. Кушевой. 2 декабря 1951 г.).
Острую реакцию у Б. А. Романова вызывала серия «ра-
зоблачительных» материалов конца 40—начала 50-х годов,
направленных против крупнейших историков дореволюцион-
ной школы. В частности, подготовленный Л. В. Черепниным
большой доклад о кризисе буржуазной историографии, с ко-
торым он должен был выступать на Ученом совете Институ-
та истории в Москве, подвергся жесткой критике Б. А. Ро-
манова. В не отправленном по какой-то причине письме
Е. Н. Кушевой от 19 февраля 1953 г. он отметил: «...доклад
мне не понравился. Кризиса не вышло никакого. А „показа",
что буржуазная наука империализма была немарксистской и
антимарксистской — хоть отбавляй, до „больше не могу".
Есть и ошибки и путаница в классификации историков: и по
городам, и по партпринадлежности».
Когда же А. Л. Сидоров попросил Б. А. Романова дать
официальный отзыв об этом докладе, он отказался от вы-
полнения этого поручения, ограничившись письмом, в кото-
ром обосновал свой взгляд на проблему. По его мнению, в
докладе «и признака нет» ответа на вопрос, «в чем состоял
и в чем проявился „кризис" буржуазной исторической науки
в России (начиная с Ключевского)», поскольку «нет и намека
на попытку характеризовать докризисное состояние русской
исторической науки». «Автору при этом удается убедительно
показать <...> или немарксистский или антимарксистский ха-
рактер как общих курсов, так и отдельных монографий <...>
Но при этом у автора остается почти необоснованным деле-
ние историков на две школы (московскую Ключевского и пе-
тербургскую), если не считать внешнего топографического
признака; распределение же историков по университетским
401
центрам несвободно от ошибок <...> Автор почему-то не ос-
танавливается совсем на характеристике Ключевского (отно-
ся, по-видимому, его к докризисным временам <...>) и очень
много внимания и места уделяет Лаппо-Данилевскому с его
„Методологией истории", придавая ему, видимо, некое руко-
водящее значение в тогдашней исторической науке <...>
Между тем едва ли можно назвать среди перечисляемых ис-
торических публикаций этого периода что-либо более мерт-
вороженное, чем этот двухтомный курс <...> Первые поко-
ления учеников Ключевского и Платонова „учились", конеч-
но, на работах Ключевского и Платонова. Зияющей
пустотой в этом пункте остается в докладе отсутствие какой-
либо попытки сравнительного анализа методологического
курса Лаппо-Данилевского и конкретно-исторических работ
его же самого». Б. А. Романов обратил внимание и на то,
что «остается неясным, к какой же из двух основных школ
принадлежал (по мнению автора) сам Лаппо-Данилевский.
Из принятой автором топографической классификации сле-
довал бы вывод, что — к петербургской. Но во главе послед-
ней стоял „монархист" Платонов, которому противопостав-
лены московские историки-кадеты, а Лаппо-Данилевский не-
сомненно был кадетом <...> Но и эти политические
квалификации не вносят ясности в построения доклада: разве
кадеты не были монархистами? С другой стороны, кадетом
был и заправский ученик Платонова Павлов-Сильванский:
каково его отношение (школьно-генеалогическое так сказать)
к Лаппо-Данилевскому? Таким образом, скрещение топогра-
фического и партийного признаков в классификации докла-
да, думаю, полезно было бы устранить <...> Как-то на от-
лете от намеченных в докладе групп стоит в нем Шахма-
тов — сверстник, земляк и сопартиец Лаппо-Данилевского.
Он создал свою методологию для изучения русских летопи-
сей и действительно завязал школу. Вопрос о шахматовском
методе — практически наиболее актуальный для советской
исторической науки <...> в числе вопросов, связанных с
общим вопросом о наследии <...> Я думаю, что вопрос о
Шахматове заслуживал бы здесь более четкой трактовки,
если не связывать себя чисто академическим вопросом о
„кризисе" буржуазной историографии. Таково, во всяком
случае, пожелание читателя, которого не слишком интересует
пространное доказательство тезиса о немарксистском или
антимарксистском направлении империалистической науки
(что само собой разумеется, стоит только произнести эти
слова), а гораздо больше интересуют задачи советской исто-
рической науки — в области археографии, источниковедения
402
и конкретно-исторической работы, сферы, в которых он по-
стоянно наталкивается практически на вопрос о „наследии",
то есть о его использовании в текущей работе. Если при-
знать такое пожелание читателя подобного доклада закон-
ным, то мне кажется абсолютно необходимым ввести в текст
его, как первый вопрос, вопрос о реальном вкладе в это на-
следие, сделанном работами Ключевского, действительно
премьера охваченной докладом группы научных работников
буржуазной историографии — и сделать это (если потребует-
ся) за счет сокращения материала о Лаппо-Данилевском, зна-
чение которого как в области методологии, так и в области
конкретно-исторической работы сильно преувеличено в до-
кладе».
В этих высказываниях обращает на себя внимание резко
критическое отношение к научному наследию (но не к лич-
ности!) А. С. Лаппо-Данилевского. Однако неверно было бы
противопоставлять их прочувствованным речам Б. А. Рома-
нова об ученом (в 1915 г. — по случаю 25-летия его научно-
литературной деятельности и в 1919 г. — посвященной его
памяти). Во-первых, следует принять во внимание обстоя-
тельства, при которых они были произнесены, во-вторых же,
он и тогда уклонился от характеристики трудов этого уче-
ного, сосредоточившись на преподавательской его деятель-
ности и на воссоздании этических принципов, присущих
А. С. Лаппо-Данилевскому — человеку вообще и педагогу в
частности. Несомненно, Б. А. Романов, осознававший свою
принадлежность к той ветви петербургской исторической
школы, которую олицетворяли С. Ф. Платонов и особенно
А. Е. Пресняков (вовсе относивший его к иной школе), все
с большими сомнениями относился к методологическим шту-
диям А. С. Лаппо-Данилевского, особенно в связи с ощути-
мым разрывом между теоретическими установками и их
практической реализацией в его собственных трудах.
Б. А. Романова беспокоило то, что резкие, но вздорные
нападки на наследие А. А. Шахматова ведут к деградации
летописного источниковедения и, как следствие этого,—к
застою в издании летописей. «Отправляя Насонова в Мос-
кву,— писал Б. А. Романов 14 апреля 1956 г. Е. Н. Куше-
вой, — жестоко насел на него с упреками на замораживание
летописных дел (он говорит: из-за Тихомирова). Помешались
на выдохшихся академиках. Но зачем же погибать науке?».
С другой стороны, его вдохновляли успехи московских
коллег. Так, 1 декабря 1953 г. Б. А. Романов imcaji
Е. Н. Кушевой: «...такая радость для меня Ваше письмо! Во-
первых, что <...> командируетесь в Ленинград <...> Во-вто-
401
рых, оптимистические слова о продвижении монографии в
1954 г. В-третьих, рад за Виктора Ивановича (Шункова.—
В. П.)> к которому питаю неискоренимую симпатию. В-чет-
вертых, что Н. М. (Дружинин. — В. П.) не успел стать ака-
демиком, как уже выкатил на передовые позиции такое даль-
нобойное орудие, как теоретический доклад. В-пятых, что
появился на эстраде Н. Л. (Рубинштейн. — В. П.). Эти пять
сообщений точно обдали меня проточной водой». Радовало
Б. А. и то, что «от „Вопросов истории" повеяло свежестью.
Разумею статьи Ерусалимского и Вернадского». Радовало
Б. А. Романова и едва намечавшееся в середине 50-х годов
оживление исторической науки. В частности, Б. А. Романов
с энтузиазмом встретил появление нового журнала — «Исто-
рический архив» — и писал 12 апреля 1955 г. его ответствен-
ному редактору В. И. Шункову: «Первый номер произвел
самое отрадное впечатление — и содержательностью, и тща-
тельностью отбора материала, и строгостью оформления:
журнал приятно взять в руки (не в пример «Вопросам исто-
рии»). И я уверен, что он по-настоящему войдет в культур-
ный обиход широкого круга нашей интеллигенции (не гово-
ря уж об историках). Нравится мне очень и состав номера —
пять его разделов. В частности, разделы критики и библио-
графии и новых документов, которые надо блюсти и разви-
вать». Б. А. Романов с радостью приветствовал и проект
(так впоследствии и не реализованный) — «превратить „Ис-
торические записки" в регулярный журнал». «Уж очень ни-
щенское существование — при одном журнале и под хор кри-
ков о неудержимом росте культуры в нашей стране!», —
писал он 1 февраля 1956 г. И. У. Будовницу, выразив свое
возмущение этой «удушающей монополией».
Б. А. Романова очень волновала резко проявлявшаяся
тенденция «„захламления" исторического фронта безнадеж-
ными бездарностями», «консервации блатных бездельников,
с поощрением к безделию и пьянству» — особенно в связи с
тем, что это «преступно загораживает путь действительным
талантам-труженикам, на которых можно бы оставить
фронт». «Тут есть только один ясный аргумент, — писал он
23 июня 1955 г. Е. Н. Кушевой. — Всегда удобнее держать
возле себя неконкурентноспособное существо. Откуда и мол-
чаливый лозунг — долой таланты (или сажай таланты)».
В более общей форме проблема падения профессиональ-
ного уровня исторической науки затрагивалась в письме
Б. А. Романова (8 октября 1955 г.) А. Л. Сидорову: «Впол-
не разделяю Вашу тревогу за всеобщую историю. Но сам
себя ловлю на том, что легко поддаюсь этой тревоге, в из-
404
вестной мере, в силу традиции (наша востоковедная школа,
школа по истории французской революции и истории Ита-
лии и Англии). Думаю, что сейчас и речи не может быть о
реставрации подобного рода „школ-гегемоний" в чужих ис-
ториях <...> Нам пока следует думать о поднятии уровня (а
не о школах сразу). Но и для этого необходимо обратить
внимание на состояние наших исторических факультетов, где
(по крайней мере у нас в Ленинграде) понаделано такого,
что не так-то легко будет провести оздоровление (в частно-
сти, покончить с гегемонией пьянствующей верхушки). Само
собой на этом решающем для нашей науки участке ничего
не сделается».
В этом контексте Б. А. Романов с одобрением отнесся к
известию о новых правилах защиты диссертаций — исключи-
тельно по опубликованным работам: «Эта наша ленинград-
ская традиция — печатать кандидатские диссертации: Рутен-
бург, Копанев, Маньков, теперь Носов, Фурсенко. Говорят,
теперь и докторские диссертации будут приниматься только
в типографском виде. Это — новый, „открытый"—период в
нашей науке, на смену периоду неведомо как возникших
блатных „докторов" и членов-корреспондентов без диссерта-
ций» (Е. Н. Кушевой. 1 апреля 1955 г.). Через полтора года
Б. А. Романов возвратился к этому вопросу: «Совершенно
согласен с Вами, что новое положение о диссертациях в сущ-
ности исходит из здравого смысла всех времен и народов: в
защитах ненапечатанных диссертаций был элемент неполной
гласности и что-то контрабандитское» (Е. Н. Кушевой.
16 октября 1956 г.).
С возмущением реагируя на участившиеся случаи непро-
фессионального отношения к делу и приток в науку людей,
не отвечающих высокому предназначению, Б. А. Романов
заинтересованно наблюдал за работой новой способной ге-
нерации историков. В частности, он, как было уже отмечено,
уделил внимание одному из самых талантливых и перспек-
тивных ученых — А. А. Зимину, готовившему книгу о Пере-
светове. К этому историческому персонажу у Б. А. Романо-
ва был особый интерес, связанный с проектируемыми им, но
впоследствии так и не написанными историко-бытовыми
очерками, посвященными XVI в. Сообщая Е. Н. Кушевой о
посещении его приехавшим из Москвы А. А. Зиминым, он
писал 28 марта 1955 г. о своем впечатлении от беседы:
«Вижу, что был прав, поставив вопрос с А. А. на медицин-
скую почву — „тревоги" за него (по данным заочной диа-
гностики) <...> В результате же вчерашней беседы у меня
сложилось ясное впечатление, что объективно А. А. нужда-
405
ется скорее в добрых советах старших товарищей, чем в апо-
логетических выступлениях, которые объективно же могут
причинить ему (в его работе) только вред — в дополнение к
тому вреду, который он сам себе причиняет болезненной (с
оттенком фатальности) недооценкой своих сил „творца“ и
„мастера" и переоценкой своих сил грузчика. В результате
этой беседы у меня не прошло, а окрепло чувство тревоги
за А. А. как будущего автора работы о Пересветове. А. А.
пришел ко мне посоветоваться, преимущественно, о „струк-
туре" своей работы и акцентах ее содержания. При правиль-
ности акцентов структура <...> представилась мне самоуду-
шающей, если не прямо самоубийственной. Что я и поста-
рался дать ему почувствовать, а не только понять. Так как
он сам испытывает опасение именно по поводу качества этой
структуры, я не счел безнадежным обсуждение этого вопроса
и поддержал эти опасения — и с позиции читателя, и с по-
зиции современника-старика. И тут же выяснилось, что в
Москве А. А-чу не с кем говорить именно в этом последнем
роде! И сектор, по-видимому, у вас устроен так, что не рас-
полагает А. А. выносить на его обсуждение отдельные эле-
менты и эскизы работы, и А. А. таится до окончания ее в
целом. Для чего же тогда существует эта громадная мастер-
ская — Институт — если там нет „рабочих комнат" и „репе-
тиционных фойэ"? Не мешало бы немножко взять от „Ста-
ниславского" в нашу науку. На что я никак не мог отклик-
нуться в нашей многосюжетной беседе, это на вопрос об
отношениях между А. А. и И. И. (Смирновым. — В. П.).
<...> Не зная кулисы, да не зная как следует и фасада, что
тут можно думать, а тем более сказать? Судя по тому, что
этот вопрос, как будто, беспокоит А. А., дело тут переросло
рамки полемики. А тогда тут нужно бы целое расследование,
на которое у меня нет сил (да и средств). Ясно только, что
на близкой или дальней очереди сам собой выдвигается во-
прос об арбитражной процедуре в нашей профессиональной
сфере, если только придавать некоторое значение в судьбах
науки гигиене труда ее работников. Нельзя же полагаться на
то, что-де гоббсова мораль сама вывезет».
Затронутая в этом письме проблема отношений между
И. И. Смирновым и А. А. Зиминым, по разным причинам
ставших чрезвычайно острыми и отчасти даже враждебными,
получила развитие в дальнейшем, в частности, при освеще-
нии характера обсуждения книги И. И. Смирнова, подготов-
ленной к печати, о реформах Ивана Грозного: «Обсуждению
работы Ив. Ив-ча (Смирнова. — В. П.) придан здесь вполне
корректный характер (чем был озабочен, между прочим,
406
Зимин). Ряд вопросов И. И. прошел, не посчитавшись со
своими современниками (на что ему и указал А. А.). Но у
каждого своя манера жить и вести себя, и я бы не удивился,
если бы включенные в работу старые тексты остались не-
изменными. Тут дело даже и не во времени, а в том, что
И. И-чу очень трудно перепахивать борозды, проложенные
усилиями собственной мысли, и тем труднее, чем более цепко
она держится за „теорию** и от того кажется ему тем более
неприкосновенной» (Е. Н. Кушевой. 31 декабря 1955 г.).
Между прочим, так и произошло: в книгу «Очерки полити-
ческой истории Русского государства 30—50 гг. XVI в.» (М.;
Л., 1958) И. И. Смирнов включил все свои прежде опубли-
кованные статьи почти без изменений.
Резкой критике подвергся в одном из писем Б. А. Рома-
нова макет первого тома университетского учебника по ис-
тории СССР: «Обсуждался у нас учебник т. 1 <...> Впечат-
ление у меня от этого макета нехорошее: бедняга русский
студент! <...> Читал я глазами студента — в двух пс-зах:
1) подготовки к экзамену и 2) вдумчивого читателя <...>
Текст составлен так, что действительно необходима предэк-
заменационная „консультация“ (которую давно бы пора от-
менить). Что же это за учебник для взрослых — при котором
необходим кашевар-конферансье?! <...> А что понаделал Ры-
баков на месте Грекова. Занимался бы своей археологией да
никому не нужными „расселениями славян** и оставил бы в
покое письменные источники. О движении науки ни полсло-
ва. В частности — что же понаделала советская историческая
наука? Можно подумать, что учебник писан не для истори-
ков, а для детей или „девиц**, коим не надлежит знать, как
делается наука. Лучше бы переиздать прежнюю скучищу, чем
эту небрежную новинку, с претензией на новизну и безответ-
ственную „экскатедренность**, рассчитанную, по-видимому,
на совсем запуганного, зачумелого и непритязательного сту-
дента. Удивительна сама идея — сдать это дело в руки
Политиздата, до сих пор славившегося только по части об-
корнания научности и не воспитавшего редакторов, способ-
ных внимательно читать текст и добиваться его педагогиче-
ской ясности и усвоимости. В результате и получается, что
в одном месте один автор толкует о „десятинах**, а другой
в другом о „четвертях** — применительно к тому же предме-
ту! В результате — в тексте ни одной карты, в оглавлении —
ни Уложения, ни Судебников и т. п., а из войн вторая ту-
рецкая есть, а первую собачки съели. В этом виде — срам
представлять „учебное пособие** не то что на обсуждение, но
даже и только на показ. В свое время винный погреб Бадера
407
выпускал венгерское своего разлива с маркой: „нуллум
винум низи хунгарикум!“. Здесь эпиграфом подразумевается:
„ни единой книжки, кроме этого учебника!“» (Е. Н. Куше-
вой. 26 февраля 1955 г.).
Представляют интерес достаточно определенные, хотя и
фрагментарные, отклики Б. А. Романова на появлявшиеся в
исторических журналах рецензии. Так, сетуя на то, что в них
«давным давно забыли беседовать» о сугубо профессиональ-
ных проблемах, он отмечал: «...точно историк просто садит-
ся на стул и пишет (один с недостатками, а наряду и с до-
стоинствами, а другие — с достоинствами, а наряду и с не-
достатками, точно заводные куклы, не нюхавшие, что такое
«творчество»). Вообще наши рецензии сбиваются на приго-
воры народных судов без присяжных заседателей» (Е. Н. Ку-
шевой. 24 января 1956 г.). Резко отозвался Б. А. Романов, в
частности, о рецензии В. В. Мавродина, А. В. Предтечен-
ского, С. Л. Пештича и Н. М. Волынкина на очередной том
«Очерков истории СССР», посвященный первой четверти
XVIII в.: «Это <...> смехотворное предприятие — писать ре-
цензии первобытной большой семьей (если не родом!). Какое
мне дело до того, что именно думает Волынкин о том, пра-
вильно или неправильно теоретизирует кто-то из авторов
очерков о том, когда именно начался капитализм в России,
или до того, инакомыслит по подобному вопросу <...> Пред-
теченский или не инакомыслит. Очень рад, что эта публика
не стала рыться в Вашей статье и не стала между собой дис-
кутировать о том, правильно ли Вы высказываетесь или, с
другой стороны, ошибаетесь» (Е. Н. Кушевой. 12 апреля
1955 г.). Такой «погоне за дешевой славой и легким рублем»
Б. А. Романов противопоставил «стиль, которого держался
в своих рецензиях покойный А. Е. Пресняков — они были
поразительно чутки к тому, что как раз интересовало и чем
болел автор рецензируемой работы (не говоря уже о тех, в
которых сам А. Е. был специалистом)» (Е. Н. Кушевой.
13 января 1954 г.).
Из цитированных выше высказываний Б. А. Романова
видно, сколь велика была его склонность обсуждать сугубо
профессиональные проблемы, особенно те, которые касались
«ремесла» историка. При этом он до самой кончины не утра-
тил интереса к работе, к ее профессиональным аспектам, к
поискам новых приемов исследования, к рефлексии, предме-
том которой был «рабочий механизм» историка. Б. А. Рома-
нов не уставал повторять, что в результате занятий новыми
проблемами, анализа новых для него источников он «много-
му научился» даже «на старости лет». Его увлекало возник-
ла
новение «кучи вопросов», для него «очень новых» «и очень
интересных», очень расширивших его «горизонт и <...> опыт
по части исследовательских приемов». Б. А. Романова радо-
вало, что его «интерес к новому и неведомому и чувство но-
вого в самой задаче» постоянно нарастал. «Это давнее мое
свойство, — писал он,—какую дрянь ни дай мне, в конце
концов всегда найду интерес».
Однажды Б. А. Романов исчерпывающе и изящно указал
на эту особенность (и ее истоки) своего отношения к науч-
ной работе, в занятие которой он вкладывал все свои силы,
даже страсть: «...„корень учения горек“, а я всю жизнь свою
учился и сейчас учусь и всем говорю, что надо учиться.
Может быть, потому меня всегда заинтересовывали работы,
за которые брался: искать и находить и вновь искать — так
уж учил меня мой учитель Александр Евгеньевич. Беда
будет, когда это у меня потухнет, а пока не потухло, я учить-
ся „всегда готов“».
ПРИМЕЧАНИЯ
1 Каганович Б. С. Несколько слов о так называемом позитивизме //
Одиссей: Человек в истории: Ремесло историка на исходе XX века. М., 1996.
С. 167.
2 Гуревич А. Я. Вместо заключения, или Можно ли «доить козла» //
Там же. С. 176.
3 Романов Б. А. Люди и нравы древней Руси (историко*бытовые очер-
ки XI—XIII вв.). Л., 1947. С. 14.
4 Речь Б. А. Романова на защите докторской диссертации. 22 февраля
1941 г.: Архив СПб. ФИРИ, ф. 298 on. 1, д. 75, л. 3.
5 Отзыв Б. А. Романова о докторской диссертации И. И. Смирнова
«Восстание Болотникова». 19 ноября 1947 г.: Там же, ф. 294, on. 1, д. 27,
л. 36.
6 Речь Б. А. Романова на защите докторской диссертации, л. 5.
7 Там же, л. 7.
8 Отзыв Б. А. Романова о докторской диссертации И. И. Смирнова
«Восстание Болотникова», л. 33—35.
9 Валк С. Н. Борис Александрович Романов // Исследования по соци-
ально-политической истории России: Сб. статей памяти Бориса Александро-
вича Романова. Л., 1971. С. 13.
10 Романов Б. А. [Рец.] Лихачев Д. С. Русские летописи и их культур-
но-историческое значение. М.; Л., 1947//Вестник Ленинградского универси-
тета. 1948. № 6. С. 136.
11 Романов Б. А. Люди и нравы древней Руси. С. 139—143, 9—10.
12 Романов Б. А. Элементы легенды в жалованной грамоте великого
князя Олега Ивановича Рязанского Ольгову монастырю // Проблемы источ-
никоведения. М.; Л., 1940. Вып. 3. С. 205—224.
13 Романов Б. А. Изыскания о русском сельском поселении эпохи фео-
дализма (По поводу работ Н. Н. Воронина и С. Б. Веселовского) // Вопро-
409
сы экономики и классовых отношений в Русском государстве XII—XVII вв.
М.; Л., I960. С. 330.
14 Романов Б. А. Люди и нравы древней Руси. С. 142—143.
15 Лихачев Д. С. Борис Александрович Романов и его книга «Люди и
нравы древней Руси»//ТОДРЛ. М.; Л., 1958. Т. 15. С. 489.
16 Романов Б. А. Люди и нравы древней Руси. С. 142.
17 pars pro toto (лат.) — часть вместо целого.
18 Романов Б. А. Изыскания о русском сельском поселении эпохи фео-
дализма. С. 342.
19 Романов Б. А. Люди и нравы древней Руси. С. 6, 8.
20 Валк С. Н. Борис Александрович Романов//ИЗ. 1958. Т. 62. С. 270.
Ср.: Романов Б. А. Смердий конь и смерд (в Летописи и Русской Правде)//
Известия Отделения русского языка и словесности. СПб., 1908. Т. 13, кн. 3.
С. 33.
21 Романов Б. А. Люди и нравы древней Руси. С. 6—8.
22 Там же. С. 8.
23 Там же. С. 6.
24 Там же. С. 8—9.
25 Там же. С. 9—10.
26 Там же. С. 10—11.
27 Лихачев Д. С. Б. А. Романов и его «гид» Даниил Заточник И Иссле
до в ан ия по социально-политической истории России: Сб. статей памяти Бо-
риса Александровича Романова. Л., 1971. С. 39—43.
28 Лихачев Д. С. Борис Александрович Романов и его книга «Люди и
нравы древней Руси». С. 494.
29 Романов Б. А. К вопросу о 15-рублевом максимуме в служилых ка-
балах XVI в.//ИЗ. 1955. Т. 52. С. 325—335.
30 Дьяконов М. А., Лаппо-Данилевский А. С., Успенский Ф. И. Записка
об ученых трудах П. Б. Струве//Протоколы заседаний Историко-филологи-
ческого отделения Академии наук за 1917 г. Приложение II к заседанию
Отделения исторических наук и филологии 8 марта 1917 г. (к § 166).
31 Речь Б. А. Романова на защите докторской диссертации, л. 4.
32 Валк С. Н. Борис Александрович Романов // Исследования по соци-
ально-политической истории России. С. 32.
33 Там же. С. 14; Лихачев Д. С. Борис Александрович Романов и его
книга «Люди и нравы древней Руси». С. 489.
34 Лихачев Д. С. Борис Александрович Романов и его книга «Люди и
нравы древней Руси». С. 489.
35 Романов Б. А. Люди и нравы древней Руси. С. 14—15.
36 Лихачев Д. С. Борис Александрович Романов и его книга «Люди и
нравы древней Руси». С. 489.
37 Там же. С. 494.
38 Там же. С. 491.
39 Валк С. Н. Борис Александрович Романов // Исследования по соци-
ально-политической истории России. С. 23.
40 Романов Б. А. Люди и нравы древней Руси. С. 15.
41 Протокол заседания Сектора истории СССР XIX—начала XX в. Ин-
ститута истории АН СССР: Архив СПб. ФИРИ, ф. 298, on. 1, д. 11, л. 2.
42 А. С. Лаппо-Данилевский критически относился к «живым расска-
зам», которые заменяют «научную оценку мотивов человеческого поведе-
ния» (Лаппо-Данилевский А. С. Н. Ф. Дубровин. Некролог//Известия Ака-
демии наук. 1904. Серия 5. Т. 21, № 2. С. VI). Но Б. А. Романов отличался
тем, что всегда стремился эти мотивы выявить.
43 Романов Б. А. Люди и нравы древней Руси. С. 6, 8.
410
44 Там же. С. 15.
45 Там же. С. 6—8.
46 Лихачев Д. С. Борис Александрович Романов и его книга «Люди и
нравы древней Руси». С. 494.
47 Русский перевод: Блок Марк. Апология истории, или Мастерство ис-
торика. М., 1973.
48 Сербина К. Н. Из воспоминаний о Б. А. Романове//Проблемы соци-
ально-экономической истории России: К 100-летию со дня рождения Бориса
Александровича Романова. СПб., 1991. С. 55.
49 Б. А. Романов — Н. Л. Рубинштейну. 27 сентября 1948 г.: ОР РГБ,
ф. 521, картой 26, д. 39, л. 30.
50 Б. А. Романов — Н. Л. Рубинштейну. 31 мая 1941 г.: Там же, л. 7.
51 Духовные и договорные грамоты великих и удельных князей XIV—
XVI вв. / Подгот. к печати Л. В. Черепнин. М.; Л., 1950.
52 Тысячная книга 1550 г. и Дворовая тетрадь 50-х годов XVI в. / Под-
гот. к печати А. А. Зимин. М.; Л., 1950.
53 Б. А. Романов имел в виду предполагаемое издание законодательных
актов, относящихся ко времени между Судебником 1550 г. и Соборным уло-
жением 1649 г. Оно вышло в свет только в конце 80-х годов (см.: Законо-
дательные акты Русского государства второй половины XVI—первой поло-
вины XVII в.: Тексты. Л., 1986; Комментарии. Л., 1987).
54 Речь идет о «Грамотах Великого Новгорода и Пскова» (М.; Л., 1949),
изданных под руководством С. Н. Валка без комментариев.
55 Речь идет о книге Л. В. Черепнина «Русские феодальные архивы
XIV—XV вв.» (М., 1948. Ч. 1).
56 Вскоре, но уже после кончины Б. А. Романова, А. А. Зимин реали-
зовал свой замысел в монографии (Зимин А. А. И. С. Пересветов и его со-
временники. М., 1958), которую защитил в качестве докторской диссерта-
ции.
— 20 —
эпилог
Выше мне уже приходилось в той или иной связи затра-
гивать вопросы, бросающие хотя бы отсвет на личностные
черты Б. А. Романова. Но этого явно недостаточно для вос-
создания образа человека, и здесь я попытаюсь восполнить
столь явный пробел.
Прежде всего обращает на себя внимание гармоничность
этого человека. Пожалуй, ни у кого из известных мне уче-
ных-историков их характерологические свойства не проеци-
ровались с такой отчетливостью на стиль и особенности ис-
следовательских штудий, а внешние стороны поведения в по-
вседневной жизни не соответствовали бы столь очевидно
внутреннему миру.
Несомненно, что Б. А. Романов обладал врожденной не-
заурядной одаренностью, которая в благоприятных условиях
домашнего воспитания и прекрасного гимназического и уни-
верситетского образования быстро развились в выдающийся
талант. Его эстетические склонности сложились уже в моло-
дости. На протяжении всей жизни художественная литерату-
ра оставалась основным вненаучным пристрастием Б. А. Ро-
манова. Его любимыми писателями, пожалуй, были Лев Тол-
стой и Антон Чехов. Но при их сопоставлении у него
проявился особый, эмоциональный, подход. Так, 23 февраля
1954 г. Б. А. Романов писал Е. Н. Кушевой: «Насколько он
(Чехов. — В. П.) человечнее, глубже и шире Толстого!», а
менее чем через месяц уточнил: «Мое сравнение Чехова с
Толстым очень частичное. Я имею в виду, что Чехов с то-
бой— всегда собеседник и друг, а Толстой никогда ни то,
ни другое. Толстой — художник великий, но безжалостный!»
(Е. Н. Кушевой. 18 марта 1954 г.). Вероятно, поэтому же
Б. А. Романов, признавая выдающийся талант Федора До-
412
стоевского, избегал в конце жизни перечитывать его романы.
Зато о произведении А. И. Герцена «Былое и думы» гово-
рил, что оно полно свежести, озона. Странным образом он
был равнодушен к поэзии, естественно выделяя А. С. Пуш-
кина: «Пушкин есть Пушкин!».
В детстве и отрочестве Б. А. Романов с удовольствием
брал уроки игры на фортепьяно и достиг, как об этом го-
ворила его жена, очень больших успехов. В его кабинете сто-
яло пианино, и он до ареста в январе 1930 г. любил музи-
цировать. Однако после возвращения из концлагеря произо-
шел психологический слом, и Б. А. Романов с тех пор ни
разу не садился за инструмент. Но он по-прежнему любил
камерную и симфоническую музыку и нередко посещал фи-
лармонические концерты. Когда же ввиду болезни Б. А. Ро-
манов перестал ходить в филармонию, то приобрел проиг-
рыватель, стал покупать пластинки с записью классиков рус-
ской и мировой музыкальной культуры и, отдыхая, с
удовольствием подолгу слушал их. Б. А. Романов очень вы-
соко ценил исполнительский талант С. В. Рахманинова, а из
новых пианистов — С. Т. Рихтера, хотя отдавал предпочте-
ние первому. Его вкусы были устоявшимися, но не застыв-
шими. Так, побывав на балете Сергея Прокофьева «Ромео и
Джульетта», Б. А. Романов писал: «...выше <...> прокофьев-
ского творения я ничего не знаю (в музыке)» (Е. Н. Куше-
вой. 18 марта 1954 г.). В этом сиюминутном отклике прояви-
лись непосредственность и эмоциональность его восприятия.
Б. А. Романов с молодости был страстным театралом.
Он видел едва ли не все постановки старого Московского
художественного театра, который, на его взгляд, был этало-
ном этого вида искусства, да и после революции не пропус-
кал его гастролей в Петрограде-Ленинграде. В Петербурге
Б. А. Романов часто посещал спектакли Александрийского
театра, особо выделяя актрису Марию Савину, талантом ко-
торой был увлечен и часто возвращался к рассказам о ней.
Высоко ценил он и Веру Комиссаржевскую. Не чужд
Б. А. Романов был и интереса к балетному искусству. Его
покорило выдающееся дарование Галины Улановой, о чем
он писал 18 марта 1954 г. Е. Н. Кушевой: «Если Вы не ви-
дели Улановой, то необходимо пойти: такой Джульетты
больше не будет». Парадоксальным образом относился
Б. А. Романов к кинематографу. Он не признавал современ-
ных фильмов, звукового и цветного кино, но с удовольстви-
ем вспоминал о старых немых лентах с их трюками и кун-
штюками. Возможно, именно потому он с восторгом воспри-
413
нял выступление Аркадия Райкина, очень эмоционально от-
зываясь на отдельные номера.
Б. А. Романов обладал ясным и сильным умом, но вме-
сте с тем чувство играло большую роль в восприятии им не
только искусства, но явлении реальной жизни. У него была
тонкая и легко возбудимая нервная система, повышенная
впечатлительность. Один из ближайших друзей Б. А. Рома-
нова С. Н. Чернов еще в 20-х годах отмечал, что он склонен
делать из мухи слона, а это при складывавшихся обстоятель-
ствах нередко вело к нервным срывам. В то же время при-
родная эмоциональность, экспрессивность, импульсивность,
впечатлительность придавали его облику и поведению осо-
бый артистизм и легкий налет экстравагантности. Аристо-
кратическая внешность Б. А. Романова органически соответ-
ствовала его манерам поведения, естественного и непринуж-
денного. К нему вполне применимы его же слова,
адресованные А. С. Лаппо-Данилевскому, о властно очер-
ченном зрительном образе. Все это в совокупности разруша-
ло рамки обыденности и придавало Б. А. Романову как лич-
ности черты особой непохожести на кого-либо из его совре-
менников, своеобразной оригинальности.
Артистичность натуры Б. А. Романова неожиданно про-
явилась при особых обстоятельствах и, так сказать, впря-
мую— в концлагере, где он участвовал в самодеятельном
спектакле, поставленном, как его шутливо называли, «Боль-
шим Академическим Май-губским художественным театром»
(в Май-губе располагался концлагерь).
Психологический тип личности Б. А. Романова выражал-
ся также и в том, что он обладал особой интуицией, отнюдь
не только профессиональной, но и проявляющейся в обыден-
ной жизни. Многие его догадки и предположения поражали
редкой проницательностью, а прогнозы — исключительной
степенью сбываемости.
Б. А. Романову было свойственно трагическое воспри-
ятие жизни, хотя мне трудно определить, была ли это изна-
чальная черта характера или приобретенная под влиянием
драматических обстоятельств. Во всяком случае, еще в сере-
дине 20-х годов, до ареста Б. А. Романова, С. Н. Чернов
считал, что он не умеет жить, имея в виду именно внутрен-
ний трагизм как состояние души. При этом Б. А. Романов
был наделен большим чувством юмора. Он умел в повседнев-
ной жизни увидеть смешные стороны, рассматривая их под
неожиданным, парадоксальным углом зрения. Но в то же
время его сарказм отличался едкой остротой, порой беспо-
щадной.
414
Б. А. Романов был ярким оратором. Его полемические
выступления на научных заседаниях отличались темперамен-
том, сочетающимся со внутренней сдержанностью и высоким
вкусом. С. Н. Чернов писал о нем как о тонком и чутком
ораторе,1 а С. Н. Валк отметил, что импульсом в дискуссиях
у него было «то творческое возбуждение, при котором воз-
никали <...> во время речи все новые и новые повороты
мысли».2 И хотя выступления Б. А. Романова отличались
блестящими импровизациями, он, как правило, не выходил
из образа. Напротив, доклады, с которыми выступал
Б. А. Романов, не содержали и грана импровизации. Они
всегда были напечатаны на машинке, и он, произнося текст,
никогда не отрывался от него. Более того, отдельные удар-
ные слова и фразы заранее подчеркивались для особой их
артикуляции во время публичного чтения.
В личной беседе также проявлялись одаренность и интел-
лектуальное обаяние Б. А. Романова. Он, писал Д. С. Ли-
хачев, «был увлекательным собеседником: несколько старо-
модным causer’oM — остроумным, элегантным, абсолютно
корректным к своему партнеру. Речь его блистала неожидан-
ными сравнениями, всегда острыми, отчетливо конкретизи-
ровавшими мысль, заставлявшими взглянуть на предмет с не-
обычной стороны. Употребляя термин формалистического
литературоведения, можно было бы сказать, что Б. А. [Ро-
манов] „остранял" явления, снимал с них привычную без-
обидность, заставлял задумываться и самостоятельно, вне
всяких традиций, решать научные проблемы. Своими срав-
нениями и образами Б. А. [Романов] выводил явления из их
обывательской трактовки, открывал для обозрения и беспри-
страстного изучения. Очень часто казалось, что он вульгари-
зировал историческое явление, делал его сугубо конкретным,
показывал слишком натурально. Но это только казалось,
ибо снятие всех и всяческих покровов, развенчание и осво-
бождение от „мнений" не было их вульгаризацией».3
Подлинный интеллигент, Б. А. Романов не был, однако,
привержен традиционным иллюзиям, стереотипам и мифам
российской интеллигенции, не строил себе кумира, хорошо
видел и понимал реальный мир. Он принципиально не жил
иллюзиями, считая, что «не в этом состоит оптимизм», «при-
вык смотреть действительности прямо в глаза», любил «вы-
говоренную правду жизни», «с детских лет испытывал неодо-
лимую тошноту от розовых очков». Как для интеллигента
для него было естественным критическое отношение к влас-
ти, какой бы она ни была. Он оторвался от дореволюцион-
ного прошлого, осознанно противопоставил себя ему. Харак-
415
терно в этом отношении его признание, сделанное на закате
лет. Перечитав «Мертвые души» Н. В. Гоголя, Б. А. Рома-
нов писал: «...когда я, в отлучении от дома, вздумал найти
в них утешение как в бездне прошлого и детских воспоми-
наниях, я был поражен, как миниатюрна оказалась эта без-
дна! И как ненадолго хватило мне ее» (Е. Н. Кушевой.
13 сентября 1956 г.). Но Б. А. Романов не мог внутренне
принять и советское настоящее, не был принят им, ощущал
себя аутсайдером. Недаром именно досоветский период в до-
верительных беседах он называл не иначе, как дорежимными
временами.
Б. А. Романов придерживался демократических воззре-
ний — безотносительно к тому, шла ли речь о политическом
устройстве общества или отношений во внутринаучной
сфере. Само собой разумеется, высказываться по политиче-
ским вопросам публично он не мог, но в письмах иногда эта
проблема затрагивалась. Он часто сетовал на бесправие
«простых людей», «проклятие рабства». 4 января 1956 г.
Б. А. Романов писал М. Я. Гефтеру: «В наш век полезных
открытий нелепо убиваться по поводу дурных качеств буду-
щего. Но правовое чувство свойственно, кажется, даже чет-
вероногим и заглушить его в себе применительно к настоя-
щему, как я вижу теперь, невозможно». Отсутствие демокра-
тизма в жизни науки очень огорчало Б. А. Романова. Он
считал, что дискуссии являются необходимым ее элементом
и всячески стремился втянуть в них своих коллег, заботясь
о том, чтобы те из них, с кем у него шла полемика, полу-
чили возможность ответить на критику. Но Б. А. Романов
сталкивался на практике с противодействиями этой этиче-
ской норме и явным неравноправием в дискуссиях. Он писал
в данной связи 28 июля 1950 г. Е. Н. Кушевой: «...всюду
тебя ждет <...> отвращение к спорам в науке. В этой пос-
ледней есть патриции и есть плебеи. Это мне было дадено
понять с таким упорством и наглядностью, что я не могу
это считать случайной промашкой. Мне даже сейчас больно
писать об этом».
Исследовательская работа была той всепоглощающей
страстью, которая не отпускала Б. А. Романова всю его тру-
довую жизнь. Он подходил к ней как к творчеству. «Писа-
ние, — отмечал он, — очень любимо мной». С другой сторо-
ны, ученый осознавал, что оно «очень изнашивает мозг и
всю нервную систему» (Е. Н. Кушевой. 28 августа 1950 г.).
Его оценка коллег в основном определялась тем, насколько
созвучно было их отношение к основному делу его жизни.
416
Большое значение придавал Б. А. Романов тому, как
осуществляется руководство научным коллективом, считал,
что это «дело научное и совсем не административное», и вся-
чески осуждал интриги, возникающие в связи с назначениями
на руководящие посты: «Этот дух представляется мне тле-
творным для научного учреждения» (Е. Н. Кушевой. 13 сен-
тября 1956 г.). Б. А. Романова тревожило будущее истори-
ческой науки, служению которой он посвятил свою жизнь.
Поэтому с той же страстью он отдавал свои силы воспита-
нию смены.
В труднейшие годы моей учебы на историческом факуль-
тете Ленинградского университета в 1948—1953 гг. в усло-
виях гонений, проработок, идеологического террора и поли-
тических преследований, когда казалось, что уже не на что
рассчитывать, одно только присутствие Б. А. Романова оче-
ловечивало нашу жизнь, придавало ей осмысленность.
Б. А. Романов скончался в июле 1957 г., так и не дожив
до появления рецензий на свой последний труд — второе, су-
щественно дополненное издание книги «Очерки дипломати-
ческой истории русско-японской войны». Единственная ре-
цензия на нее появилась в декабре того же года. Но месяцем
раньше, 16 ноября 1957 г., в конференц-зале Института рус-
ской литературы АН СССР (Пушкинского Дома) состоялось
заседание, посвященное памяти ученого. Оно было органи-
зовано Ленинградским отделением Института истории и сек-
тором древнерусской литературы Пушкинского Дома при ак-
тивном участии специально приехавшего из Москвы дирек-
тора академического Института истории А. Л. Сидорова и
Д. С. Лихачева, возглавлявшего сектор, с сотрудниками ко-
торого Б. А. Романов был связан деловыми и личными от-
ношениями.
С основным докладом «Творческий путь Б. А. Романо-
ва» выступил С. Н. Валк. Это был первый опыт характери-
стики Б. А. Романова как ученого и человека, опиравшийся
как на его работы, так и на неопубликованные источники,
в частности личные письма. Доклад был вскоре напечатан в
«Исторических записках»4 и стал отправной точкой в изуче-
нии творческого наследия Б. А. Романова.
Темой выступления А. Л. Сидорова стали «Работы
Б. А. Романова по истории русского империализма». До-
кладчик говорил о Борисе Александровиче как о «выдаю-
щемся ученом», чей «вклад в изучение истории России эпохи
14 В. М. Палеях
417
империализма» был «чрезвычайно велик». При этом
А. Л. Сидоров отметил, что непреходящее значение имеют
не только труды покойного историка, но и «приемы и самый
метод исследования», стремление охватить «всю совокуп-
ность литературы и документальных материалов по каждой
теме», «введение в научный оборот» огромного количества
«документов, хранящихся в наших архивах». Особую цен-
ность, по словам А. Л. Сидорова, имеет вышедшая в 1928 г.
книга Б. А. Романова «Россия в Маньчжурии», достоинство
которой сохраняется несмотря на то, что с момента ее вы-
хода в свет прошло 30 лет. По мнению докладчика, успех
этой книги обеспечило то, что ее автор подошел к оценке
документального материала, «опираясь на ленинскую теорию
империализма», а впервые приведенный в книге «ранее не из-
вестный большой и убедительный материал» послужил иллю-
страцией «указанию В. И. Ленина о военно-феодальном ха-
рактере империалистической политики русского самодержа-
вия в Маньчжурии и Иране». Из этого вытекал вывод,
согласно которому книга «Россия в Маньчжурии» «была на-
писана на высоком идеологическом уровне»: «У Б. А. Рома-
нова не было предшественников в создании подобного рода
исследований, и здесь его учителями являлись только произ-
ведения В. И. Ленина и сама жизнь». А. Л. Сидоров подкре-
пил свою оценку этой книги заявлением о том, что «было
бы полезно выпустить» ее «второе издание», поскольку она
представляет интерес «как для советских, так и для китай-
ских историков» (докладчик, вероятно, не знал, что перевод
«России в Маньчжурии» на китайский язык вышел в свет в
Шанхае в 1937 г.).
Высоко оценил А. Л. Сидоров и оба издания фундамен-
тального труда Б. А. Романова «Очерки дипломатической
истории русско-японской войны», назвав эту книгу «полной
дипломатической историей» этой войны.
Заключил А. Л. Сидоров свое выступление словами: «Со-
ветские историки благодарны Б. А. Романову <...> за то,
что его работы служат примером глубокого научного марк-
систского анализа актуальных вопросов новейшей истории»,
и выразил уверенность в том, что его труды «переживут еще
многие десятилетия и еще сослужат огромную службу совет-
ской исторической науке в подготовке новых кадров совет-
ских историков, помогут ориентироваться в сложных вопро-
сах истории внешней политики России и, вероятно, подтолк-
нут многих наших молодых исследователей на изучение
проблем эпохи империализма».5
418
Разумеется, парадоксальная квалификация А. Л. Сидоро-
вым работ Б. А. Романова как опирающихся на марксист-
ско-ленинскую методологию, противоречила его же отзыву
1937 г. о рукописи «Очерков дипломатической истории рус-
ско-японской войны», содержавшему ее характеристику как
антимарксистского и антиленинского исследования. Равным
образом восторженная оценка в мемориальном докладе мо-
нографии «Россия в Маньчжурии» не соответствовала заяв-
лению, содержавшемуся в том же отзыве, согласно которому
эта книга всего только менее вредна, чем рецензируемый
труд. Но А. Л. Сидоров за 20 лет, как видно, пересмотрел
свои представления то ли о марксистско-ленинской методо-
логии, то ли о трудах Б. А. Романова. Впрочем, так или
иначе, но демонстративное признание одним из ответствен-
нейших руководителей «исторического фронта» работ покой-
ного историка, в которых исследовалась такая животрепещу-
щая проблема, как дальневосточная политика самодержавия,
в качестве марксистско-ленинских, устраняло восходящие
еще к 1949 г. обвинения в буржуазном объективизме и анти-
патриотизме.
Несомненно той же целью, но применительно к книге
«Люди и нравы древней Руси», руководствовался Д. С. Ли-
хачев, выступивший с докладом об этой работе Б. А. Рома-
нова. Он обратил внимание на то, что «обрисовка тяжелых
сторон жизни древней Руси вызвала больше всего возраже-
ний тех лиц, которые примитивно понимали патриотизм ис-
торика лишь как долг восхваления и идеализации прошлого
своей родины». Такому политизированному взгляду доклад-
чик противопоставил свое понимание патриотизма и рас-
смотрел книгу «Люди и нравы древней Руси» именно в этом
контексте: «...разве могли мы сомневаться в том, что наряду
со светлыми сторонами жизни в древней Руси были и сторо-
ны темные? Разве могли мы забывать, что в непосредствен-
ном соседстве с великолепными храмами их подлинные твор-
цы ютились в жилищах полуземляночного типа? Признание
высокой культуры Киевской Руси отнюдь не требует от нас
идеализации ее социальной жизни, которую главным обра-
зом и изучает Б. А. Романов, показывая нам жесточайшую
эксплуатацию смердов и холопов, их трудное жизненное по-
ложение, их бесправие. Б. А. Романов показал высоту древ-
нерусской культуры через сложность социальных отношений
того времени, через демонстрацию процесса классообразова-
ния, свидетельствующего об определенной стадиальной вы-
соте русской культуры, через показ отнюдь не примитивной,
а, напротив, сложной умственной жизни того времени, не за-
419
тушевывая вместе с тем трудностей и горечи древнерусской
жизни, не модернизируя ее и не принимая тона барственной
к ней снисходительности. Киевская Русь настолько прибли-
жена в книге Б. А. Романова к современному читателю, что
вызывает в нем сострадание к человеку того времени, до от-
каза „глотнувшего полынной горечи“ жизни, к подневольно-
му холопу или „свободному" смерду. Читатель воспринимает
прошлое Руси как свое прошлое, и в этом поразительный
художественный эффект книги, а вместе с тем — ее подлин-
ный патриотизм».
Вместе с тем Д. С. Лихачев подробно охарактеризовал
книгу, показал, в чем состоят ее необычайность, новаторство,
своеобразная манера автора «излагать свои мысли», указал на
особый его «подход к историческому материалу», отметил,
что в Б. А. Романове сочетались черты ученого и художника.6
Выше я уже останавливался на том, как Д. С. Лихачев в ста-
тье, в основу которой было положено это выступление,7 оце-
нивал книгу «Люди и нравы древней Руси».
В докладе В. Н. Вернадского «Б. А. Романов как иссле-
дователь социальных отношений в древней Руси» отмеча-
лось, что ученый «отнюдь не отвергал феодальную природу
общественного строя Киевской Руси, как пытались утверж-
дать некоторые из его критиков», но, «и в этом его основная
заслуга», «выявил близость в бытовом положении феодаль-
но-зависимых людей и рабов», «что явилось отражением
пережитков рабовладельческой психологии и чрезвычайно
характерно для рассматриваемого периода», а также «деталь-
но исследовал проблему перехода от свободного к несвобод-
ному состоянию в феодальном обществе». «Подлинная сила
Б. А. Романова как историка, — заключил свое выступление
В. Н. Вернадский, — в неугасимом огне ищущей мысли, в не-
утомимой жажде истины».8
Выступление М. А. Тихановой «Б. А. Романов и археоло-
ги» было посвящено обзору его научных контактов с архео-
логами — от занятий в университетском семинарии у
А. А. Спицына до участия в заседаниях ГАИМКа (в качестве
рецензента подготовлявшихся в этом научном коллективе тру-
дов, а также уже изданных книг), а затем и ИИМКа (писал
главы для «Истории культуры Древней Руси» и активно уча-
ствовал в обсуждении отдельных глав этого труда). М. А. Ти-
ханова высказала мнение, что «творческие дискуссии в среде
археологов (в ИИМКе.—В. П.)> в которых участвовал
Б. А. Романов, послужили той научной атмосферой, в кото-
рой в известной мере создавались как книга „Люди и нравы
древней Руси", так и комментарии к „Правде Русской"».
420
Особо М. А. Тиханова отметила, что «Б. А. Романов
всегда настаивал на необходимости при решении историче-
ских вопросов сочетать исследование вещественных памятни-
ков с анализом письменных источников»9 и даже «скептиче-
ски относился к возможностям, которые дают для решения
исторических вопросов одни вещественные источники». Для
обоснования этого утверждения М. А. Тиханова привела ци-
тату из той части главы «Деньги и денежное обращение в
древней Руси», которая была написана Б. А. Романовым и
была включена в первый том коллективного труда «История
культуры Древней Руси»: «Если бы мы располагали только
вещественными памятниками, происходящими из кладов,
найденных на территории древней Руси или добытых раскоп-
ками погребений, то, при любых их количествах, они не дали
бы нам ни малейшего представления ни о масштабе, ни о
глубине проникновения денежного обращения внутри стра-
ны. Только письменные памятники дают некоторое представ-
ление о денежном обращении в этих двух отношениях».10
М. А. Тиханова также привела слова Б. А. Романова, ска-
занные ей: «Есть что-то случайное и потому от авантюры в
природе экспедиций», — и на этом основании пришла к за-
ключению, что он относился с иронией к археологическим
экспедициям. «Категорически возражал» Б. А. Романов и
«против достаточно распространенных среди археологов „де-
маршей“ в сторону статистики, статистики малых цифр».
По мнению М. А. Тихановой, Б. А. Романов никогда не
интересовался проблемами этногенеза, в отличие от его учи-
теля А. Е. Преснякова. Особенно он не одобрял «то, во что
выливались подчас этногенетические „искания" ИИМКа в
40—начале 50-х годов» XX в. В докладе была приведена вы-
разительная в этом отношении цитата из адресованного ей
в июле 1949 г. письма Б. А. Романова, откликнувшегося на
одну из статей в № 2 за этот год журнала «Вопросы исто-
рии»: «Одолел славянский этногенез, но не понял ни логики
вещей, ни правды жизни. Тут много снобизма в стиле лице-
истов из Генеалогического общества и ни на грош страсти.
Тут больше от перебирания четок <...> ни уверенности, ни
четкости в характеристиках».
«Б. А. Романову как педагогу» посвятил свой доклад
один из ближайших его учеников Н. Е. Носов. Но высказан-
ные в нем суждения уже нашли отражение в главе о
Б. А. Романове — профессоре Ленинградского университета,
и потому нет смысла здесь возвращаться к ним.
Сразу же после этого мемориального заседания
А. Л. Сидоров, совмещавший должность директора институ-
421
та с постом главного редактора «Исторических записок», по-
ручил в срочном порядке подготовить для публикации в
этом авторитетном печатном органе его материалы. И дей-
ствительно, уже в 1958 г? в очередном томе «Исторических
записок» были помещены под общим заголовком «Памяти
Б. А. Романова», заключенным в траурную рамку: статья
С. Н. Валка «Борис Александрович Романов», подробное из-
ложение других докладов («Заседание, посвященное памяти
Б. А. Романова»), подготовленное Б. В. Ананьичем и
В. М. Панеяхом, и «Список трудов Б. А. Романова» (соста-
вители Р. Ш. Ганелин и В. М. Панеях).11
Мемориальное заседание и особенно публикация его ма-
териалов стали своеобразной формой реабилитации той
части научного наследия Б. А. Романова, которое относи-
лось к послевоенному периоду и которое за 10 лет до этого
было объектом разносной и заушательской критики, перехо-
дящей в травлю.
Впрочем, слабое эхо тех обвинении обнаружилось в без-
условно положительной рецензии доцента восточного фа-
культета Ленинградского университета Л. А. Березного на
последнюю книгу покойного ученого (второе издание «Очер-
ков дипломатической истории русско-японской войны»). В
этой рецензии было отмечено, что этот труд ученого «под-
водит итог научным изысканиям, которые автор вел более
трех десятилетий». «Хорошо документированная, насыщен-
ная огромным фактическим материалом» книга, отмечал ре-
цензент, «является новым значительным вкладом в создание
подлинно научной истории развития международных отно-
шений в первых десятилетиях эпохи империализма». По мне-
нию Л. А. Березного, Б. А. Романов «в исследовании слож-
нейших перипетий дипломатической борьбы <...> исходил из
оценки русско-японской войны, данной в трудах В. И. Лени-
на», и «в полном соответствии с известными высказываниями
В. И. Ленина убедительно доказывает, что война была по-
рождена столкновением империалистических интересов цар-
ской России и Японии, и хотя эту империалистическую
войну развязала Япония, за ее спиной стояли англо-амери-
канские империалисты».
Вместе с тем рецензент посчитал, что «диспропорция ма-
териалов, характеризующих политику Японии и России» (от-
меченная и самим Б. А. Романовым, который из-за недо-
ступности ему источников по истории Японии глубже и шире
сумел осветить именно дальневосточную политику России),
не позволила автору дать «должного отпора зарубежным
фальсификаторам, утверждающим, что только Россия была
422
виновницей войны, а Англия, США и даже Япония добива-
лись лишь „равных прав" на торговлю в Маньчжурии». Не-
трудно заметить, что здесь рецензент, хотя и в осторожной
форме, отдал дань прежним обвинениям Б. А. Романова в
буржуазном объективизме. Впрочем, Л. А. Березный конста-
тировал, что автор книги «считает политику всех участников
конфликта империалистической».12
После кончины Б. А. Романова и сдачи его архива в
ЛОИИ его ученики приступили к изучению той части его
научного наследия, которая по каким-то причинам не была
опубликована. Было принято во внимание, что он неодно-
кратно выражал сожаление отказом ГАИМКа (несмотря на
данное до того обещание) напечатать развернутую (8 а. л.)
рецензию на книги Н. Н. Воронина «К истории сельского
поселения феодальной Руси: Погост, слобода, село, деревня»
(Известия ГАИМК. М.; Л., 1935. Вып. 138) и С. Б. Веселов-
ского «Село и деревня в Северо-Восточной Руси XIV—
XVI вв.» (Известия ГАИМК. М.; Л., 1936. Вып. 139), кото-
рой Б. А. Романов дал заглавие «К истории сельского посе-
ления феодальной Руси». Было известно, что и до конца
жизни он искал возможности опубликовать эту работу. В
1960 г. в Трудах ЛОИИ она наконец была напечатана в раз-
деле «Материалы по историографии», но под другим загла-
вием — «Изыскания о русском сельском поселении эпохи фе-
одализма (По поводу работ Н. Н. Воронина и С. Б. Весе-
ловского)».13 При этом в редакционной сноске отмечалось,
что, хотя «отдельные моменты работы, написанной 23 года
назад, частью устарели, частью не учитывают исследований,
осуществленных и опубликованных после 1936 г.», труд
Б. А. Романова имеет «большой историографический инте-
рес», знаменует собой «новый этап по сравнению с работами
Н. Н. Воронина и С. Б. Веселовского» и даже «сохраняет
научное значение и в настоящее время».14
Еще две крупные работы, к которым причастен Б. А. Ро-
манов, — сборник документов «Внешние займы самодержа-
вия (конец XIX—начало XX в.)», который он готовил со-
вместно с Б. В. Ананьичем, и третий выпуск «Курса лекции»
А. Е. Преснякова — остаются, к сожалению, пока неопубли-
кованными. Оба этих труда требуют еще известной доработ-
ки, и, как я надеюсь, в ближайшем будущем она будет осу-
ществлена. Что же касается других неопубликованных работ
423
Б. А. Романова, то было решено пока их не издавать, в том
числе и потому, что он сам не стремился к этому.
С другой стороны, Б. А. Романов постоянно задумывал-
ся над тем, чтобы при благоприятных условиях подготовить
второе издание книги «Люди и нравы древней Руси». Такой
момент наступил в 1966 г., когда эта замечательная работа
была переиздана теперь уже посмертно. При этом авторский
текст воспроизводился без изменений, а научный аппарат
был заново проверен и уточнен Т. М. Новожиловой и
3. Н. Савельевой. Предисловие («О книге и ее авторе») на-
писал Н. Е. Носов, который выступал и в качестве ее ответ-
ственного редактора.15 По его предложению, имеющему
целью оградить книгу от чужого вмешательства в ее текст,
я взял на себя обязанности издательского редактора. Несмот-
ря на сравнительно большой для того времени тираж
(20 000 экз.), книга разошлась в течение нескольких дней.
В 1969 г. московский историк-китаист и историограф
В. Н. Никифоров в разделе «Personalia» журнала «Народы
Азии и Африки» опубликовал очерк о Б. А. Романове, при-
урочив его к 80-летию со дня рождения исследователя.16 Он
охарактеризовал покойного ученого как одного из крупней-
ших историков, «появившихся в советское время на границах
историографии Китая». Преимущественное внимание
В. Н. Никифоров уделил книге «Россия в Маньчжурии», ко-
торая, не будучи востоковедной, стояла «на стыке наук» и
явилась «вкладом также и в востоковедение»: Б. А. Романов
«так основательно поднял тему русско-китайских отношений
в один из наиболее критических периодов, что последующим
историкам надолго осталось разрабатывать лишь политику
других держав». Автор парадоксально объяснил этот успех
тем, что в творчестве Б. А. Романова «в первое послеок-
тябрьское десятилетие» имел место «примечательный про-
гресс»: «...книга 1928 г. показывает исследователя, счастливо
соединяющего технику работы историка-профессионала с
творческим применением марксистской методологии»; «мас-
сой фактического материала» Б. А. Романов подтвердил
«правильность ленинской концепции внешней политики ца-
ризма». В. Н. Никифоров особо подчеркнул, что Б. А. Ро-
манов сумел противопоставить концепции С. Ю. Витте, вы-
раженной в его мемуарах, «подлинную картину русской по-
литики в Китае», решил «основной вопрос: о движущих
силах „китайской" политики царизма» и тем самым доказал,
424
что «политика Витте в общем вела к тому, к чему привела
более грубая по методам политика безобразовцев». Рассмот-
рев рецензии конца 20-х—начала 30-х годов на книгу «Рос-
сия в Маньчжурии», В. Н. Никифоров пришел к заключе-
нию, что «наличие нескольких положительных отзывов не
меняет общего впечатления недооценки выдающегося труда
Б. А. Романова». Впоследствии этот свой очерк автор вклю-
чил в монографию, посвященную советской историографии
Китая.17
Несмотря на стремление ближайших учеников подгото-
вить сборник статей памяти Б. А. Романова, по ряду причин
его долго не удавалось издать. В частности, действовал сте-
реотип, согласно которому подобные сборники могли быть
посвящены только памяти руководящих работников Акаде-
мии, академиков или в крайней случае членов-корреспонден-
тов АН СССР. Б. А. Романов же не принадлежал ни к одной
из этих категорий.
И все же в 1971 г. в свет вышел сборник статей «Иссле-
дования по социально-политической истории России»,18 по-
священный его памяти. Книге предпослано предисловие
Н. Е. Носова, который был заведующим ЛОИИ и возглавил
редакционную коллегию (в нее вошли также С. Н. Валк,
Д. С. Лихачев, В. М. Панеях и А. А. Фурсенко). Сборник
открывали две статьи, воссоздававшие творческий облик по-
койного ученого: С. Н. Валка «Борис Александрович Рома-
нов» (автор существенным образом переработал и дополнил
свою первую работу под тем же заглавием) и Д. С. Лихачева
«Б. А. Романов и его „гид“ Даниил Заточник». Кроме того
в сборнике опубликованы работы известных ленинградских
и московских историков (среди последних, отдавших дань
памяти ученому, были Н. М. Дружинин, А. А. Зимин,
Е. Н. Кушева, Л. В. Черепнин, С. О. Шмидт). Книга завер-
шалась уточненным и дополненным списком трудов
Б. А. Романова (составители Р. Ш. Ганелин и В. М. Пане-
ях) и перепечатанным из тома 62 «Исторических записок» от-
четом о научном заседании, состоявшемся 16 ноября 1957 г.,
которое было посвящено его памяти.
К 100-летию со дня рождения Б. А. Романова, в 1989 г.,
были опубликованы две статьи — А. А. Фурсенко («О жиз-
ненном пути Б. А. Романова»)19 и моя («Проблемы истории
России эпохи феодализма в научном наследии Б. А. Романо-
ва»).20 В том же году в ЛОИИ состоялось заседание Ученого
совета, также посвященное 100-летнему юбилею выдающего-
ся историка. Оно открылось вступительным словом замести-
теля директора Института истории СССР по ЛОИИ
425
В. А. Шишкина, после чего А. А. Фурсенко сделал основ-
ной доклад («Борис Александрович Романов»), а затем были
прочитаны другие доклады, освещающие разные стороны на-
учного наследия ученого: Б. В. Ананьичем («Мемуары
С. Ю. Витте в творческой судьбе Б. А. Романова»), С. Г. Бе-
ляевым («Б. А. Романов — архивист»), Р. Ш. Ганелиным
(«Б. А. Романов как историк революционного движения»),
В. М. Панеяхом («Б. А. Романов об издании Судебников
XV—XVI вв.»). С воспоминаниями о Б. А. Романове высту-
пила К. Н. Сербина.
Все эти материалы были включены в качестве первого
раздела еще одного (второго) сборника памяти ученого, из-
данного в 1991 г. в связи со 100-летием со дня его рожде-
ния.21 Редакционную коллегию составили ближайшие учени-
ки Б. А. Романова — А. А. Фурсенко (отв. редактор),
Б. В. Ананьич, Р. Ш. Ганелин, В. М. Панеях.
Особо следует остановиться на том, как эволюциониро-
вало в историографии отношение к основным трудам
Б. А. Романова. Наиболее показательно в этом отношении
изменение в оценке книги «Люди и нравы древней Руси». На-
чало коренному перелому — от проработочной критики еще
при жизни автора к посмертному признанию ее одной из
наиболее оригинальных работ по истории древней Руси по-
ложили, разумеется, статьи С. Н. Валка и Д. С. Лихачева, в
которых эта книга впервые была оценена по достоинству.
Но, пожалуй, наиболее выразительным симптомом ее своего
рода «реабилитации» стало отношение к ней И. И. Смирно-
ва, выступавшего еще в апреле 1949 г. с основным докладом
на том заседании в ЛОИИ, на котором она и ее автор под-
верглись оголтелому поношению. Углубленная исследова-
тельская работа над проблематикой, во многом близкой той,
которой была посвящена книга «Люди и нравы древней
Руси», привела И. И. Смирнова к частичному пересмотру
этого его взгляда на нее, и прежде всего к отказу от идео-
логизированной и политизированной ее оценки. В предисло-
вии к своей книге о социально-экономическом строе Руси в
XII—XIII вв. И. И. Смирнов написал не только о том, что
учился у Б. А. Романова искусству исторического исследова-
ния, но и поставил его работы в один ряд — по степени вли-
яния на себя — с «классическим трудом» Б. Д. Грекова «Ки-
евская Русь». Если он служил «для автора <...> предпосыл-
кой при изучении Руси XII—XIII вв.», то исследования
426
Б. А. Романова о «Русской Правде» и древней Руси «оказали
на автора» «не менее сильное влияние», поскольку они пред-
ставляют собой «новое слово в изучении» и самого памят-
ника права, и истории древнерусского государства. Правда,
И. И. Смирнов тут же отметил, что «коренным образом рас-
ходится с Б. А. Романовым в понимании процесса социаль-
но-экономического развития Руси». И действительно, в книге
много страниц посвящено полемике с Б. А. Романовым, но
время резкого идеологического размежевания миновало, и
она носит вполне академический характер, не говоря уже о
том, что автор часто и охотно отмечает конкретные иссле-
довательские удачи своего коллеги, имеющие «очень боль-
шую ценность». Более того, И. И. Смирнов особо отметил,
что исследование закупничества в книге «Люди и нравы
древней Руси», как и в работах Б. Д. Грекова, С. В. Юшко-
ва, М. Н. Тихомирова, А. А. Зимина, Л. В. Черепнина, «ве-
дется с марксистских позиций», а это было в его устах выс-
шей оценкой.22 Показательно, что в именном указателе к
книге больше ссылок на труды Б. А. Романова, чем на ис-
следования Б. Д. Грекова.
Постепенно «Люди и нравы древней Руси» все в большей
степени начинают интерпретироваться как исследование, пред-
восхитившее возникший через два-три десятилетия после из-
дания книги интерес к социальной психологии.23 Теперь, когда
прошло более полувека со дня выхода в свет первого издания
книги и на 10 лет больше со времени ее написания, когда без-
надежно устарели многие работы, изданные в 30—50-х годах
XX в., преданы забвению концепции, создававшиеся в услови-
ях меняющейся конъюнктуры в качестве комментариев к ци-
татам из «основоположников», работа о «людях» и «нравах»
древней Руси, писавшаяся сразу же после издания в 1938 г.
«Краткого курса» «Истории ВКП(б)» и появившаяся в разгар
идеологических проработок, не разделила их участи, а и сей-
час воспринимается как новаторская и созвучная современным
направлениям исторической науки. Она рассматривается в
контексте культурно-антропологической истории, изучения
ментальности и повседневной жизни людей, нетрадиционном
для историков, исследовавших древнюю Русь.
В частности, «смелым экспериментом, необычной для
своего времени попыткой исторической реконструкции обра-
за человека раннего средневековья» названа книга Б. А. Ро-
манова в статье А. Л. Ястребицкой, опубликованной в
1991 г., которая посвящена анализу исследований проблем
повседневности и материальной культуры средневековья в
отечественной медиевистике. «Люди и нравы древней Руси»
427
характеризуется ею как «пионерское исследование», «первый
шаг полидисциплинарного исследования и одновременно
первая попытка историко-культурного синтеза в смысле „то-
тальной истории"». Более того, А. Л. Ястребицкая констати-
ровала, что в мировой науке долго еще не появлялись иссле-
дования, подобные книге Б. А. Романова. По ее мнению,
лишь через 35 лет во Франции вышла в свет работа Э. Леруа
Ладюри «Монтайю. Окситанская деревня в 1294—1324 гг.»,24
посвященная жизни средневековой деревни, с которой моно-
графия Б. А. Романова «по оригинальности постановки про-
блемы и методикам находится в том же ряду».25
Впрочем, сходство «Людей и нравов древней Руси» с кни-
гой Э. Леруа Ладюри можно считать весьма относительным
хотя бы уже потому, что она основана на анализе всего
только одного источника — протоколов допросов инквизито-
рами около сотни жителей селения Монтайю, интерпретиро-
ванных автором небезупречно,26 тогда как книга Б. А. Рома-
нова опирается на исследование всего комплекса источников,
относящихся к XI—XIII вв., и в ней рассматриваются
«люди» и «нравы» домонгольской Руси в целом. Неаргумен-
тированным осталось и утверждение А. Л. Ястребицкой, со-
гласно которому «несомненно» «влияние <...> концепции ис-
торико-культурного анализа» Л. П. Карсавина на Б. А. Ро-
манова.2^ Поскольку автор не указывает на элементы
преемственности, затруднительно с ним дискутировать по
этому вопросу. Да и А. Л. Ястребицкая не объяснила, как
можно согласовать мнение о влиянии Л. П. Карсавина на
Б. А. Романова с утверждением об оригинальности и пио-
нерском характере его исследования. Мне представляется,
что Л. П. Карсавин, будучи учеником И. М. Гревса, избрал
свой, отклоняющийся от традиции петербургской историче-
ской школы, путь в науке, в отличие от Б. А. Романова,
всегда подчеркивавшего свою принадлежность к ней.
Несмотря на расхождение во взглядах на сходство и раз-
личия в методах работы русского и французского ученых и по
во вопросу о влияниях внутри русской исторической науки, в
целом вряд ли вызовет возражения утверждение, что теперь,
когда в западной, особенно французской, исторической науке
интенсивно развивается мощное направление, определяемое
как история ментальности, книга Б. А. Романова приобретает
особое значение и новое звучание. В связи с осознанием того,
что количественные показатели, лежащие в основе социальной
истории, перестали удовлетворять исследователей, стремящих-
ся понять феномен коллективного поведения, и стала изучать-
ся ментальность прежних эпох. Не случайным поэтому пред-
428
ставляется переиздание этой работы покойного ученого в
одном томе с историческим романом, в котором художествен-
ными средствами изображается тот же период истории древ-
ней Руси.28 Но поиски других способов и методов анализа про-
шлого привели к тому, что социальная и экономическая исто-
рия оказались потесненными новым направлением. Появилась
даже тенденция рассматривать историю ментальности в отры-
ве от социальной и экономической проблематики. Между тем,
как теперь стало ясно, еще до всех этих сдвигов в западноев-
ропейской историографии и связанных с ними спорами
Б. А. Романов в книге «Люди и нравы древней Руси» дал раз-
вернутую характеристику ментальности различных слоев и
всего социума в целом, но не автономно, а в органической
связи с социальной историей, с выявлением механизма дейст-
вия социально-экономических процессов.
В то же время концепция социального развития древней
Руси, в скрытом виде содержащаяся в книге, с опозданием
войдя в нормальный историографический контекст, оказа-
лась как бы на периферии нашей науки, хотя многие частные
выводы исследователя, прежде всего связанные с анализом
норм «Русской Правды», стали ее признанным достоянием.
В новой историографической ситуации, возникшей в конце
50-х годов XX в., когда выяснилось, что выстроенная
Б. Д. Грековым история складывания феодализма в России
не во всем оказалась аргументированной, и, в частности, был
поставлен под сомнение ее основополагающий тезис о ран-
нем возникновении крупной феодальной вотчины, логично
было бы обратиться к книге Б. А. Романова (а также к ра-
ботам С. В. Юшкова, С. В. Бахрушина, В. А. Пархоменко,
М. Д. Приселкова, К. В. Базилевича, А. Н. Насонова,
А. А. Зимина) и попытаться продолжить разработку концеп-
ции более позднего генезиса русского феодализма. Однако
этого не произошло. Сыграло, по-видимому, свою роль
стремление сохранить вывод Б. Д. Грекова о раннем вызре-
вании русского феодализма. Так, в работах Б. А. Рыбакова
генезис феодализма на Руси удревняется без убедительных,
на мой взгляд, оснований еще в большей степени, чем у
Б. Д. Грекова. Л. В. Черепнин выдвинул и аргументировал
концепцию государственной феодальной собственности и го-
сударственного феодализма в условиях древней Руси, полу-
чившую интенсивную поддержку и широкое распространение
(см. труды А. Д. Горского, С. М. Каштанова, В. И. Корец-
кого, В. Д. Назарова, М. Б. Свердлова и др.), хотя вызвав-
шую также и критику (см. труды И. И. Смирнова, Г. Е. Ко-
чина, А. И. Копанева, Ю. Г. Алексеева, Н. Е. Носова,
429
А. Л. Шапиро, И. Я. Фроянова и др.). В рамках этой кон-
цепции ранний генезис феодализма не связывался с возник-
новением крупной феодальной вотчины. В таких условиях
книга Б. А. Романова, не отрицавшего ее наличия, но при-
шедшего к заключению о позднем складывании феодальных
отношений, в этом ее качестве пока востребована не в пол-
ном объеме. Напротив, она высоко ценится в среде этноло-
гов, считающих книгу образцовым культурно-антропологи-
ческим исследованием.
Несколько по-иному сложилась посмертная историогра-
фическая судьба трудов Б. А. Романова, посвященных даль-
невосточной политике самодержавия на рубеже XIX и
XX вв. Его, как отметил Б. В. Ананьич, «замысел <...> по-
кончить с бутафорскими легендами вокруг маньчжурской по-
литики России», казалось бы, «наконец-то одержал победу
не только в научном, но и в историографическом плане»/9
Об этом, в частности, свидетельствовал официозный труд
«История дипломатии», в котором В. М. Хвостов охаракте-
ризовал С. Ю. Витте как зачинателя «экспансионистской по-
литики царизма на Дальнем Востоке».30
Однако вразрез с этим, пишет Б. В. Ананьич, А. А. Гу-
бер в 1973 г. в коллективном двухтомном труде «Междуна-
родные отношения на Дальнем Востоке», вышедшем под ре-
дакцией и с послесловием Е. М. Жукова, ссылаясь на рабо-
ты Б. А. Романова и не полемизируя с ним, утверждал, что
С. Ю. Витте был политиком, который защищал умеренный
курс и настаивал «лишь на экономической экспансии», а
А. Н. Безобразов и К0 — «представители авантюристическо-
го курса, боровшегося против „триумвирата" министров
иностранных дел, военного и финансов во главе с Витте, ко-
торые были склонны тормозить опасное развитие экспансии
на Дальнем Востоке».31
Следуя в русле, проложенном в своих «Воспоминаниях»
самим С. Ю. Витте, и другие авторы трудов по дальневос-
точной проблематике ссылаются на них, как отмечал сам
Б. А. Романов еще на своем докторском диспуте, имея в
виду ряд американских историков, словно «на свод зако-
нов».32 Б. В. Ананьич отнес к такого рода сочинениям книгу,
вышедшую в свет в 1958 г., через год после смерти Б. А. Ро-
манова, американского историка А. Малоземова «Дальневос-
точная политика России. 1881—1904»,33 в которой в резуль-
тате сопоставления работы Б. Б. Глинского «Пролог русско-
японской войны» (т. е. мемуаров того же С. Ю. Витте,
изданных под именем Б. Б. Глинского) с монографией «Рос-
сия в Маньчжурии» автор пришел к выводу, что Б. Б. Глин-
430
ский написал честно, а Б. А. Романов использует неблагора-
зумно составленные документы для дискредитации их авто-
ров и в первую очередь С. Ю. Витте.34
Напротив, как отметил Б. В. Ананьич, известный англий-
ский историк Ситон Уотсон в общем курсе истории России
с 1801 по 1917 г., полемизируя с А. Малоземовым и опира-
ясь при этом на Б. А. Романова, пришел к заключению, со-
гласно которому «наивно было бы всю ответственность за
дальневосточную авантюру возложить на Безобразова и К°,
а причину конфликта видеть в том, что Николай II не вни-
мал мудрым советам Витте».35
Концепция Б. А. Романова дальневосточной политики
самодержавия на Дальнем Востоке в конце XIX—начале
XX в. и его оценка мемуаров С. Ю. Витте как историческо-
го источника, и без того убедительные, теперь, после выхода
в свет фундаментальных трудов Б. В. Ананьича и Р. Ш. Га-
нелина, привлекших и проанализировавших для критики
этих мемуаров дополнительные источники, приобрели неос-
поримый характер.
♦ ♦ ♦
Наследие ученого — не только его труды, но и ближай-
шие ученики, продолжающие дело своего учителя. Все они
защитили докторские диссертации. Сфера их преимуществен-
ных интересов сформировалась под влиянием Б. А. Романо-
ва и определила их дальнейшую жизнь в науке. История фи-
нансовых отношений, история банков, критика «Воспомина-
ний» С. Ю. Витте, академическое издание его мемуаров и
его научная биография, отношения России с зарубежными
странами — дипломатические и финансово-экономические,
исследование внутренней политики самодержавия во второй
половине XIX—начале XX в., в том числе в период первой
русской революции, история США и отношения России, а
также СССР с этой страной, исследование внутренней поли-
тики России в XVI в., ее социальной структуры и отдельных
социальных категорий, комментирование русского средневе-
кового законодательства — вот неполный перечень проблем,
которые стали доминирующими в работах учеников
Б. А. Романова. Наконец, его исследовательский интерес к
«недавнему прошлому», возможно, стал импульсом, который
привел к тому, что в сферу их научных интересов вошла и
история советского периода.
Заслуги учеников Б. А. Романова получили и обществен-
ное признание: Б. В. Ананьич и А. А. Фурсенко были из-
431
браны в число действительных членов, а Р. Ш. Ганелин —
членов-корреспондентов Российской Академии наук;
Н. Е. Носов долгое время был заведующим Ленинградского
отделения (ныне — С.-Петербургского филиала) Института
истории СССР (ныне — Института российской истории
РАН), а А. А. Фурсенко — академиком-секретарем Отделе-
ния истории РАН.
♦ ♦ ♦
Труды Б. А. Романова и при его жизни, и посмертно по-
лучали разноречивую оценку с точки зрения концептуальных
и методологических их основ — от признания их буржуазны-
ми, чуждыми марксистско-ленинской методологии, антипат-
риотическими, объективистскими до отнесения к числу марк-
систских и даже марксистско-ленинских. Такой разброс мне-
ний неудивителен. Сама «генеральная линия» правящей
большевистской партии и ее социологические представления
были столь зигзагообразными, что и партийным теоретикам
трудно было поспевать за постоянно меняющимися директи-
вами. В конечном счете квалификация той или иной работы
в качестве марксистско-ленинской утратила содержательный
смысл и превратилась в свидетельство следования сиюминут-
ной политической конъюнктуре, с точки зрения тех, от кого
исходила такая оценка, в выдаваемый ими сертификат о бла-
гонадежности.
Сам Б. А. Романов в своих работах никогда не касался
этой щекотливой проблемы. Он относил себя к петербург-
ской исторической школе и неоднократно об этом заявлял,
говорил о себе как о беспартийном историке. В речи на
защите докторской диссертации Б. А. Романов, излагая ис-
торию своих занятий международно-политической проблема-
тикой, в осторожной форме определил свое отношение к гос-
подствовавшей теоретико-методологической системе. Упомя-
нув о той школе, из которой он вышел, Б. А. Романов
отметил: «...было бы грубейшей историографической ошиб-
кой полагать, что мы, сравнительно молодые тогда (в начале
20-х годов. — В. П.) историки-немарксисты из этой школы
остались в стороне от „Империализма как высшей стадии ка-
питализма", сборника „Против течения", „Государства и ре-
волюции", „Развития капитализма", „Детской болезни", „На-
циональной гордости" и т. д. и т. п. Конечно, в 1921 г. я не
мог и самому-то себе ответить на вопрос, когда — в 1903,
или в 1917, или в 1914, или в 1895, или в 1881 и т. п. году
начался „империализм" в России. Да и к такой механической
432
постановке вопроса не предрасполагала меня и школа».37
Что же касается конца 30-х годов и написанной в это время
книги «Очерки дипломатической истории русско-японской
войны», то Б. А. Романов говорил о ней как об «историо-
графическом эпизоде», который «расположился на стыке
буржуазной и советской историографии».38
И все же необходимо, абстрагируясь как от таких, хотя
и значимых, субъективных и в то же время отчасти вызван-
ных сиюминутными условиями самооценок, так и от тех ха-
рактеристик творчества Б. А. Романова, которые тоже несли
на себе груз текущей конъюнктуры, попытаться определить,
оказал ли на него влияние марксизм и его ленинско-сталин-
ская интерпретация. Несомненно, что так называемый марк-
сизм-ленинизм не стал для Б. А. Романова теоретической
основой его исследовательской деятельности, а ссылки на ра-
боты В. И. Ленина и И. В. Сталина были скорее вынужден-
ными и ритуальными, чем содержательными. Сложнее обсто-
ит дело с марксизмом в его первоначальном виде. Вряд ли
Б. А. Романов заинтересовался экономическими и социоло-
гическими воззрениями самого К. Маркса. Во всяком случае,
никаких признаков этого нет ни в трудах, ни в эпистолярном
наследии ученого. Другое дело марксизм в целом и особенно
в его позднейших доленинских интерпретациях в России (ле-
гальный марксизм) и за рубежом. Несомненно, что он обо-
гатил проблематику исторических исследований анализом со-
циально-экономических структур. Книга «Россия в Маньчжу-
рии» именно в данном аспекте может быть поставлена в
связь с марксизмом. Представление о финансовом капитале
Б. А. Романов, вероятно, заимствовал у Р. Гильфердинга,
теоретика так называемого австромарксизма, чья вышедшая
в 1910 г. книга «Финансовый капитал» положила начало
углубленному исследованию капитализма в его позднейшем
проявлении.
И все же, несмотря на эти влияния, Б. А. Романов не
может быть отнесен к числу марксистских историков. Он сам,
как уже было неоднократно отмечено, считал себя историком
петербургской школы, которая выработала свои принципы
вне соприкосновения с марксистской мыслью. На традиции пе-
тербургской исторической школы он и опирался в своих ра-
ботах, одновременно обновляя их в соответствии с задачами,
возникающими в ходе исследований. Именно потому его ос-
новополагающий труд по дальневосточной политике самодер-
жавия «Россия в Маньчжурии» был несколько раз переведен
за рубежом: дважды в разных переводах в Токио на японский
язык в 1934 г., в Шанхае на китайский язык в 1937 г. (не ис-
433
ключено, что китайский перевод был сделан с японского),39 в
Лондоне на английский язык в 1952 г.40
Большой интерес в этой связи имеет и оценка, которую
дал трудам Б. А. Романова по истории России конца XIX—
начала XX в. американский историк А. Рибер: «Судя по ши-
роким обобщениям и очень общим взглядам на русскую ис-
торию, Б. А. Романов с его стремлением к тщательному ана-
лизу источников и систематическому изучению архивных
материалов представляет петербургскую традицию в ее
послереволюционном советском воплощении <...> Подход
Романова открыл новые перспективы для изучения русского
империализма на Дальнем Востоке».41
♦ ♦ ♦
Б. А. Романов принадлежал к тому трагическому поколе-
нию научной интеллигенции, чья юность и первый, обещав-
ший так много профессиональный успех пришлись на дорево-
люционное время, молодость — на революции 1917 г., граж-
данскую войну, «военный коммунизм», зрелость и старость —
на период массовых репрессий, проработок и гонений. В этих
невыносимых условиях он постоянно пытался самореализо-
ваться, вписаться — при внутреннем неприятии существовав-
шего порядка — в систему. Вначале она приняла Б. А. Рома-
нова, как бы вобрала в себя (20-е годы), но вскоре (в 1930 г.)
отторгла, поломала судьбу, и он потерял все—образ жизни,
благополучие, здоровье, затем (в 40—50-х годах) она ломала
его почерк, стремясь приспособить к своим стандартам. Режим
под чудовищным давлением вырвал у Б. А. Романова мини-
мальные уступки, я бы сказал, стилистического (цитаты из
работ «основоположников», отчасти терминология), а не кон-
цептуального, содержательного характера. Но он все равно
выламывался из системы в силу уникальных свойств личности
и таланта. Б. А. Романов опережал свое время и как историк,
и как мыслитель, гражданин, личность. Он не страдал синдро-
мом национальной озабоченности, не искал спасения России
ни в религии, ни в прошлом, не идеализировал прошлое, не
замыкался, по его словам, в рамках национального пошехо-
нья. Ему был свойствен объективизм как средство противо-
стояния вульгаризованной марксистско-ленинско-сталинской
доктрине. Он протестовал против власти аппаратчиков в
науке, против их произвола, презирал академический снобизм,
не примирялся с гегемонизмом научных школ, боролся с мо-
нополизмом в науке. Но бесчеловечный тоталитарный режим
не дал в полной мере проявиться его уникальному таланту и
434
укоротил его жизнь. Печальна история жизни человека, уче-
ного, чьи дарование и незаурядная натура не могли в полной
мере реализоваться.
ПРИМЕЧАНИЯ
1 Чернов С. Н. [Рец.] Русский исторический журнал. 1920. Кн. 6//Дела
и дни. 1922. Кн. 3. С. 179.
2 Валк С. Н. Борис Александрович Романов//ИЗ. 1958. T. 62. С. 272.
3 Лихачев Д. С. Борис Александрович Романов и его книга «Люди и
нравы древней Руси»//ТОДРЛ. М.; Л., 1958. T. 15. С. 495.
4 Валк С. Н. Борис Александрович Романов. С. 269—282.
3 Ананъич Б. В., Панеях В. М. Заседание, посвященное памяти
Б. А. Романова//ИЗ. 1958. T. 62. С. 283—285.
6 Там же. С. 285—287.
7 Лихачев Д. С. Борис Александрович Романов и его книга «Люди и
нравы древней Руси». С. 486—495. Ср.: Панеях В. М. «Люди и нравы древ-
ней Руси» Бориса Александровича Романова: судьба книги//ТОДРЛ. СПб.,
1996. Т. 50. С. 825—839.
8 Ананъич Б. В., Панеях В. М. Заседание, посвященное памяти
Б. А. Романова. С. 287.
9 Там же. С. 287—288. В отчет о заседании попала только эта послед-
няя фраза, относящаяся к сюжету о необходимости сочетания анализа веще-
ственных и письменных источников. Однако в сохранившейся у меня его
стенограмме эта мысль М. А. Тихановой изложена в более определенных и
даже заостренных выражениях. Далее это выступление цитирую по стено-
грамме.
10 Романов Б. А. Деньги и денежное обращение//История культуры
Древней Руси: Домонгольский период. М.; Л., 1948. Т. 1. С. 371. В этой
главе перу Б. А. Романова принадлежат разделы, посвященные анализу
письменных памятников (с. 370—381). Исследование монет произвел Н. П.
Бауер, который ко времени издания тома был репрессирован, и Б. А. Ро-
манову приписали и его текст. Однако в своих списках научных трудов
Б. А. Романов указывал лишь на те страницы, автором которых он был.
«Мои там первые три параграфа,— писал он Е. Н. Кушевой. — Осталь-
ные— мертвое наследство».
11 Памяти Б. А. Романова//ИЗ. 1958. Т. 62. С. 269—295.
12 Березный Л. А. [Рец.] Романов Б. А. Очерки дипломатической исто-
рии русско-японской войны. 1895—1907. Издание второе, исправленное и
дополненное. М.; Л., 1955//ВИ. 1957. № 12. С. 188—193.
13 Романов Б А. Изыскания о русском сельском поселении эпохи фео-
дализма (По поводу работ Н. Н. Воронина и С. Б. Веселовского)//Вопро-
сы экономики и классовых отношений в Русском государстве XII—XVII
веков. М.; Л., 1960. С. 327—476 (Труды ЛОИИ. Вып. 2).
14 Там же. С. 357.
15 Романов Б. А. Люди и нравы древней Руси: Историко-бытовые очер-
ки XI—XIII вв. 2-е изд. М.; Л., 1966.
16 Никифоров В. Н. Борис Александрович Романов (К восьмидесятиле-
тию со дня рождения)//Народы Азии и Африки. 1969. № 3. С. 206—210.
17 Никифоров В. Н. Советские историки о проблемах Китая. М., 1970.
С. 340—345.
435
18 Исследования по социально-политической истории России: Сб. ста-
тей памяти Бориса Александровича Романова. Л., 1971.
19 Фурсенко А. А. О жизненном пути Б. А. Романова//ВИ. 1989. № 11.
С. 155—162.
20 Панеях В. М. Проблемы истории России эпохи феодализма в науч-
ном наследии Б. А. Романова//История СССР. 1989. № 1. С. 131—143.
21 Проблемы социально-экономической истории России: К 100-летию со
дня рождения Бориса Александровича Романова. СПб., 1991.
*2 Смирнов И. И. Очерки социально-экономических отношений Руси
XII—XIII веков. М.; Л., 1963. С. 4, 44, 235.
23 См.: Соболев Г. Л. Проблемы общественной психологии в историче-
ских исследованиях//Критика новейшей буржуазной историографии. Л.,
1967. С. 109; Никифоров В. Н. Борис Александрович Романов (К восьмиде-
сятилетию со дня рождения). С. 206.
24 Le Rou Ladurie Е. Montaillou, village occitan de 1294 a 1324. Paris,
1975.
25 Ястребицкая А. Л. Повседневность и материальная культура средне-
вековья в отечественной медиевистике//Одиссей: Человек в истории: Куль-
турно-антропологическая история сегодня: 1991. М., 1991. С. 94—95, 101.
26 См.: Гуревич А. Я. Исторический синтез и Школа «Анналов». М.,
1993. С. 172—174.
27 Ястребицкая А. Л. Повседневность и материальная культура средне-
вековья в отечественной медиевистике. С. 94.
28 Романов Б. А. Люди и нравы древней Руси//От Корсуни до Калки.
М., 1990.
29 Ананьич Б. В. Мемуары С. Ю. Витте в творческой судьбе Б. А. Ро-
манова//Проблемы социально-экономической истории России: К 100-летию
со дня рождения Бориса Александровича Романова. СПб., 1991. С. 38.
30 История дипломатии. М., 1963. Т. 2. С. 545.
31 Ананьич Б. В. Мемуары С. Ю. Витте в творческой судьбе Б. А. Ро-
манова. С. 38; Международные отношения иа Дальнем Востоке / Под ред.
Е. М. Жукова. М., 1973. С. 209, 223.
32 Речь Б. А. Романова на защите докторской диссертации: Архив
СПб. ФИРИ, ф. 298, on. 1, д. 75, л. 14.
33 Malozemoff A. Russian Far Eastern Policy. 1881 —1904. Berkeley; Los
Angeles, 1958.
34 Ананьич Б. В. Мемуары С. Ю. Витте в творческой судьбе Б. А. Ро-
манова. С. 38.
35 Цит. по: Ананьич Б. В. Мемуары С. Ю. Витте в творческой судьбе
Б. А. Романова. С. 38—39.
36 Ананьич Б. В., Ганелин Р. Ш. 1) Опыт критики мемуаров
С. Ю. Витте (в связи с его публицистической деятельностью в 1907—
1915 гг.)//Вопросы историографии и источниковедения истории СССР. М.;
Л., 1963; 2) С. Ю. Витте-мемуарист. СПб., 1994; 3) Сергей Юльевич Витте
и его время. СПб., 1999.
37 Речь Б. А. Романова на защите докторской диссертации, л. 3—4.
38 Там же, л. 8а.
39 См.: Никифоров В. Н. Борис Александрович Романов (К восьмидеся-
тилетию со дня рождения). С. 209.
40 Romanov В. A. Russia in Manchuria. 1892—1906. [London], 1952.
41 Rieber A. The historiography of Imperial Russian foreign policy critical
suryey//Imperial Russian foreign policy. Washington, 1993. P. 337.
436
СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ
АЕ ВИ ВФ ГАИМК — Археографический ежегодник. — Вопросы истории. — Вопросы философии. — Государственная Академия истории материаль- ной культуры.
ИЗ ИИМК — Исторические записки. — Институт истории материальной культуры Академии наук СССР.
ЛГУ МГУ ои ОПИ ГИМ — Ленинградский государственный университет. — Московский государственный университет. — Отечественная история. — Отдел письменных источников Государственно- го исторического музея.
ОР РГБ — Отдел рукописей Российской государственной библиотеки.
ОР PH Б — Отдел рукописей Российской национальной библиотеки.
ПФА РАН — С.-Петербургский филиал Архива Российской Академии наук.
РАН РАНИОН — Российская Академия наук. — Российская ассоциация научно-исследователь- ских институтов общественных наук.
СПб. ФИРИ — С.-Петербургский филиал Института россий- ской истории Российской Академии наук.
ТОДРЛ — Труды Отдела древнерусской литературы Ин- ститута русской литературы (Пушкинского Дома) Российской Академии наук.
ФСБ — Федеральная служба безопасности.
ЦГАИПД СПб. — Центральный государственный архив истори-
ко-политических документов С.-Петербурга.
УКАЗАТЕЛЬ ИМЕН
Абрамович Г. В. 313
Аварии В. 111, 112, 121
Аввакумов С. И. 238, 262, 268, 294
Агранов Я. С. 125
Адашев А. Ф. 400
Адашев Ф. Г. 401
Адрианова-Перетц В. П. 240, 244, 245
Азадовский К. М. 292, 294
Азадовский М. К. 246
Айзенштадг Л. И. 333
Акулов И. А. 127
Александр Невский 237
Александра Федоровна 77
Александров Б. В. 24, 41—43, 48—50,
56, 58, 98, 171, 188, 193, 232, 270,
293, 341
Алексеев В. М. 14
Алексеев М. П. 246
Алексеев Ю. Г. 313, 430
Алексеева Г. Д. 98
Ананьич Б. В. 6, 7, 10, 76, 98, 99, 114,
141, 168, 188, 234, 245, 339, 340,
342—349, 369, 371—375, 422, 426,
430—432, 435, 436
Андреев А. И. 98, 123, 162, 196, 197,
201—203, 245, 252, 253, 257, 263,
289—291, 293, 298, 300, 306—308,
311
Андреев И. Д. 20
Андрей Владимирович 92, 101
Аннинский С. А. 51, 56
Анпилогов Г. Н. 246, 252, 293
Артамонов М. И. 7, 178, 271, 272
Артизов А. Н. 122, 187
Архангельский А. С. 20
Афанасий Никитин 173, 188
Афанасьев Ю. С. 337
Ахматова А. А. 140, 236
Бадмаев П. А. 101
Базилевич К. В. 429
Бакланова И. А. 320
Барк П. Л. 100
Барманский М. П. 211
Бауер Н. П. 435
Бауман К. Я. 154
Бахрушин С. В. 89, 101, 126, 133, 159,
196, 310, 429
Безобразов А. М. 75, 76, 106, 139,
168, 230, 242, 254, 431, 432
Беляев М. Д. 128
Беляев С. Г. 6, 10, 56, 57, 426
Бенешевич В. Н. 20, 48
Березный Л. А. 353, 422, 423, 435
Вернадский В. Н. 249, 250, 404, 420
Бестужев-Рюмин К. Н. 36
Бисмарк О. 75
Блок М. 394, 411
Бобриков Н. И. 358, 359
Богословский М. М. 82
Бодуен де-Куртенэ И. А. 21
Боккаччо Д. 213, 251, 262
Болдырев В. Г. 92, 93, 101
Болтунова А. И. 314, 316, 319
Бондаревский В. Е. 320
Бонч-Осмоловский ПО, 121
Борис Годунов 65, 98
Брандербергер Д. Л. 187
Брачев В. С. 142
Брусилов А. А. 265
Бубнов А. С. 154
Будовниц И. У. 147, 258, 291, 295,
354, 357, 404
Бухарин Н. И. 154, 156—158, 162
Быстрянский В. А. 154
Ваганов О. А. 314, 336, 337
Вайнцвайг Н. НО, 121
Вайнштейн О. Л. 260, 283, 314, 335,
336
438
Ваксер А. 3. 97
Валк С. Н. 5, 10, 18, 19, 21, 24, 27,
31—33, 36, 38, 41, 42, 48—50, 54,
56, 60, 70, 71, 78, 81, 94, 97, 98,
101, 104, 120, 155, 176, 188, 193,
195, 200, 232, 247, 259, 265, 267,
268, 270, 278, 283, 289, 290, 293,
294, 302—308, 313, 319, 320, 335,
336, 340, 380, 383, 384, 388, 390,
409—411, 415, 417, 422, 425, 426,
435
Ванаг Н. Н. 109
Варфоломеева В. Ф. 320
Васенко П. Г. 141
Василий I 36
Василий II Темный 36
Васильевский В. Г. 21, 378
Вашингтон Б. Т. 16
Введенский А. А. 82, 84
Венгеров С. А. 20
Веселовский А. Н. 236
Веселовский С. Б. 70, 133, 163, 164,
202, 257, 258, 264, 277, 299, 409,
423, 435
Вильгельм II 66, 363
Виппер Р. Ю. 196
Висковатый И. М. 401
Витале Г. 15
Витте С. Ю. 43, 73—78, 88, 91, 95, 99,
100, 103, 104, 106, 108, 111, 112,
168, 188, 230, 232, 242, 245, 254,
363, 371—374, 391, 394, 424—426,
430, 431, 436
Виттенбург П. В. 375
Владимир Мономах 223, 224, 391
Владимирский-Буданов М. Ф. 255,
296, 297, 299
Вознесенский А. А. 204, 207, 213, 238,
Волк С. С. 320, 336, 340
Волынкин Н. М. 408
Воробьева А. А. 211
Воронин Н. Н. 163, 164, 178, 202, 244,
365, 409, 423, 435
Вотинов А. П. 245
Вульфиус А. Г. 63, 80
Вяткин М. П. 270, 287, 294, 295, 300,
302, 324, 326, 347, 348
Галкин И. С. 316
Гальперин А. 3. 234, 253, 254, 293
Ганелин Р. Ш. 6, 10, 66, 76, 92, 93,
97—101, 106, 121, 187, 188, 333,
339, 341—345, 347, 349, 369, 422,
425, 426, 431, 432, 436
Гапон Г. А. 87, 91, 100, 101
Гапоненко Л. С. 316
Гастев Г. 107, 121
Гегель Г. В. Ф. 85
Гейман В. Г. 171, 188, 199, 232, 292,
293, 295, 300, 302, 314, 316, 319,
366
Герцен А. Н. 69, 413
Гессен Ю. И. 71
Гефтер М. Я. 355, 363, 366, 416
Гильфердинг Р. 433
Гитлер А. 160
Глинские 37
Глинский Б. Б. 76, 168, 430, 431
Гоголь Н. В. 291, 416
Голиков Г. Н. 316
Горин П. О. 154
Горкунова Н. И. 333
Горский А. Д. 429
Готлиф Э. А. 333
Готье ГО. В. 70, 98, 126, 133, 139, 159,
200
Грановский Е.Л. 106, 107, 109, 110
Грановский Т. Н. 21
Греве И. М. 21, 28, 63, 99, 428
Греков Б. Д. 9, 49, 50, 82, 151, 158,
170, 171, 176, 181, 188, 191, 193,
198, 200, 201, 205, 207, 208, 210—
213, 217, 225—227, 232, 234—236,
238, 239, 250, 251, 254—257, 265,
273, 286, 293, 296, 300, 302—304,
309, 312, 313, 315—317, 321—323,
340, 381, 407, 426, 427, 429
Грибоедов А. С. 247
Гримм К. Д. 49
Гримм Э. Д. 21, 28, 60, 147, 151, 186
Грушевский М. С. 26, 32, 118
Губер А. А. 430
Гуковский Г. А. 246
Гуковский М. А. 335, 336
Гуревич А. Я. 378, 409, 436
Гурова Л. П. 337
Данини С. Н. 84
Деборин А. М. 278, 282
Деборин Г. А. 278, 282
Дегтярев А. Я. 188
Делянов И. Д. 397
Демьян Бедный 160, 161, 187
Дерюгин К. М. 135
Джунковский В. Ф. 124
Дмитриев А. Л. 97
Дмитрий Донской 237
Добиаш-Рождественская О. А. 63
Добров А. 234
Достоевский Ф. М. 338, 412, 413
Драгомиров М. И. 265
439
Дрезен А. К. 88
Дроздов С. А. 178
Дружинин В. Г. 21
Дружинин Н. М. 227, 239, 242, 243,
267, 268, 327, 355, 356, 364, 404,
425
Дубинский А. М. 242
Дубровин Н. Ф. 410
Дубровский А. М. 187
Дьяконов М. А. 63, 410
Дэвис С. 187
Дювернуа Н. 303
Дюкова Е. П. см. Романова Е. П.
Евдокимов Г. Е. 125
Егоров Б. Ф. 292, 294
Егоров Д. М. 133, 139
Егоров И. В. 44, 45, 232—234, 245,
295, 332, 340
Екатерина II 265
Елисеева И. И. 97
Ераков Л. А. 13
Еремин С. А. 123
Ерофеев Н. А. 258, 268
Ерусалимский А. С. 234, 357, 364, 404
Есина А. Б. 142
Жданов А. А. 154, 155, 158, 160—162,
187, 237, 249, 285, 400
Жданов Ю. А. 317, 326
Жебелев С. А. 21, 60, 113, 114
Жуков Е. М. 182, 184, 347, 348, 356,
375, 430, 436
Жуковская Т. Н. 70, 98
Жупахин С. Г. 127
Зайдель Г. С. 143
Заозерский А. И. 63, 99, 114
Застенкер Н. Е. 293
Затонский В. П. 154
Звавич И. С. 186
Зегжда Н. 252, 293
Зимин А. А. 309, 311—313, 380, 381,
396, 397, 405—407, 411, 425, 427,
429
Зощенко М. М. 236
Зубок Л. И. 258, 278
Иван III 307, 309, 313, 400
Иван IV Грозный 35—38, 41, 196,
236, 237, 296, 298, 303, 304, 310—
313, 406
Иван Калита 36, 185, 388
Иванов И. А. 56
Иванов М. С. 270, 277, 302, 306, 320
Ивина Л. И. 313
Извольский А. П. 165
Измайлов Н. В. 81, 126, 128, 139
Иоффе А. А. 98
Иоффе А. Е. 242
Истрин В. М. 20
Каган М. С. 335, 336
Каганович Б. С. 10, 100, 294, 378, 409
Казьмин Н. Д. 317, 318, 327
Каллистов Д. П. 186, 317, 318, 320
Каи А. С. 7
Карамзин Н. М. 260
Кареев Н. И. 20, 60, 62, 63, 80, 97, 99
Карлович И. Н. 333
Карновский М. А. 317
Карпович М. 32
Карсавин Л. П. 60, 428
Кафенгауз Б. Б. 263
Кацнельсон И. С. 253
Кашин В. Н. 317
Каштанов С. М. 11, 429
Керенский А. Ф. 124
Кипарисов Ф. В. 149
Киреев Н. В. 320, 353
Киров С. М. 151, 154, 155, 160, 161,
187, 249, 285, 400
Клочков М. К. 20
Ключевский В. О. 22, 33, 133, 141,
263, 264, 266, 393, 401, 402
Князев Г. А. 32
Ковалев С. И. 314, 335
Козлова К. И. 337
Коковцов В. Н. 88, 100
Коковцов П. К. 20
Колобова К. М. 335
Колчак А. В. 92, 93, 101, 317, 394
Комиссаржевская В. Ф. 413
Кондаков 32
Константинов С. В. 187
Копанев А. И. 185, 208, 302, 306, 307,
309, 311, 313, 317—319, 376, 388,
391, 405, 430
Копржива-Лурье Б. А. см. Лурье Я. С.
Копылова О. Н. 56
Корецкий В. И. 429, 430
Корнатовский Н. А. 273, 288, 293, 333
Корнеев В. В. 56
Корнилович О. Е. 375
Косенко Л. Е. 10
Косиков С. И. 317, 327
Косминский Е. А. 258
Кочаков Б. М. 260, 320, 321
Кочин Г. Е. 171, 188, 232, 260, 261,
286, 293, 300, 302, 320, 430
440
Крачковский И. Ю. 125
Кривошеев А. В. 91
Кротов А. 258, 293
Крузе Э. Э. 320
Крыленко Н. В. 125
Крылов А. Н. 125
Куделли П. Ф. 94
Кудрявцев И. А. 266—268
Кузьмин Г. В. 316
Кулишер И. М. 71
Куломзин А. Н. 91
Кун В. Н. 192—194, 197, 344, 362
Ку пай городская А. П. 10, 97, 187—
189
Курлов П. Г. 101
Куропаткин А. Н. 92, 101, 165, 358,
360
Куторга М. С. 21, 265
Кутузов М. И. 237
Кушева Е. Н. 7—11, 17, 197, 199, 200,
205, 206, 208, 210, 214, 226, 227,
236, 243, 260—262, 267—270, 272—
274, 284, 288, 299, 300, 302—309,
321—325, 328, 338, 339, 342—345,
347, 350—352, 354, 355, 357, 362—
366, 368, 371, 372, 374, 375, 380,
382, 395, 396, 398—401, 403—405,
407, 408, 412, 413, 416, 417, 425
Лавров Н. Ф. 171, 188, 191, 193, 194,
207, 232, 293
Ламздорф В. Н. 88, 165, 168, 230
Ланге Н. 255
Лаппо-Данилевский А. С. 21, 23, 26—
33, 39, 40, 42, 63—65, 97, 99, 132,
253, 283, 289—291, 294, 295, 377
380, 381, 387, 402, 403, 410, 414
Ларин Б. А. 193
Левин Ш. М. 260, 317, 318, 320
Левченко М. В. 320
Ленин В. И. 45, 60, 61, 66, 113, 166,
169, 175, 176, 183, 253, 277, 365,
400, 418, 422, 432, 433
Ленчнер С. И. 258
Леонтьев В. В. 59
Лепешинская О. В. 181
Леруа Ладюри Э. (Le Rou Ladurie Е.)
428, 436
Либерзон И. 3. 333
Линевич Н. П. 92, 101
Липшиц Е. Э. 317, 320
Лихачев Д. С. 6, 10, 151, 186, 208,
216, 232, 233, 238, 240, 245, 247—
249, 252, 257, 271, 338—340, 380,
382, 386, 389, 390, 393, 410, 411,
415, 417, 419, 420, 425, 426, 435
Лихачев Н. П. 126, 139
Лихолат А. В. 317, 318, 326, 327
Ллойд-Джордж Д. 149, 186
Лукин Е. В. 118
Луппов С. П. 320
Лурье С. Я. 49, 253, 259, 260, 278,
283, 293, 314, 319, 335, 336
Лурье Я. С. 147, 186, 187, 293, 294,
340
Любавский М. К. 70, 118, 119, 126—
128, 133, 139
Любименко И. И. 81, 199, 287
Люблинская А. Д. 272, 294
Любомиров П. Г. 8, 10, 24, 41, 43, 44,
46, 58, 65, 95, 141, 145—153, 162,
186, 187, 200, 263, 264, 266, 270,
291, 295
Мавродин В. В. 201, 207, 213, 262,
273, 328, 333, 335, 336, 339, 408
Маленков Г. М. 317, 318, 326
Малоземов A. (Malozemoff А.) 430,
431, 436
Манфред А. 3. 234
Маньков А. Г. 302, 304, 305, 313, 320,
405
Маркс К. 69, 113, 285, 433
Марр Н. Я. 141
Мартинсон Ф. А. 123
Мартынов М. Н. 82
Маслова Е. И. 320
Меликова С. В. 55, 56
Мерварт А. М. 128
Мерварт Л. М. 128
Мещанинов И. И. 203
Милюков П. Н. 22, 23, 69, 141
Минц И. И. 267, 278, 282
Миронов Б. Н. 313
Михаил Александрович 124
Михаил Федорович 36
Михайлов Н. А. 317, 318
Молок А. И. 314
Молотов В. М. 237
Мосевич А. А. 128, 130, 138
Мочалов В. М. 242
Мурадели В. И. 236
Мюллер Р. Б. 302, 306, 308, 311, 313,
314, 319
Назаров В. Д. 430
Нардова В. А. 337
Насонов А. Н. 81, 115, 147, 403, 429
Нелидов А. И. 88
Несмеянов А. Н. 316—318
Нецлин Э. 88, 100
441
Нечкина М. В. 187
Никифоров В. Н. 6, 10. 112, 121, 424,
425, 436
Николаев А. С. 70
Николаев (НКВД) 155
Николаи II 38, 43, 76—78, 88, 91, 99—
101, 106, 112, 114, 124, 130, 167,
362, 363, 391, 431
Новожилова Т. М. 320, 424
Новосельский А. А. 321
Носов Н. Е. 6, 10, 11, 313, 319, 320,
326, 329, 332—333, 339—344, 347,
348, 369, 374, 405, 421, 424, 425,
430, 432
Нотович Ф. И. 258, 278, 282
Оксман Ю. Г. 118
Окунь С. Б. 176, 335, 336
Олег Иванович Рязанский 165, 180,
188, 409
Ольденбург С. Ф. 89, 101, 123
Орбели Л. А. 200, 201, 203, 232, 372
Осипов В. П. 174
Островская М. А. 82
Оттокар Н. П. 50, 56
Ошин Ю. 232
Павлов И. П. 67
Павлов С. 258, 293
Павлов-Сильванский Н. П. 23, 162,
402
Паевская А. В. 320
Палеолог М. 87, 91, 101
Панкратова А. М. 242, 315, 320, 327
Пархоменко В. А. 429
Пашуто В. Т. 291, 295
Пегов Н. М. 317, 326
Пересветов И. С. 380, 405, 406, 411
Перетц В. Н. 21, 125
Перченок Ф. Ф. 100, 118, 122, 141,
142
Петерс Я. X. 125
Петрикеев Д. И. 185, 249, 252
Петров В. А. 300, 314
Петрушевский Д. М. 118
Петрушевский И. П. 314
Пештич С. Л. 408
Пичета В. И. 70, 126, 127, 139, 159
Пичета М. В. 200
Пишон С. 92, 101
Платонов С. Ф. 21, 23, 24, 28, 32, 34,
38, 41, 42, 46—51, 53, 55—58, 60—
62, 65, 67, 73, 74. 80—84, 95—99,
101, 113, 114, 116, 118—121, 123,
125, 126, 128—134, 136—139, 141 —
143, 161, 176, 266, 288, 289, 370,
378, 402, 403
Платонова Наталья Сергеевна 81
Платонова Нина Сергеевна 81
Платонова М. С. 126
Погребинский А. П. 291, 295
Покровский М. Н. 53, 70, 85, 86, 94,
105—107, 109, ПО, 118, 120, 137,
142, 147, 155, 158, 160, 162, 163,
166—168, 175, 182, 187, 217, 231,
241, 253, 268, 282
Покровский Ф. И. 123
Полетика Н. П. 336, 342
Полиевктов М. А. 63, 141
Поликарпов В. В. 10
Половцов А. А. 77
Попов А. Л. 107—109, 111, 1 12, 121,
165
Поспелов П. Н. 327
Правилова Е. А. 142
Предгеченский А. В. 193, 200, 260,
278, 283, 293, 294, 317, 319, 320,
335, 336, 353, 354, 400, 408
Преображенский Е. А. 89, 101, 120
Пресняков А. Е. 20—28, 32, 34, 35,
38, 41, 47, 48, 53, 56—58, 60, 63,
68—71, 80, 82, 83, 94, 95, 97, 98,
103, 104, 117—120, 122, 133, 136,
137, 145, 149, 150, 152, 172, 177,
180, 185, 215, 219, 223, 224, 239,
250, 262, 265, 266, 289, 291, 295,
299, 364, 378, 379, 381, 383, 388,
390, 397, 403, 408, 409, 421, 423
Приселков М. Д. 20, 55, 60, 63, 82, 99,
114, 141, 147, 159, 186, 291, 295,
381, 388, 429
Прокофьев С. С. 236, 413
Пропп В. Я. 246
Пунин Н. Н. 335, 336
Пушкин А. С. 413
Рабинович М. Б. 336, 340
Равдоникас В. И. 260
Радек К. Б. 154, 157, 158, 162
Радлов В. В. 63
Разгон И. М. 278, 282
Разумов А. Я. 10
Райкин А. И. 414
Рахманинов С. В. 413
Рашковский Е. Б. 98
Редер В. Г. 253
Рейхберг Г. 110, 121
Рибер A. (Rieber А.) 434, 436
Рихтер С. Т. 413
Рождественский С. В. 21, 28, 35, 36,
58, 60, 73, 80, 82, 83, 128, 139, 141
442
Романов А. Д. 12—18
Романов Б. A. passim
Романов В. А. 17, 193
Романова Е. П. 35, 144, 179, 190, 197,
198, 200, 201, 205, 206, 322, 327,
374, 375
Романова М. В. 12
Романова Н. А. 17, 193
Ростов А. см. Сигрист С. В.
Ростовцев Е. А. 10, 32
Ротштейн Ф. А. 186
Рубинштейн Н. Л. 95, 172, 180, 181,
188, 191, 202, 206, 232, 241, 245,
259, 264, 278, 282, 293, 325, 326,
357, 360, 363, 395, 404, 411
Руденко С. И. 375
Рузвельт Т. 352, 361—363
Румянцев А. М. 315, 317, 318, 326,
327
Рутенбург В. И. 320, 405
Рыбаков Б. А. 407, 429
Рязанов Д. Б. 53, 118
Сабашников М. В. 89, 101
Савельева 3. Н. 309, 320, 424
Савина М. Г. 413
Садиков П. А. 49, 81, 141, 299, 375
Садикова В. И. 320
Салмина М. А. 338
Салтыков-Щедрин М. Е. 291, 323
Сванидзе А. С. 154
Свердлов М. Б. 98, 430
Сербина К. Н. 6, 10, 317, 318, 320,
395, 411, 426
Сергеевич В. И. 24
Сергеенко М. Е. 320
Середонин С. М. 20, 21
Сигрист С. В. (Ростов А.) 138, 142
Сидоров А. Л. 95, 166—169, 182, 184,
226, 230, 231, 241, 242, 254, 258,
298, 315, 318, 319, 324, 326, 332,
333, 339, 346, 347, 360, 364, 372,
375, 401, 404, 417—419, 422
Сидоров Н. И. 375
Сидорова Г. В. 147, 292, 322, 349, 365
Симонов К. М. 237, 245
Ситон Уотсон Г. (Seton Watson Н.)
431
Скобелев М. Д. 265
Скржинская Е. Ч. 81
Скрынников Р. Г. 337, 342
Сладкевич Н. Г. 335, 336
Смирнов И. И. 7, II, 185, 208, 259—
262, 276—278, 282, 284—288, 290,
293, 294, 296, 298—308, 310—312,
320, 337, 341, 343, 347, 381, 400,
401, 406, 407, 409, 426, 427, 430,
436
Смирнов П. П. 299
Смирнова Т. Г. 10
Соболев В. С. 10
Соболев Г. Л. 436
Соловьев П. В. 319
Соловьев С. М. 22
Сорина Л. М. 56
Сорокин А. И. 358—360, 366, 367
Сорокин П. А. 60
Сот Д. Ш. 333
Спицын А. А. 20, 420
Сталин И. В. 124, 125, 154, 155, 157,
160—162, 167, 169, 175, 176, 187,
231, 237, 249, 253, 285, 291, 316,
319, 321, 365, 400, 433
Станиславский А. Л. 11
Старицкий В. А. 401
Степанов 3. В. 320
Степанян Ц. А. 315, 319
Стессель А. М. 360
Столыпин П. А. 78
Стромин А. Р. 126
Струве В. В. 28, 60, 176, 202, 283, 320,
335
Струве П. Б. 124, 387
Струнина М. Д. 333
Суворов А. В. 237
Суров Е. Г. 253
Суслов М. А. 315—318
Сухомлинов В. А. 77
Сыромятников Б. И. 310
Тарле Е. В. 21, 49, 51, 60, 71, 74, 75,
80, 82—84, 96, 100, 101, 113—116,
121, 126, 132, 136, 139, 142, 143,
148, 159, 176, 182, 184, 242, 264,
265, 267, 272, 273, 294, 320
Тарле О. Г. 83
Татаров И. Л. 117, 122
Татищев В. Н. 162
Таубин Р. А. 336
Тиханова М. А. 179, 199, 200, 420,
421, 435
Тихомиров М. Н. 246, 255, 257, 325,
327, 403, 427
Толстой А. Н. 156, 197
Толстой И. И. (отец) 43
Толстой И. И. (сын) 20, 43—45, 55,
56, 99
Толстой Л. Н. 277, 412
Тонкова О. М. 319, 320
Топчиев А. В. 316, 318
Трауберг Л. 3. 335
Треногое И. Я. 201
Троцкий Л. Д. 45, 66, 98, 160
Тураев Б. А. 21, 63
Тхоржевский С. И. 81, 82, 84
Тэнтэль А. А. 39, 58
Тюменев А. Н. 60
Удальцов И. И. 262
Уланова Г. С. 181, 413
Успенский Ф. И. 410
Федорова В. А. 337
Федотов Г. П. 81
Фейгина С. А. 253, 257, 263
Фетисов И. И. 123
Фигатнер Ю. П. 125
Филатов В. П. 198
Форстен Г. В. 21
Францев Ю. П. 336
Фроянов И. Я. 11, 232, 233, 430
Фурсенко А. А. 6, 10, 271, 294, 333,
339, 341—346, 348, 349, 357, 369,
370, 372—374, 405, 425, 426, 432,
436
Хвостов В. М. 430
Хлебников Н. 222
Ходжаев Ф. 154
Хорхордина Т. 56
Хрущев Н. С. 369
Цамутали А. Н. 201
Цвибак М. М. 96, 141, 143, 157, 158
Цемш Н. С. 114
Цимеринов Р. 337
Цомук Р. Р. 337
Черепнин Л. В. 255, 256, 259, 289—
291, 293, 295, 297, 300—303, 306—
309, 311, 313, 396, 398, 401. 411,
425, 427, 429
Чернов С. Н. 8, 10, 24, 34, 38—43, 46,
55, 58, 62, 65, 73, 78, 95—98, 101,
116, 121, 141, 153, 157—159, 162,
187, 193, 200, 270, 384, 414, 415,
435
Чернышевский Н. Г. 336
Чехов А. П. 412
Чечулин Н. Д. 21
Чирков С. В. 22, 32
Чугаев Д. А. 316
Чуковский К. И. 156
Шамонина В. С. 97
Шапиро А. Л. 430
Шаталин Н. Н. 317, 318, 327
Шатова М. В. см. Романова М. В.
Шахматов А. А. 21, 25, 32, 286, 291,
295, 381, 383, 402, 403
Шебунин А. Н. 81, 82, 84, 134
Шевченко Т. Г. 32
Шейнис В. Л. 271, 337
Шелохаев С. В. 101
Шестаков А. В. 159, 162
Шилов А. А. 78, 99
Шипов Д. Н. 82, 89—91, 99, 101, 131,
391
Шишкин В. А. 426
Шишмарев В. Ф. 200
Шлёцер А. Л. 22, 23
Шляпников А. Г. 87
Шмидт С. О. 425
Шмурло Е. Фр. 21
Шостакович Д. Д. 236
Штакельберг Н. С. 63, 80—82, 97, 99,
100, 129, 142
Штейн В. М. 260
Штиц И. И. 186
Шунков В. И. 300, 312, 321, 374, 404
Шустер У. А. 314
Щегловитов И. Г. 91
Щёголев П. П. 81
Эггерт 3. К. 258, 268
Эйзенштейн С. М. 236
Эйхенбаум Б. М. 246
Энгельс Ф. 69, 113, 161, 285
Юрий Долгорукий 218
Юшков С. В. 150, 212, 254—257, 259,
286, 293, 427, 429
Ягода Г. Г. 125
Якобсон А. Л. 158
Яковлев А. А. 154
Яковлев А. И. 70, 126, 133, 139, 199,
263, 264
Якубовский А. Ю. 314
Янушкевич Н. Н. 77
Ястребицкая А. Л. 427, 428, 436
444
ОГЛАВЛЕНИЕ
От автора......................................................... 5
1. Пролог........................................................ 12
2. «Настоящая жизнь»: студент Петербургского университета .... 19
3. После окончания университета: «Совершенно противопоказанное
для меня преподавание в средних учебных заведениях».......... 34
4. «Здесь определились мои научные вкусы, привязанности и темати-
ка»: на службе в архиве ........................................ 43
5. Двадцатые годы. Объект исследования — «недавнее прошлое» . . 58
6. «Возведение непроницаемой плотины из фактов»: книга «Россия в
Маньчжурии».................................................... 102
7. «Принято решение попросту с исторического фронта меня устра-
нить»: арест, следствие, концентрационный лагерь. 1930—1933 годы 123
8. После тюрьмы и концлагеря. Борьба за выживание. «Случайная по-
денщина» ...................................................... 144
9. «Я живу лицом к Ленинграду»: эвакуация, Ташкент.............. 190
10. Снова в родном городе. «Полоса литературных дел»............ 204
«Сгусток моих пота и крови»: историографические коммента-
рии к «Правде Русской» ................................... 208
«Против ветра и против течения»: книга «Люди и нравы древ-
ней Руси»................................................. 213
«Жгучие факты полусовременности»: книга «Очерки дипломати-
ческой истории русско-японской войны» .................... 226
11. «Антик или модерн?»......................................... 235
12. «Последствия будут очень глубокие...»....................... 246
13. «Крупное научное дело»: комментарии к Судебнику 1550 г. и изда-
ние Судебников XV—XVI вв........................................ 296
14. «Учреждение и коллектив убиты наповал и непоправимо»: упразд-
нение Ленинградского отделения Института истории АН СССР . 314
15. «Университет берет много сил, но и питает морально»: Б. А. Рома-
нов — профессор Ленинградского университета..................... 328
16. Круг ближайших учеников: «сыны» ............................ 341
17. «Это последний мой долг в жизни»: второе издание книги «Очерки
дипломатической истории русско-японской войны».................. 350
18. «Это очередная моя фантазия, без которых я никогда не обходился»:
работа над сборником документов «Внешние займы самодержавия».
Реабилитация. Последние месяцы.................................. 368
19. «В плане профессионально-историческом (и даже техники нашего 377
исторического ремесла) мною руководило „чувство нового“» . .
20. Эпилог...................................................... 412
Список сокращений............................................... 437
Указатель имен.................................................. 438