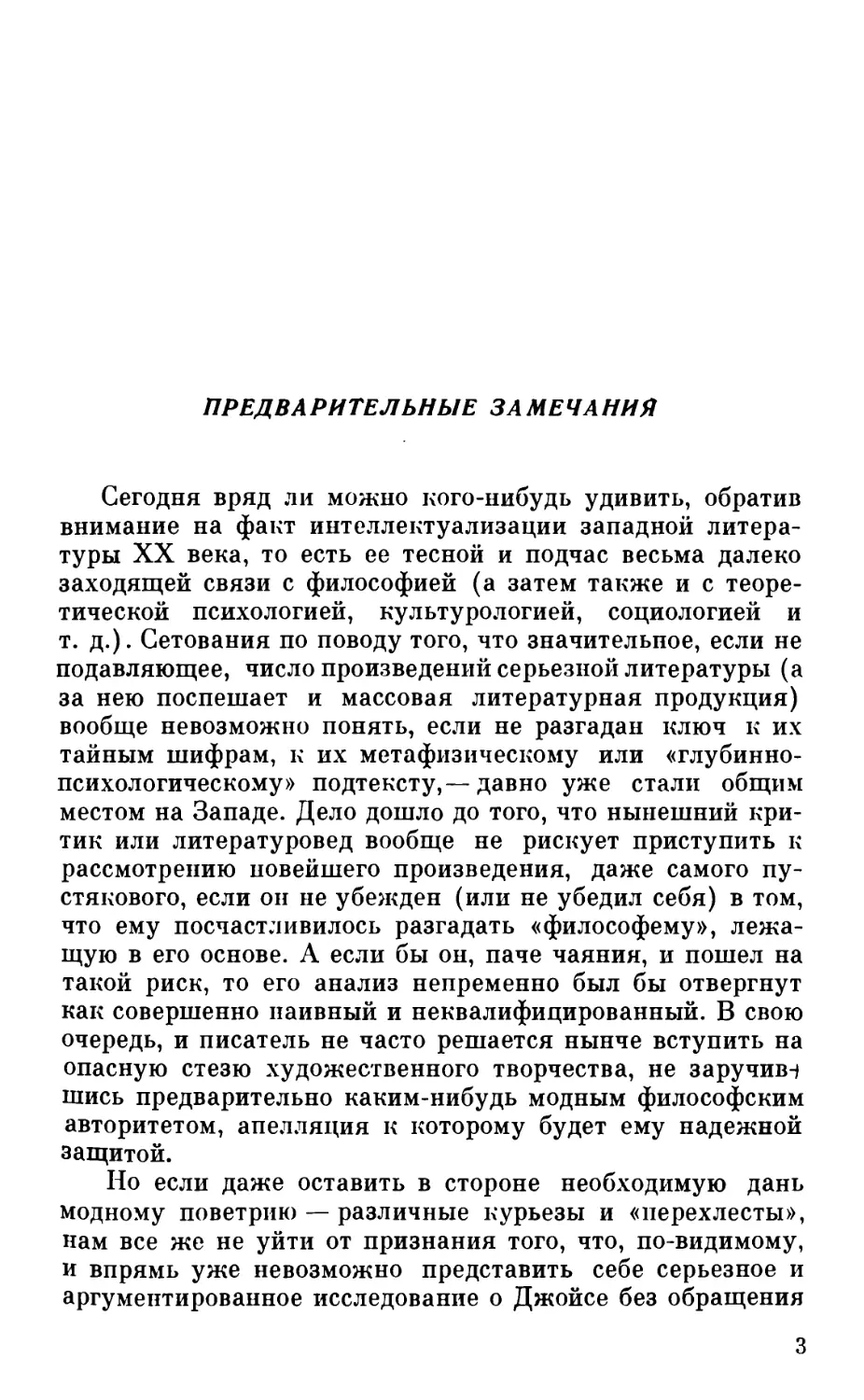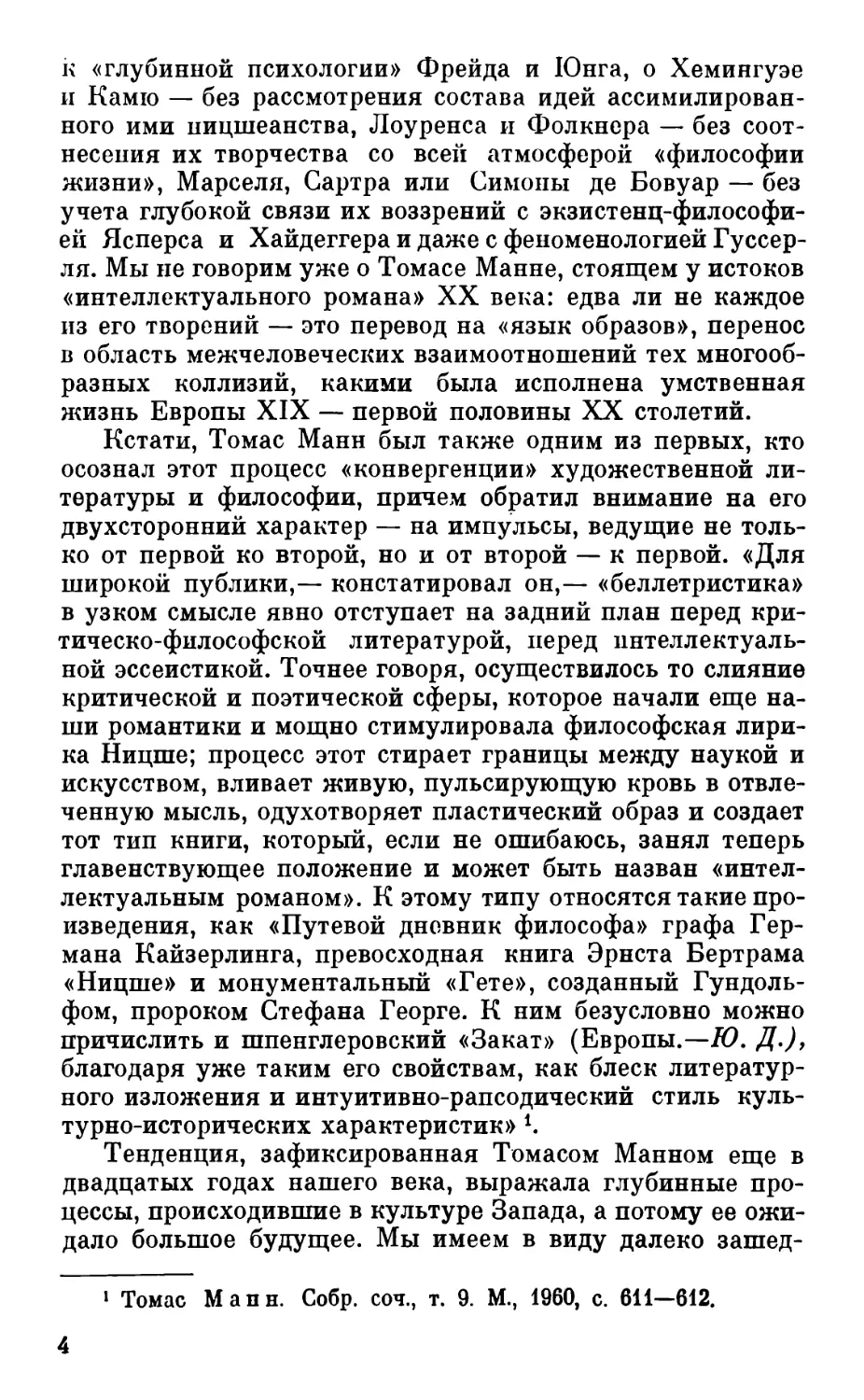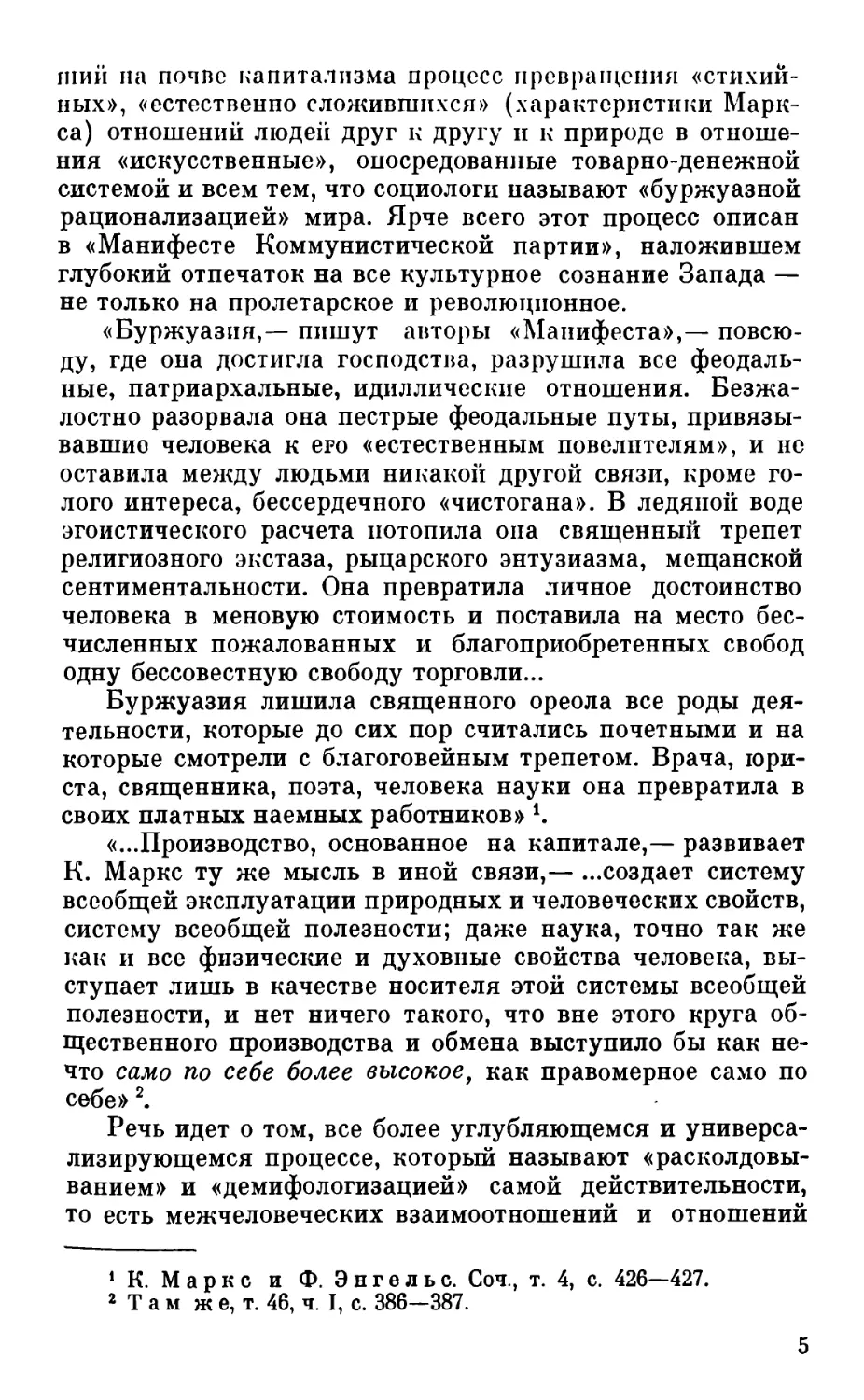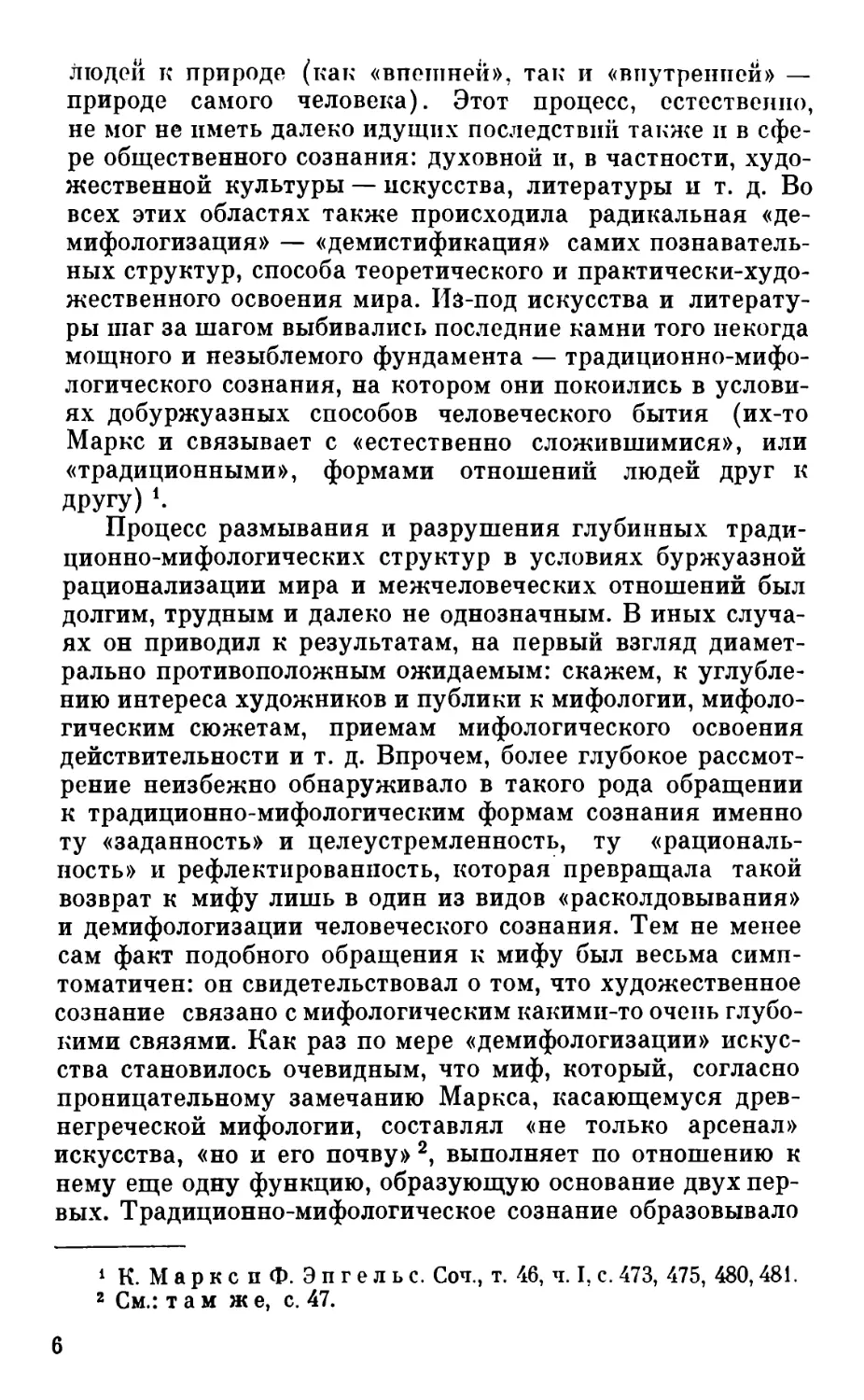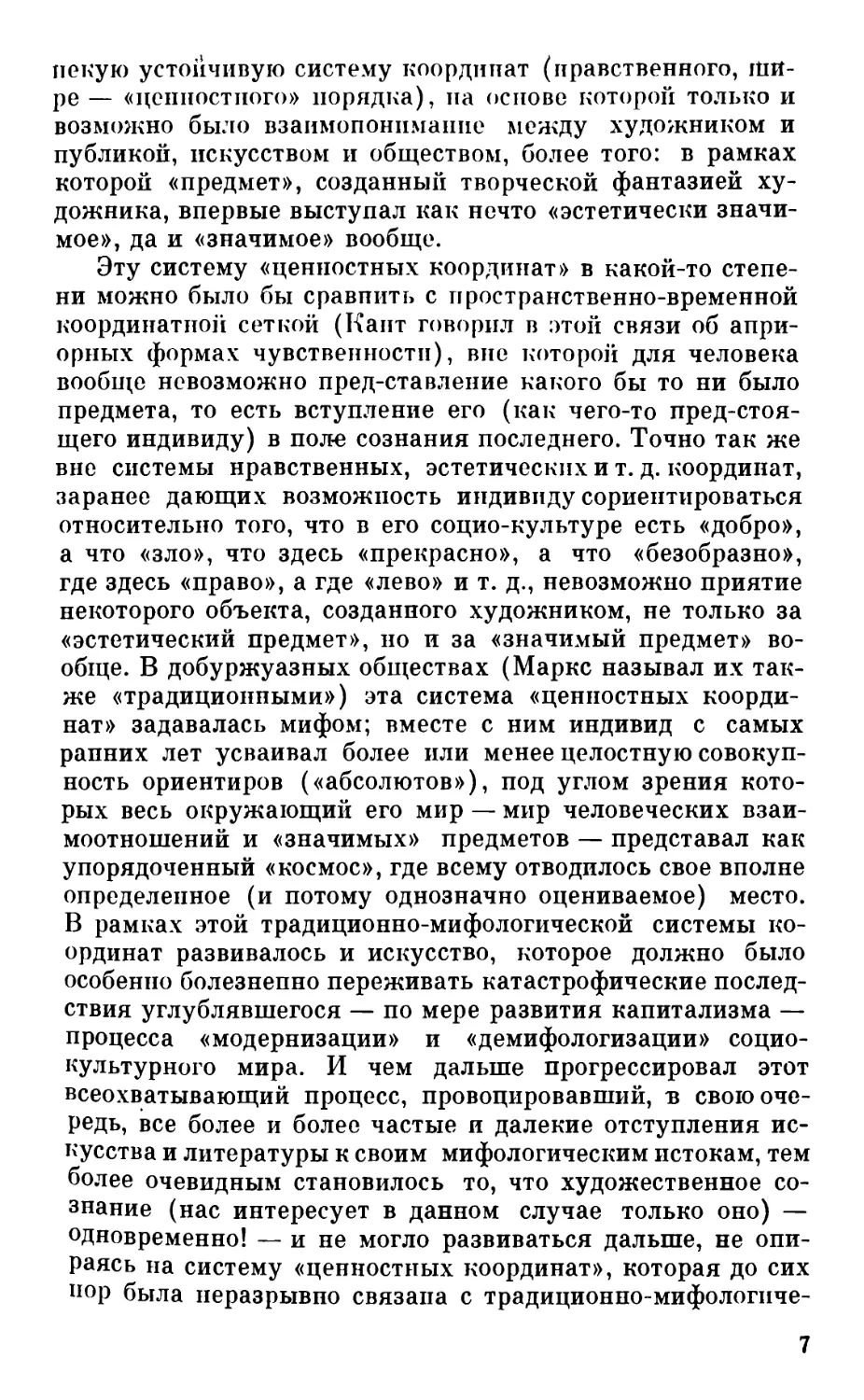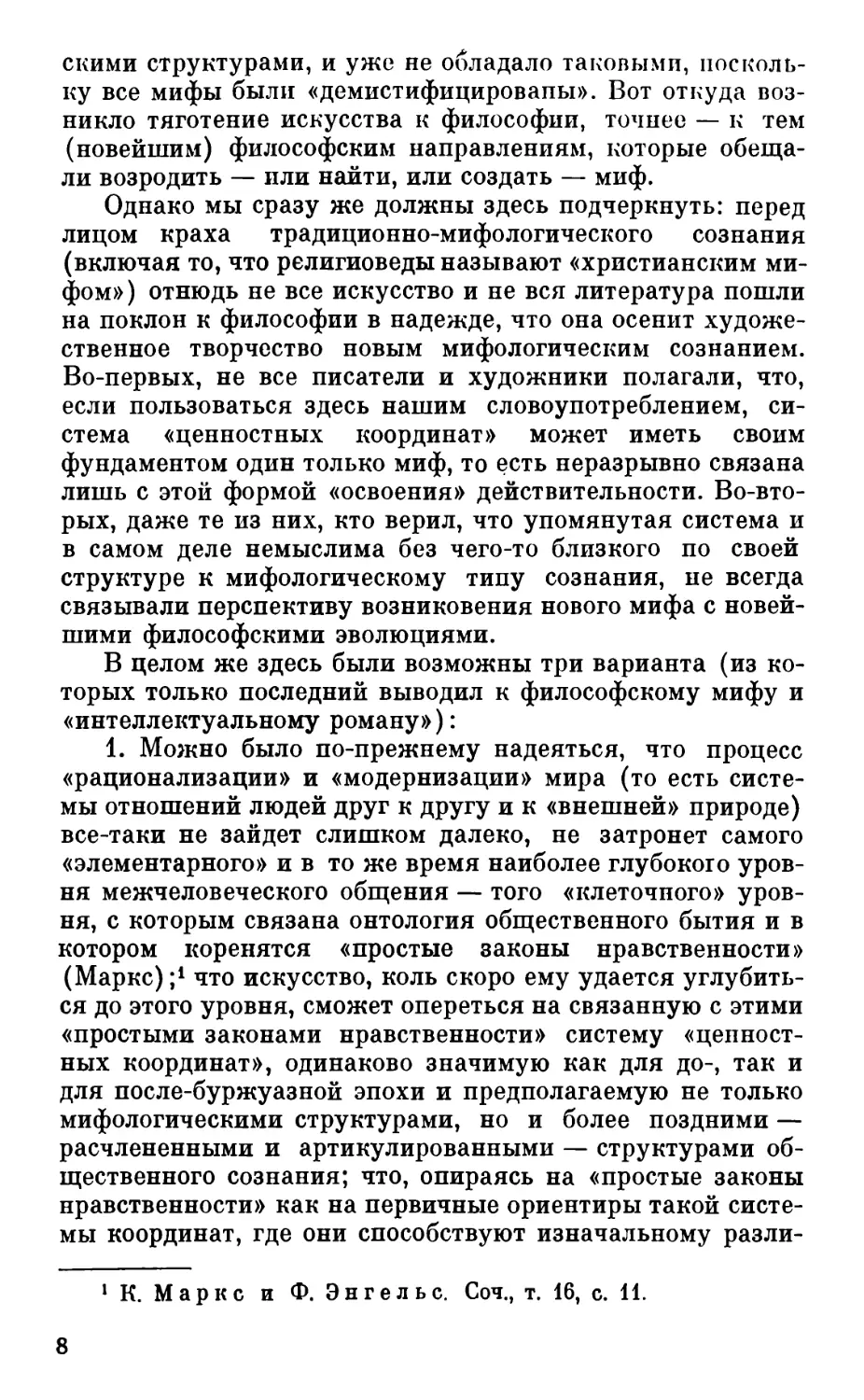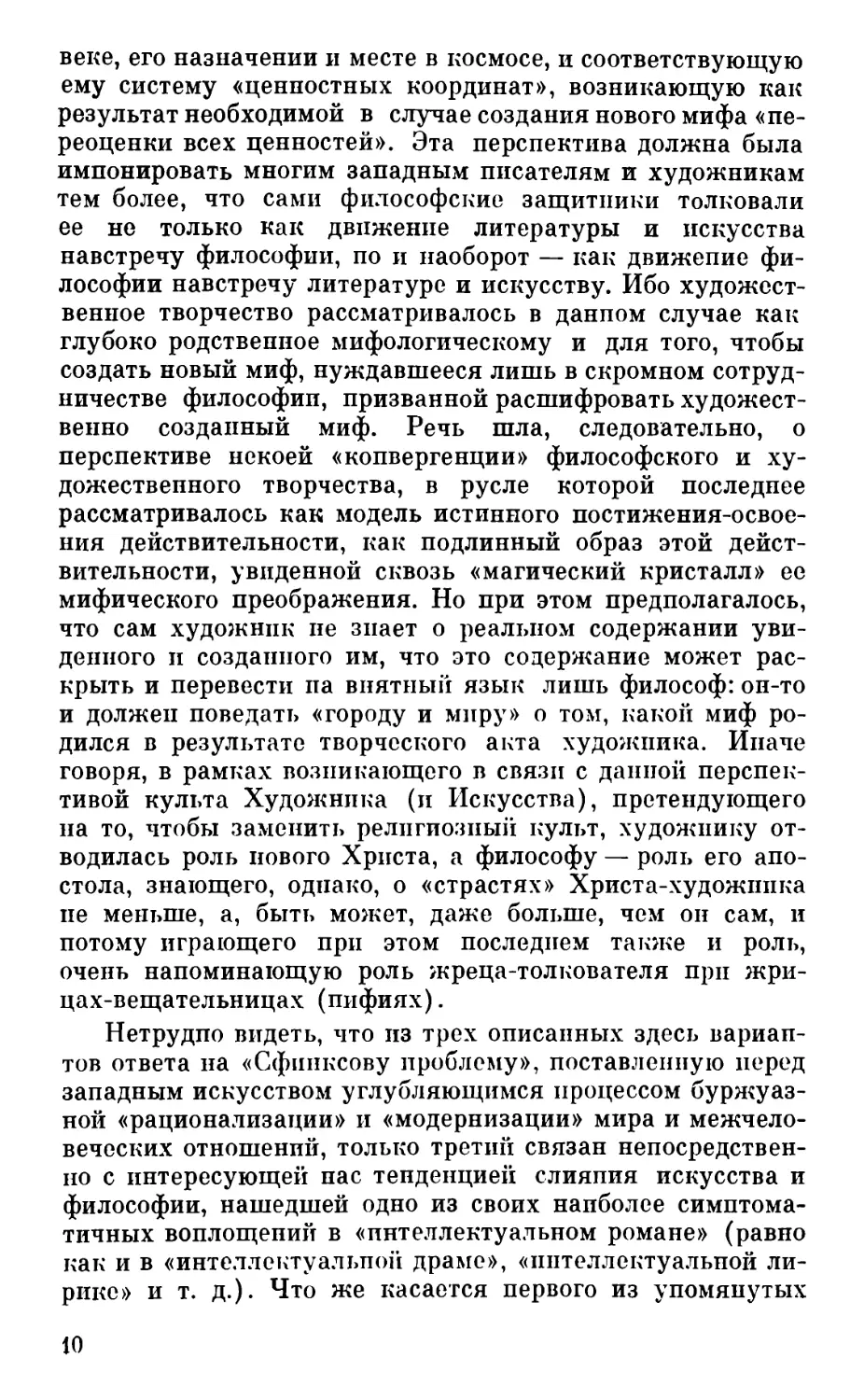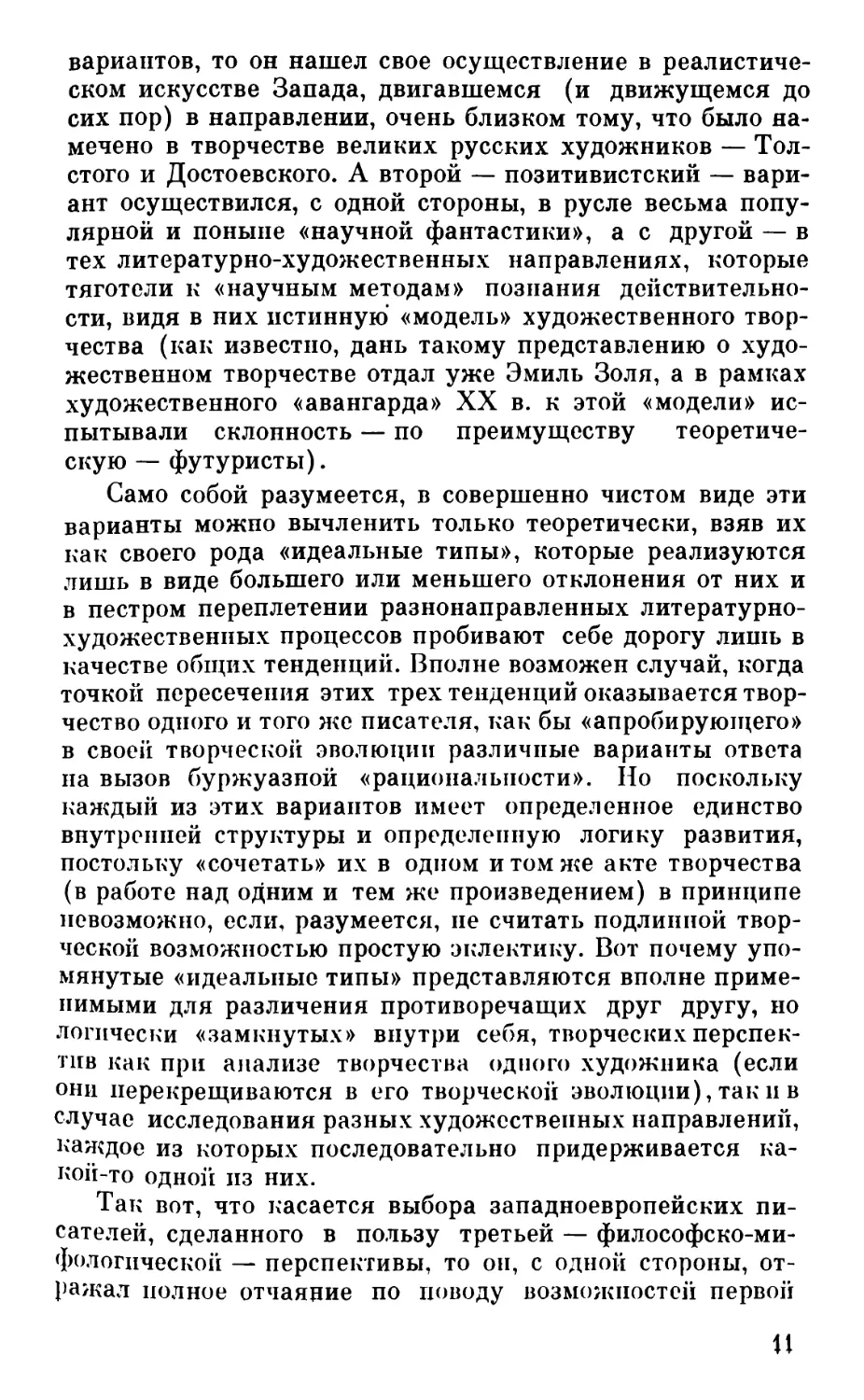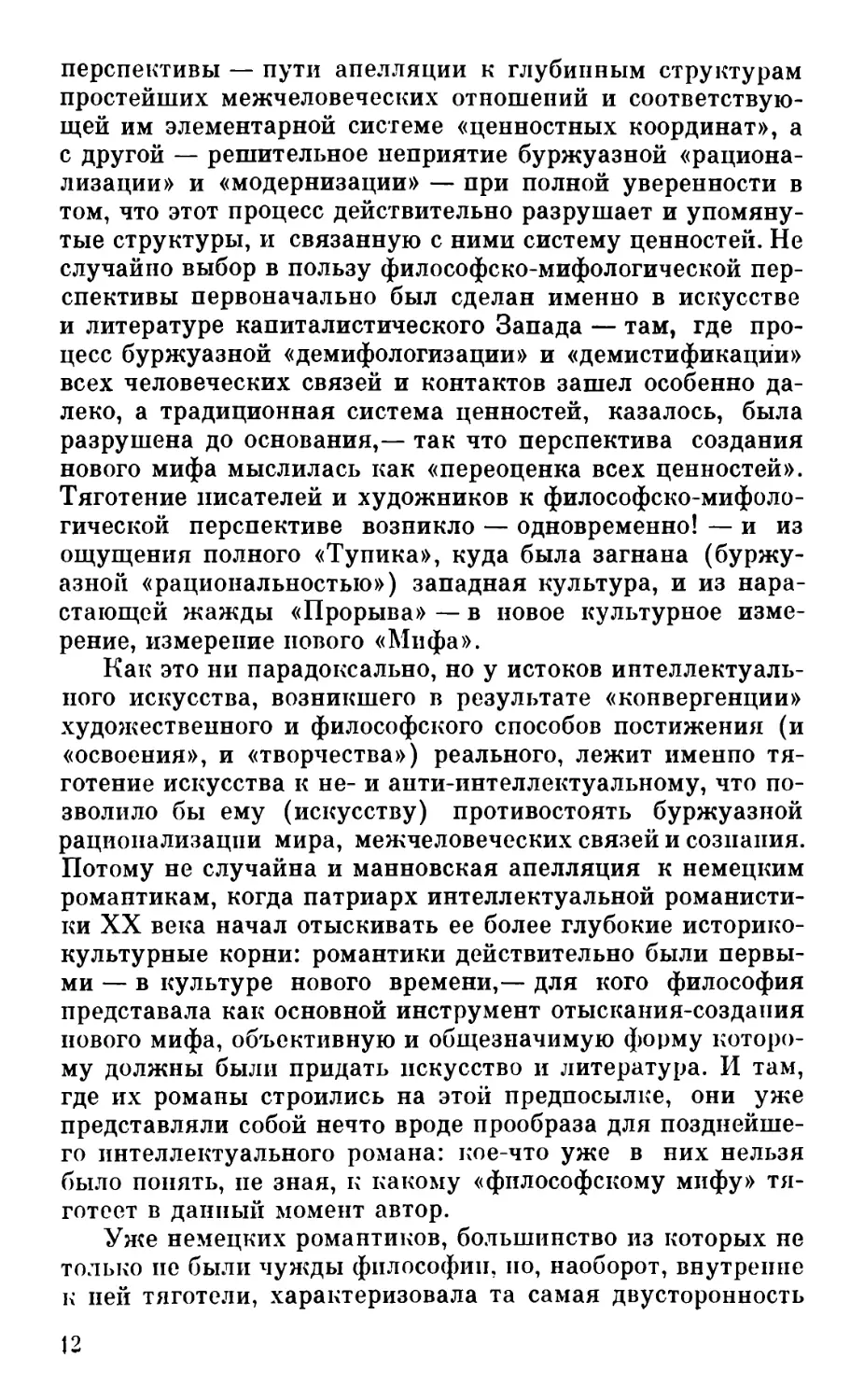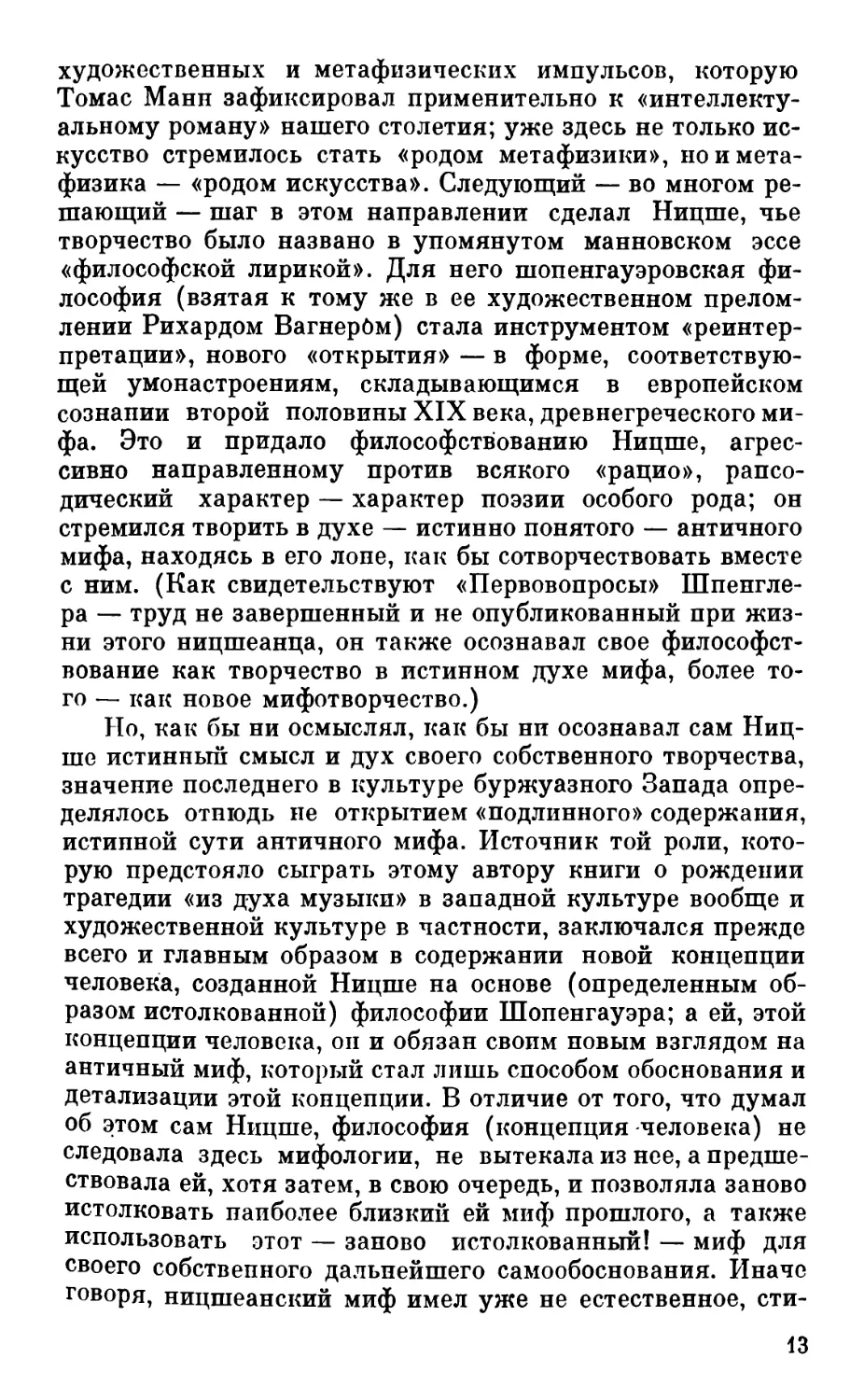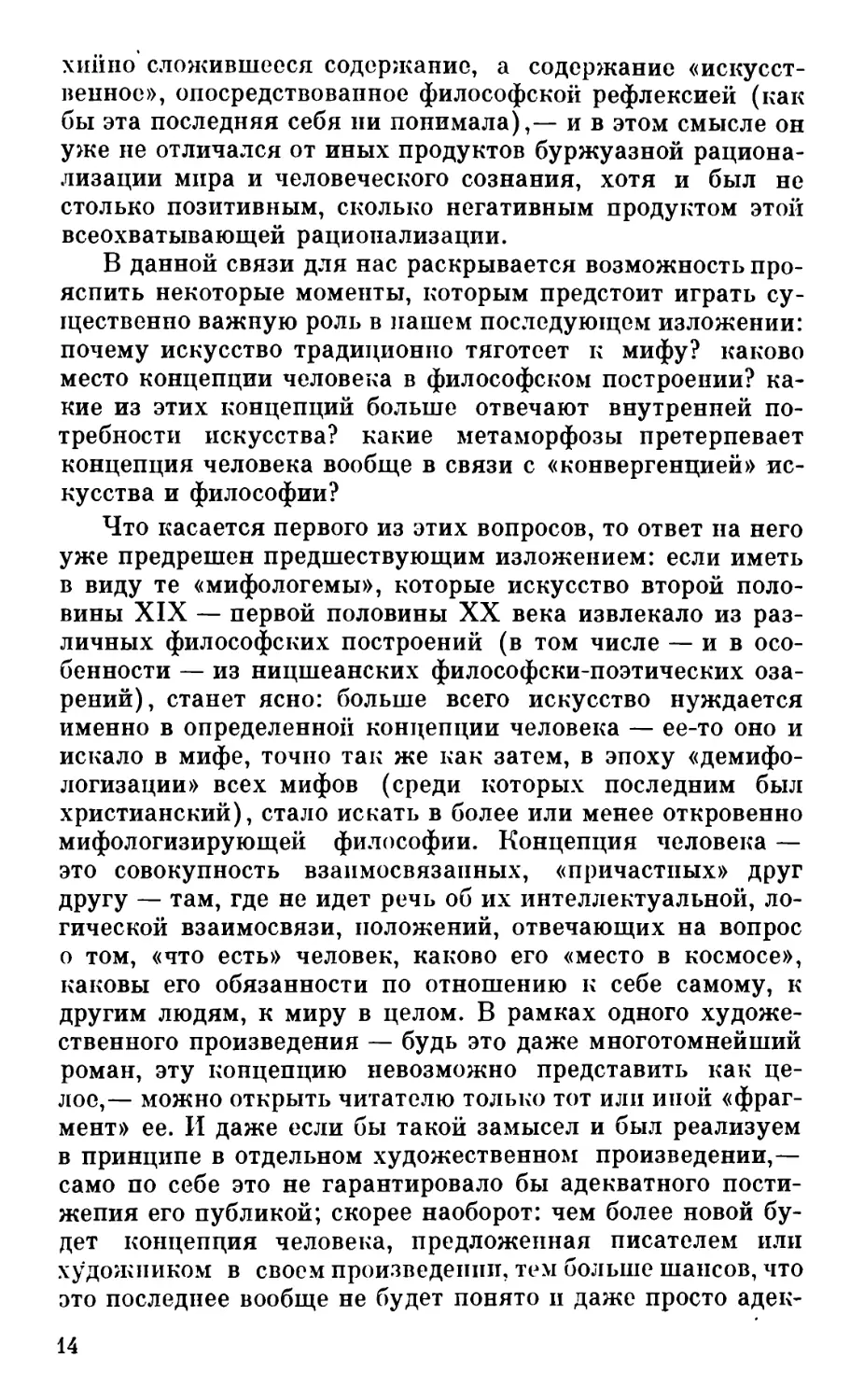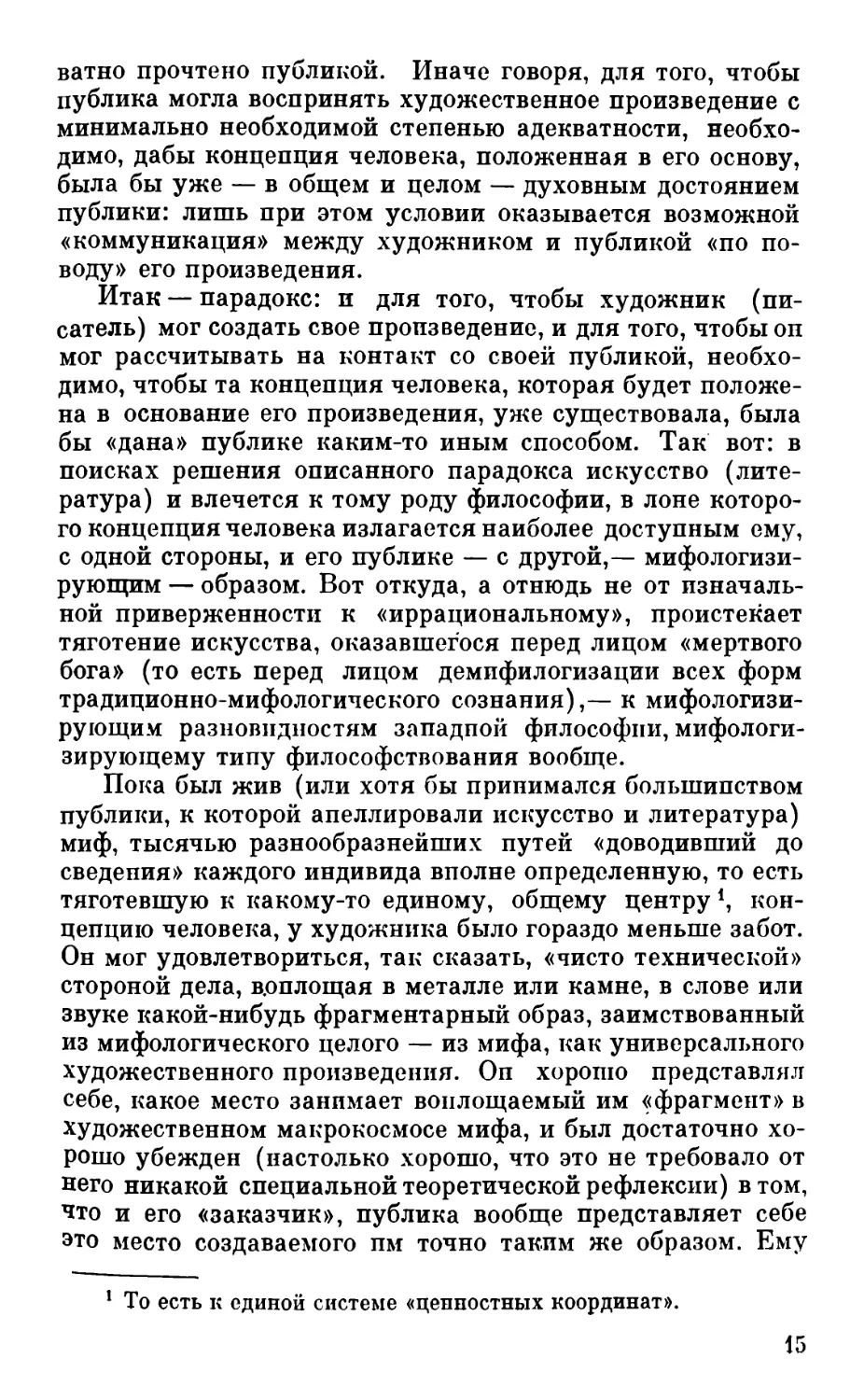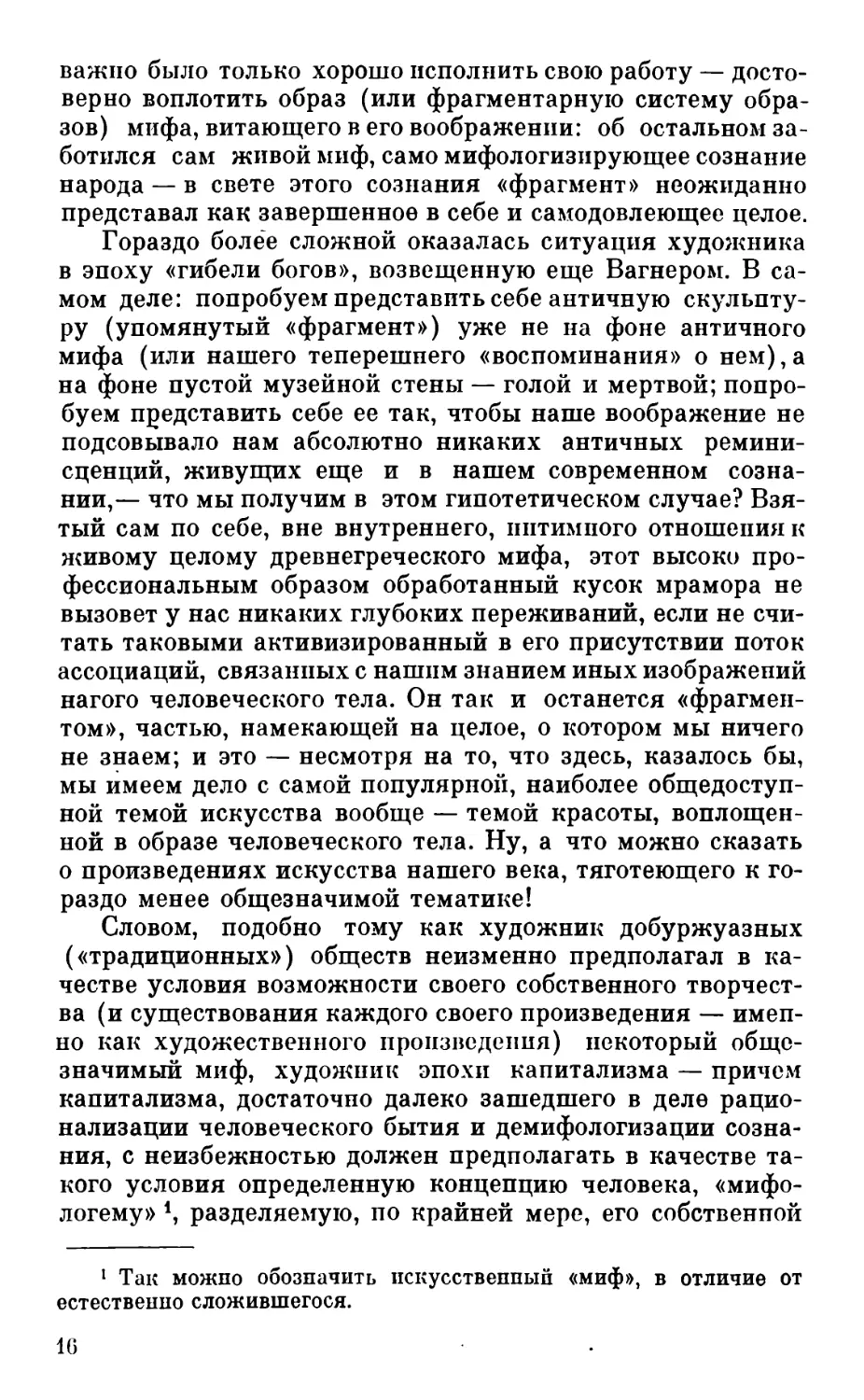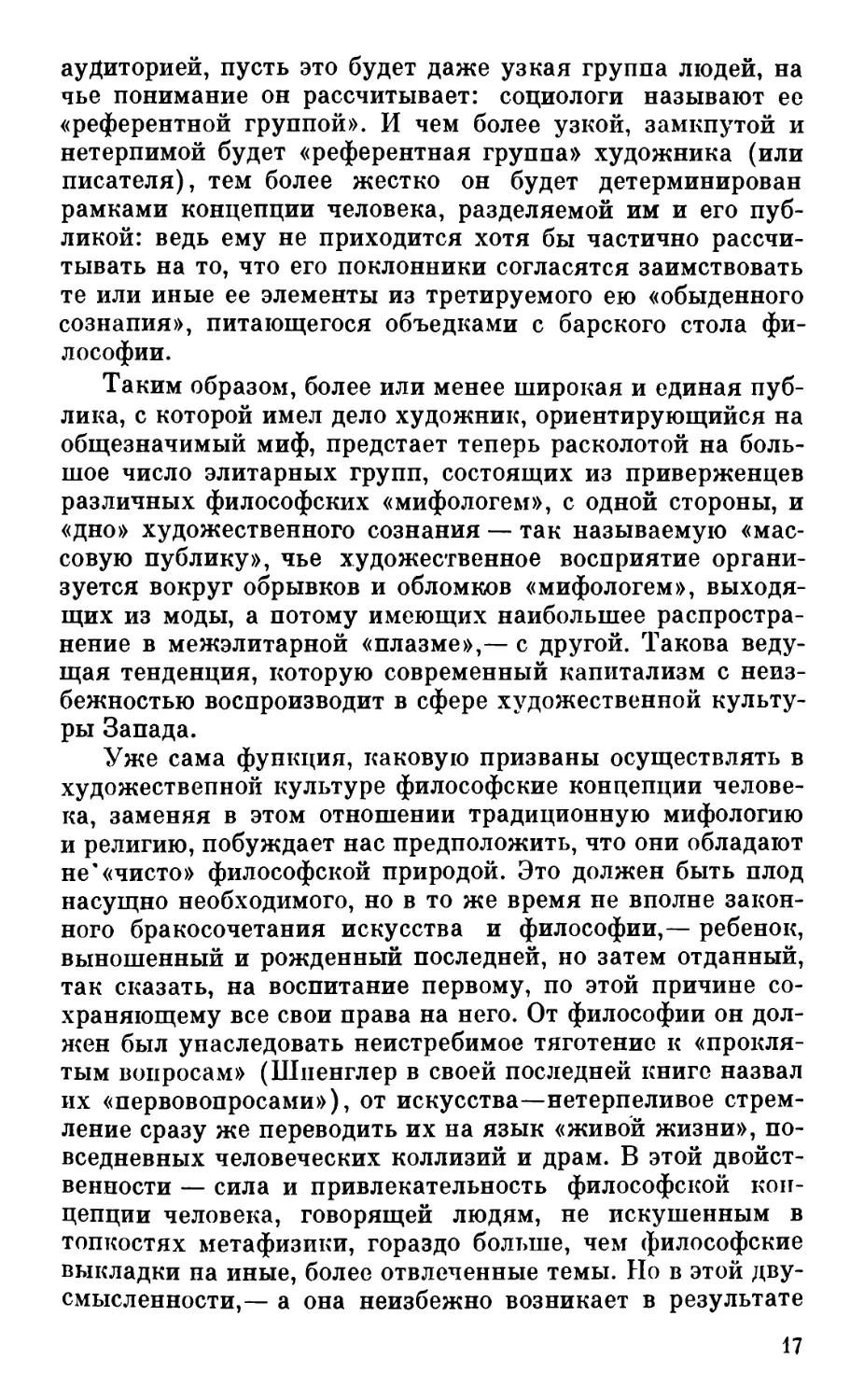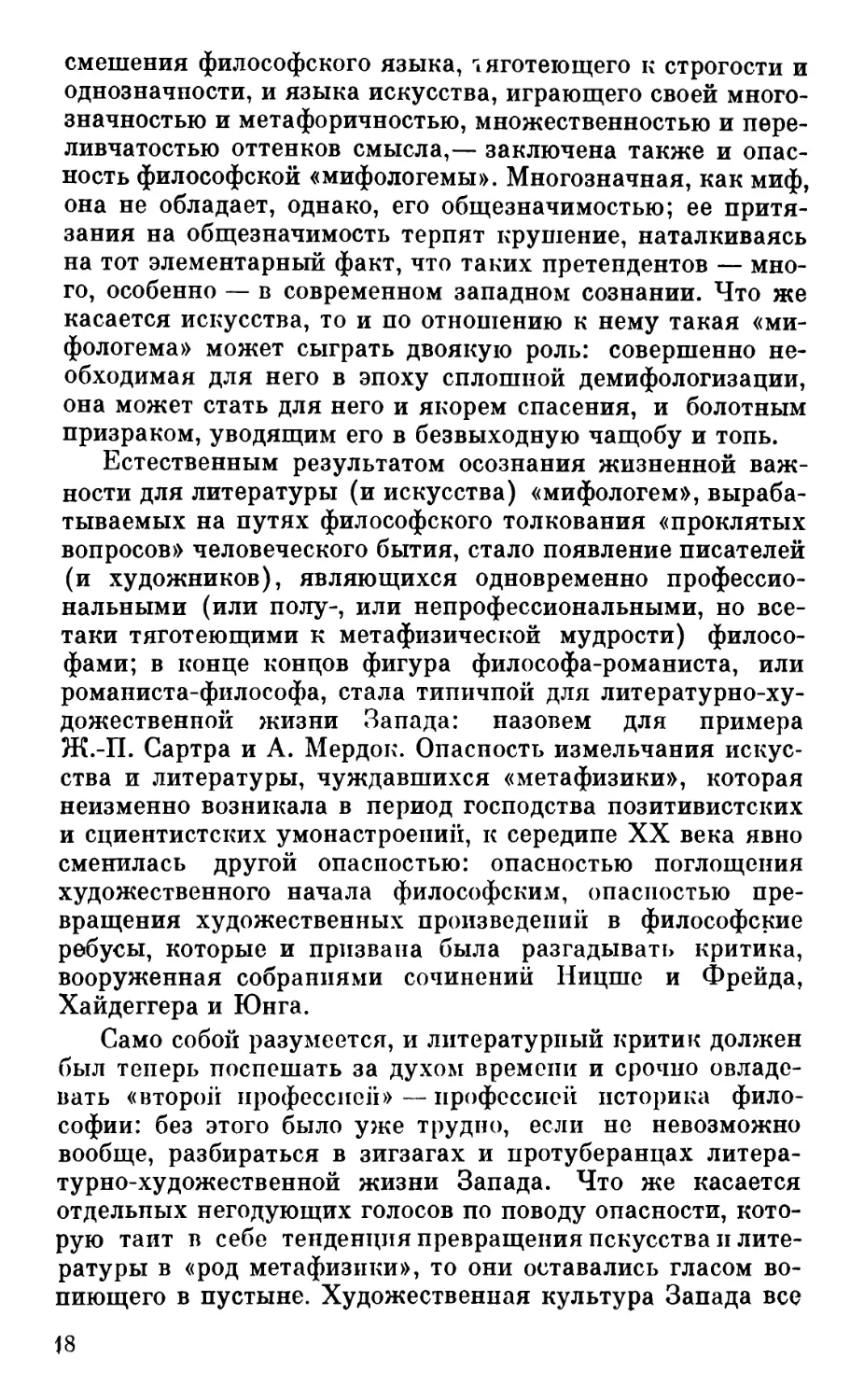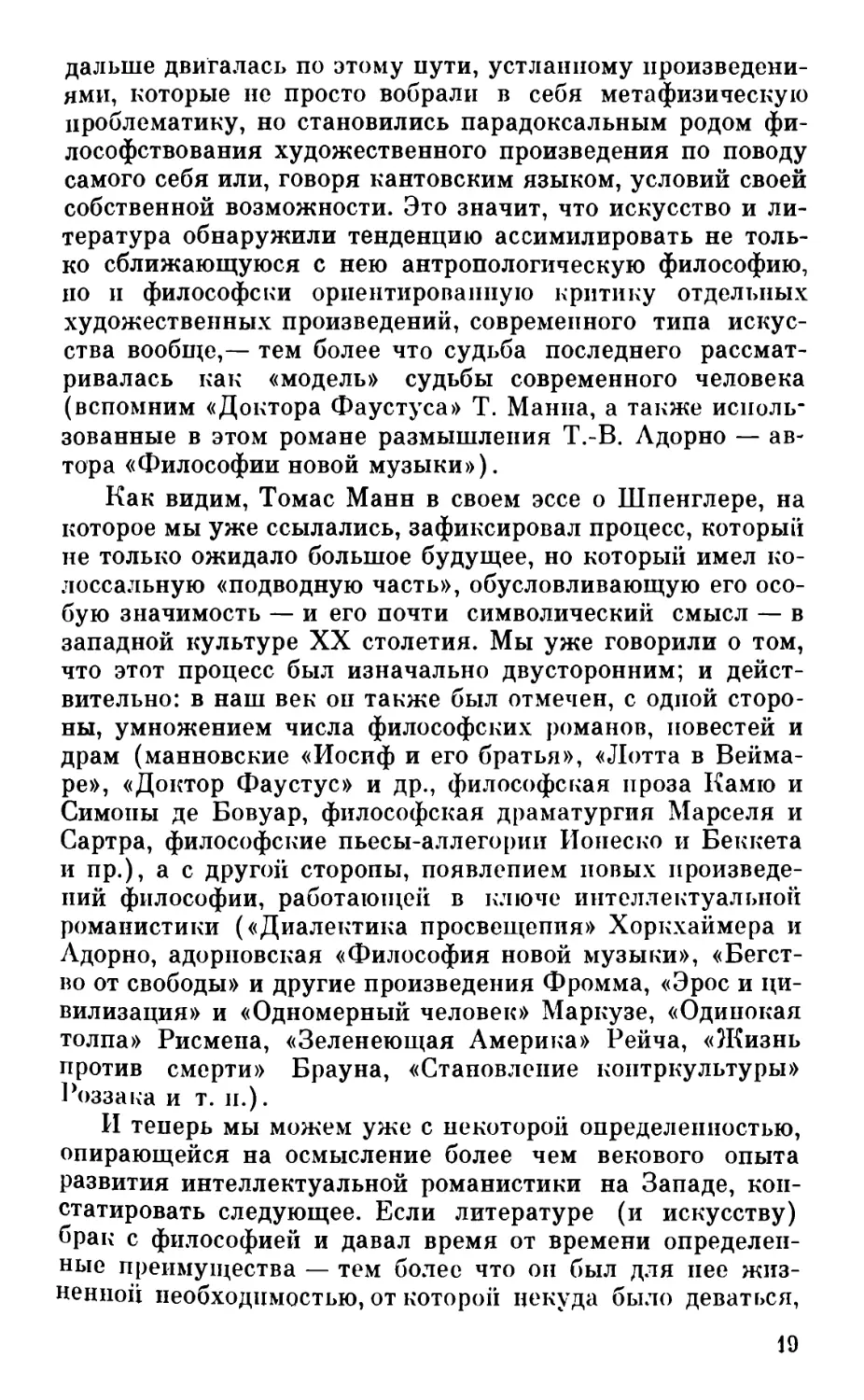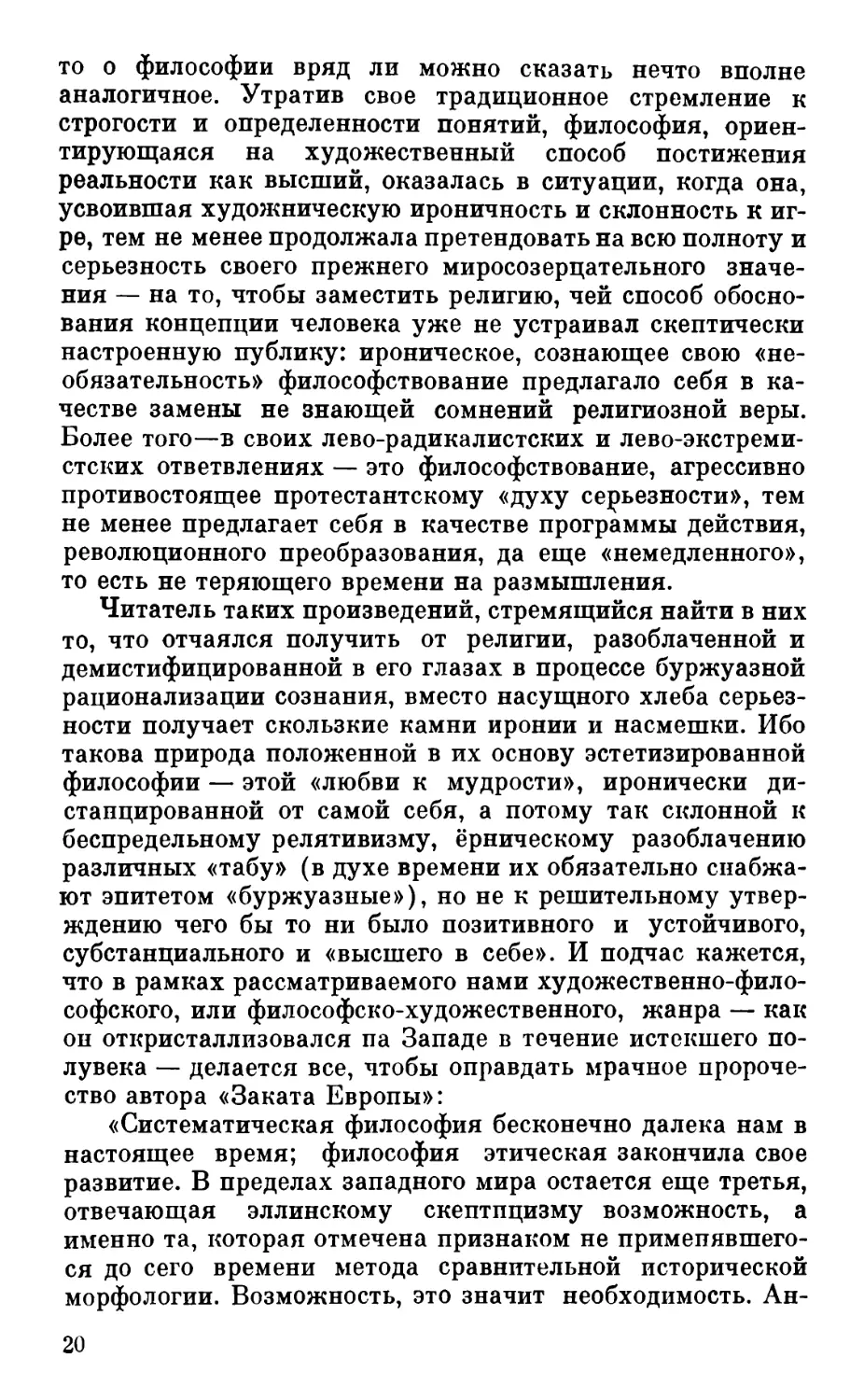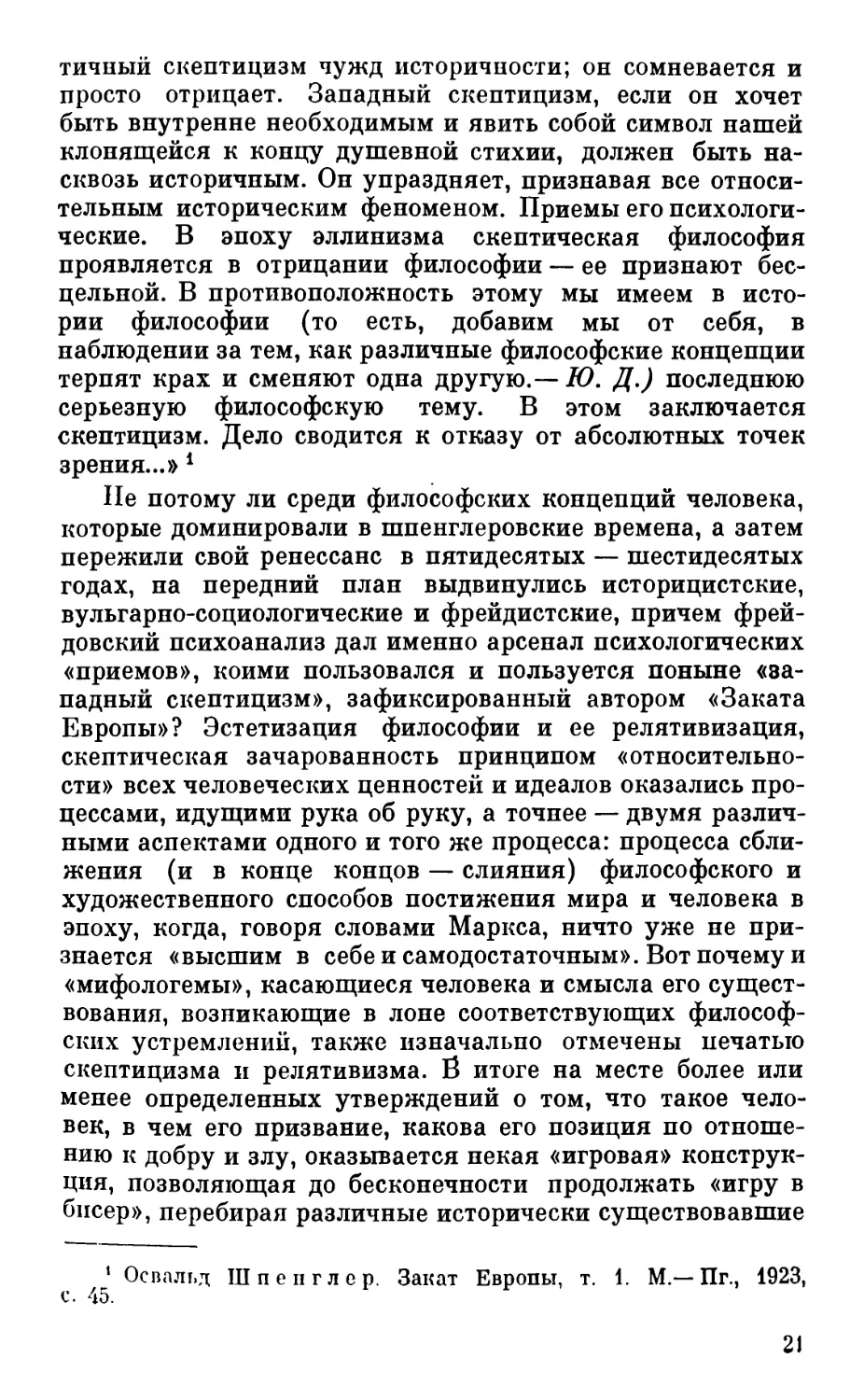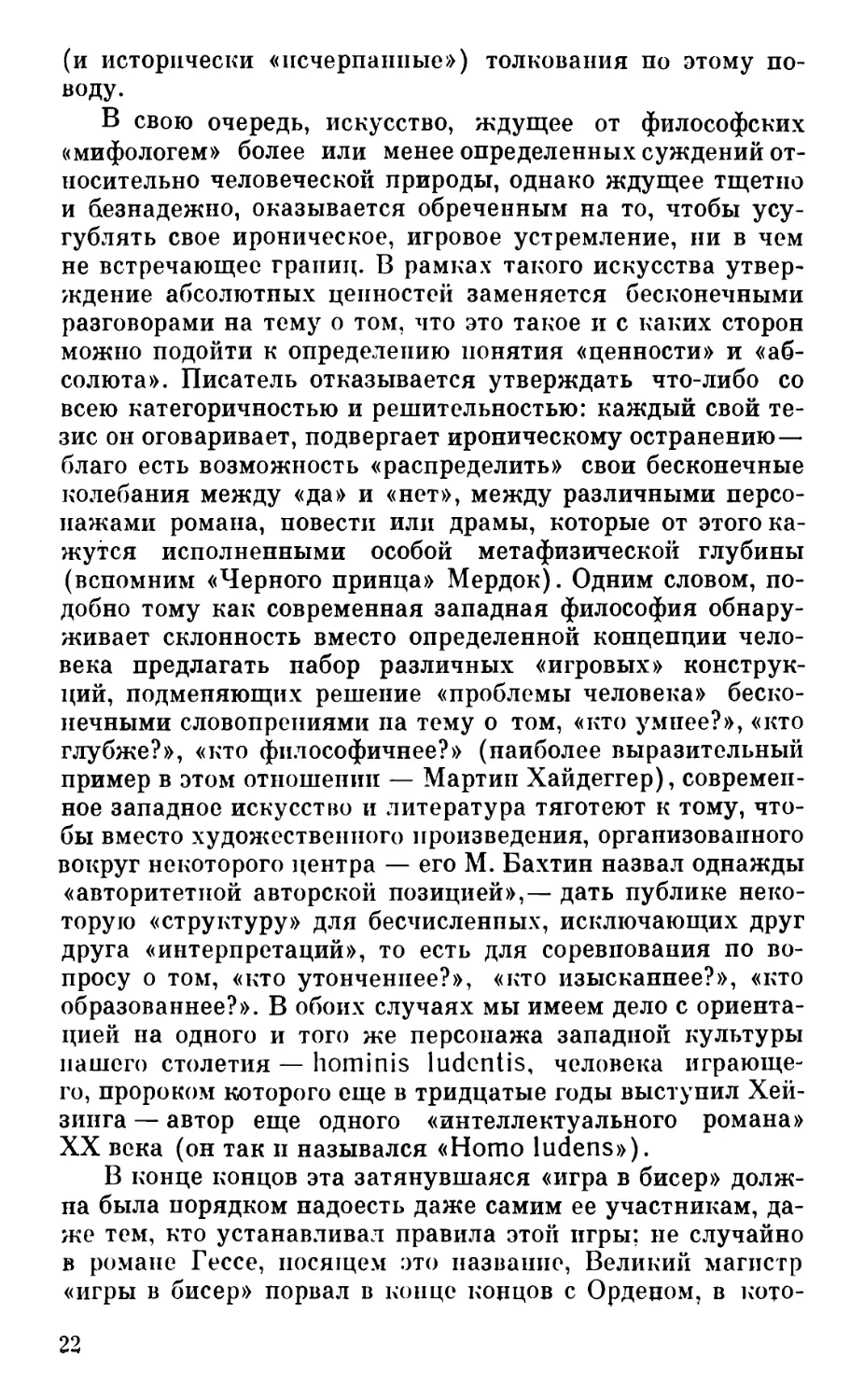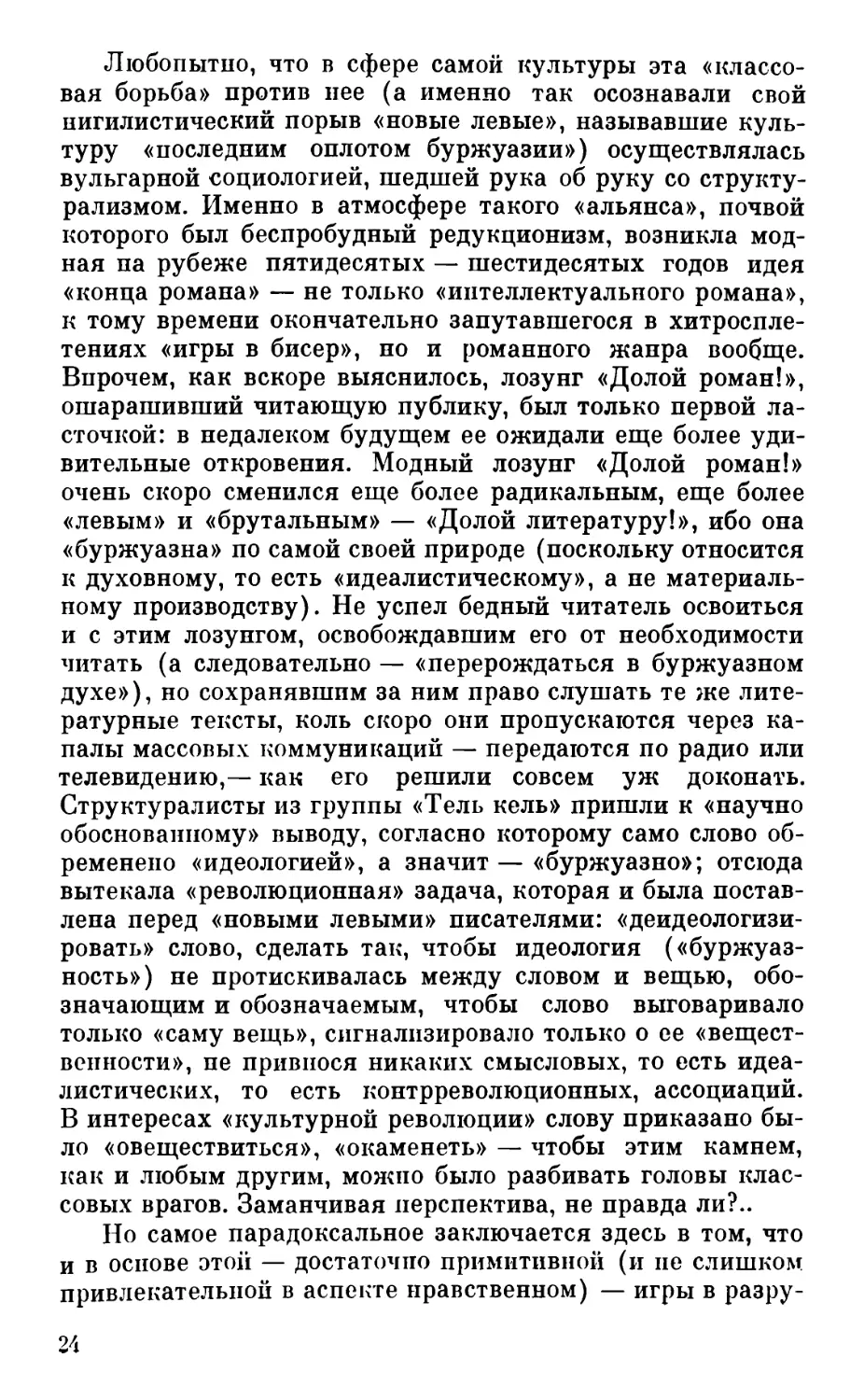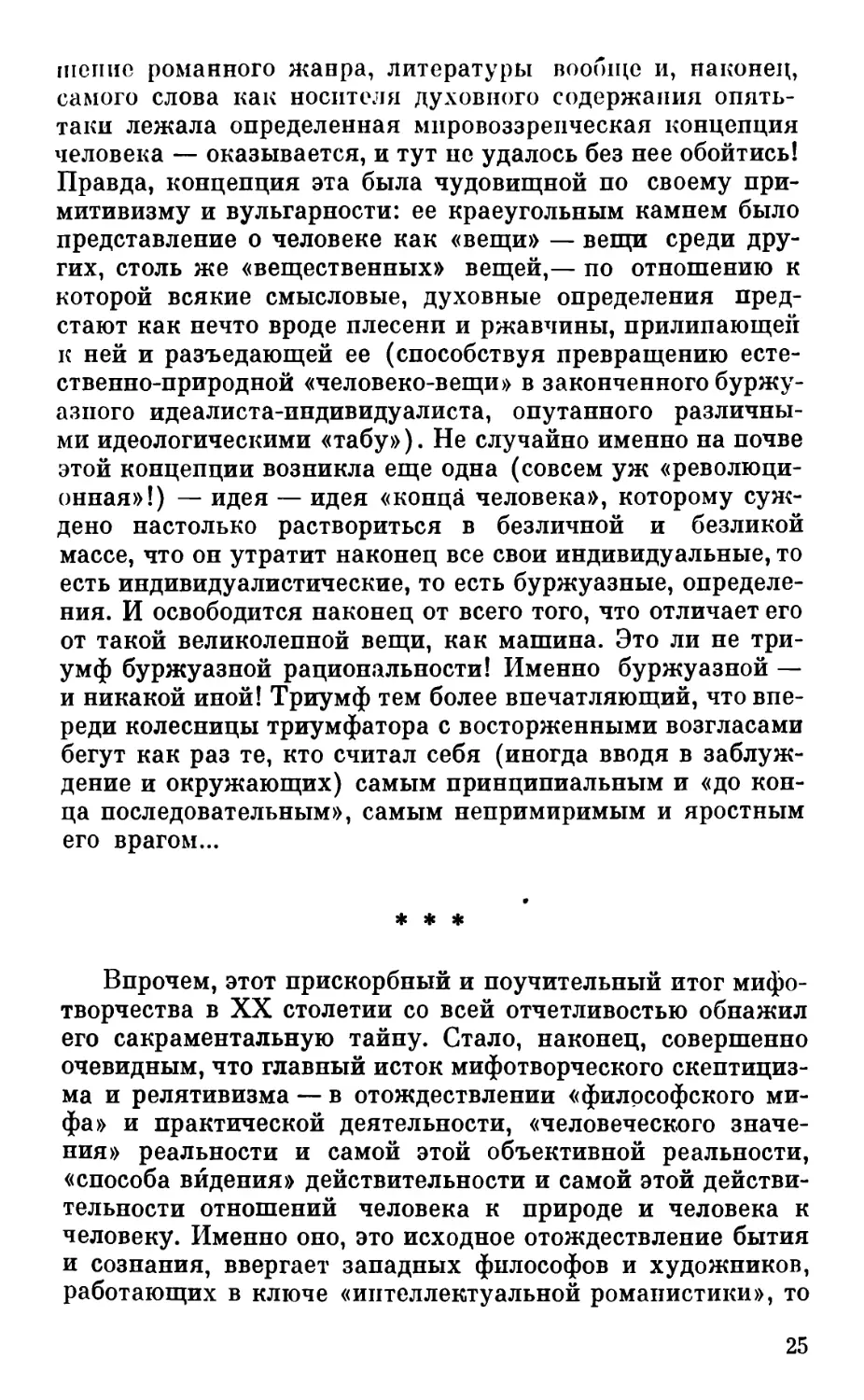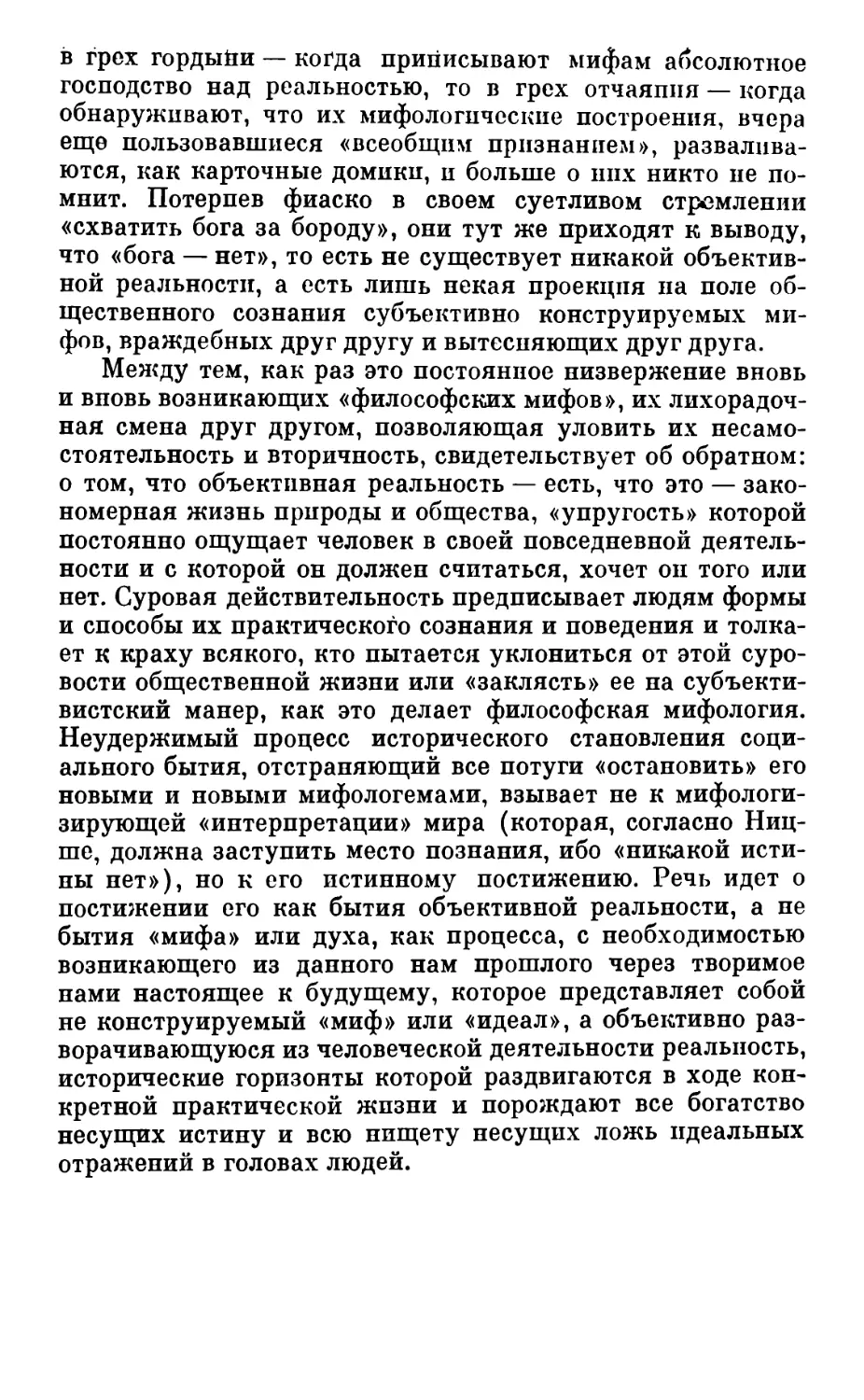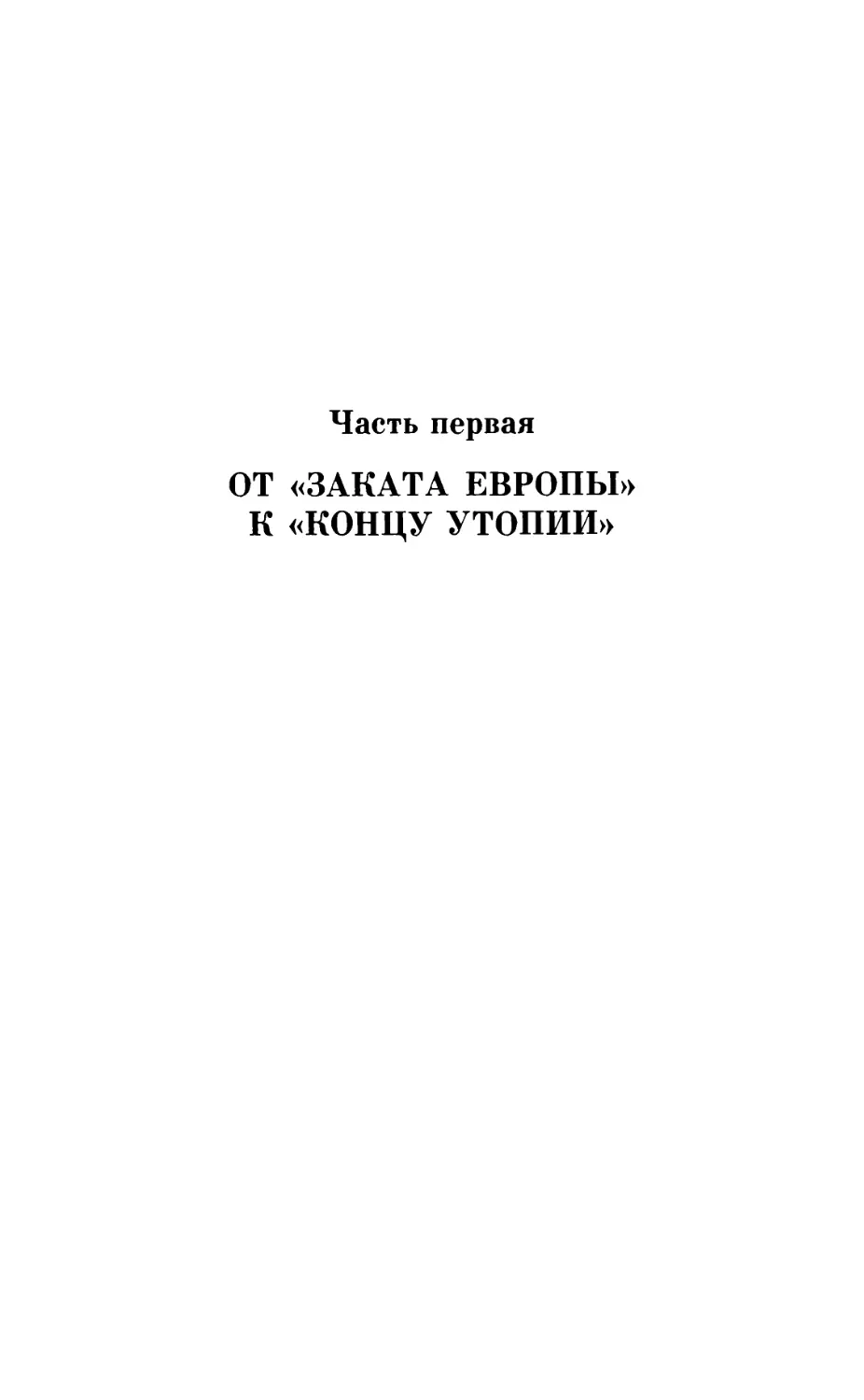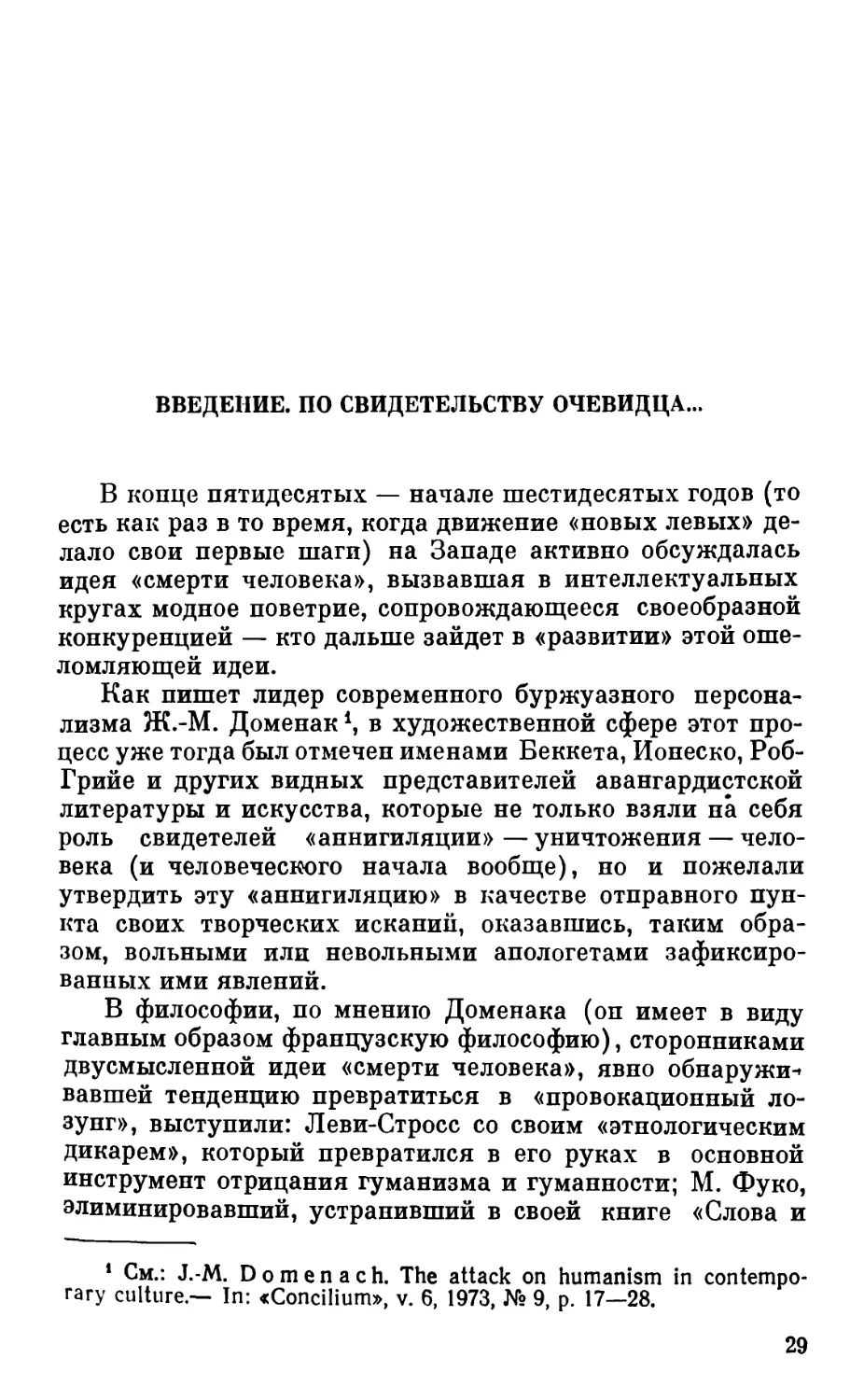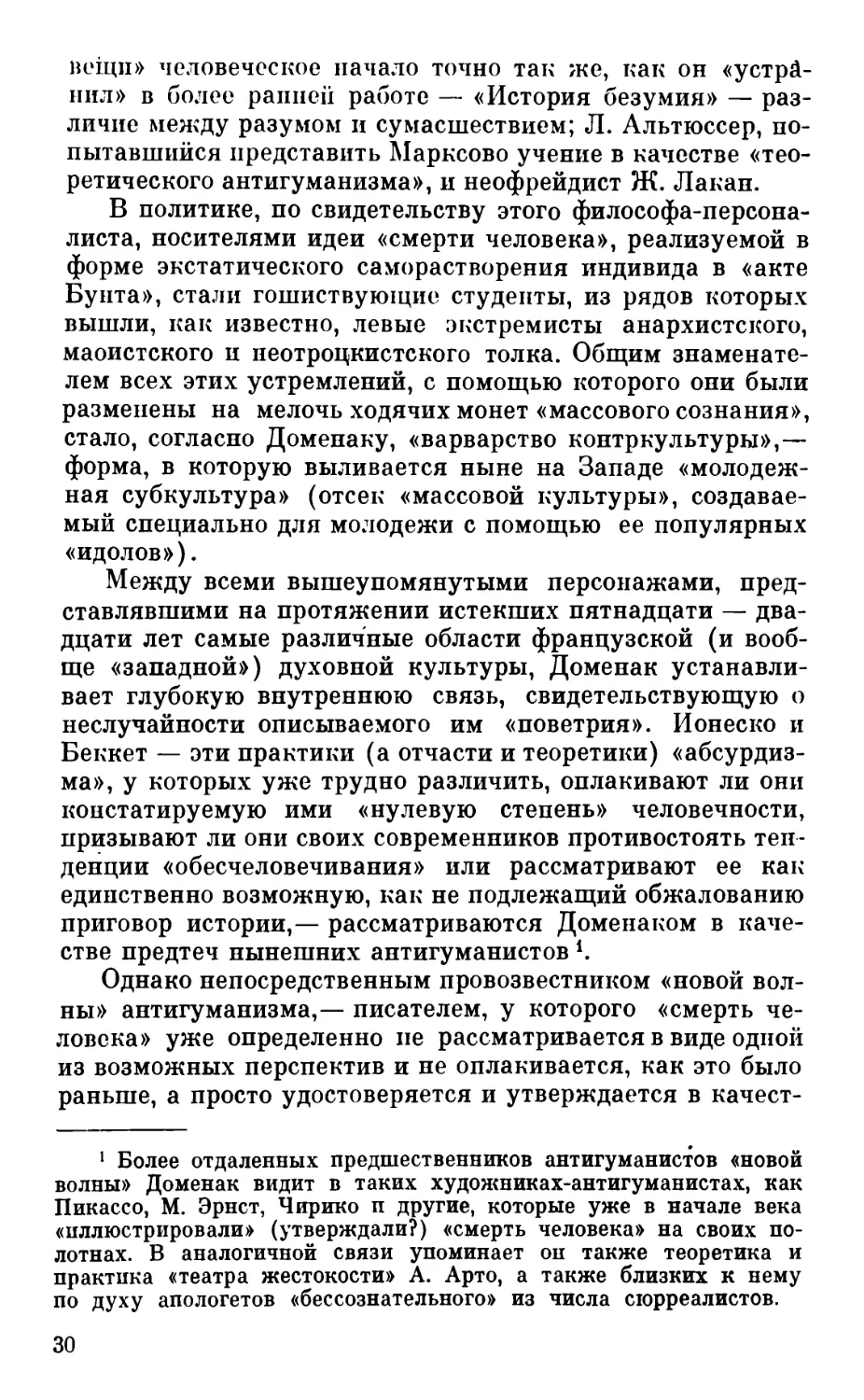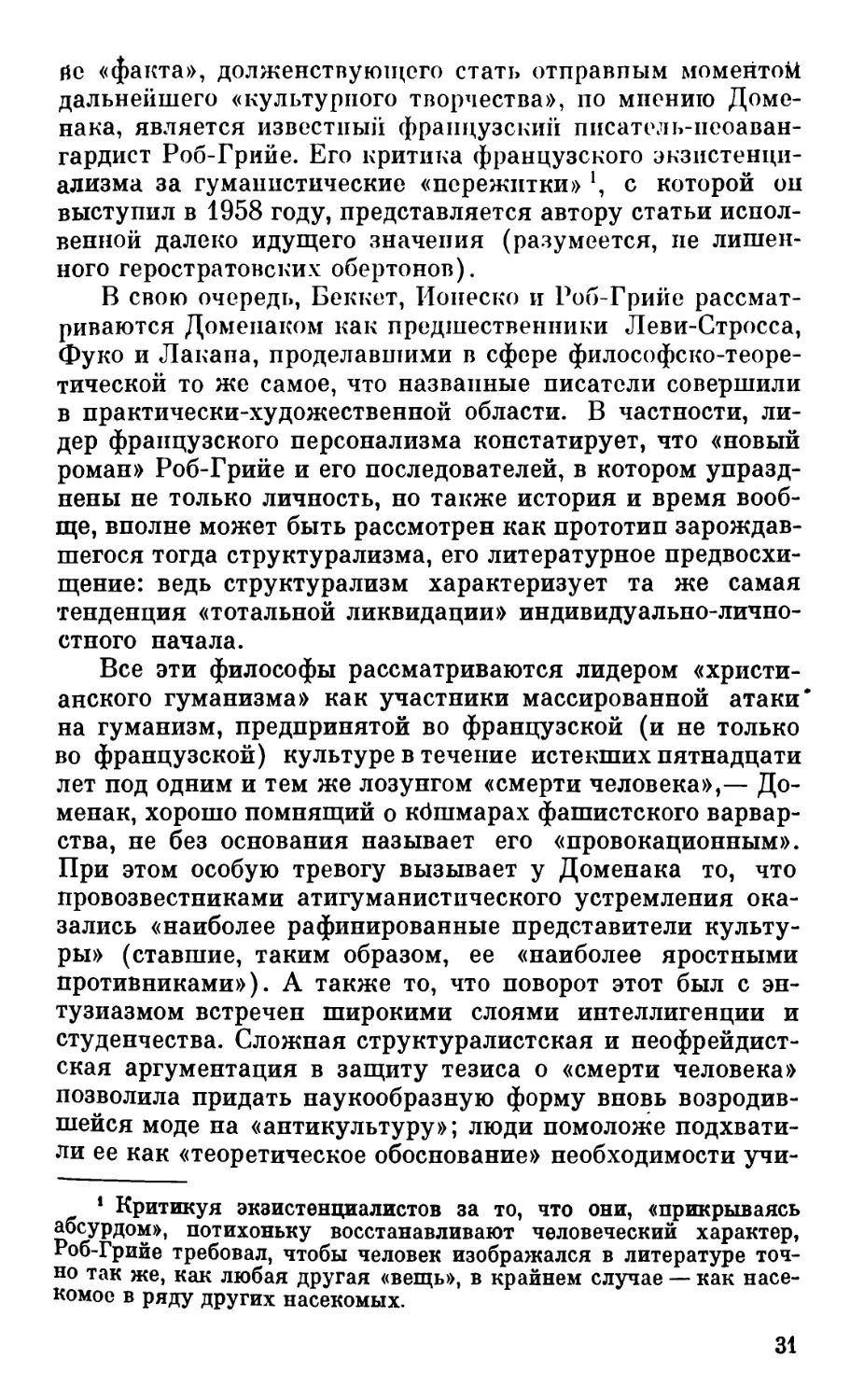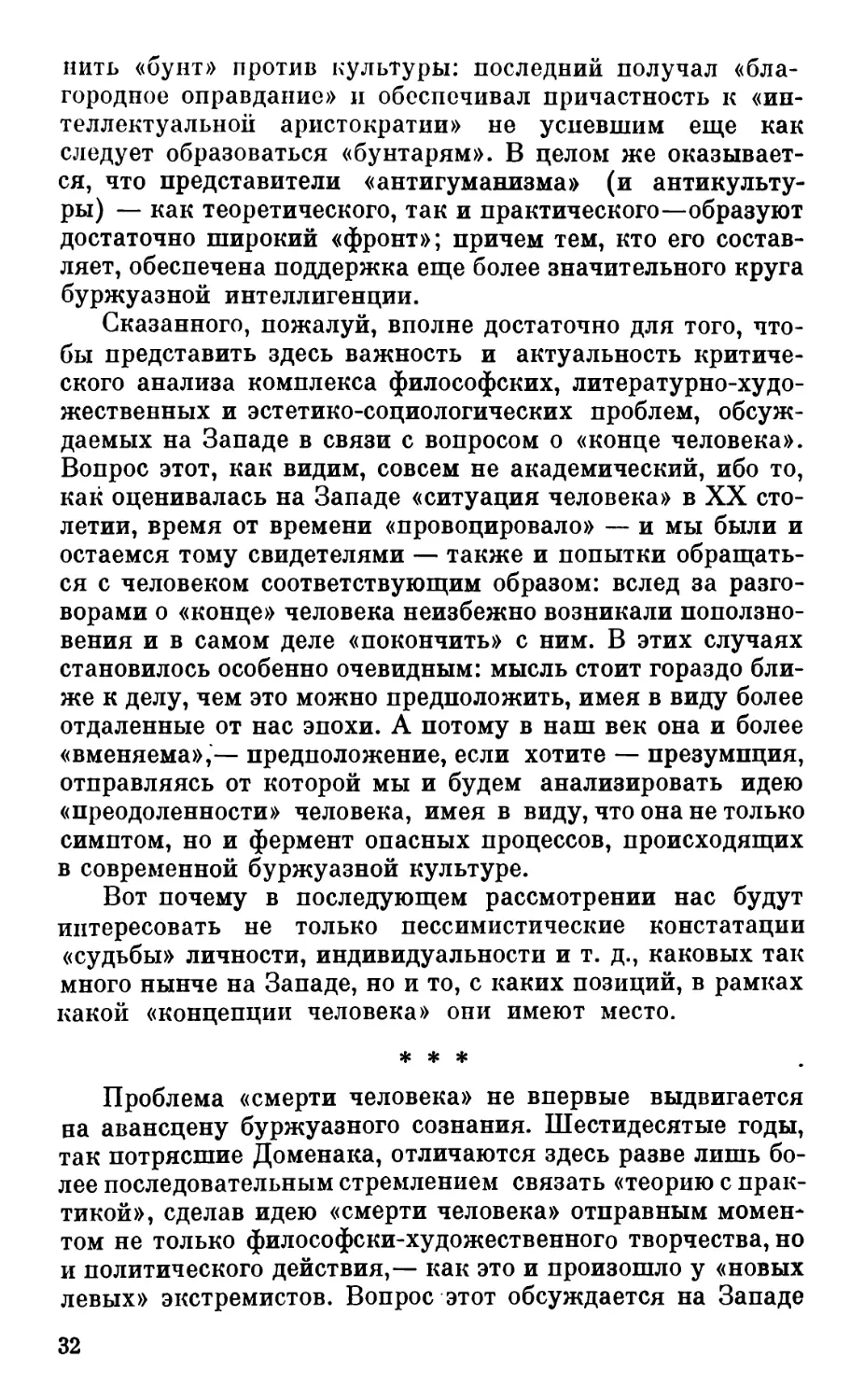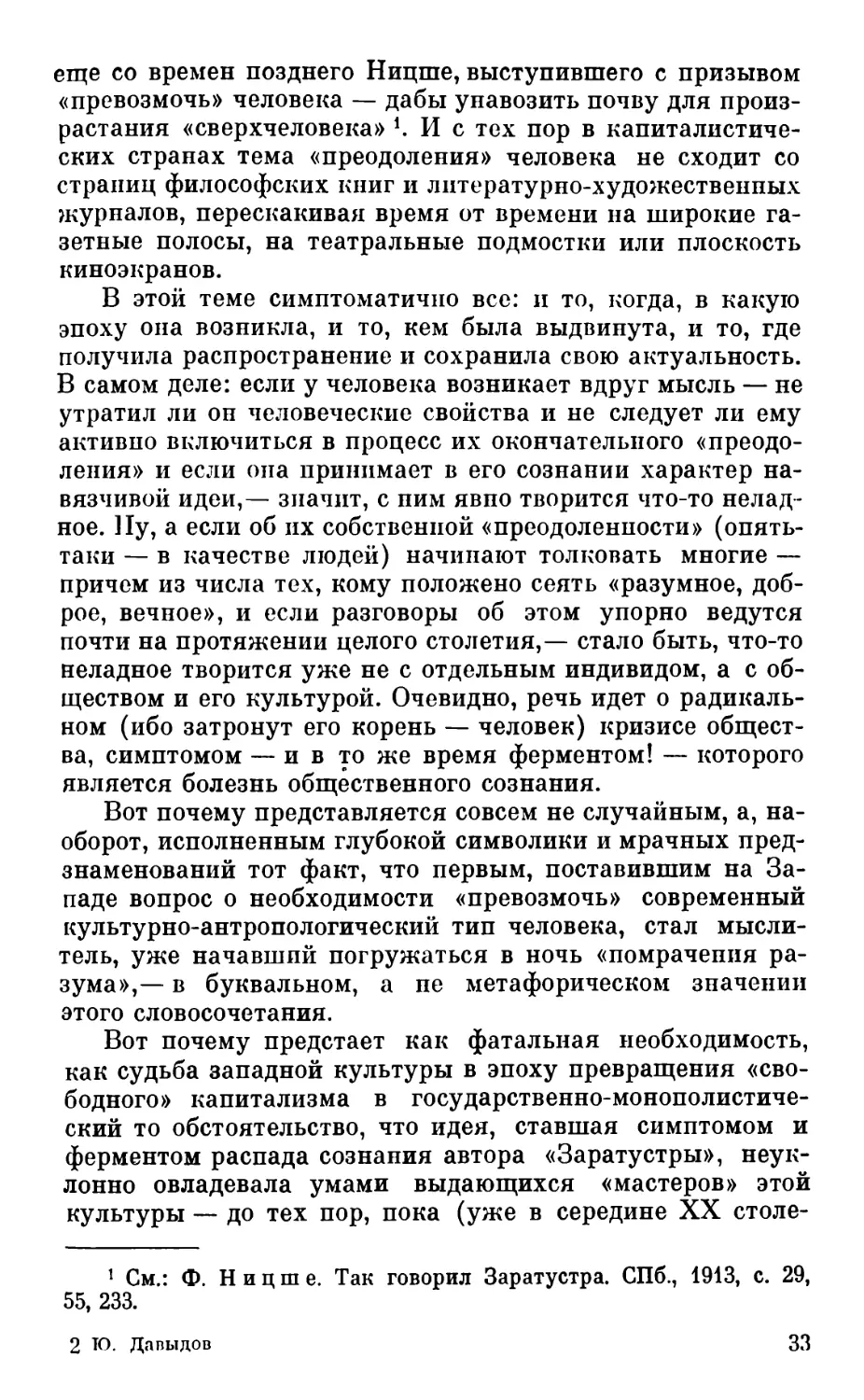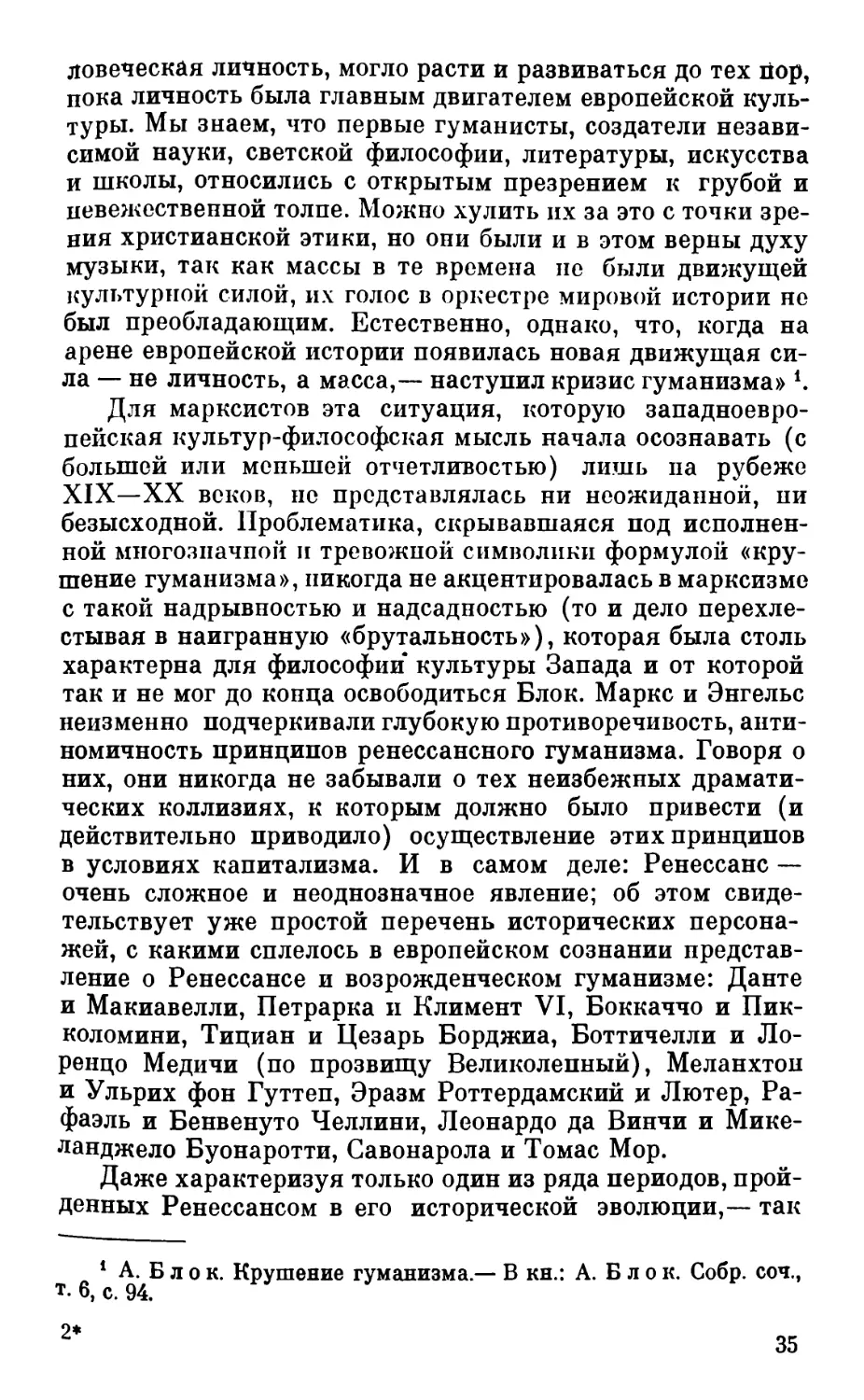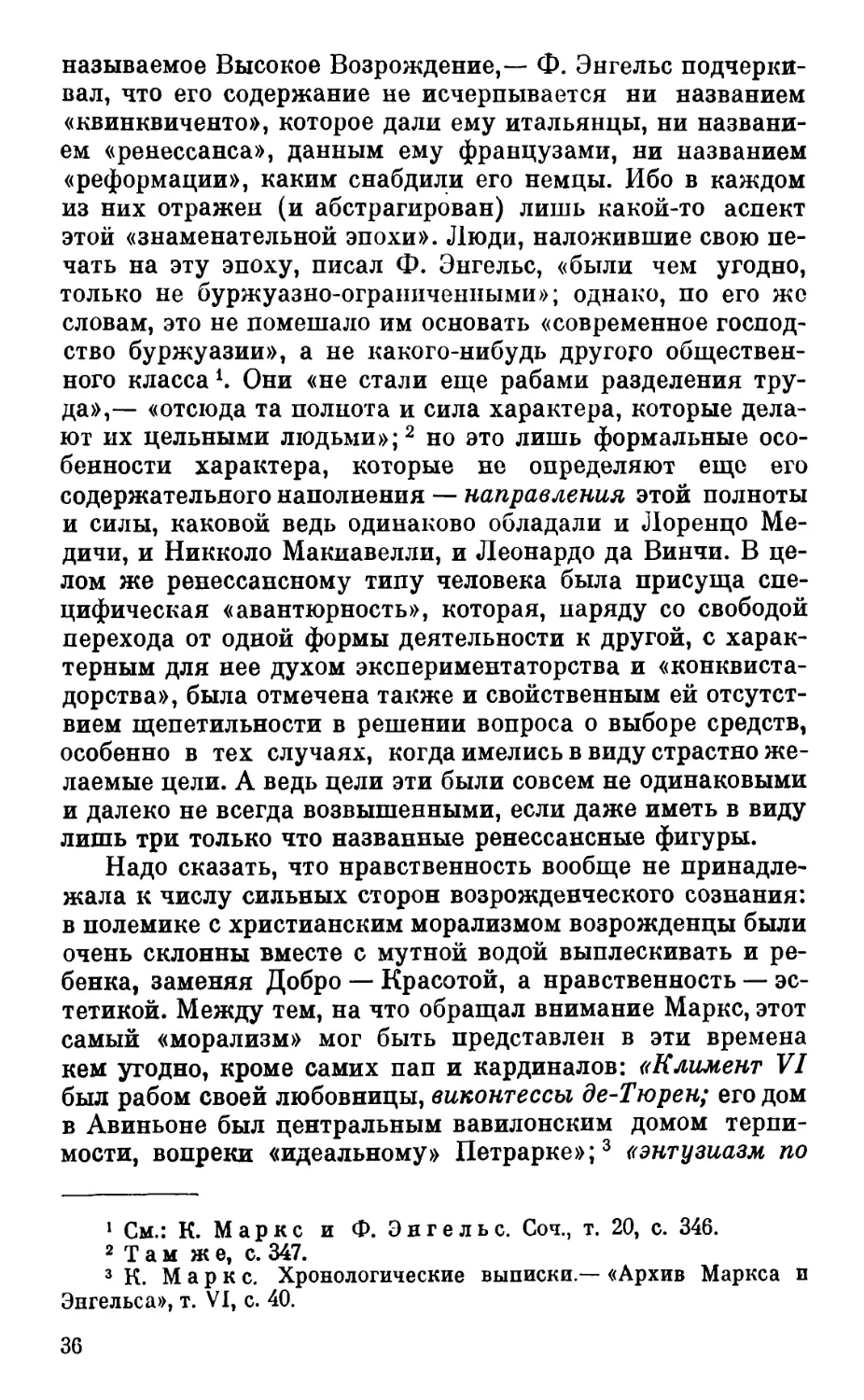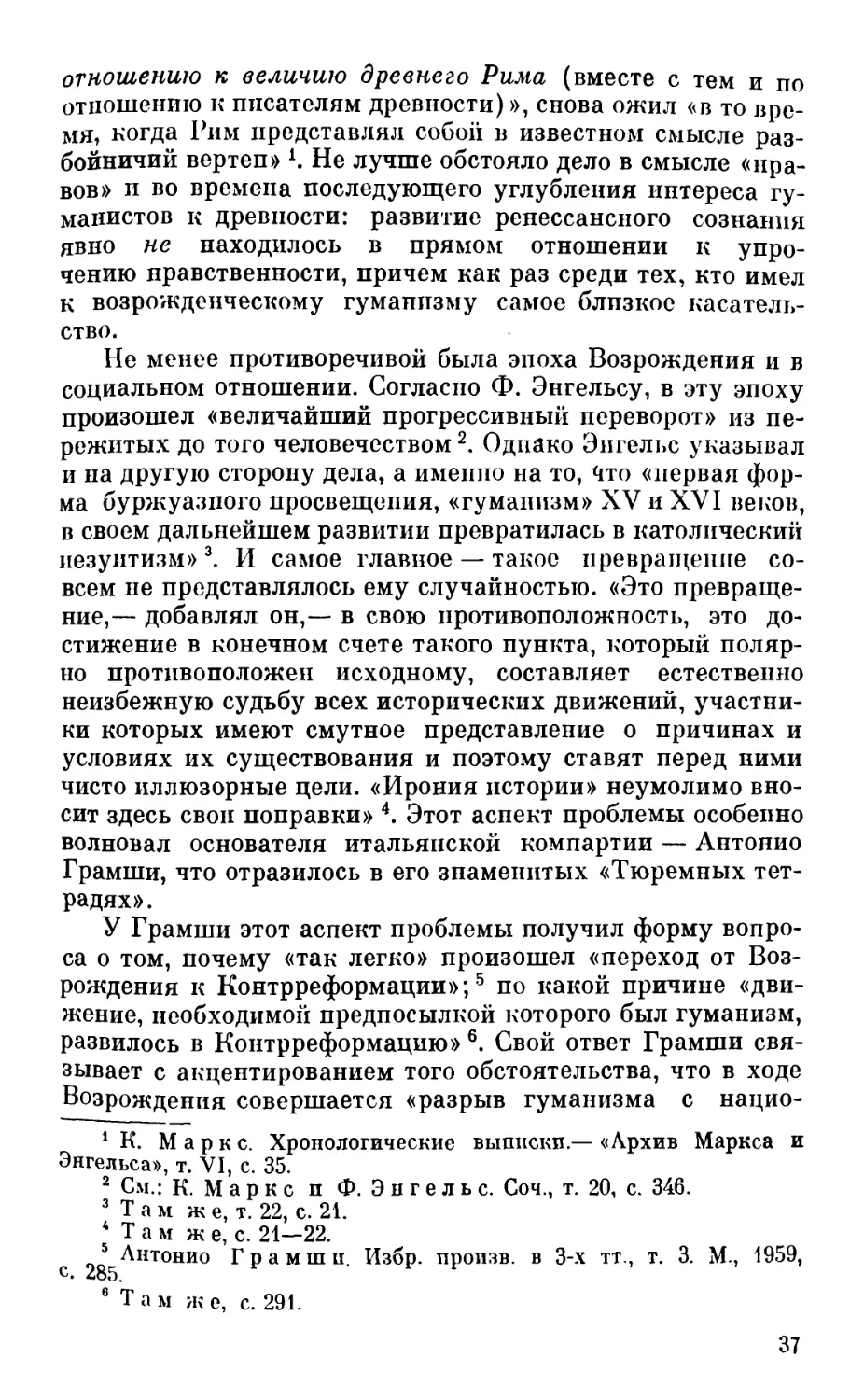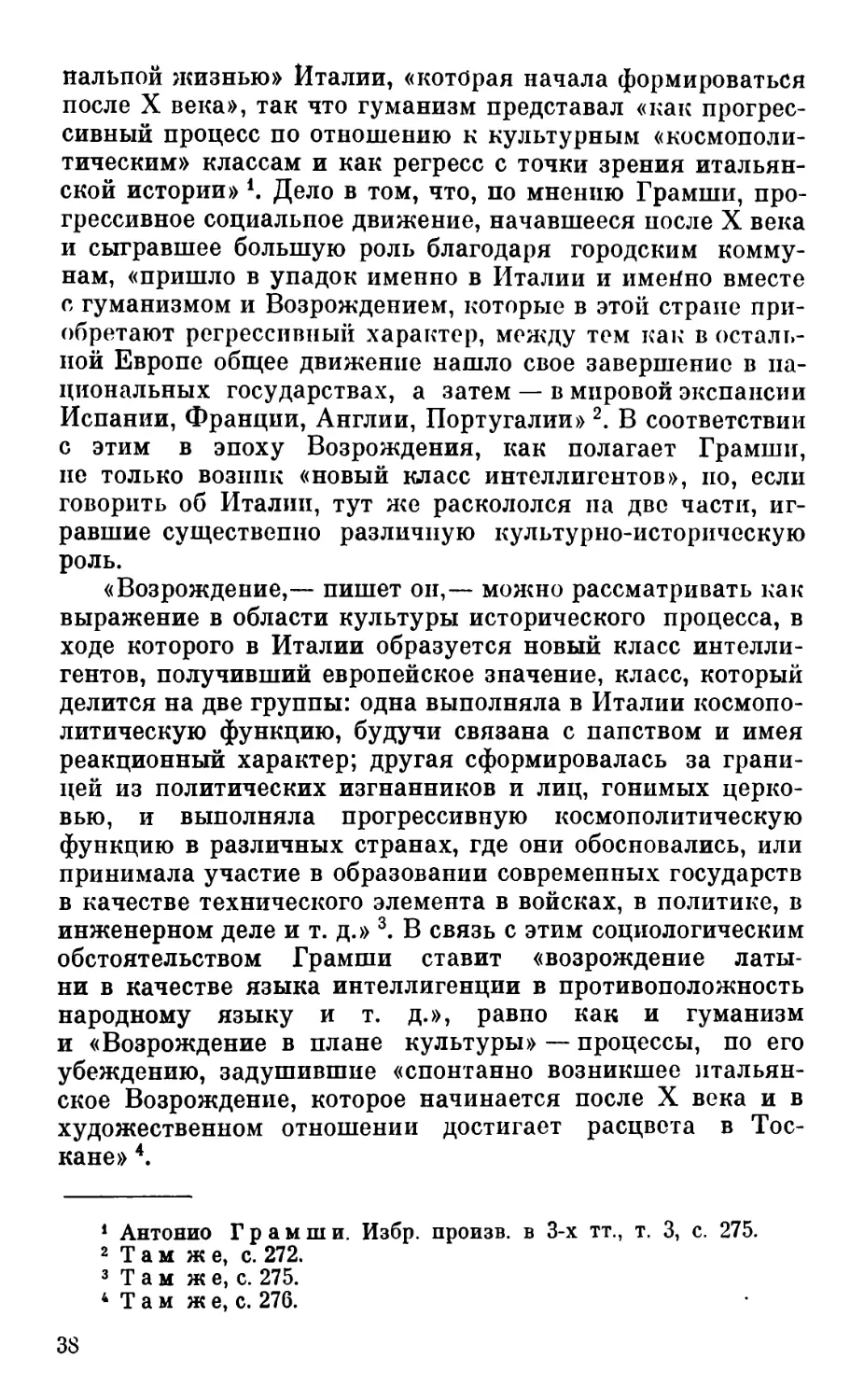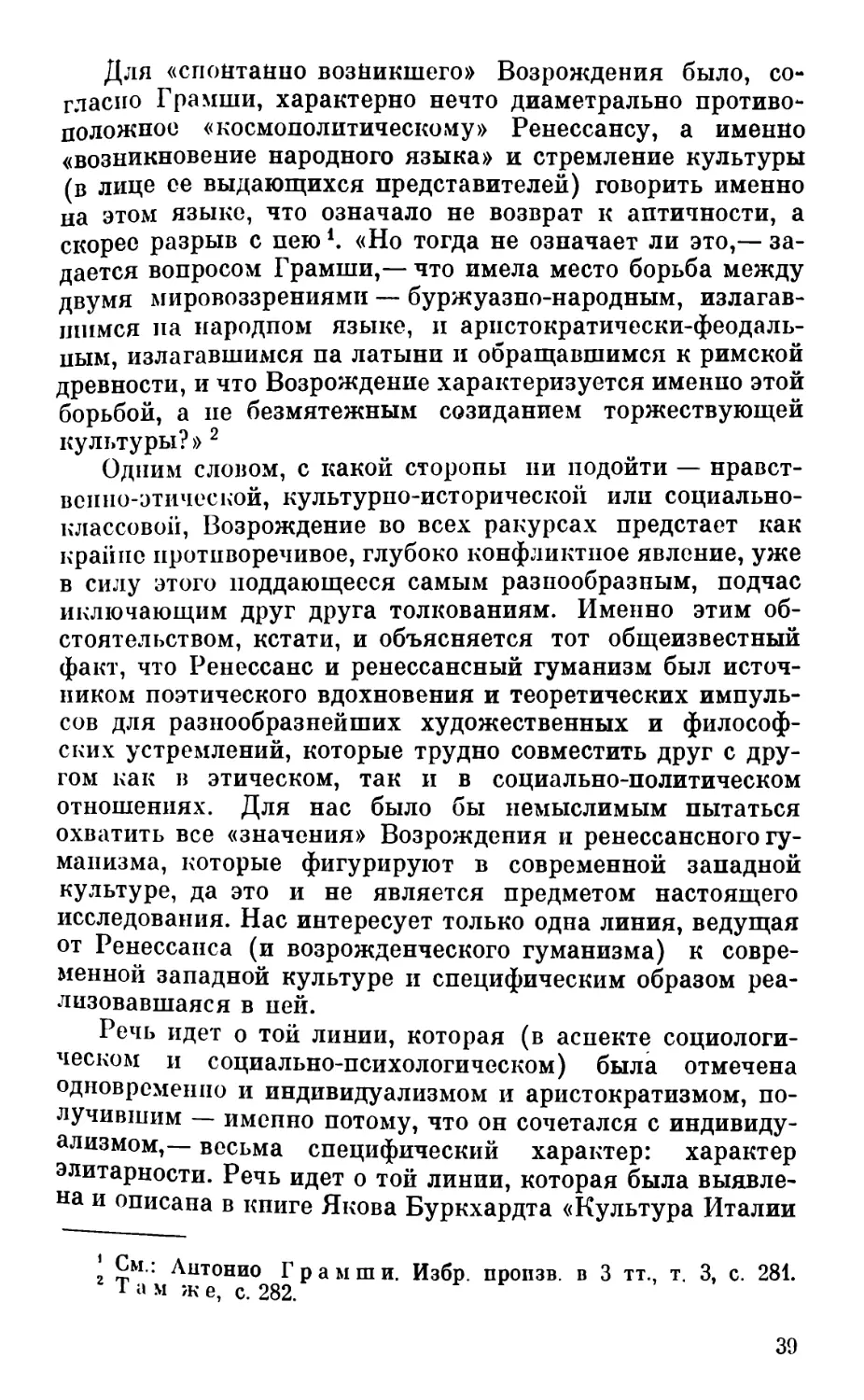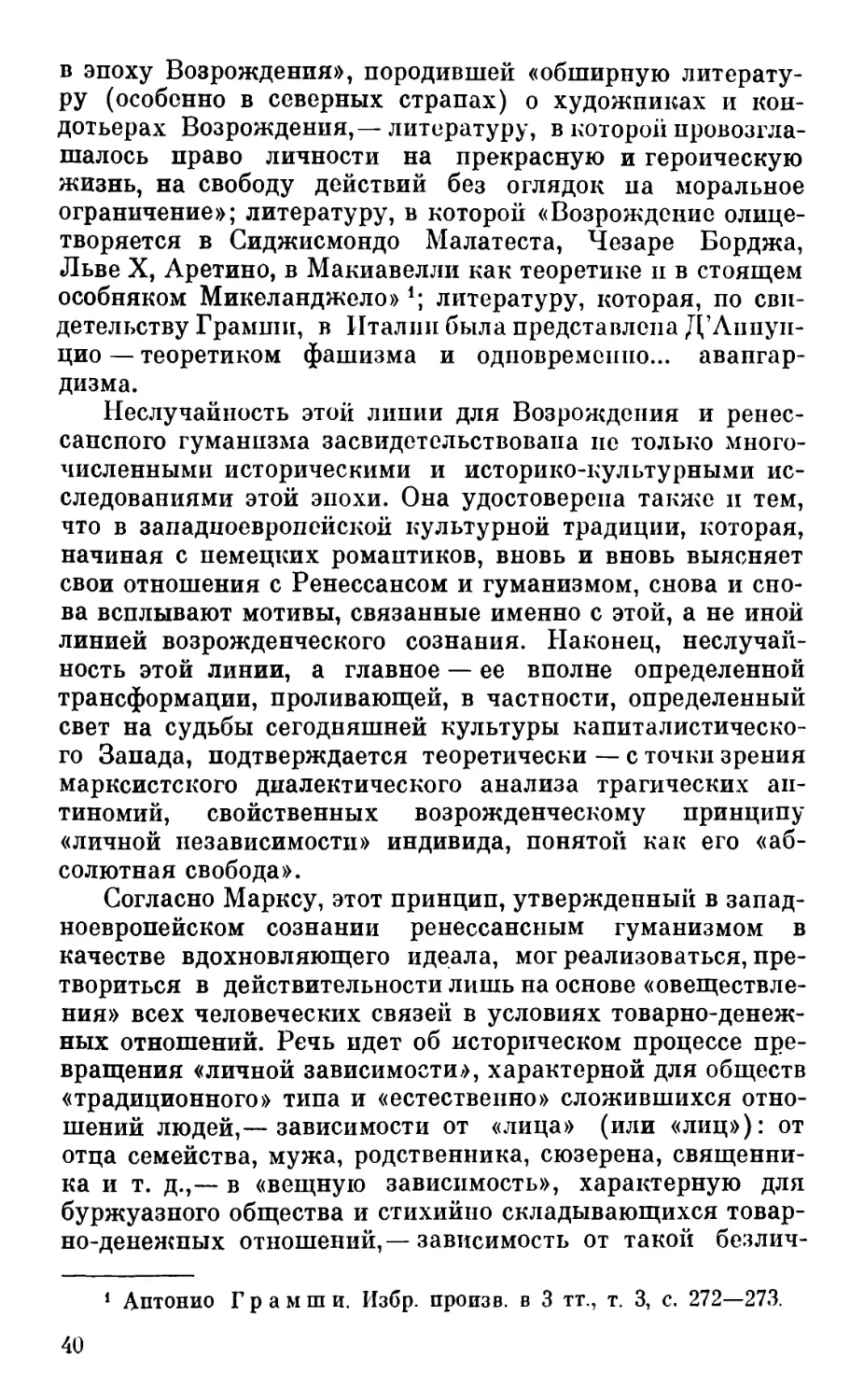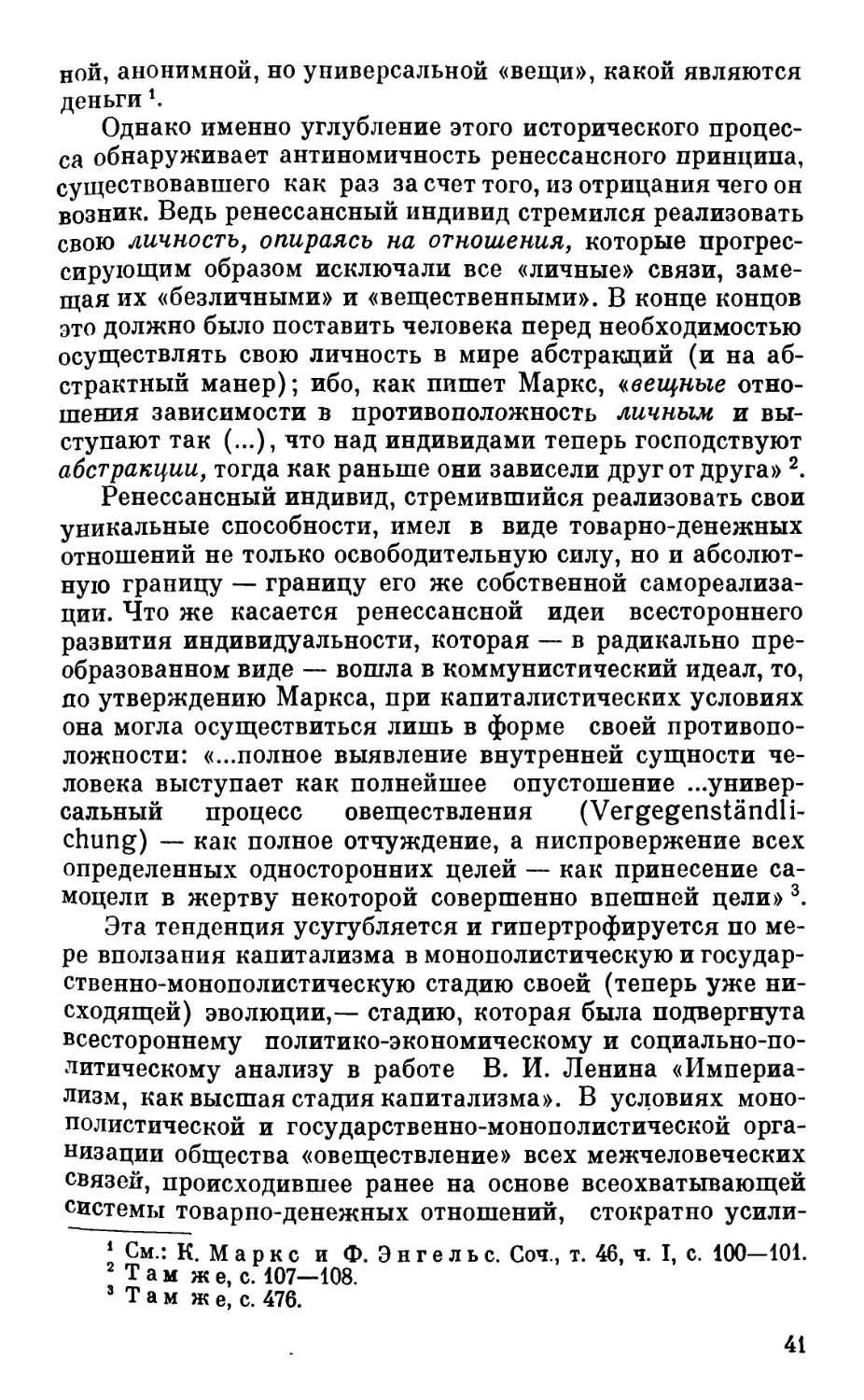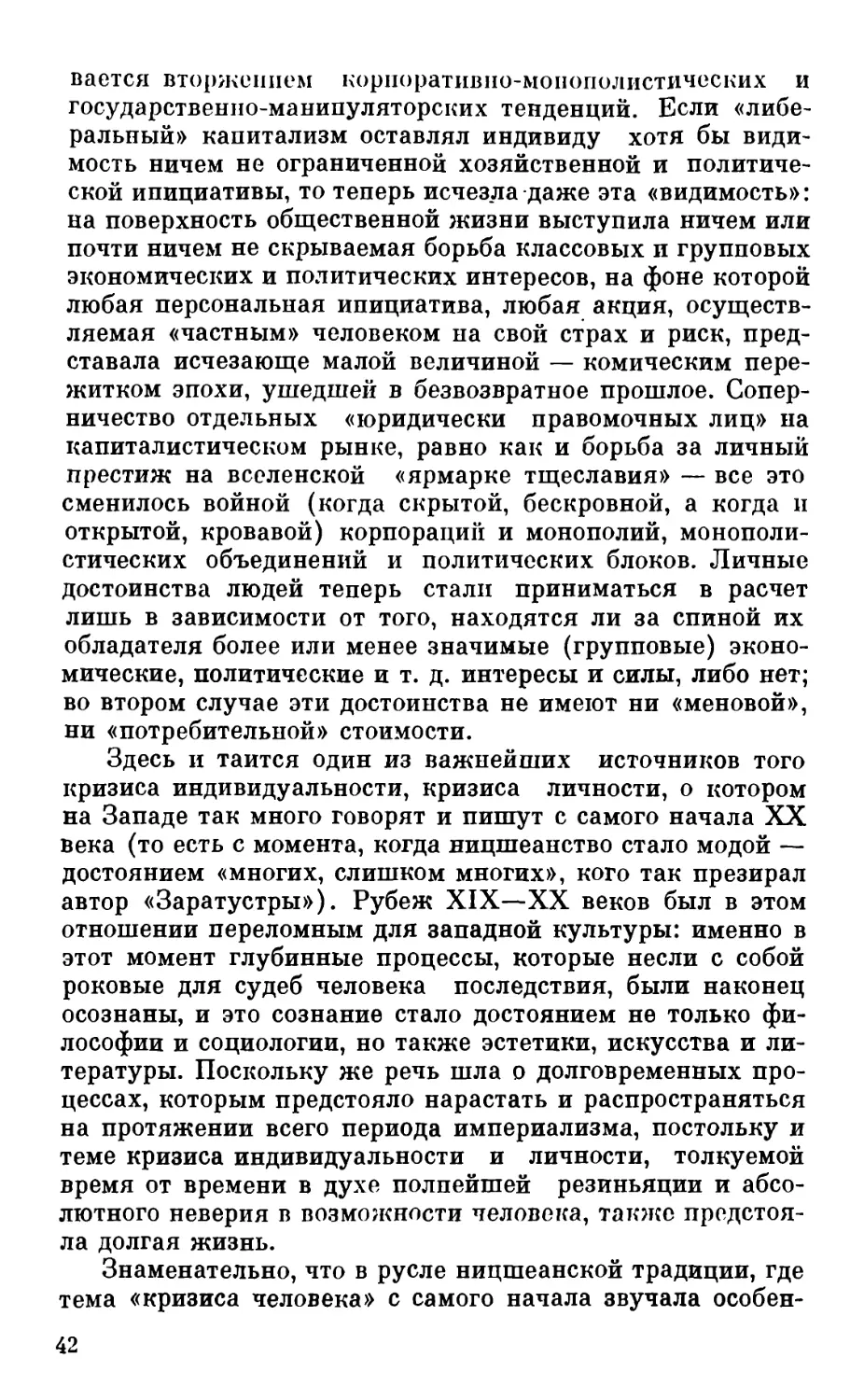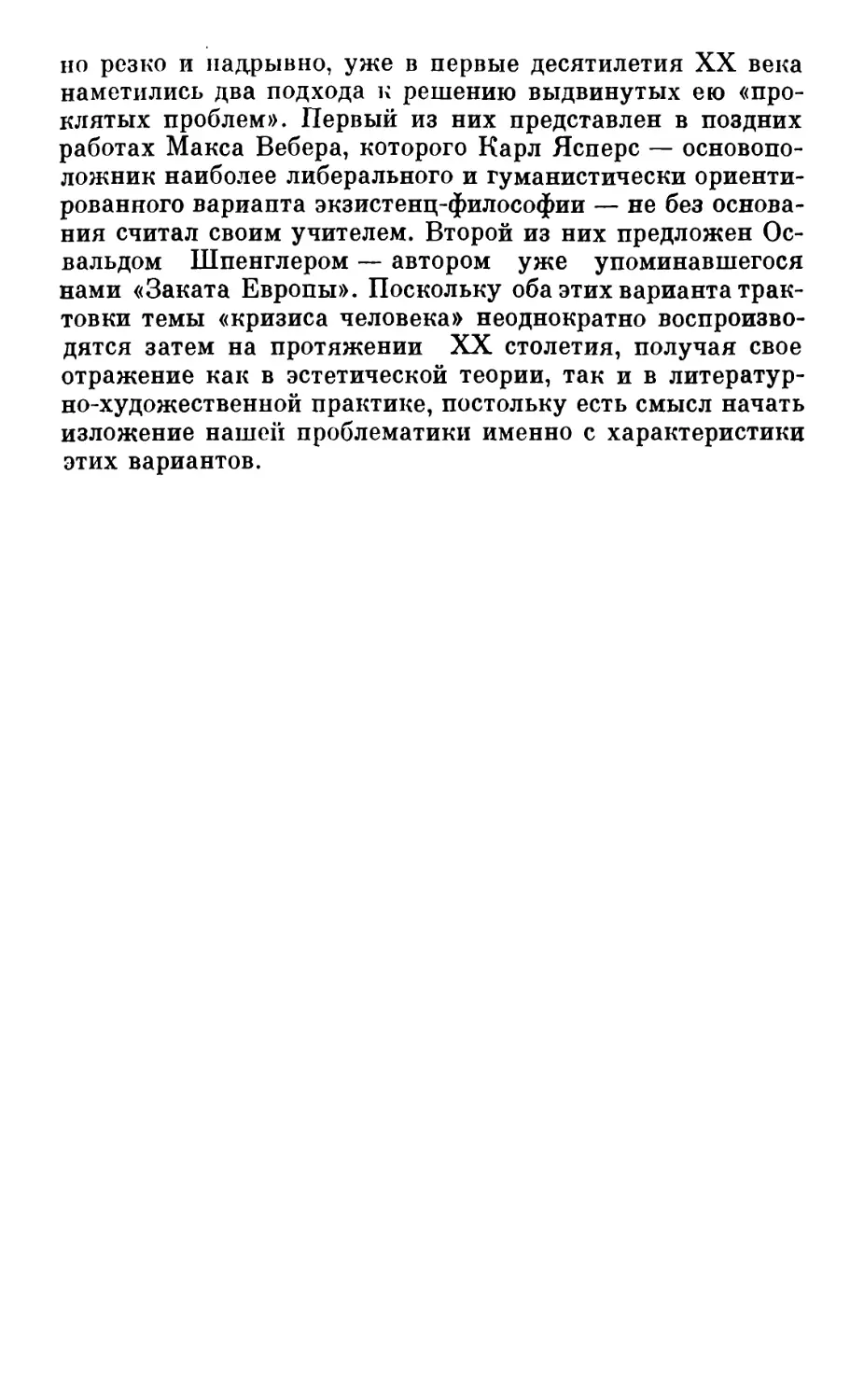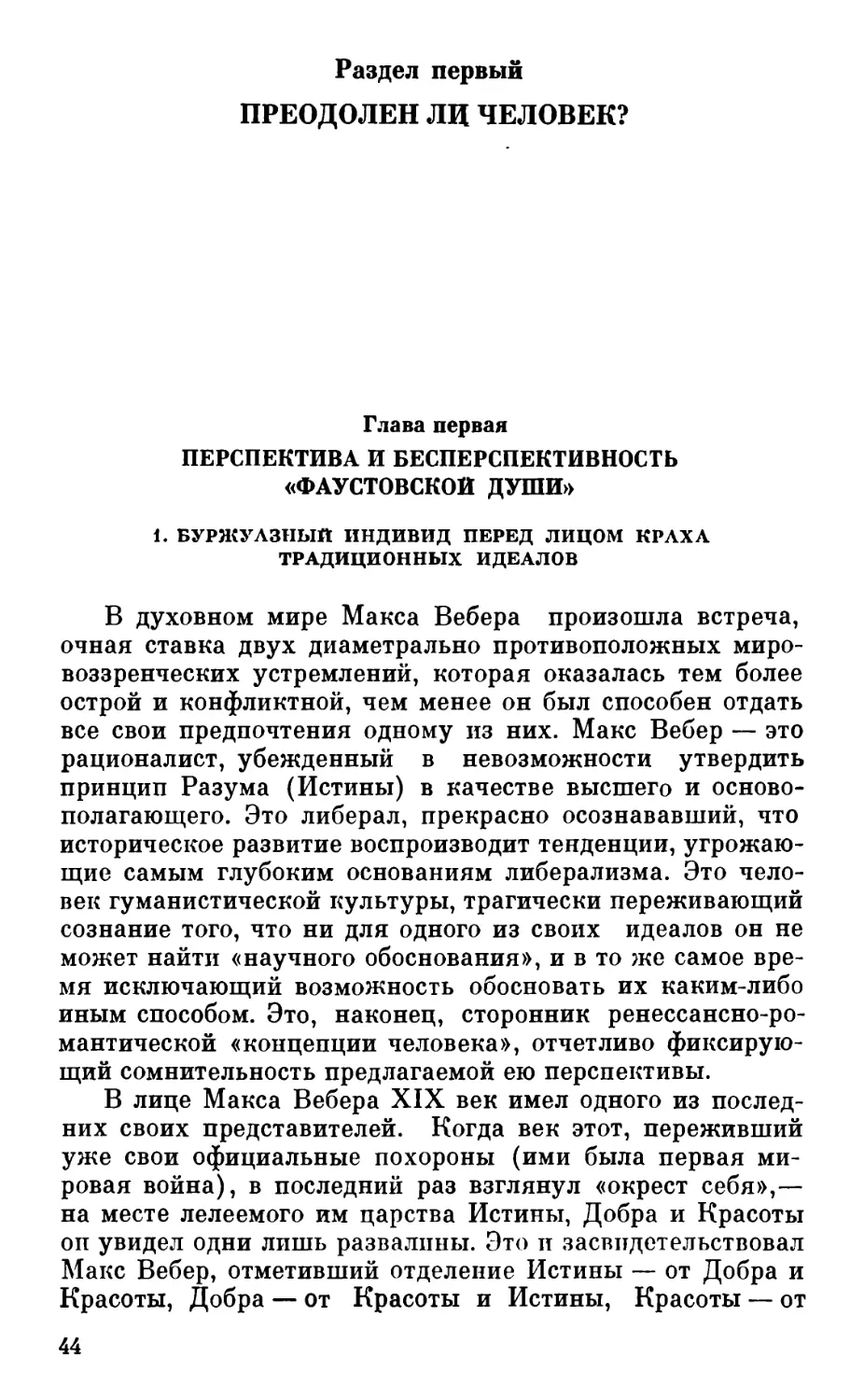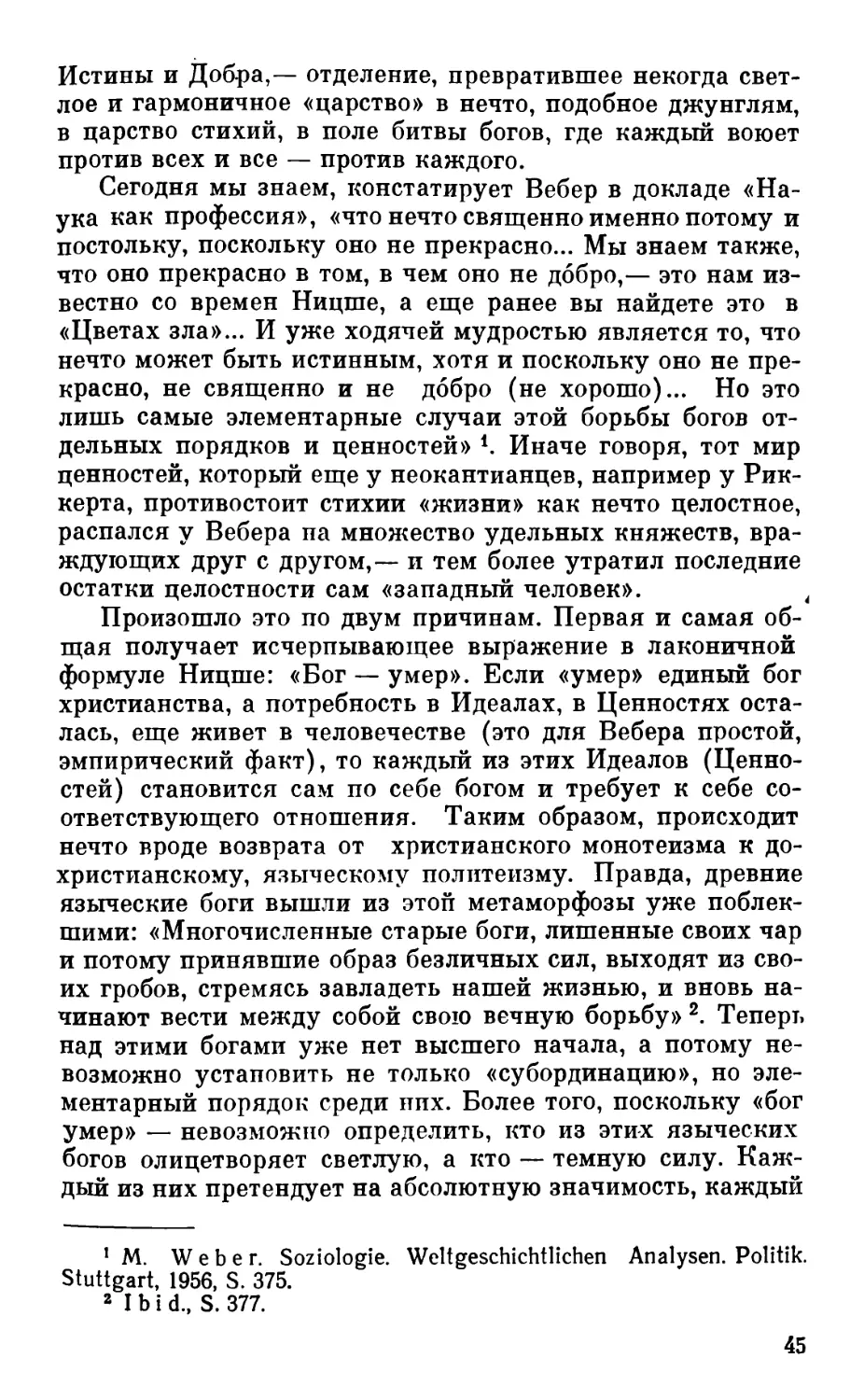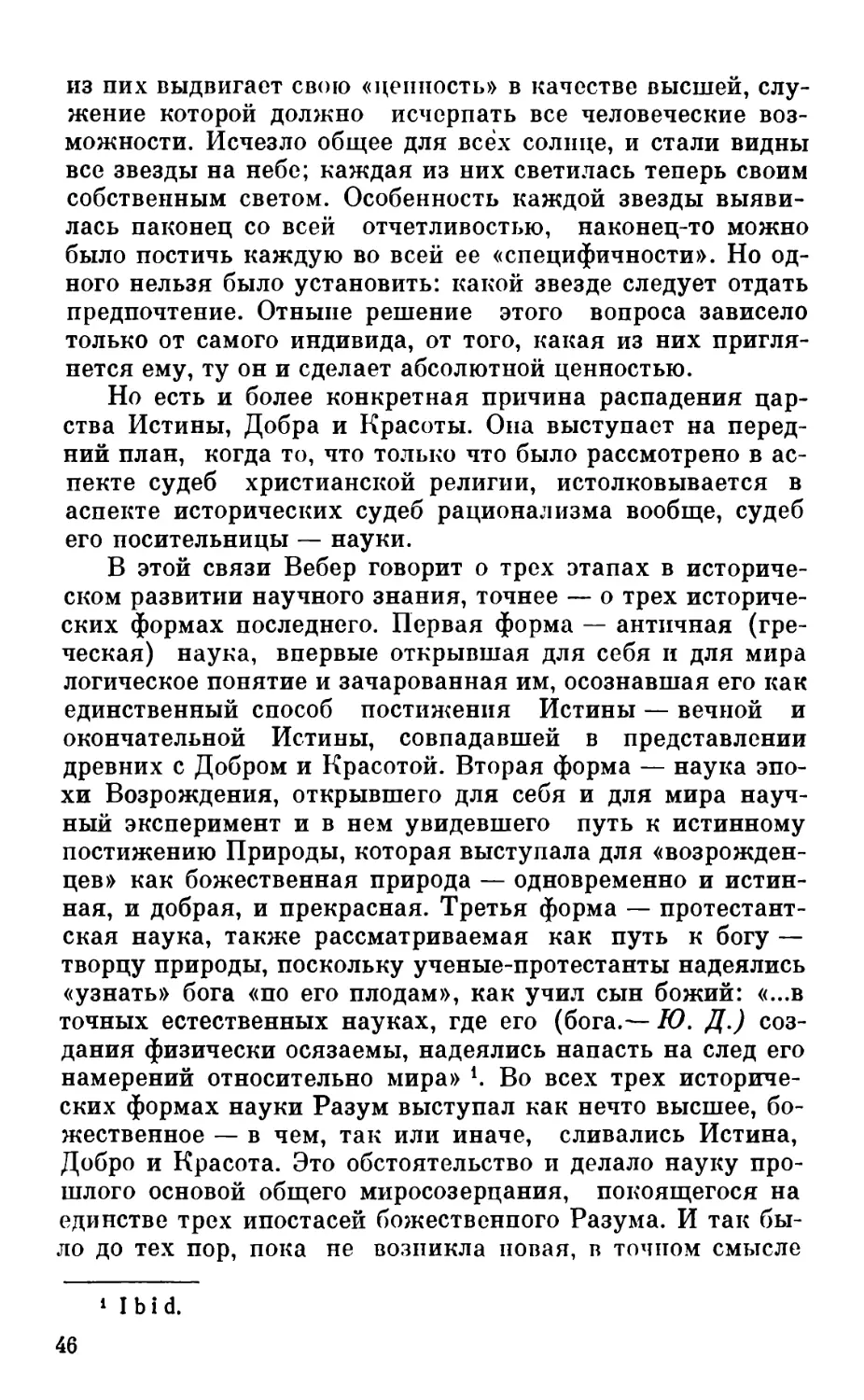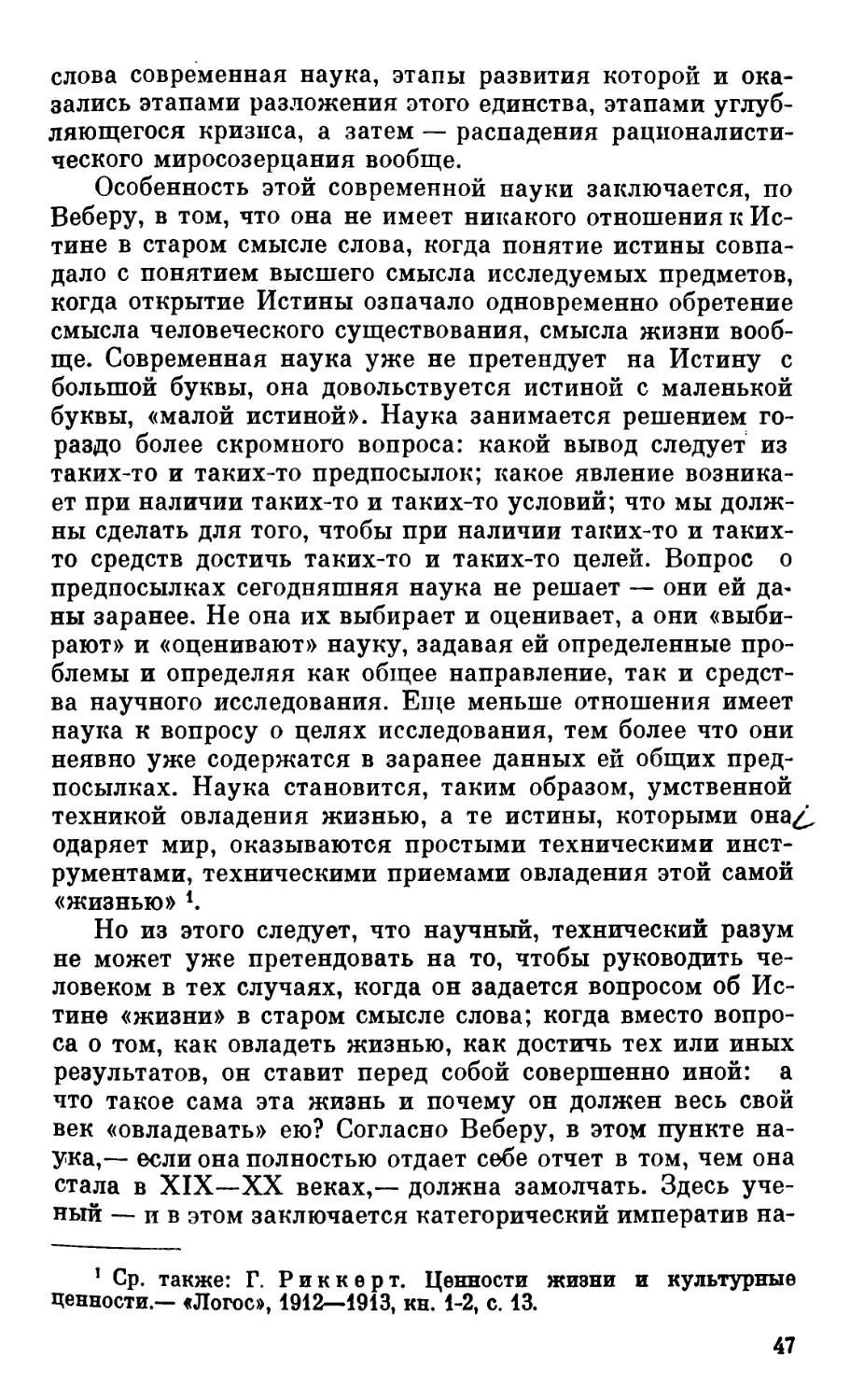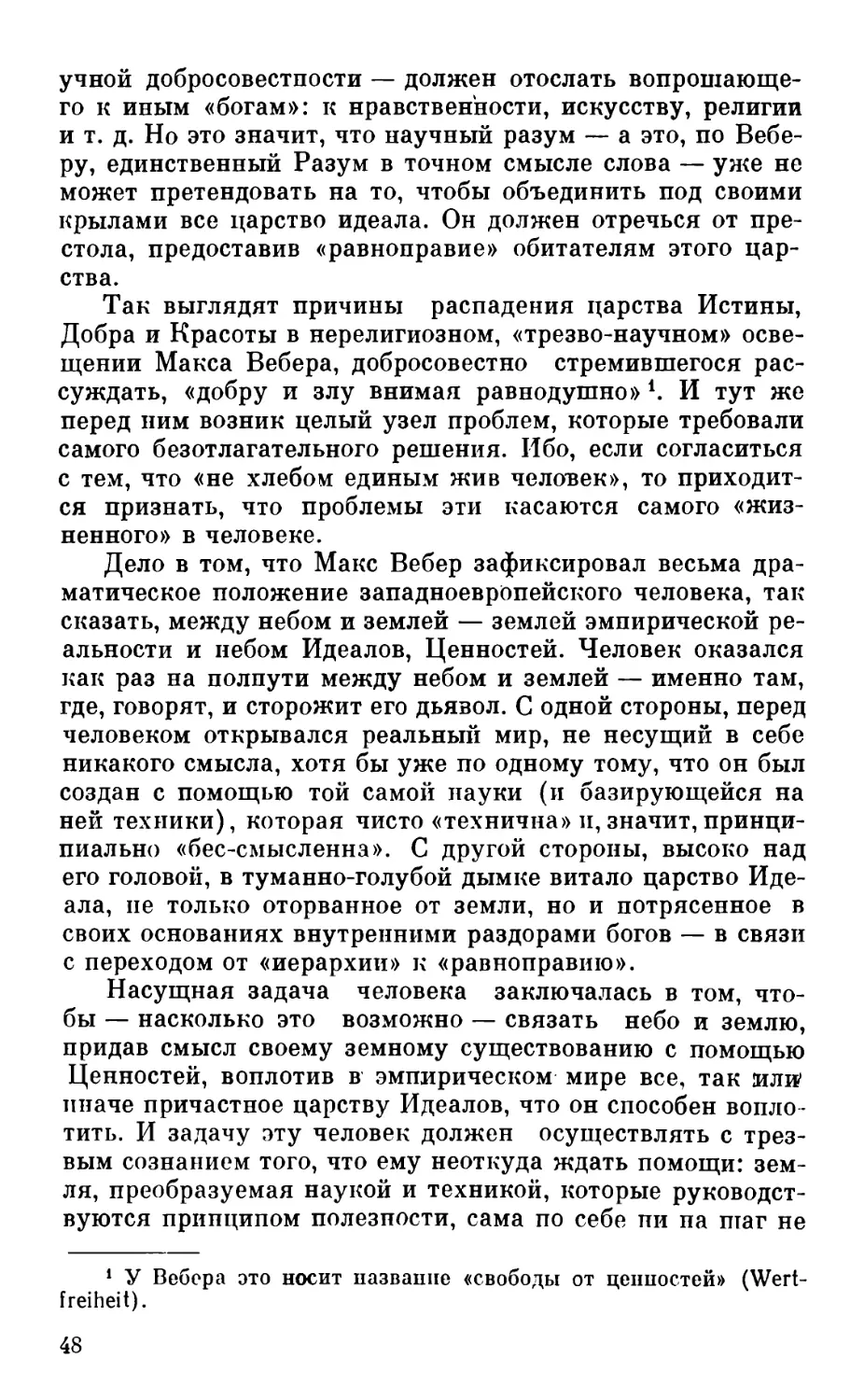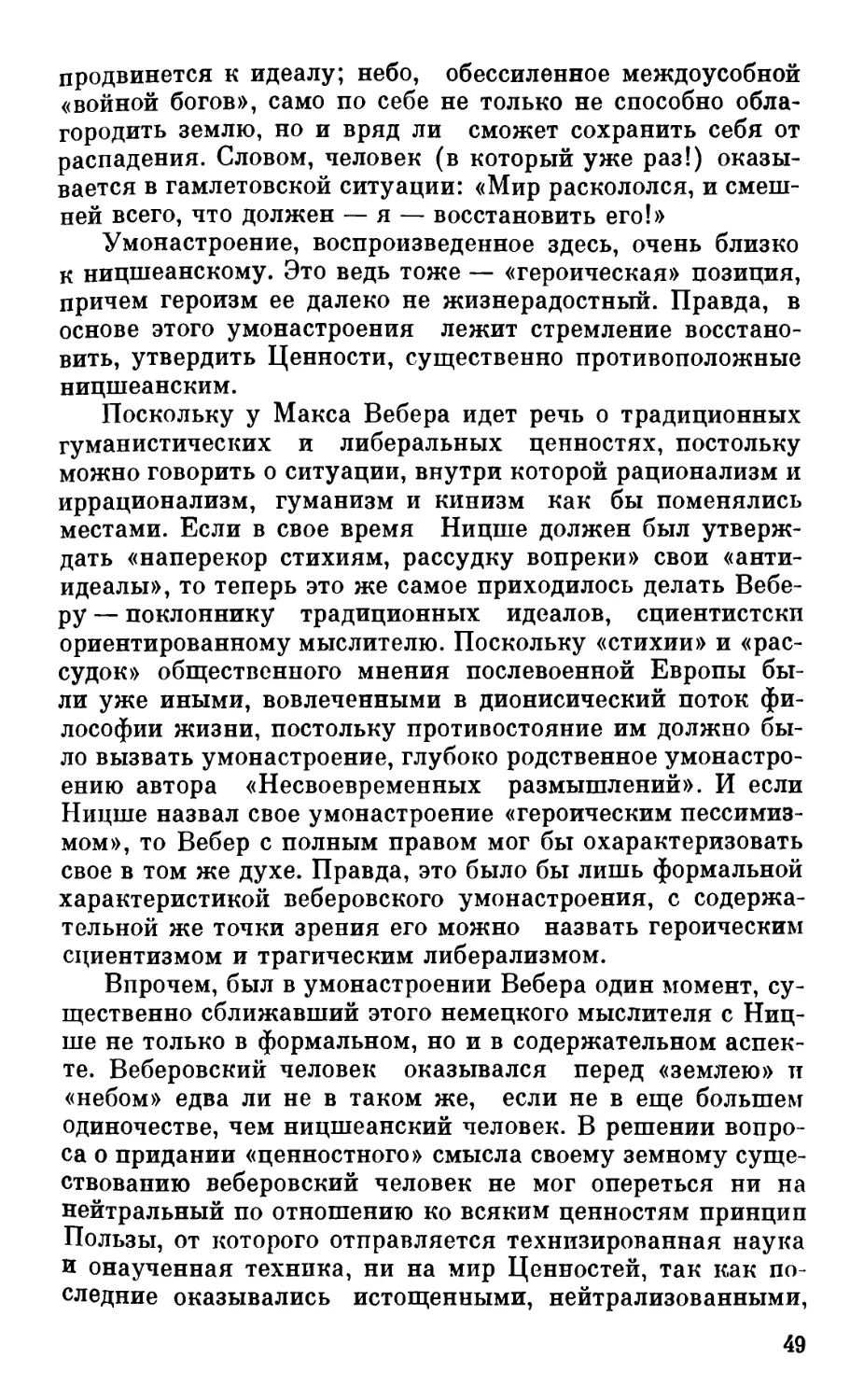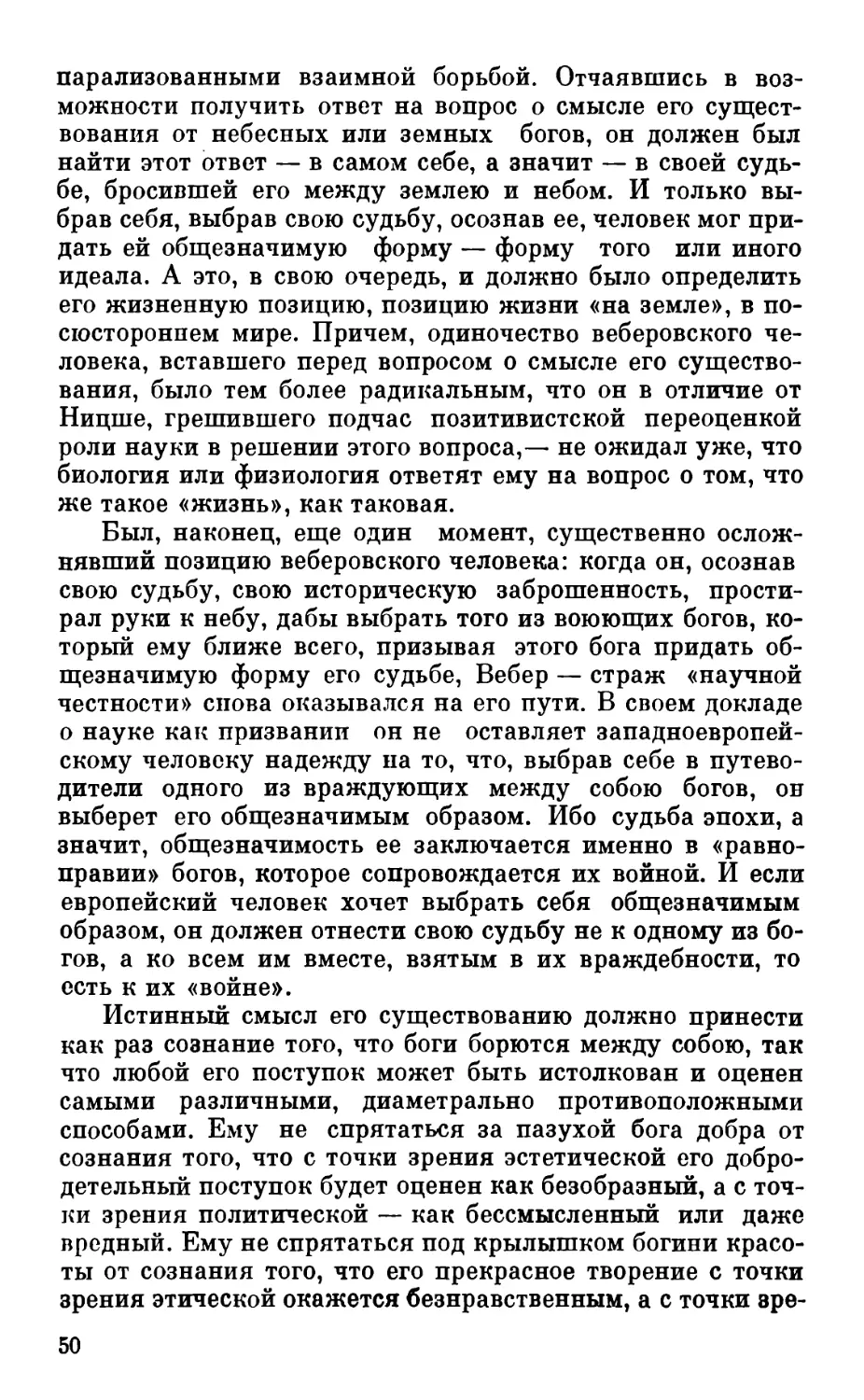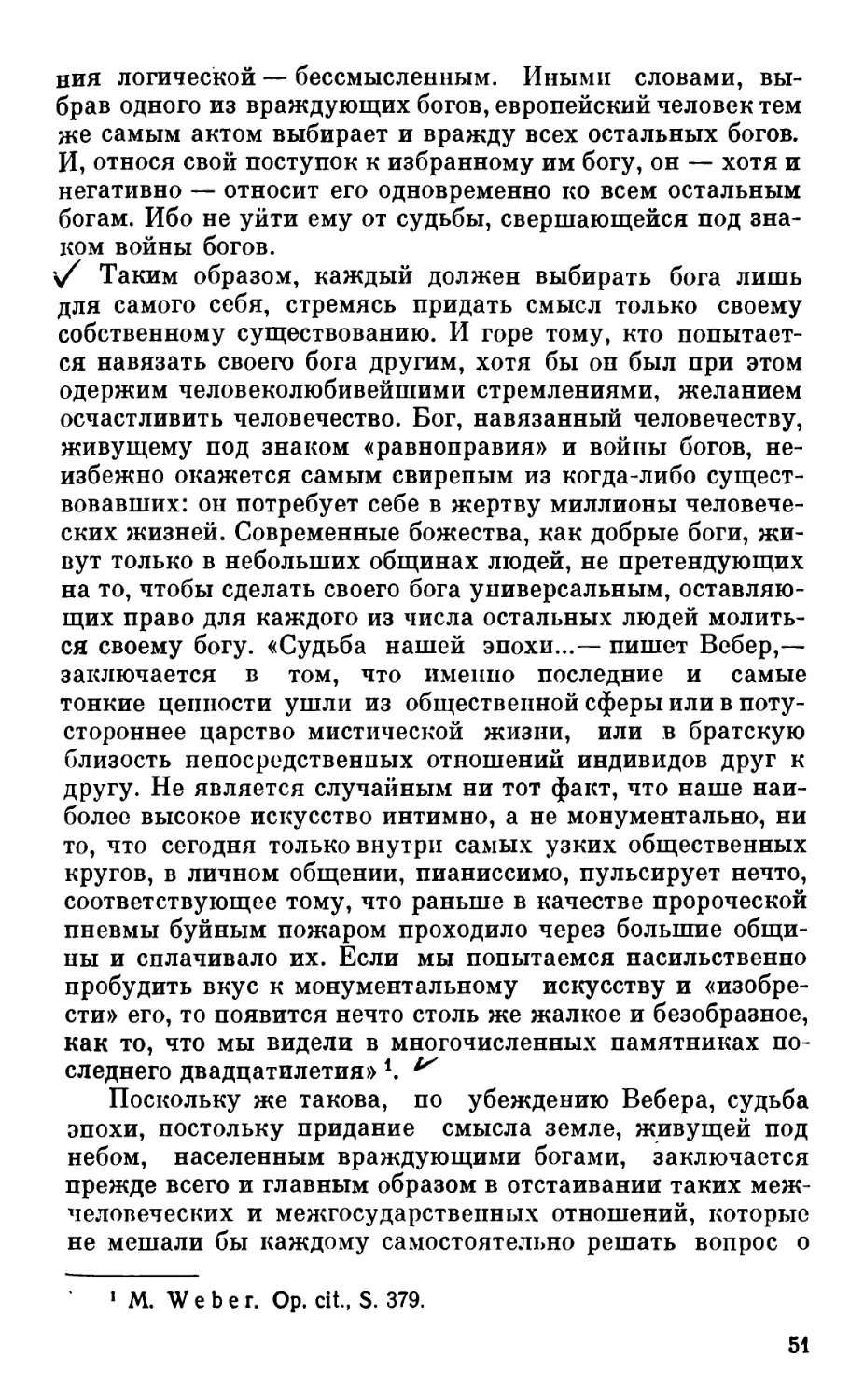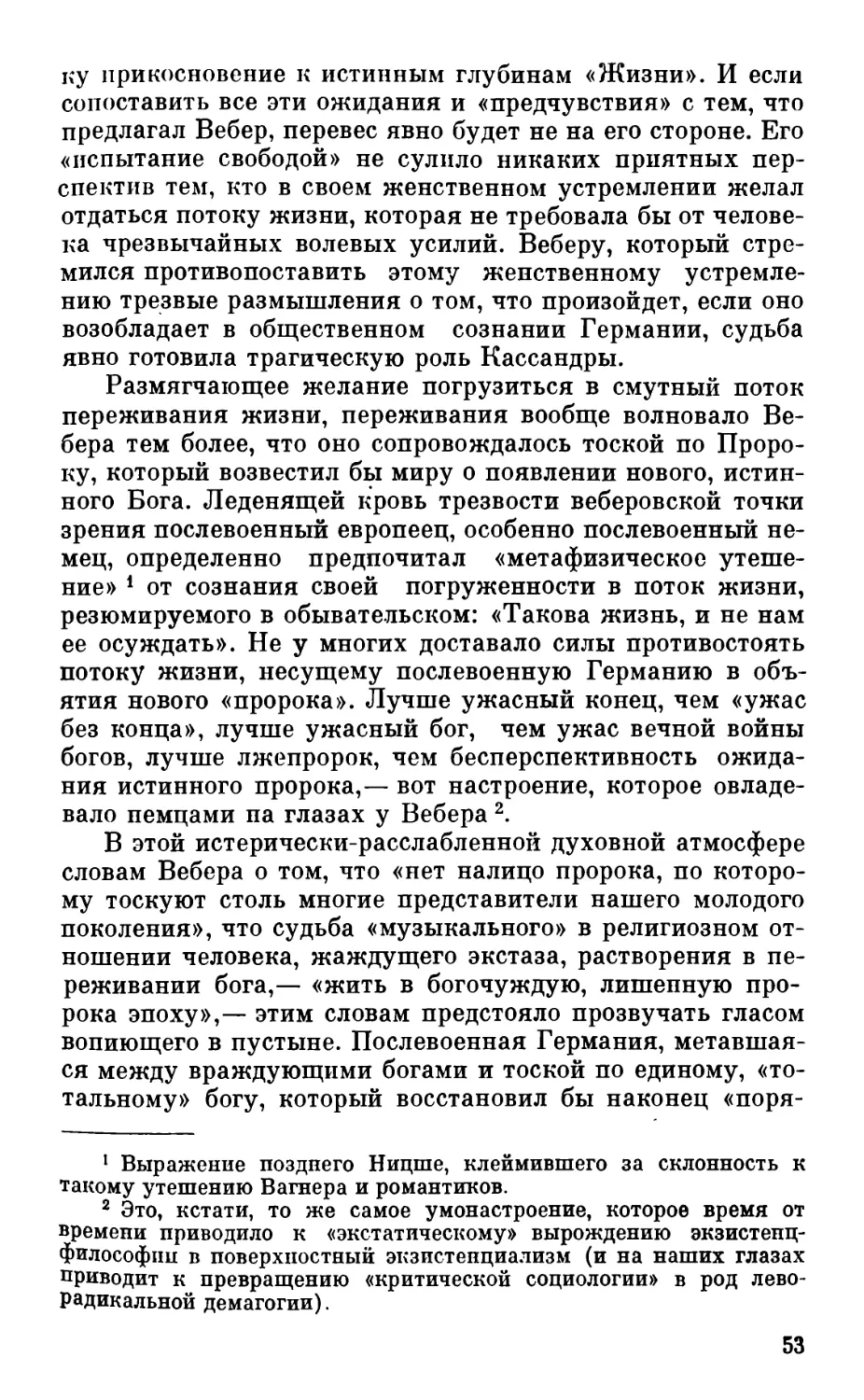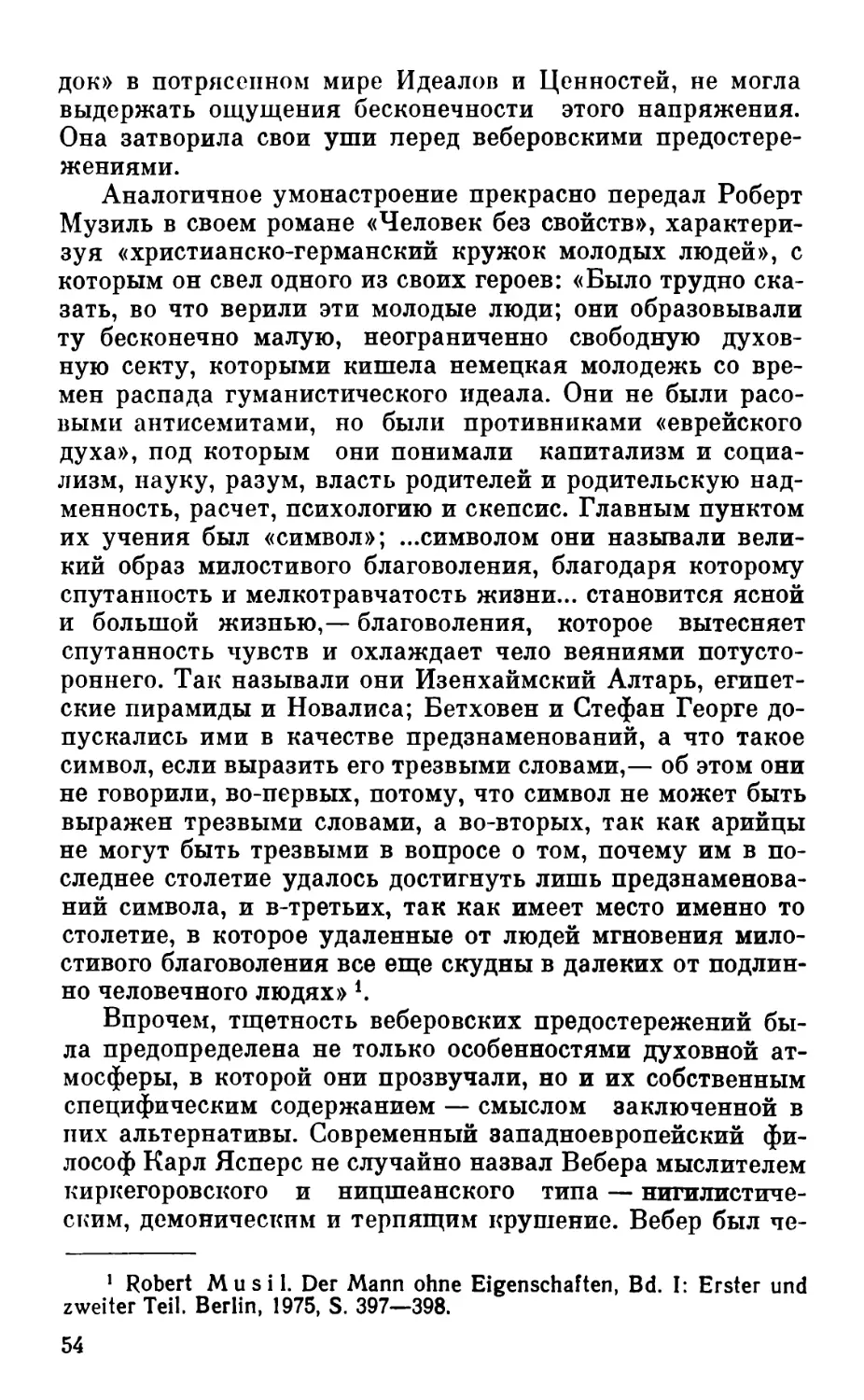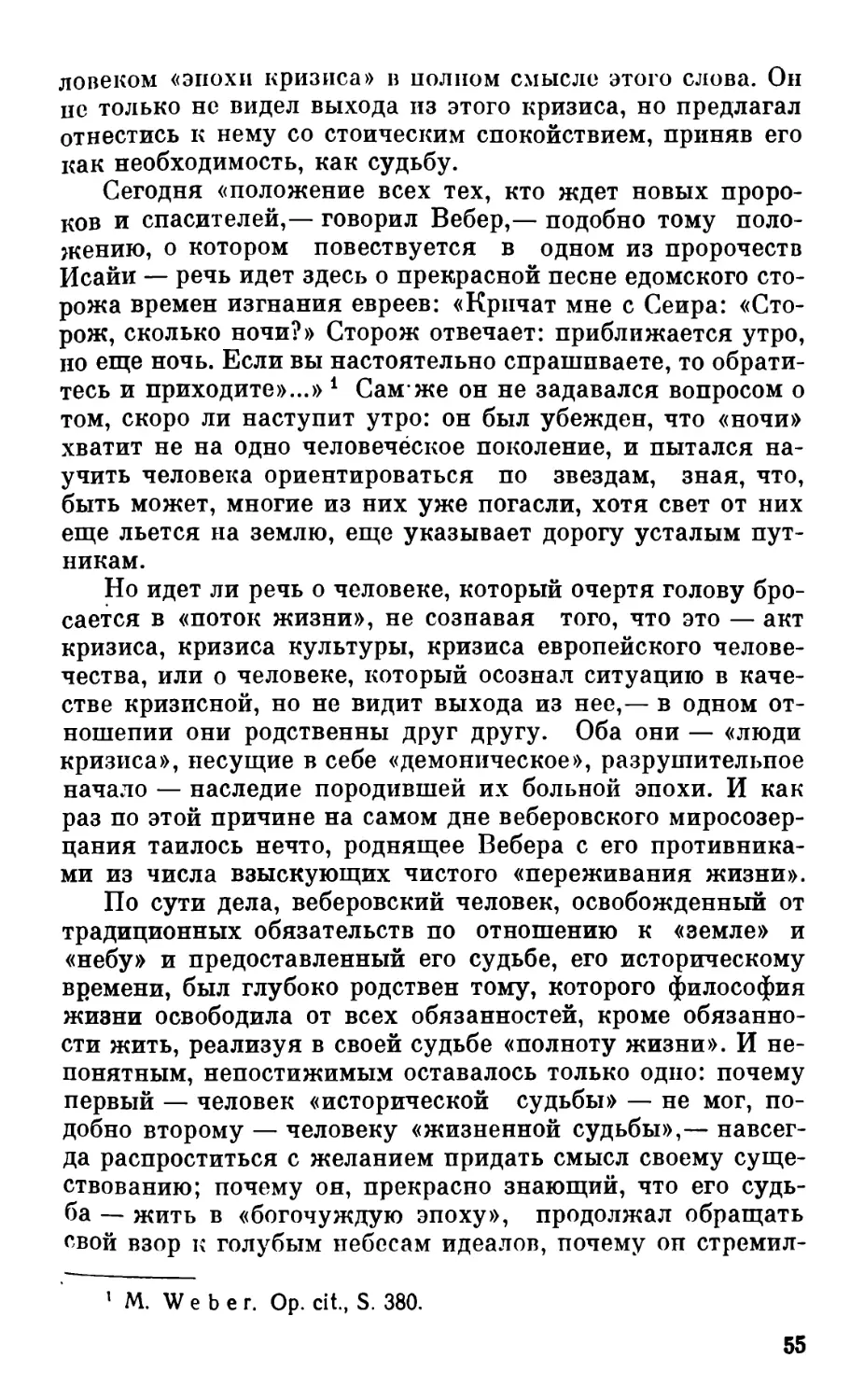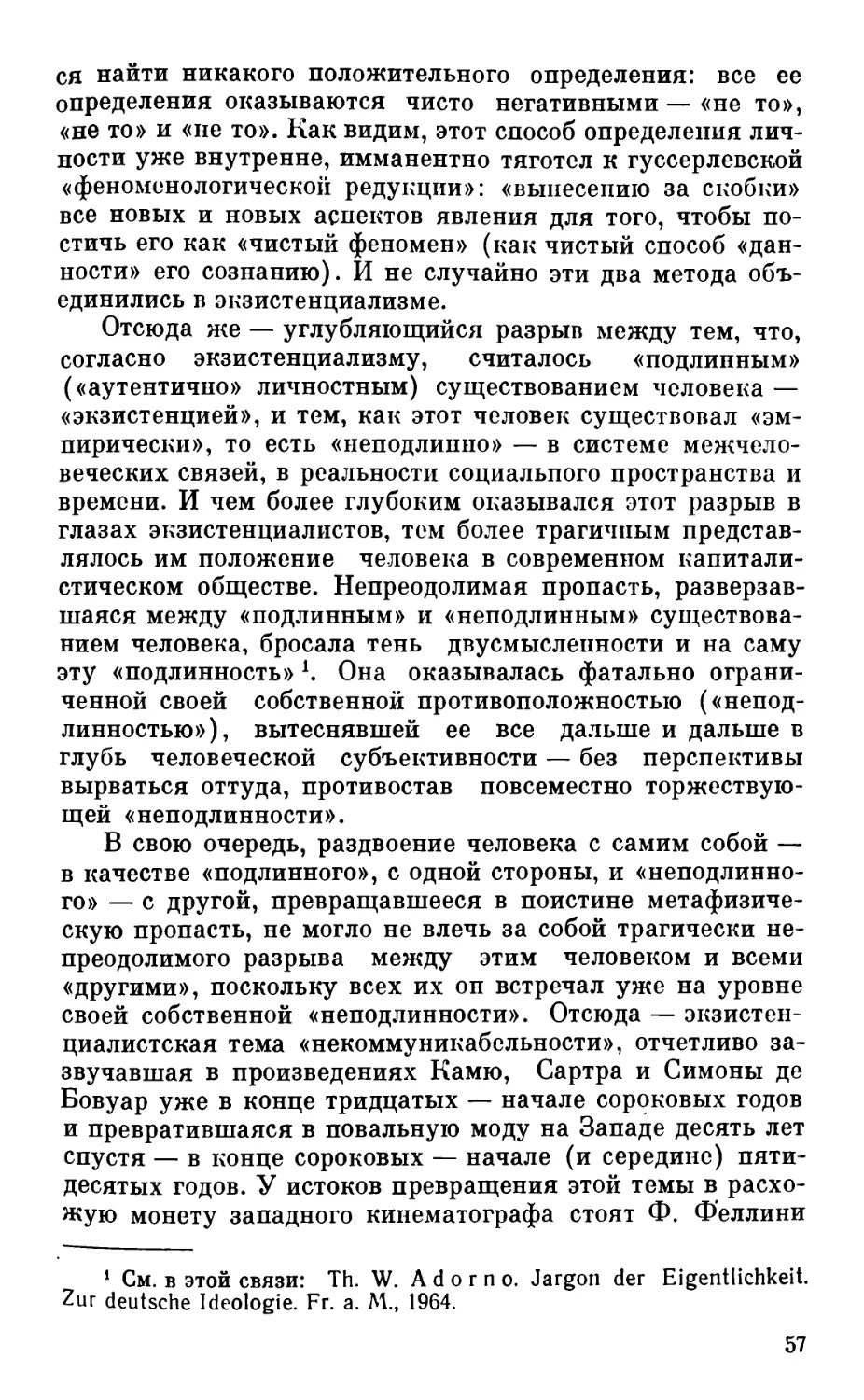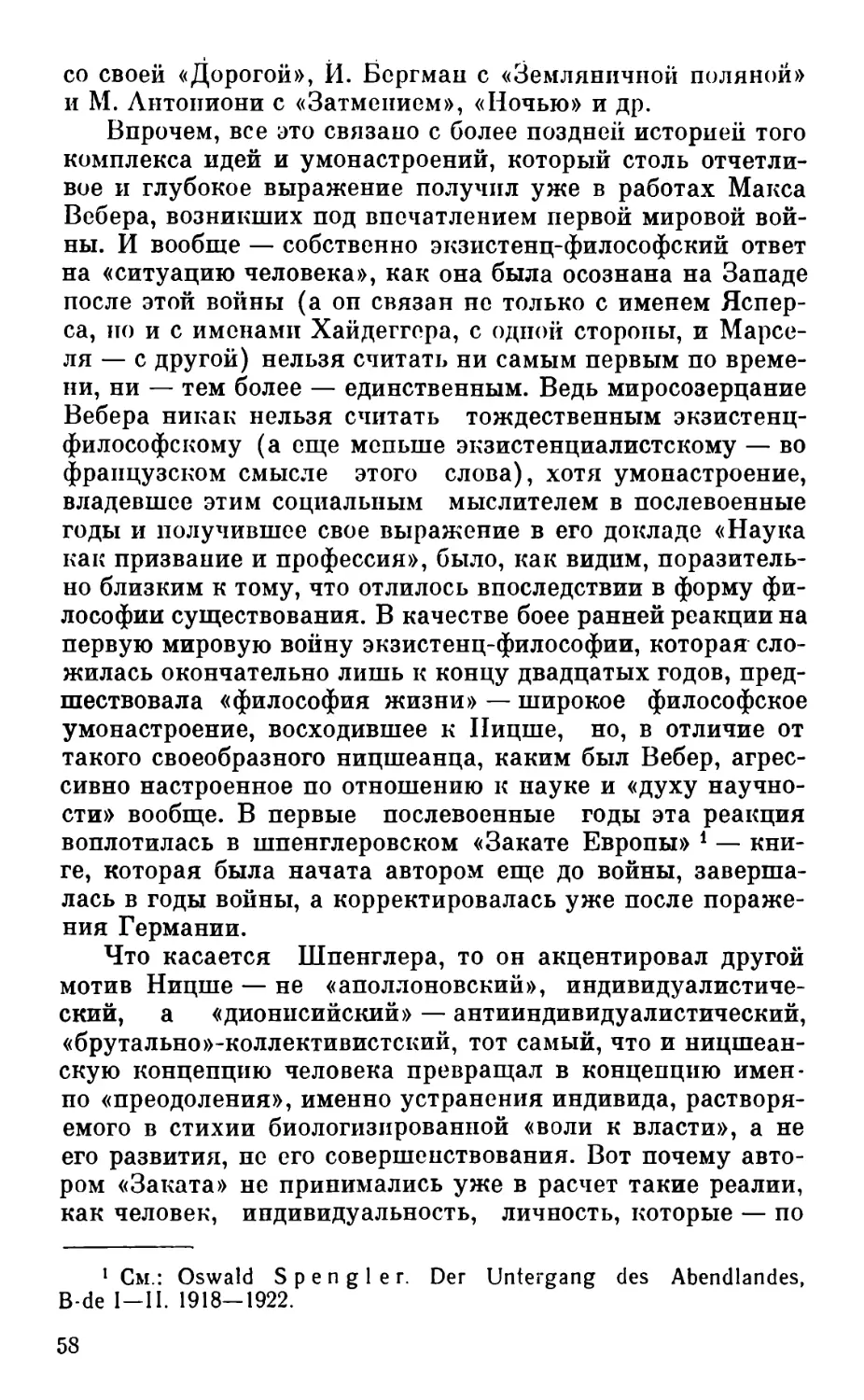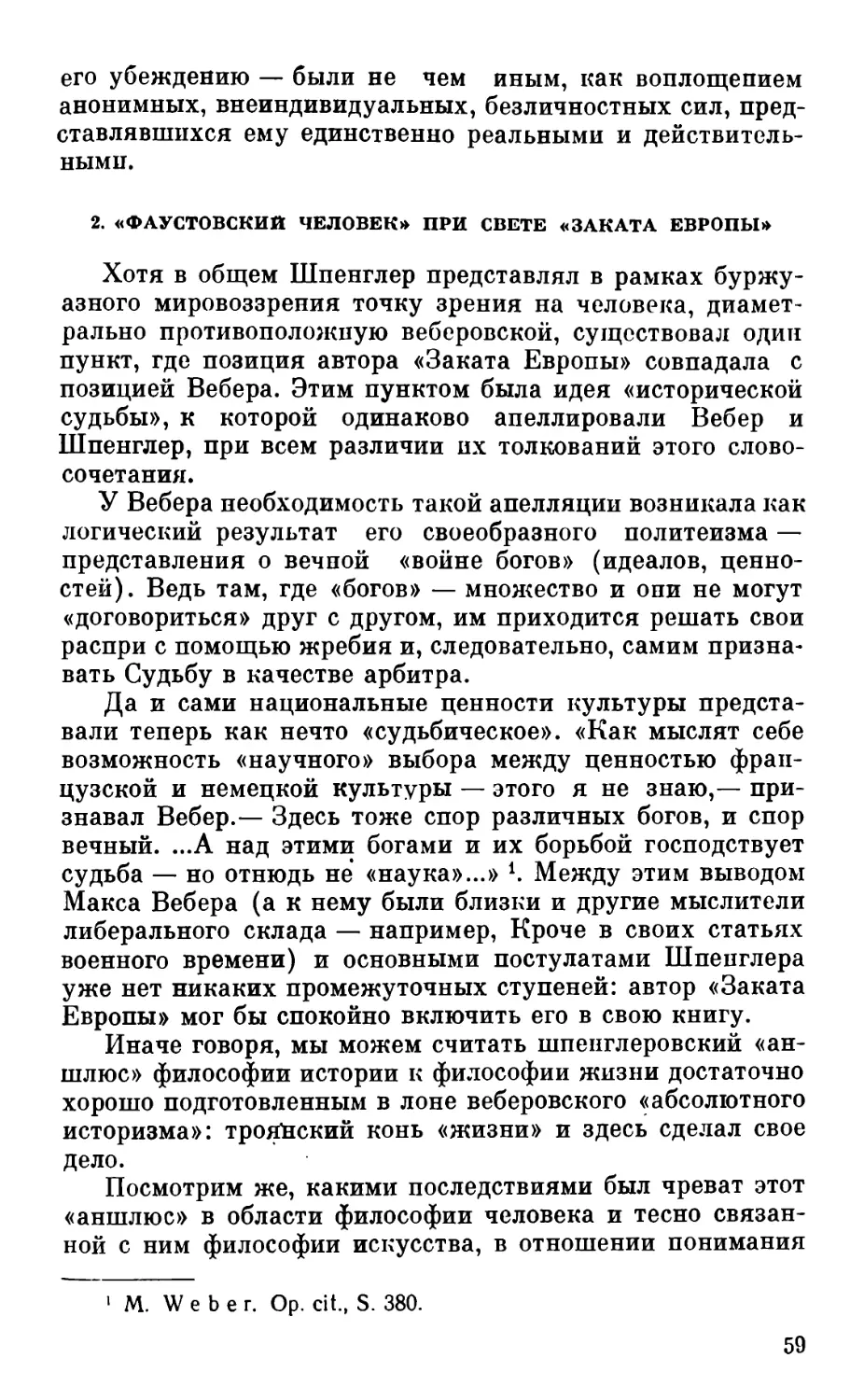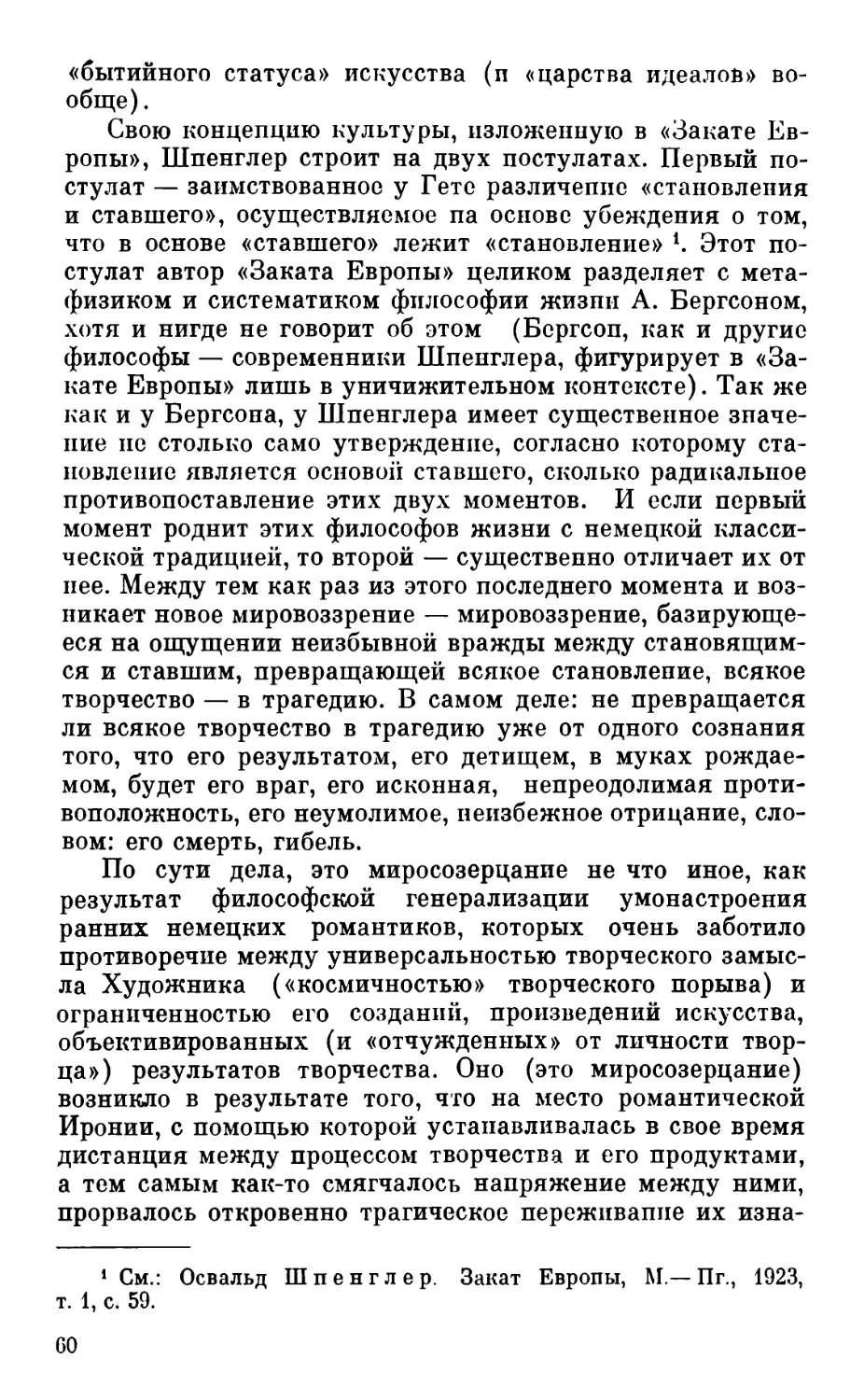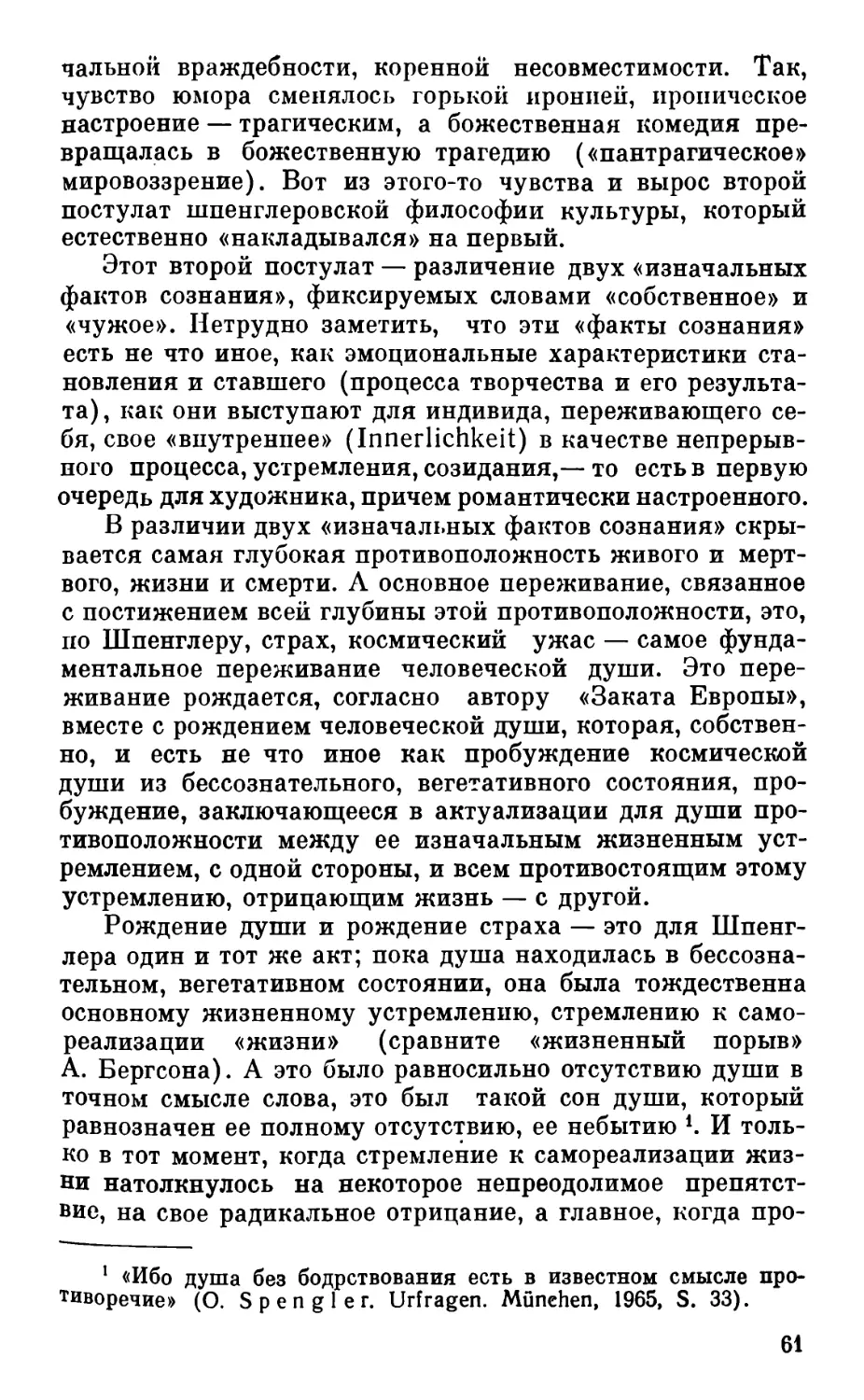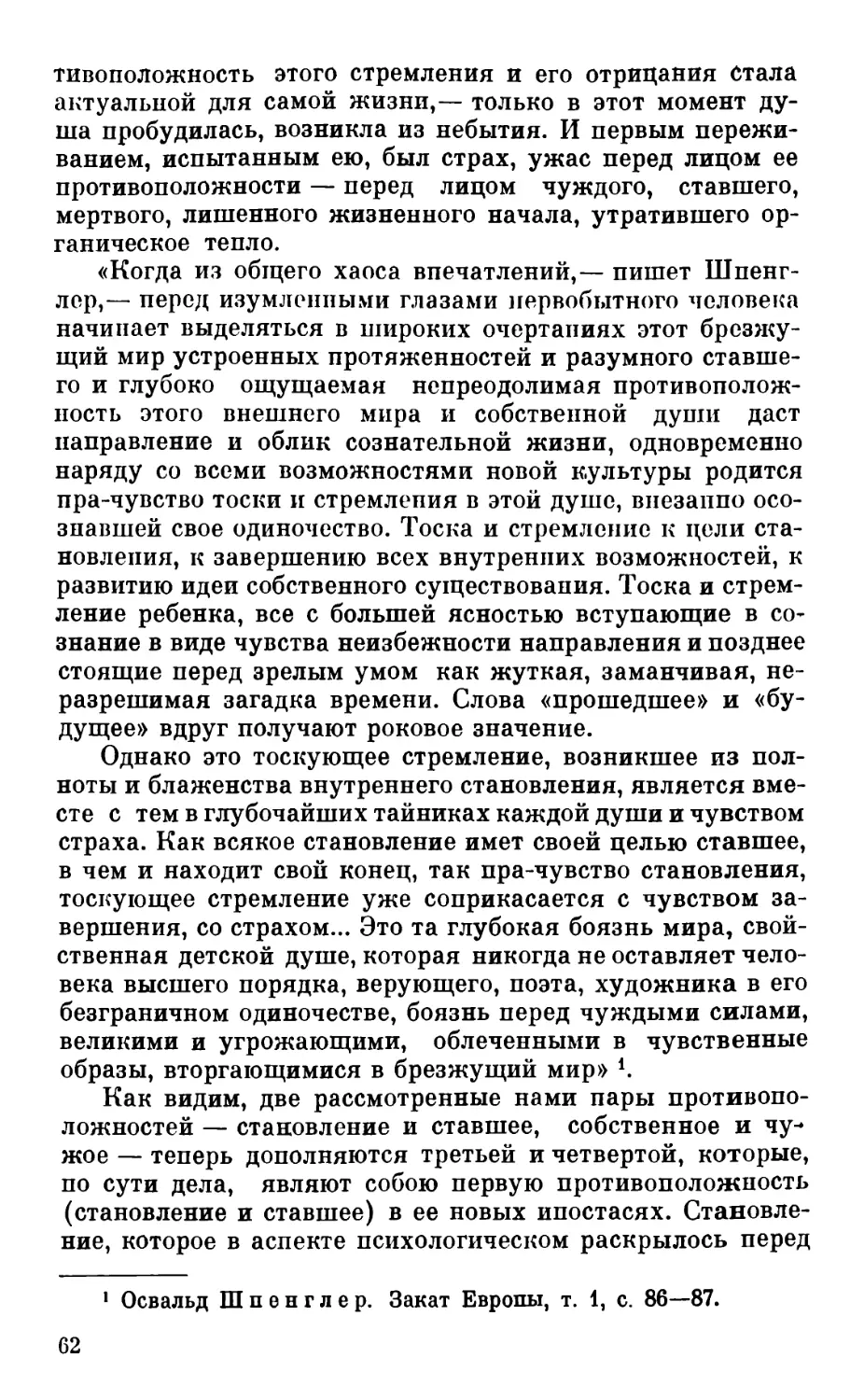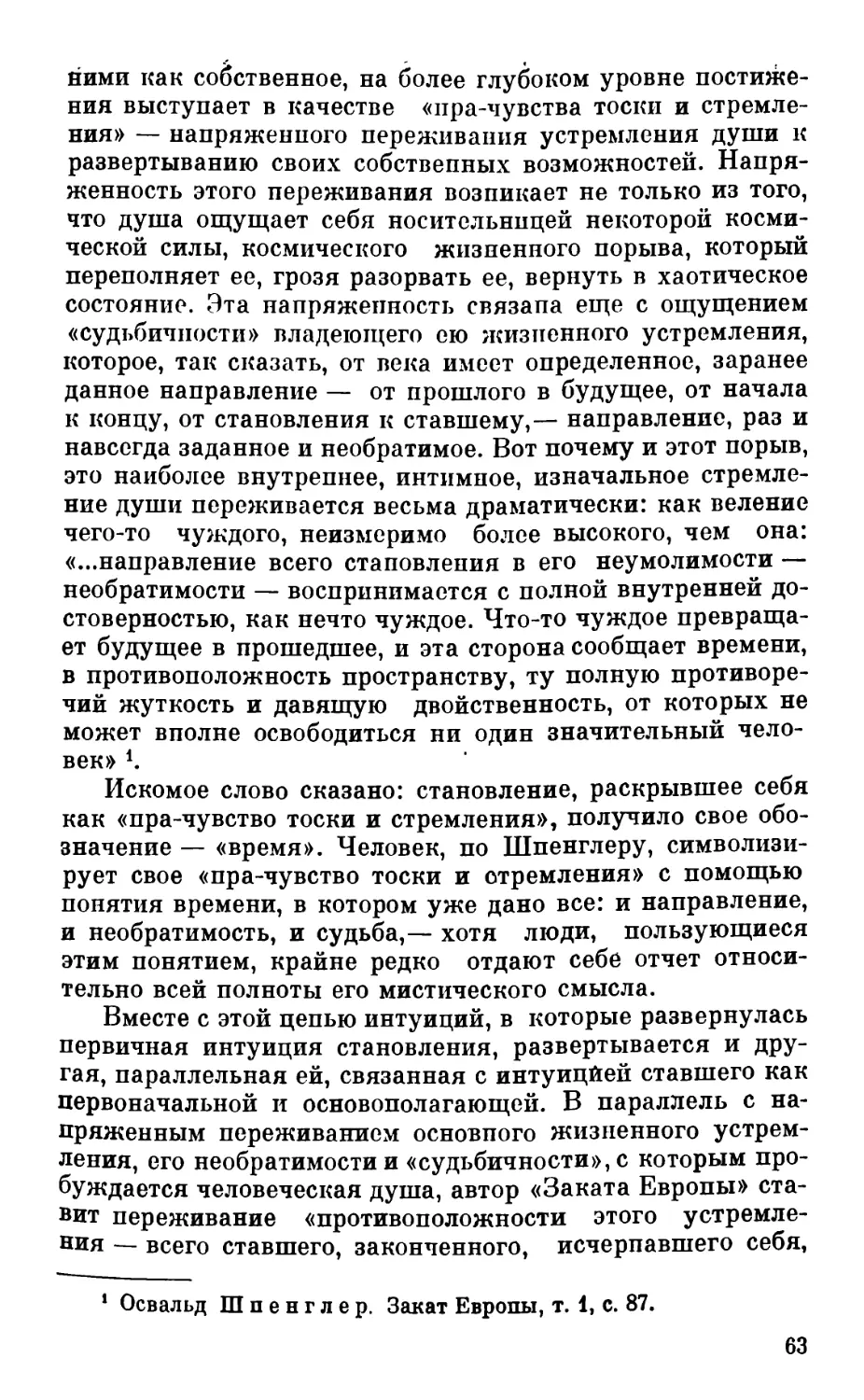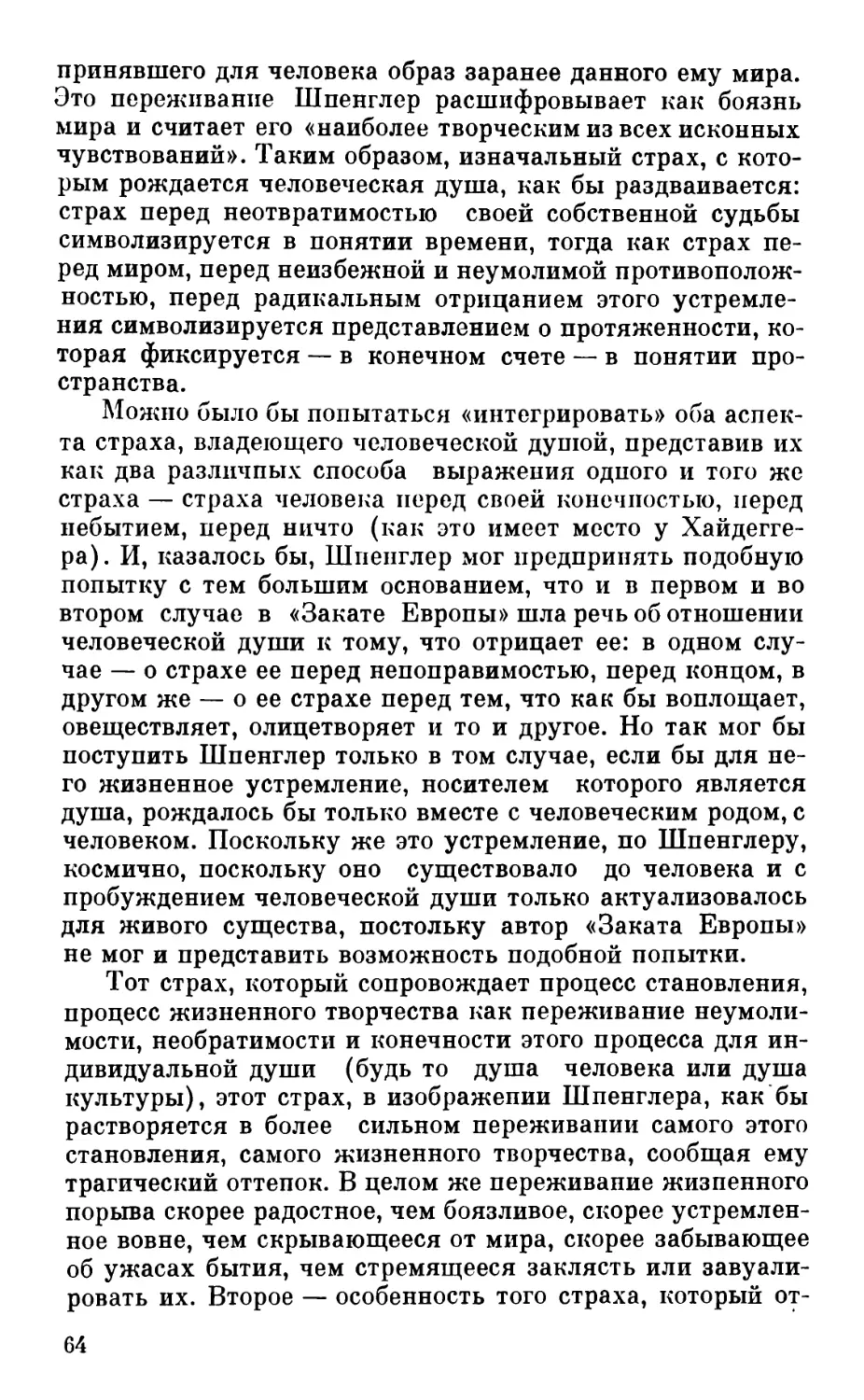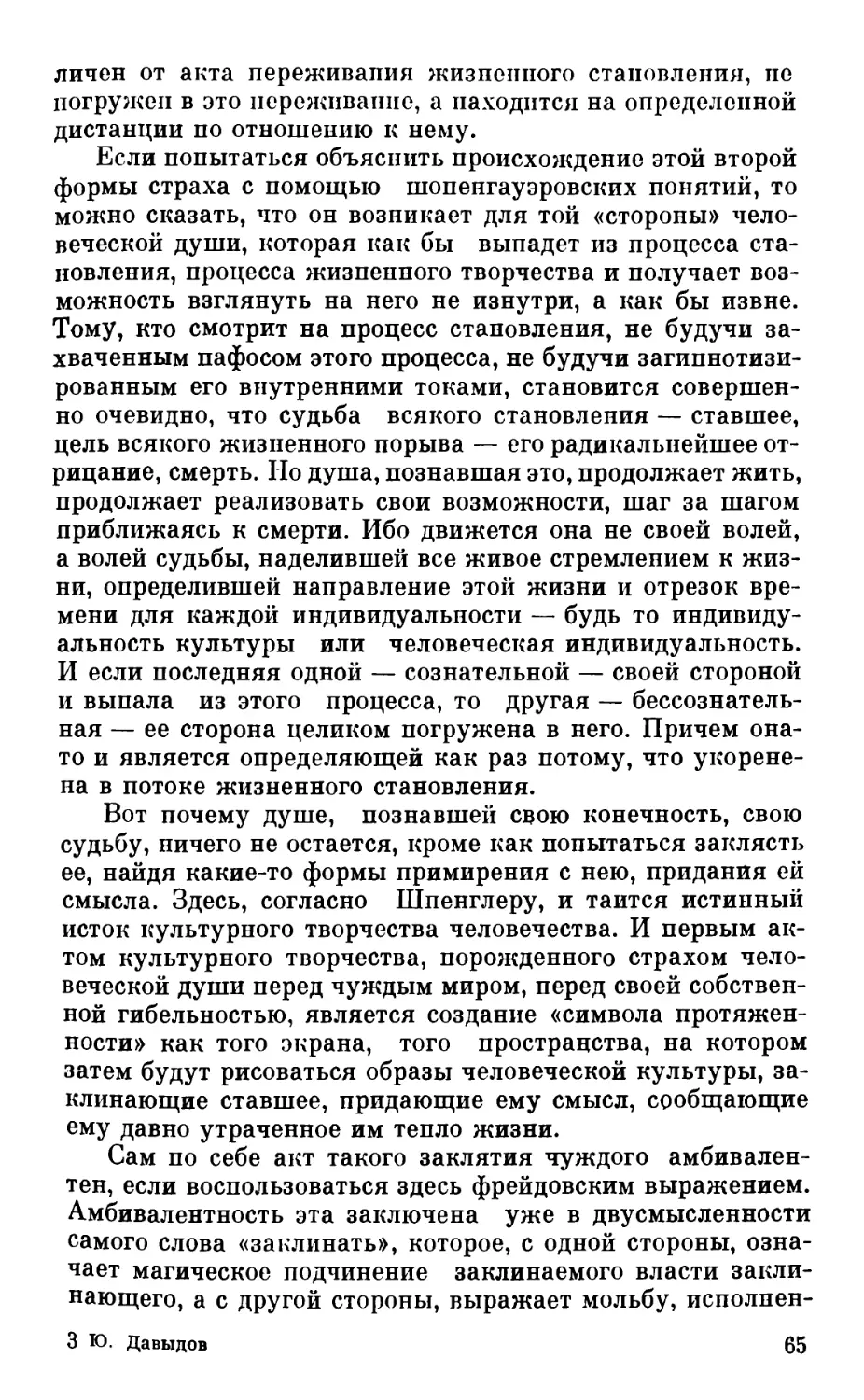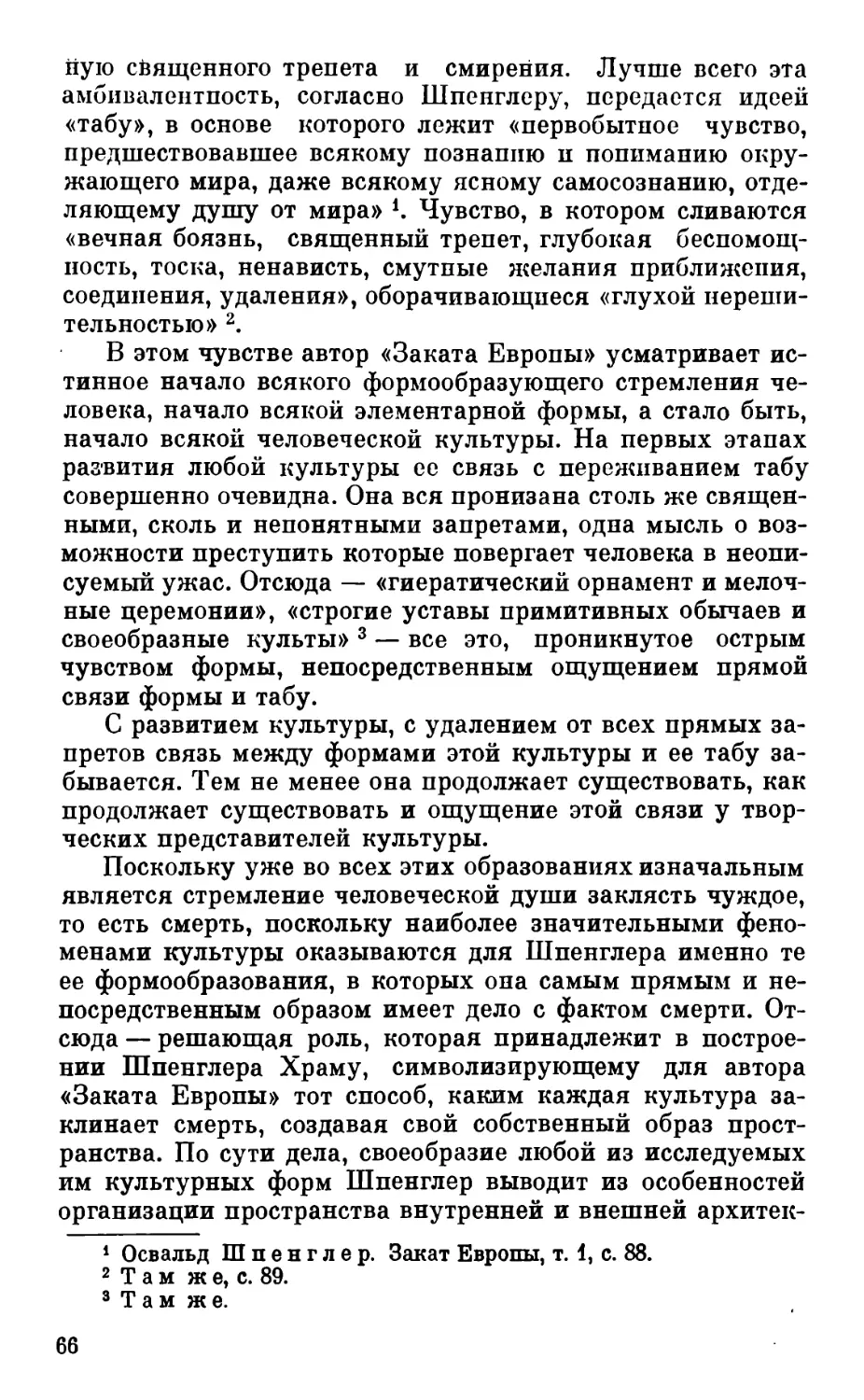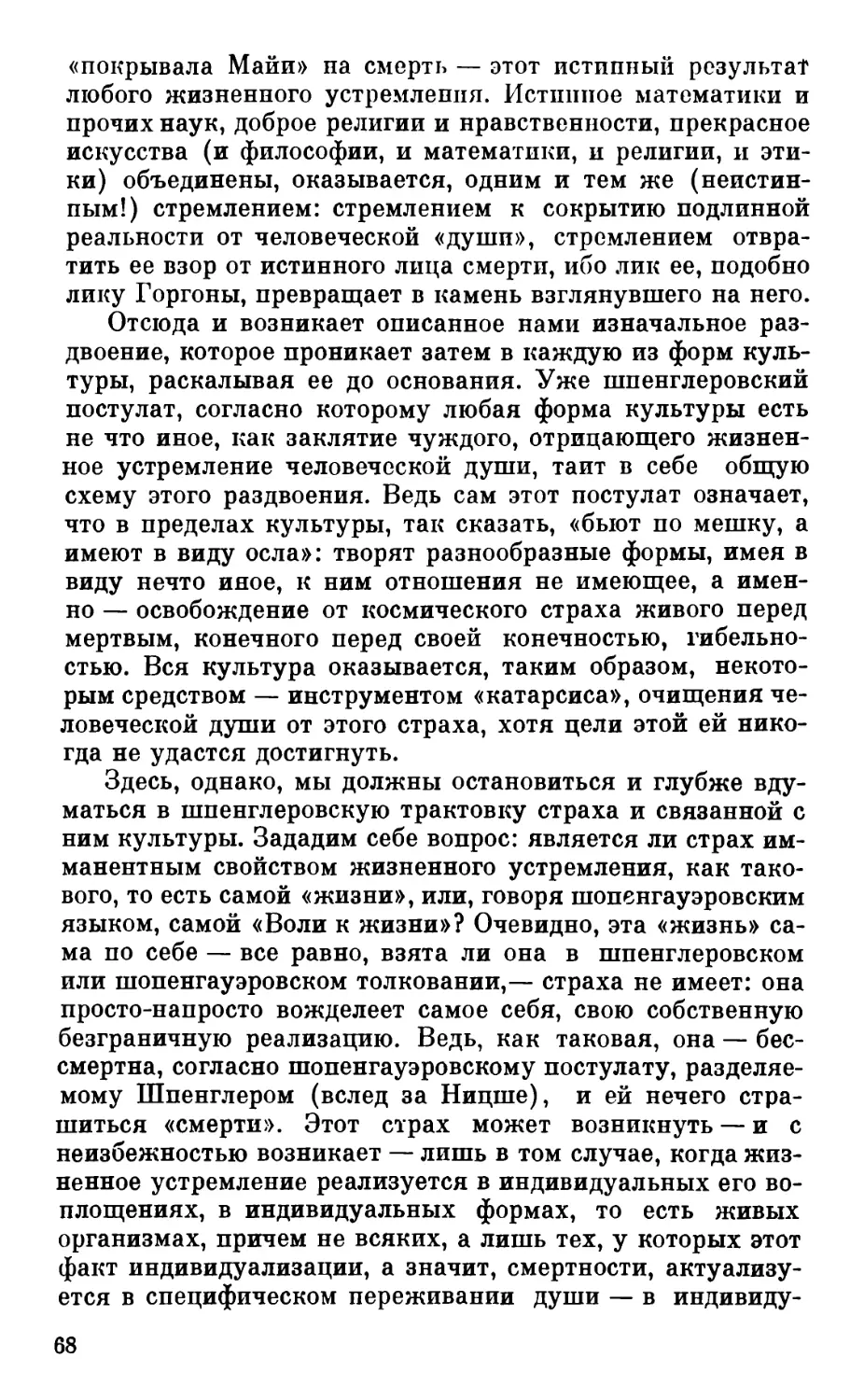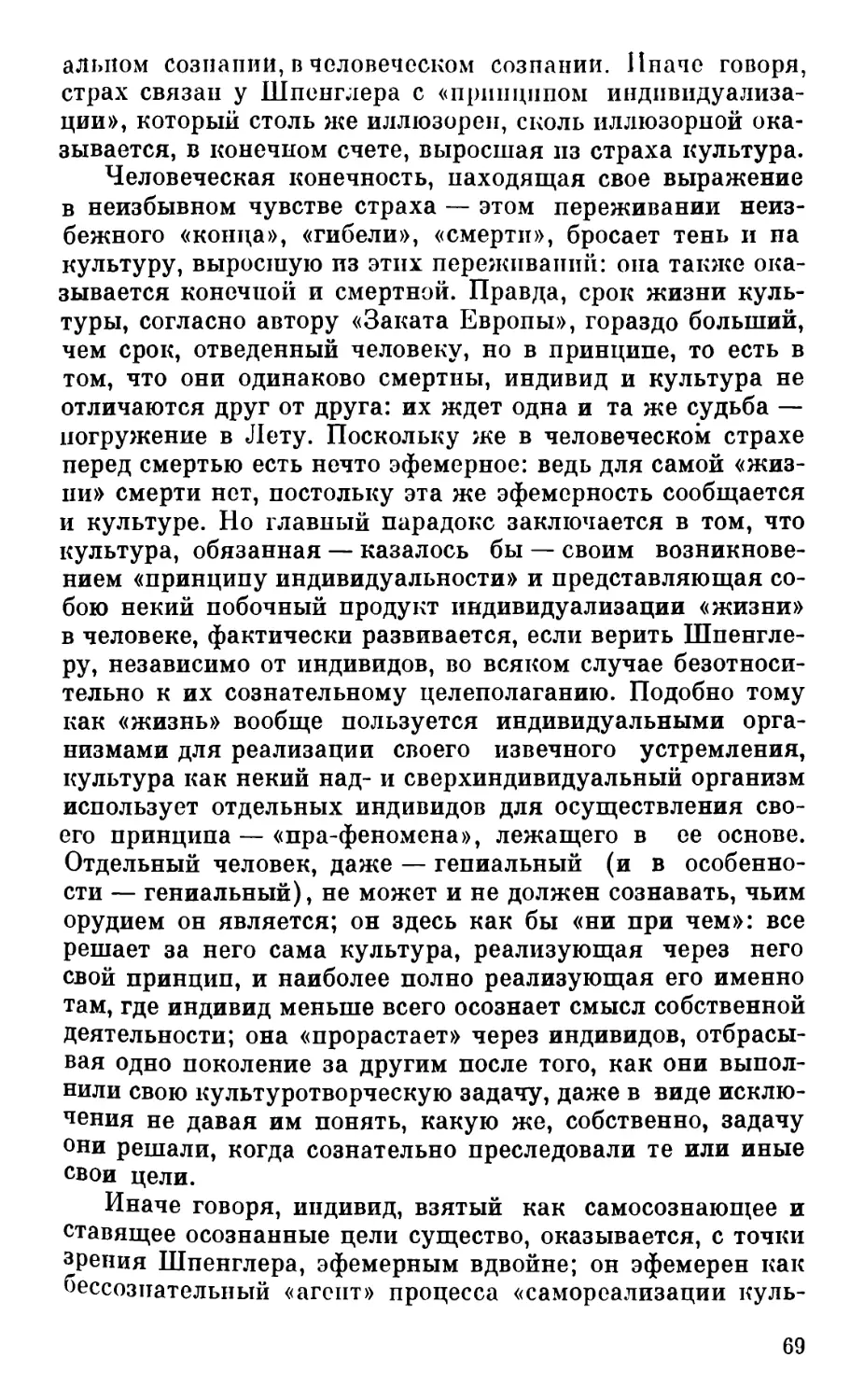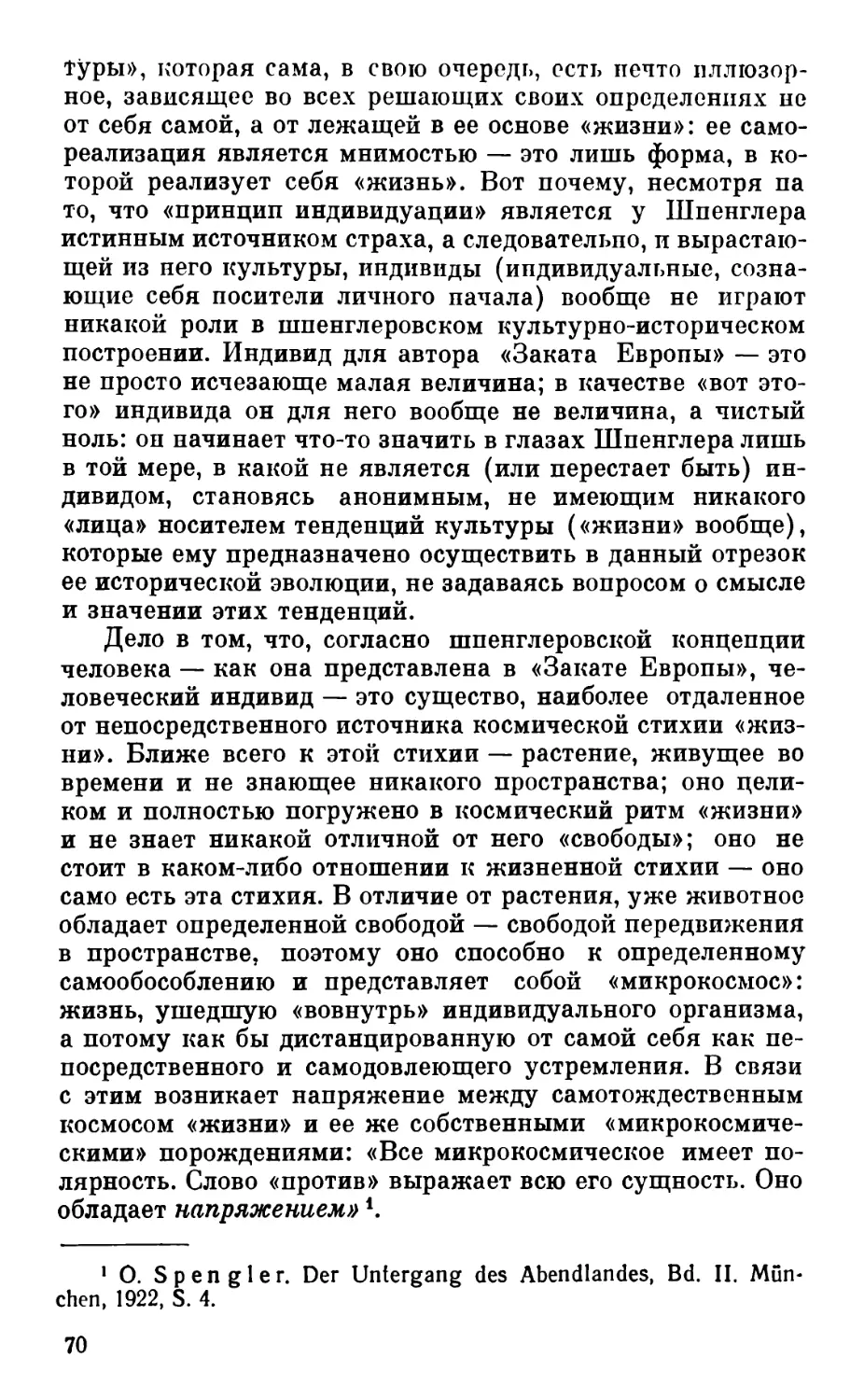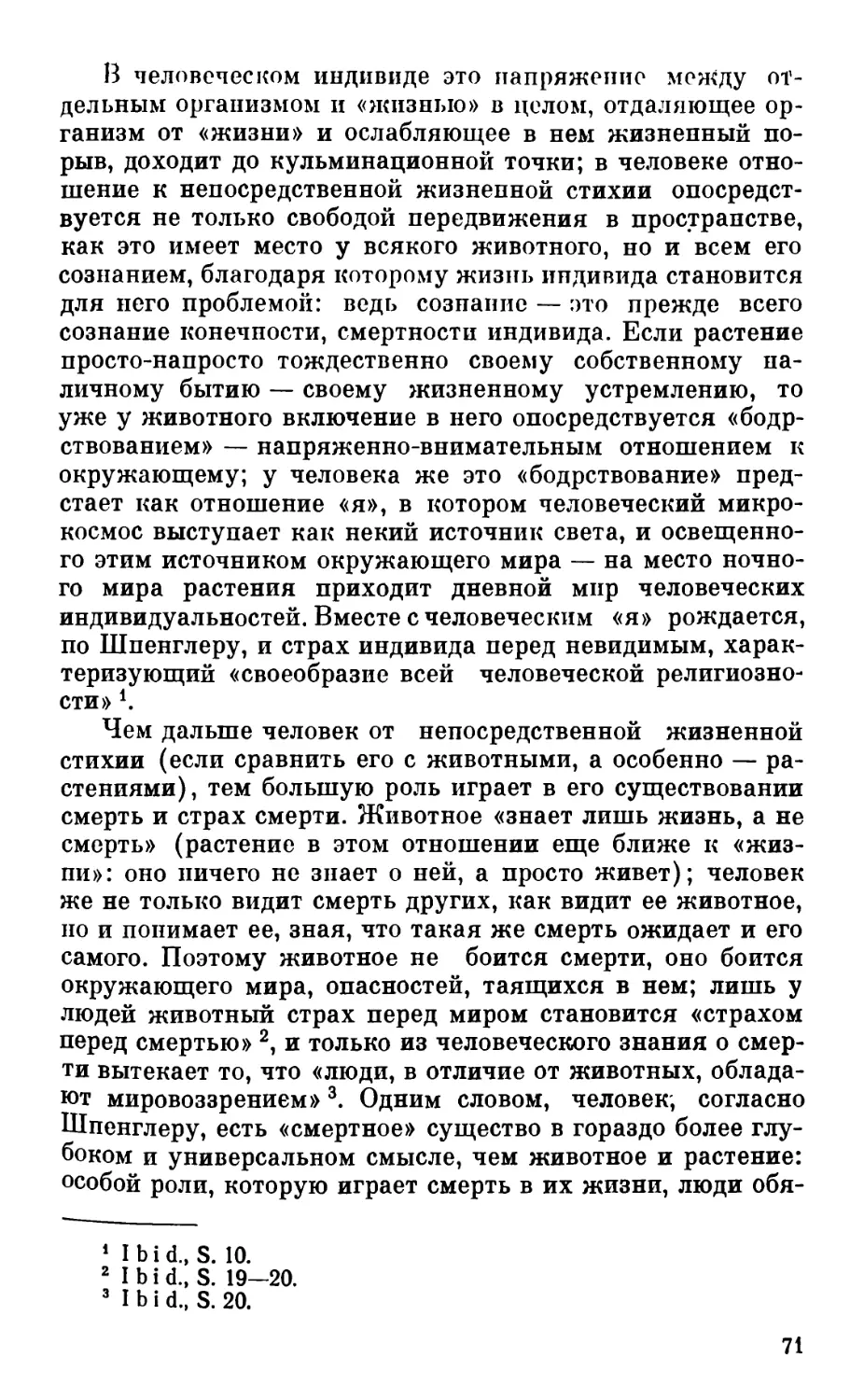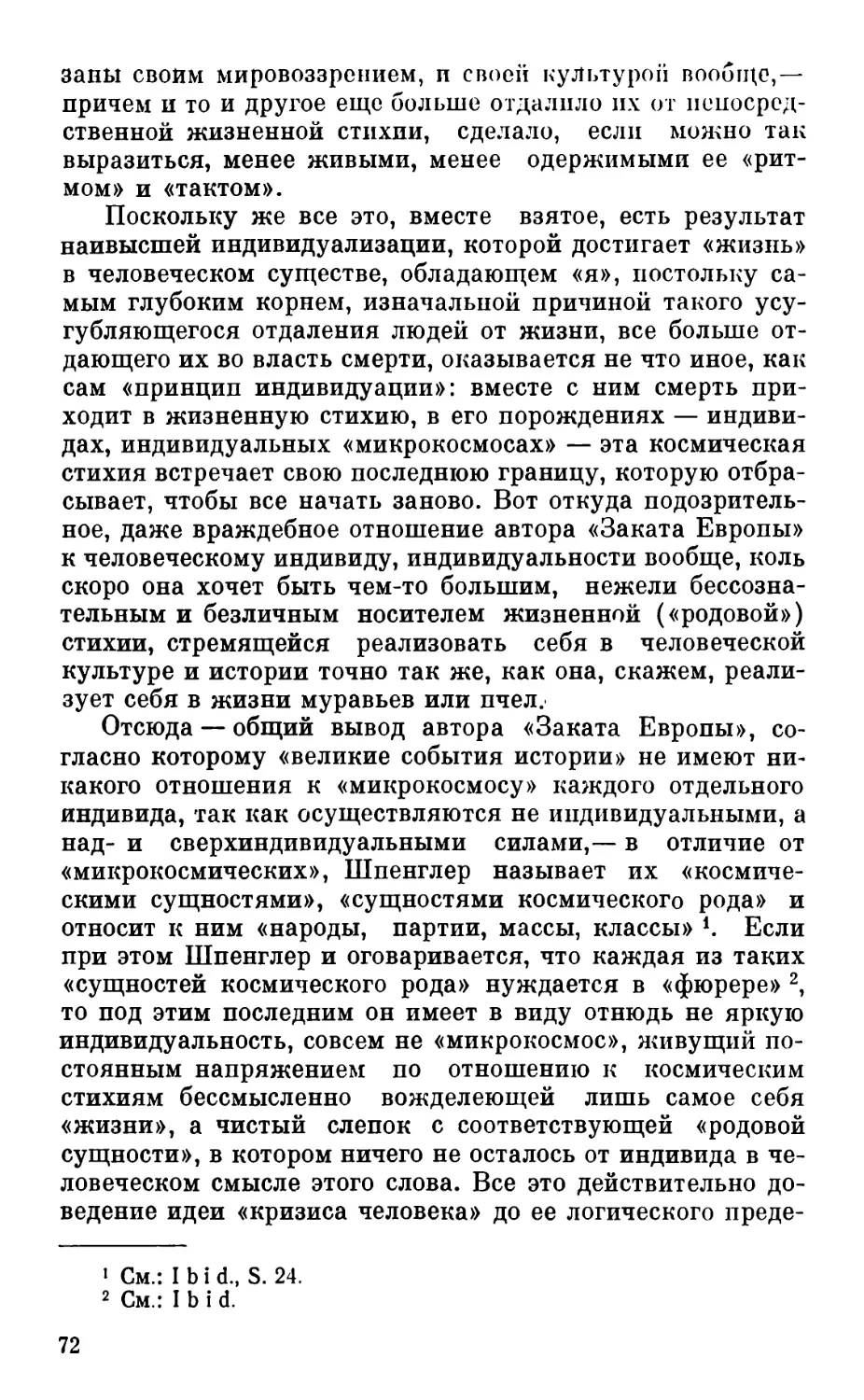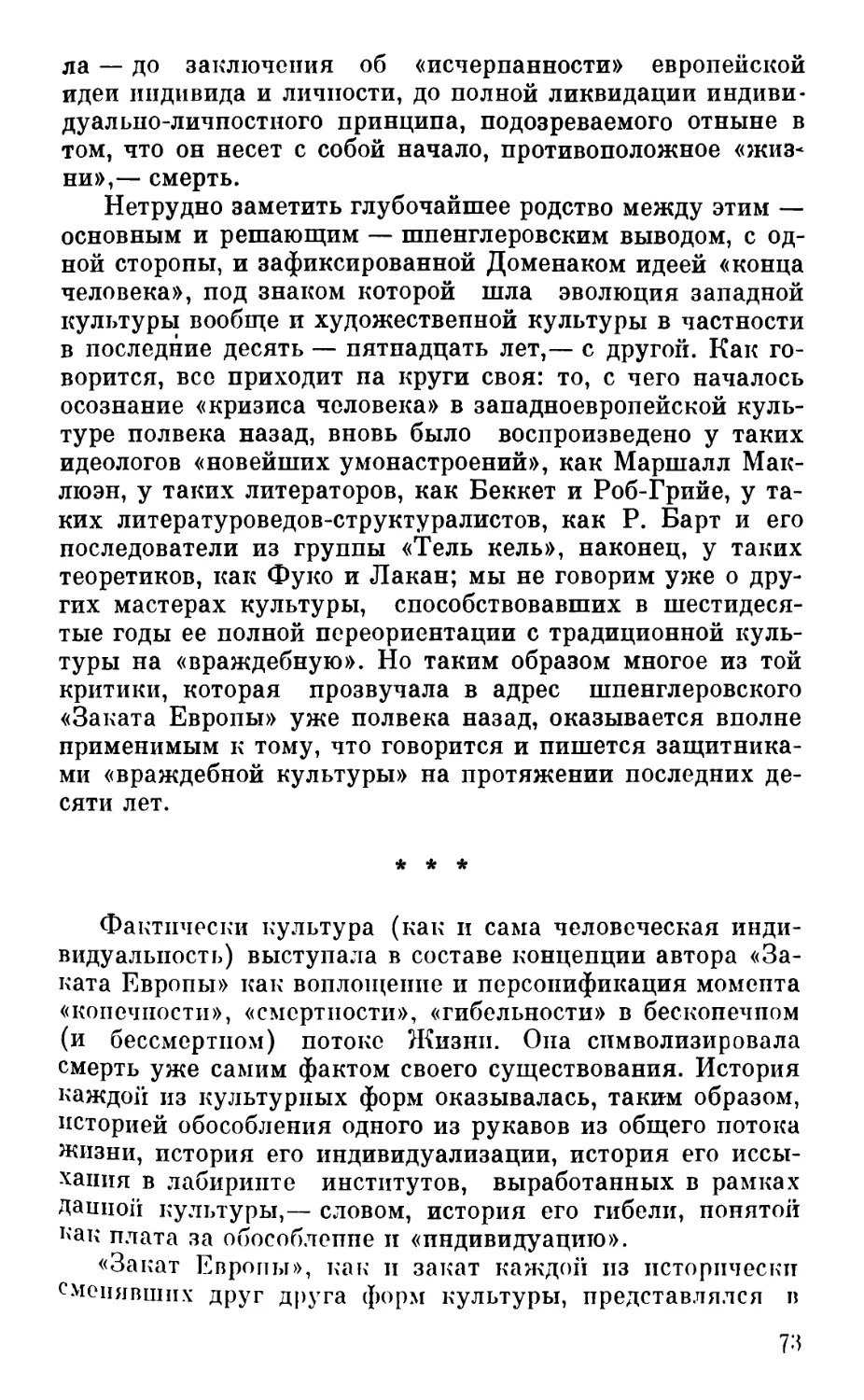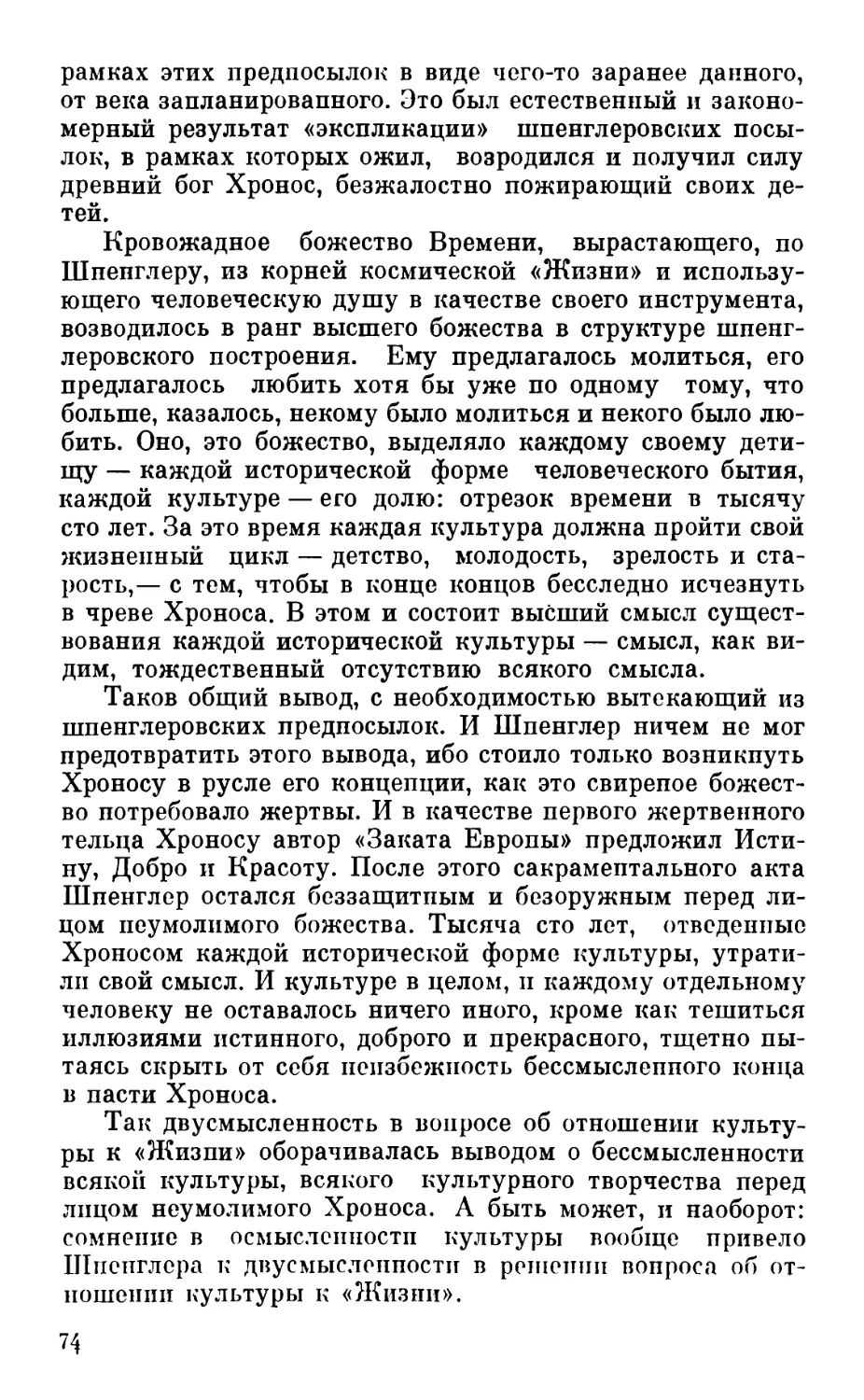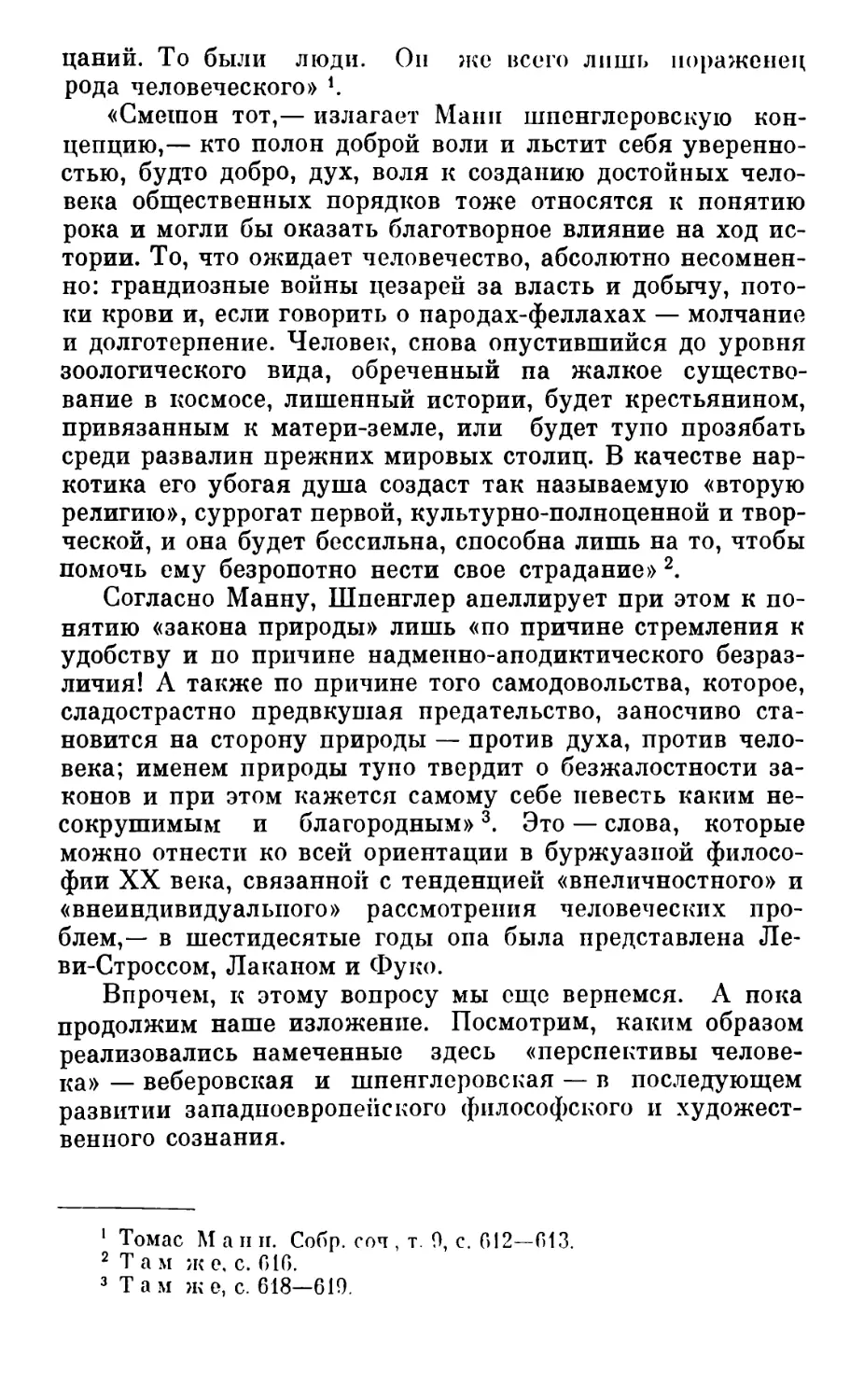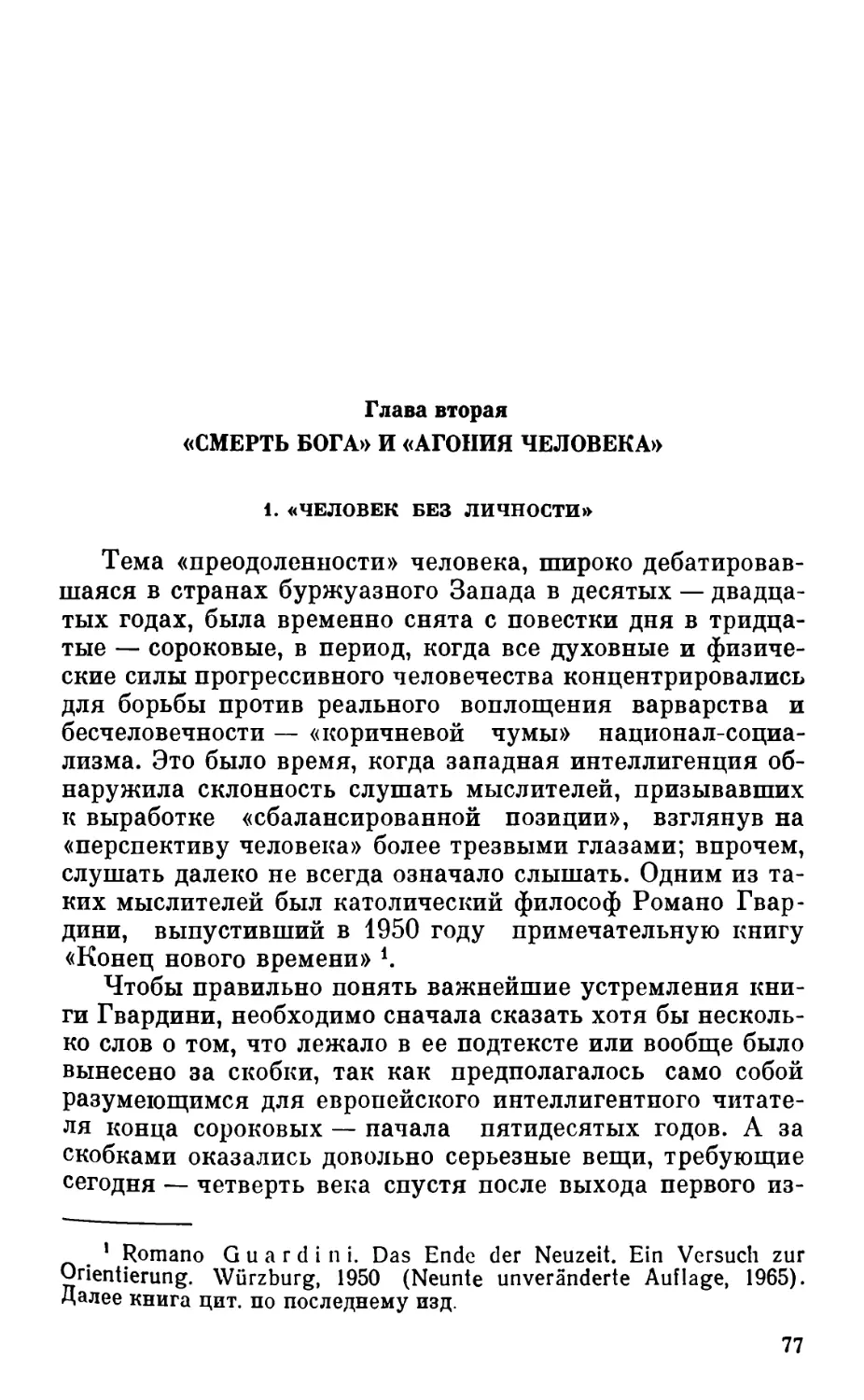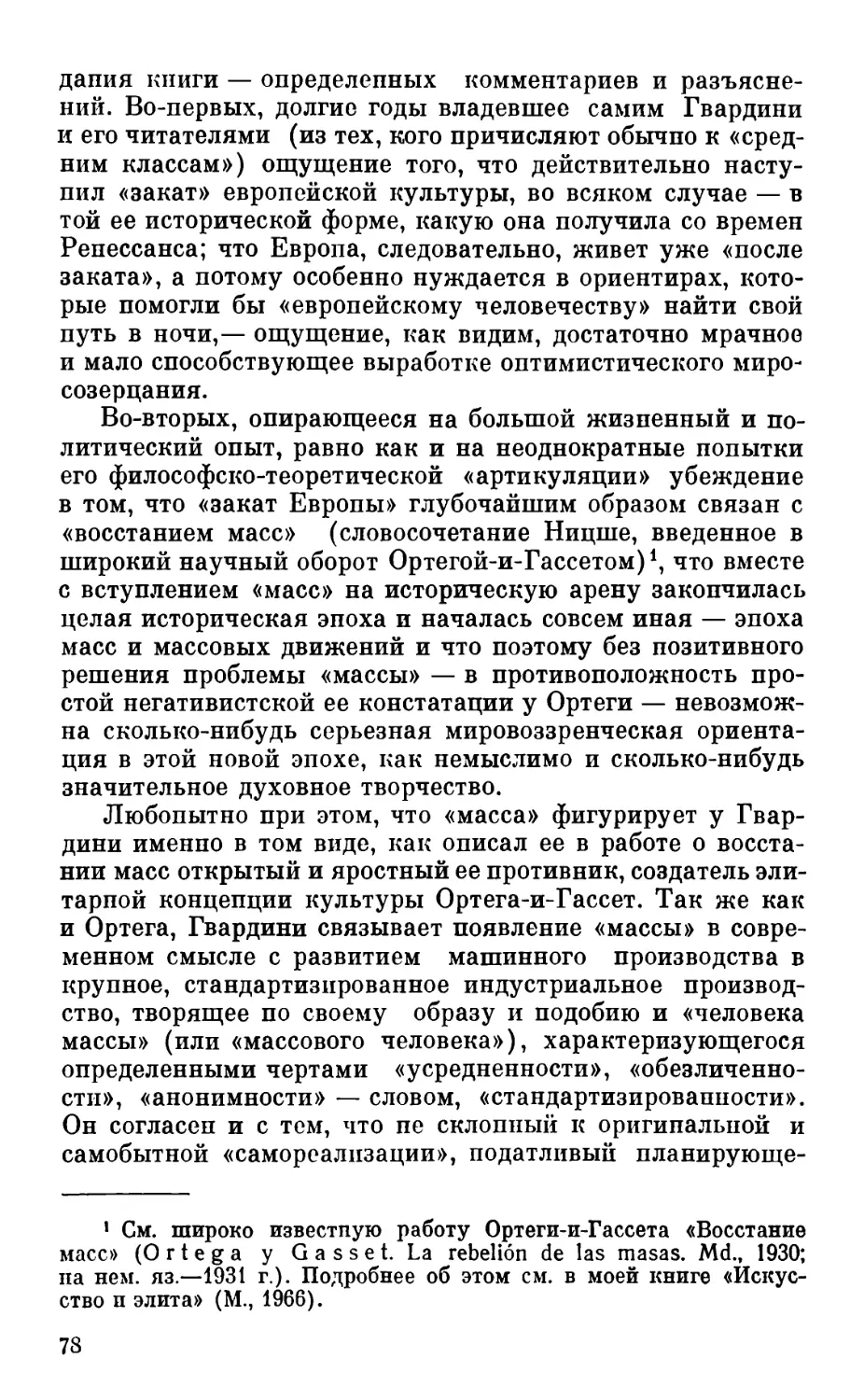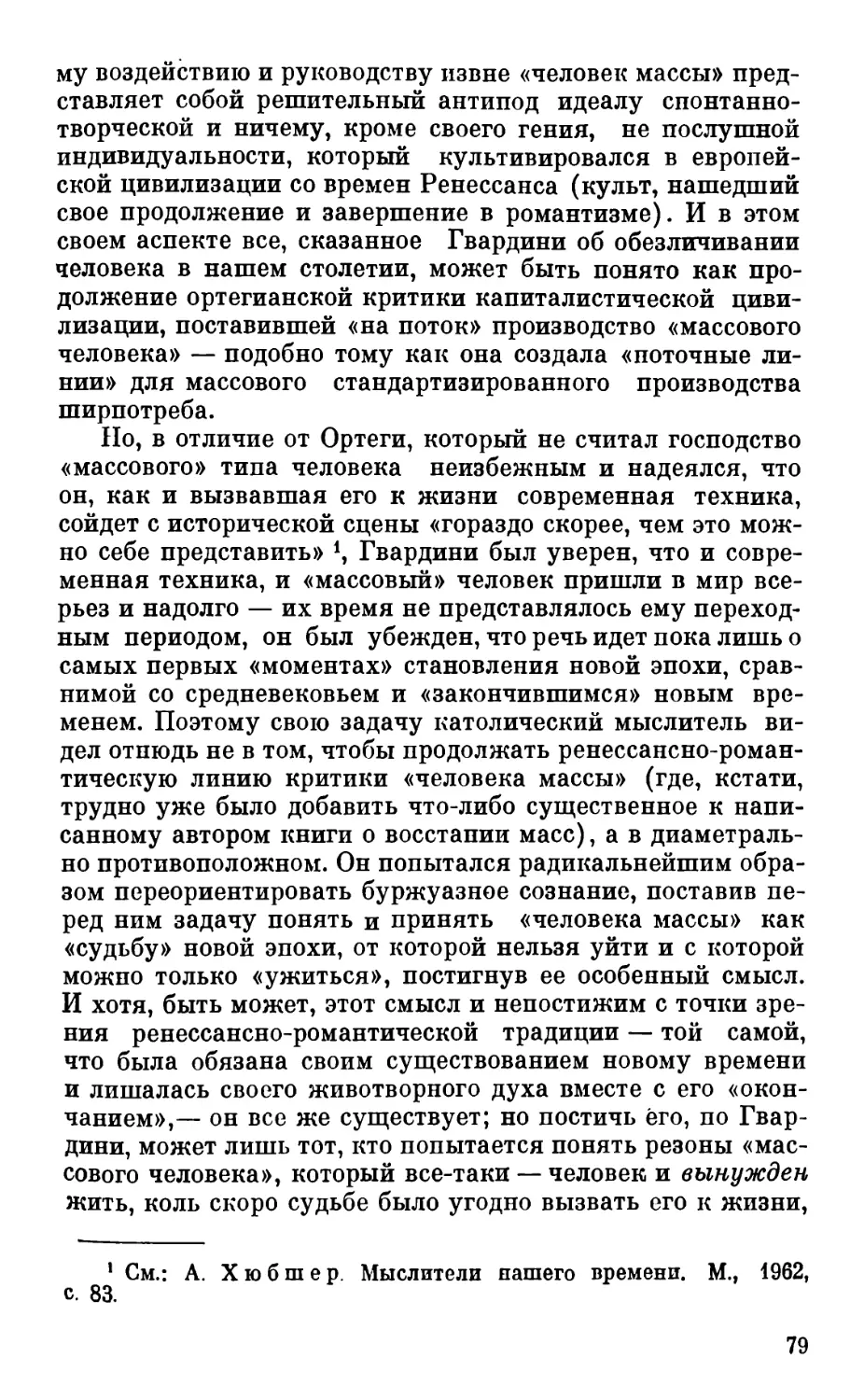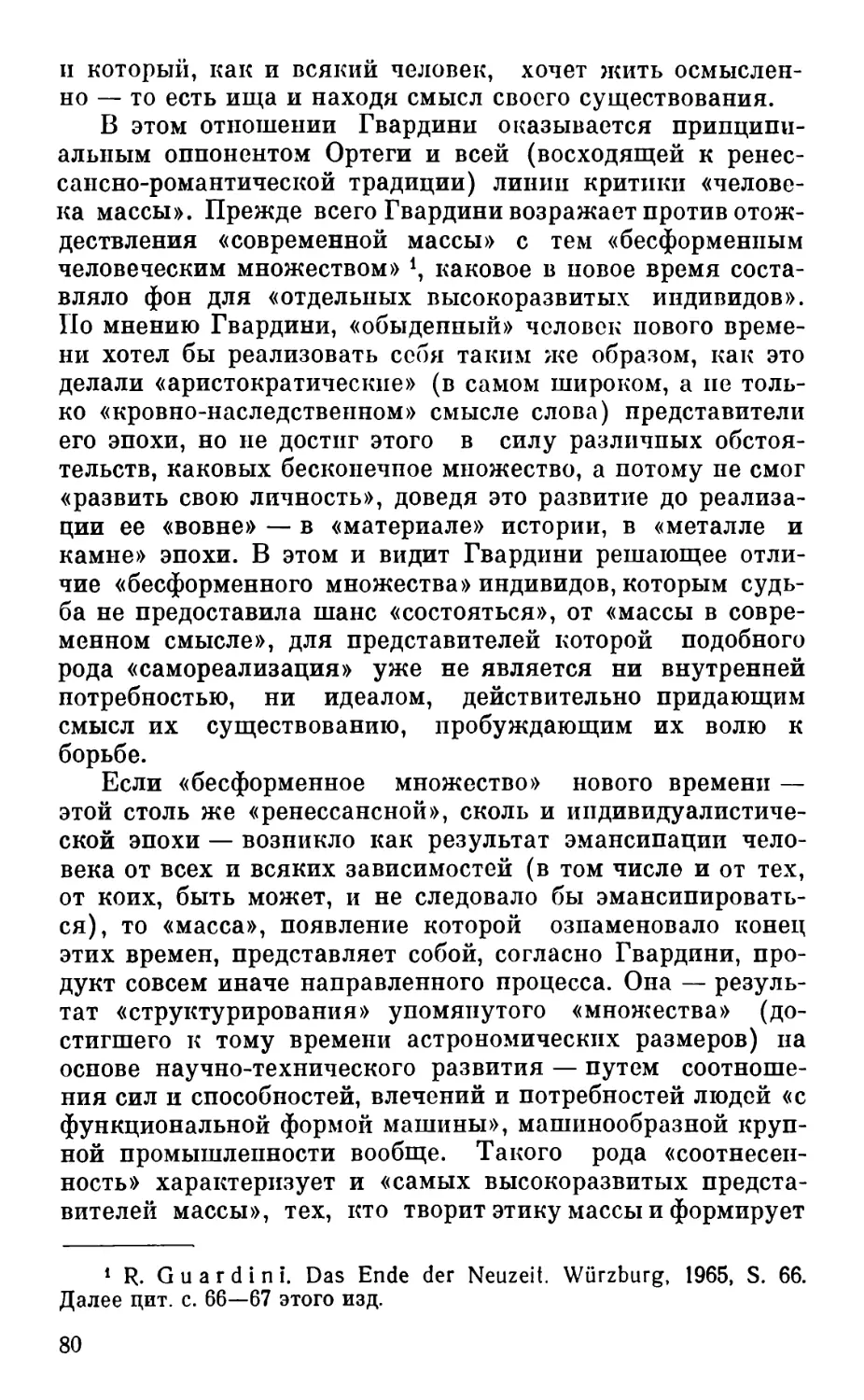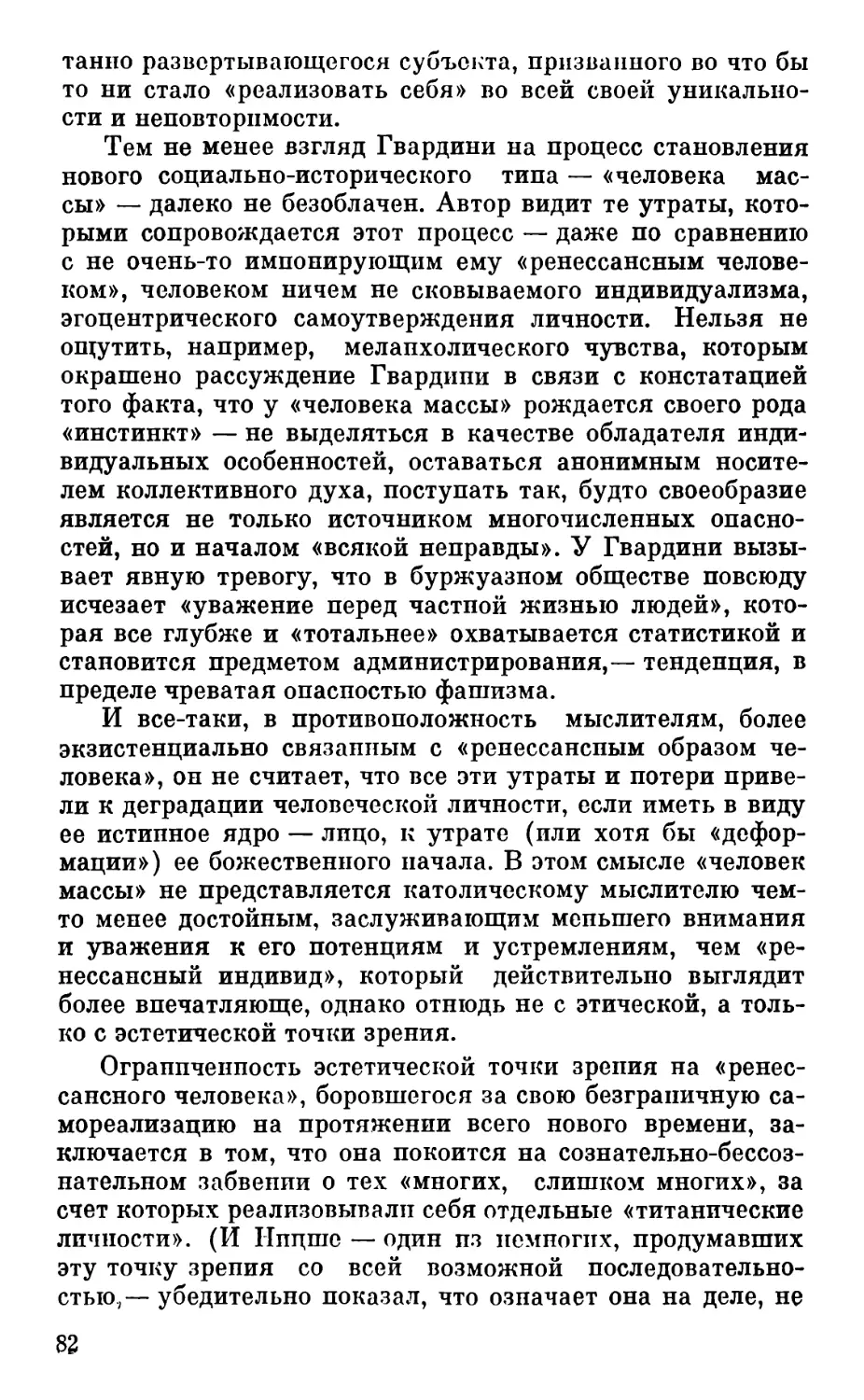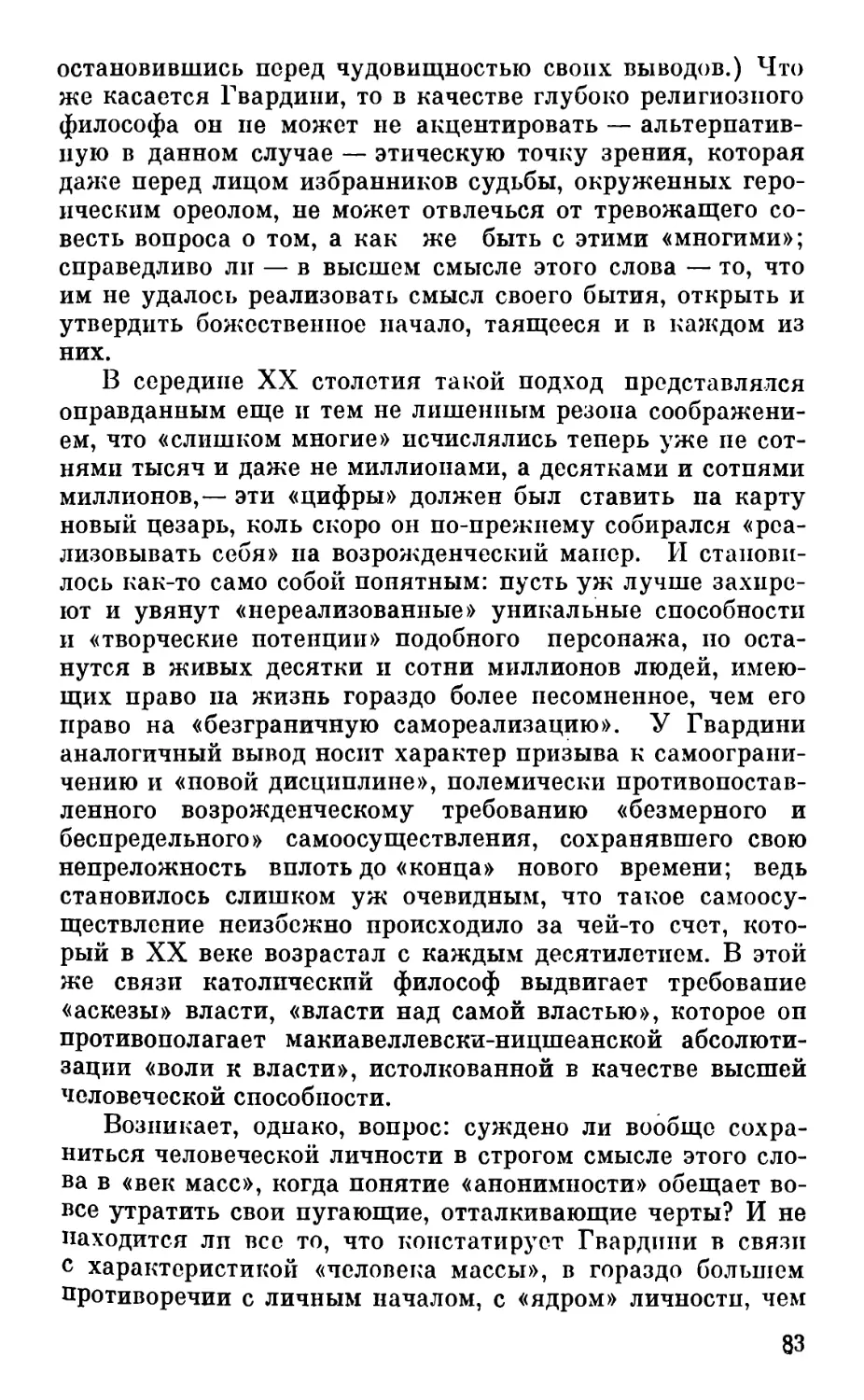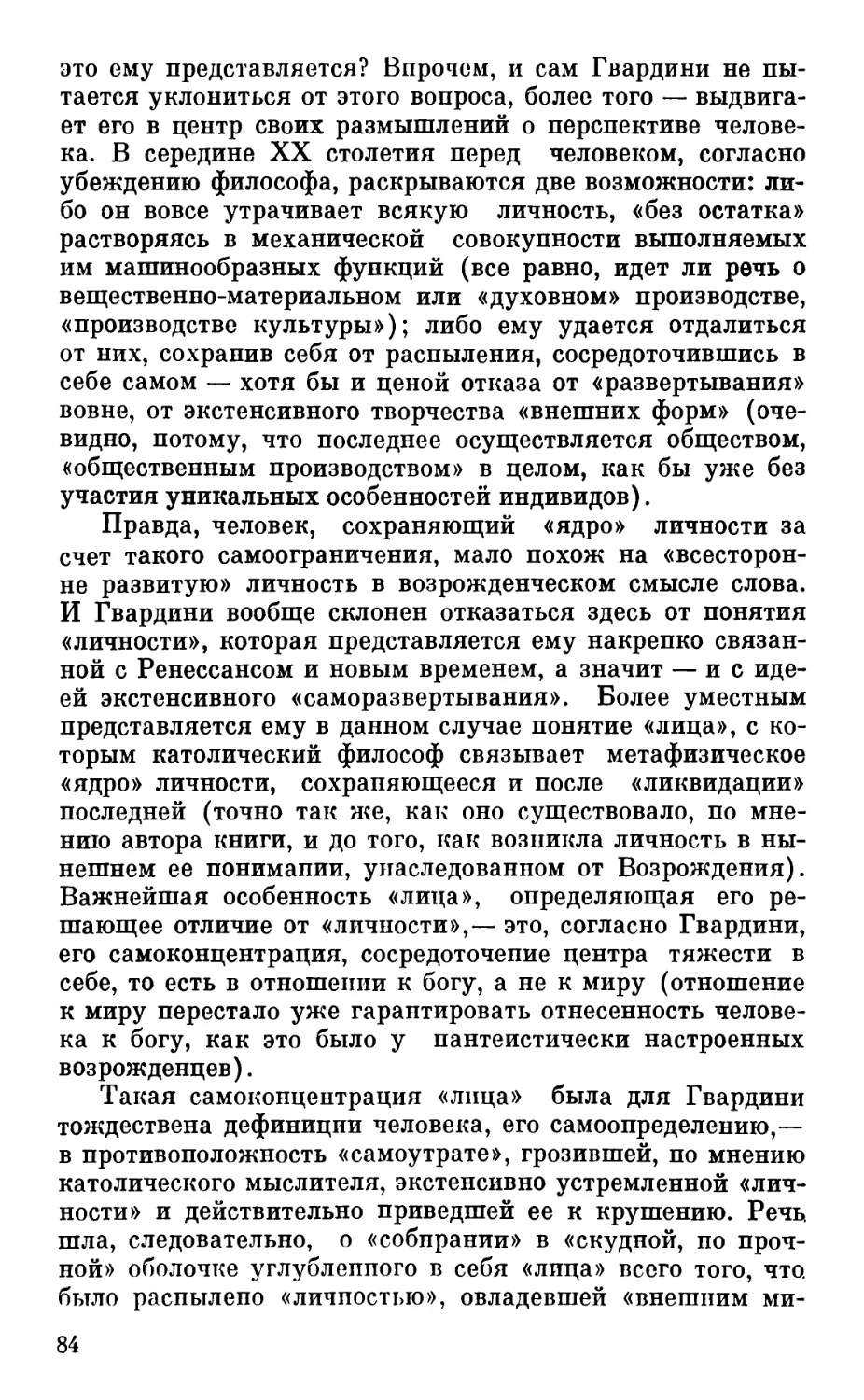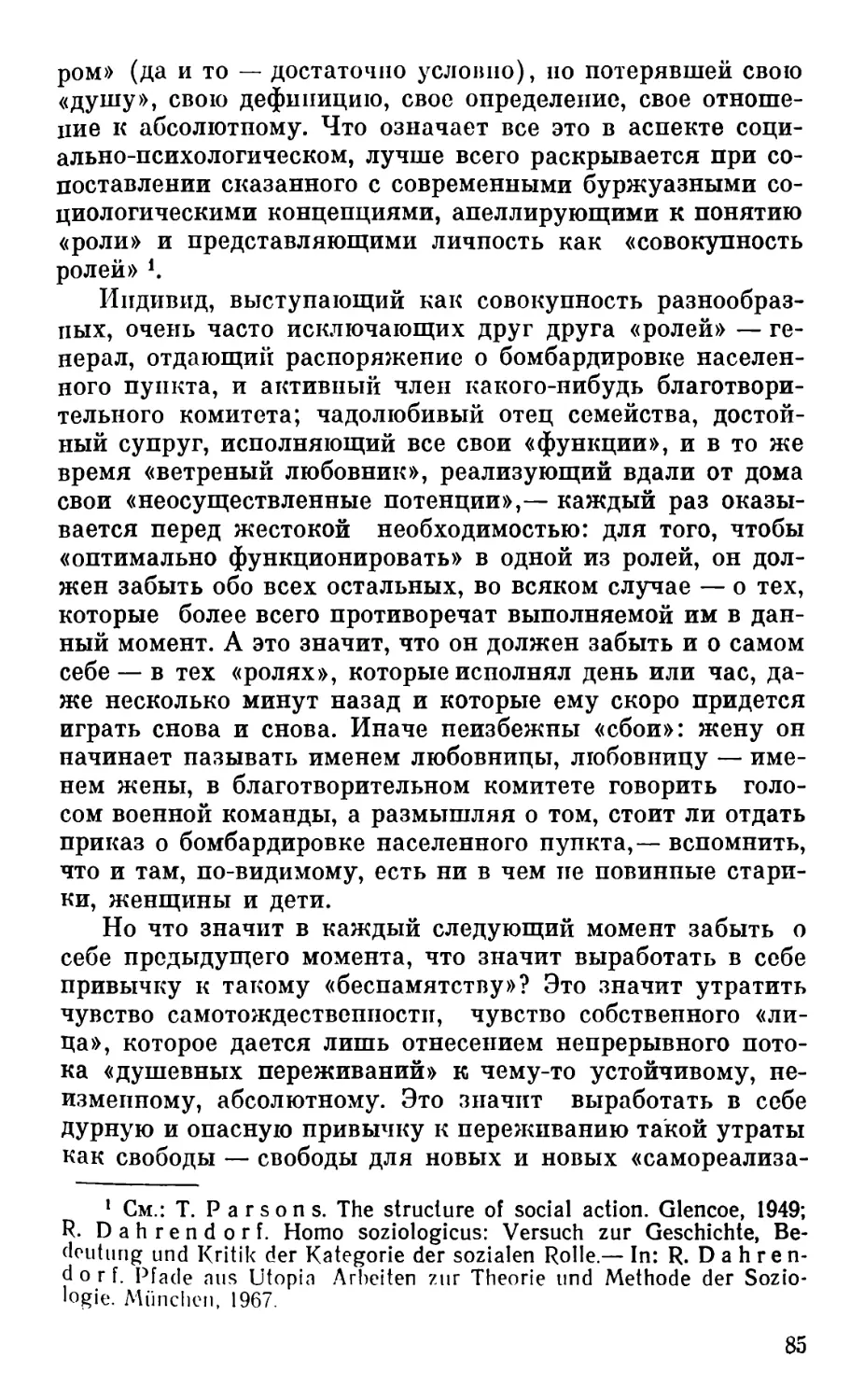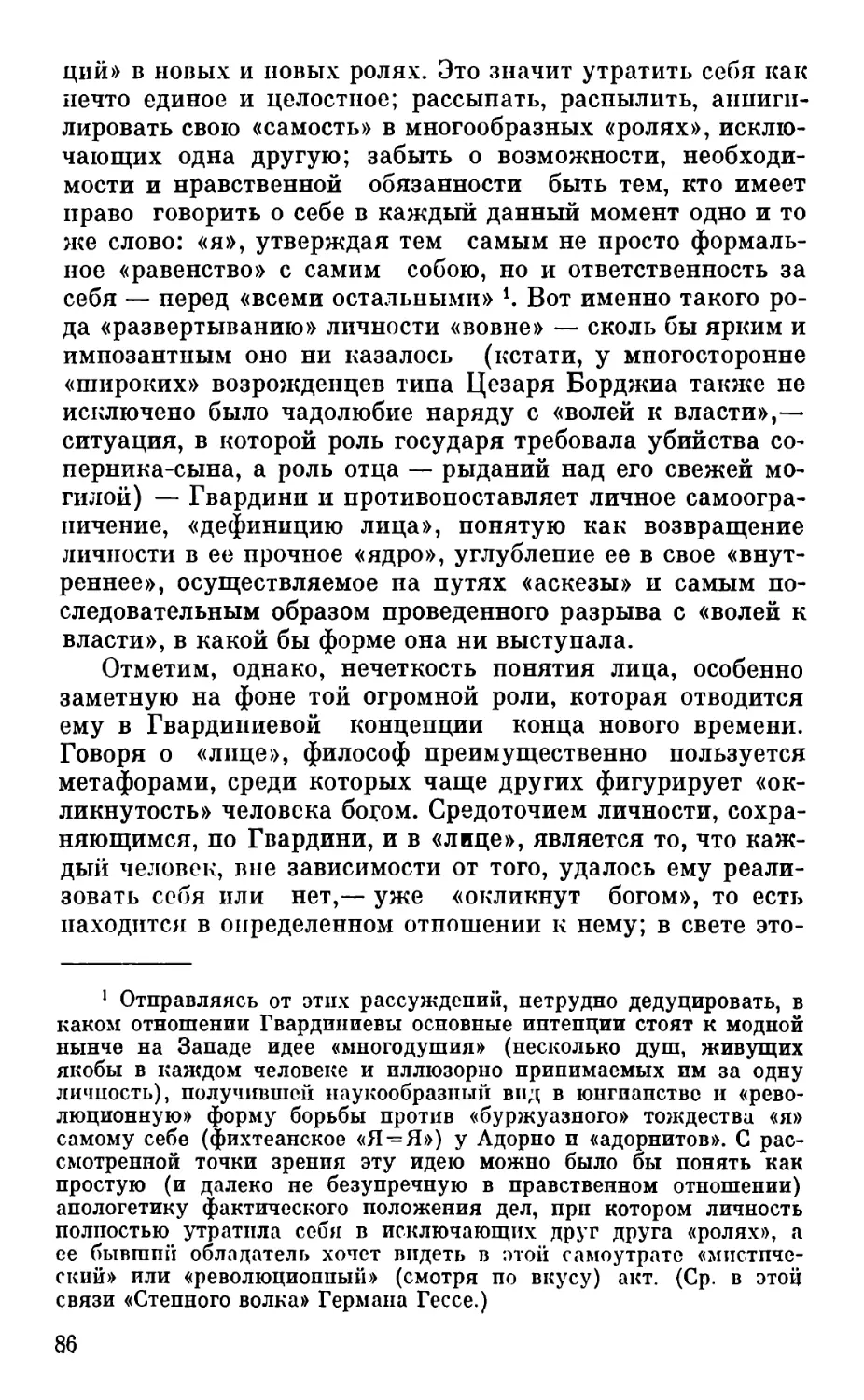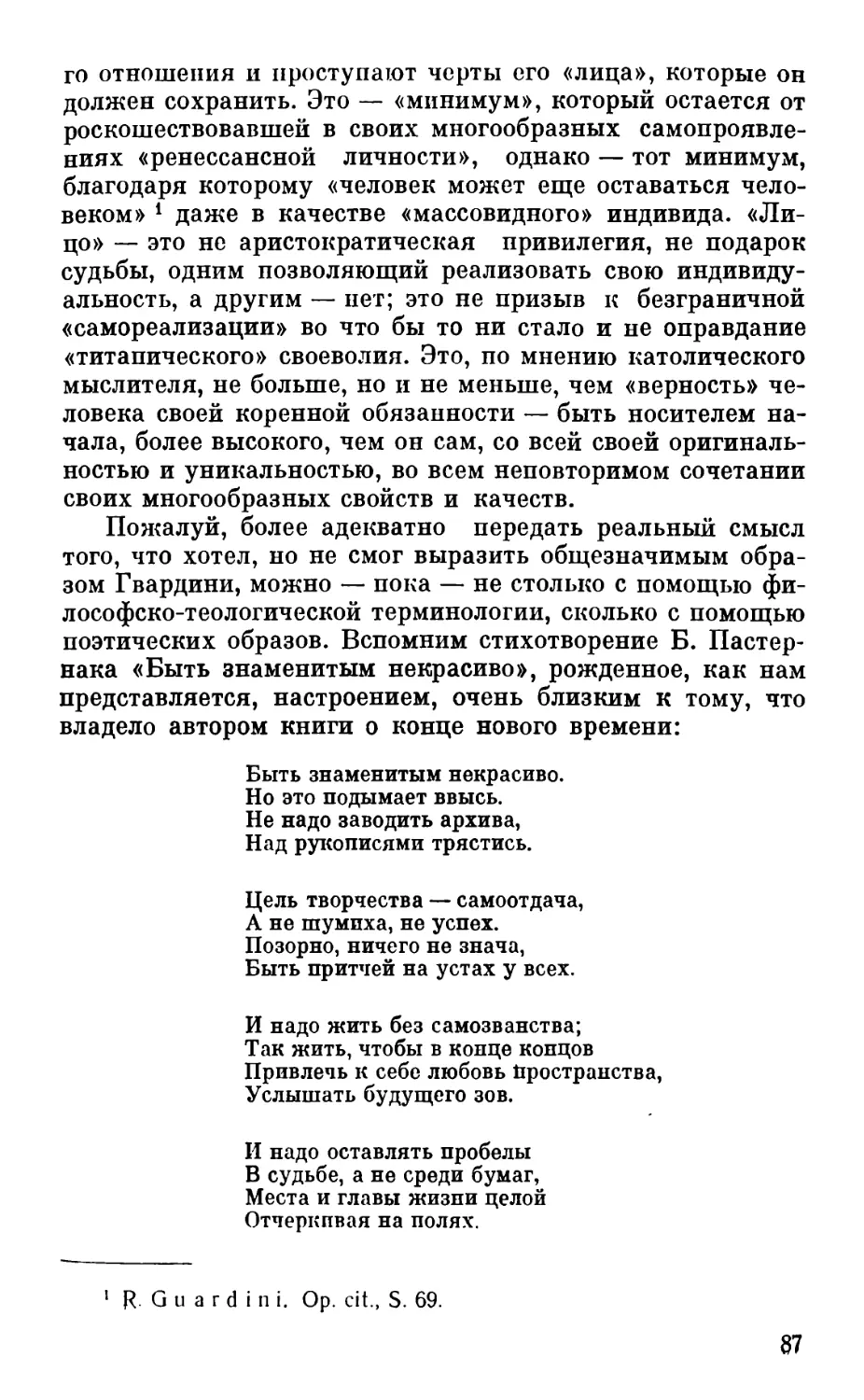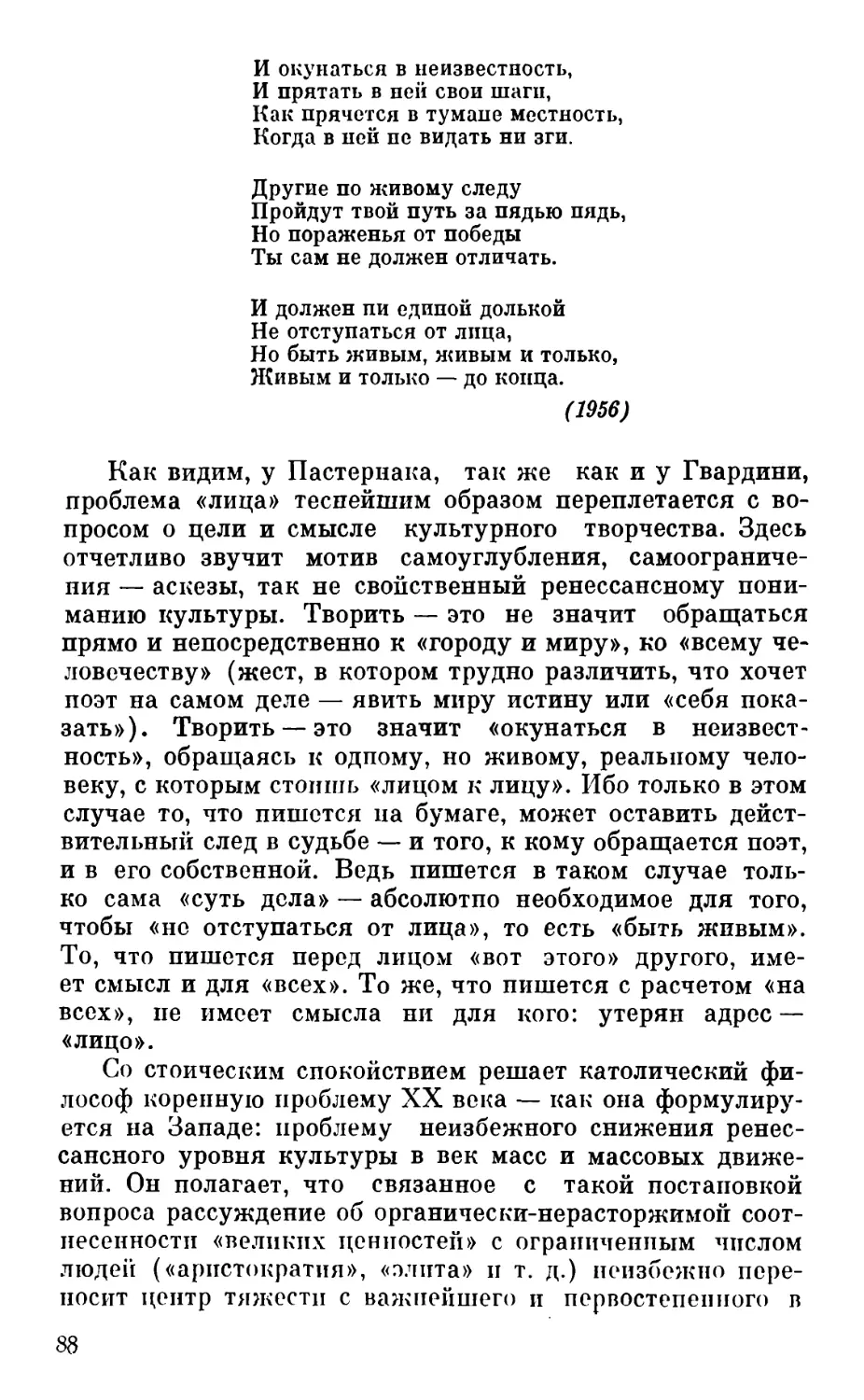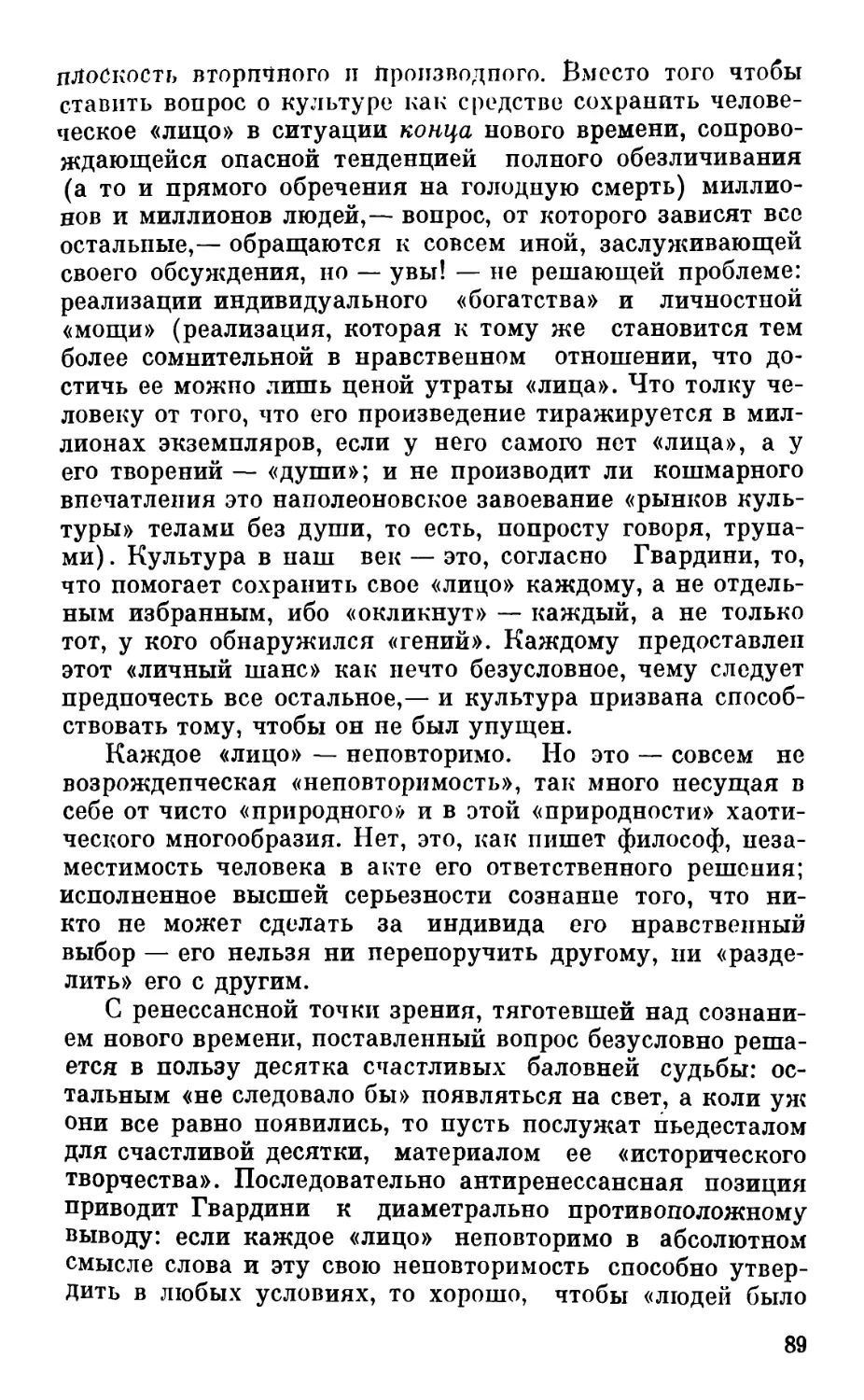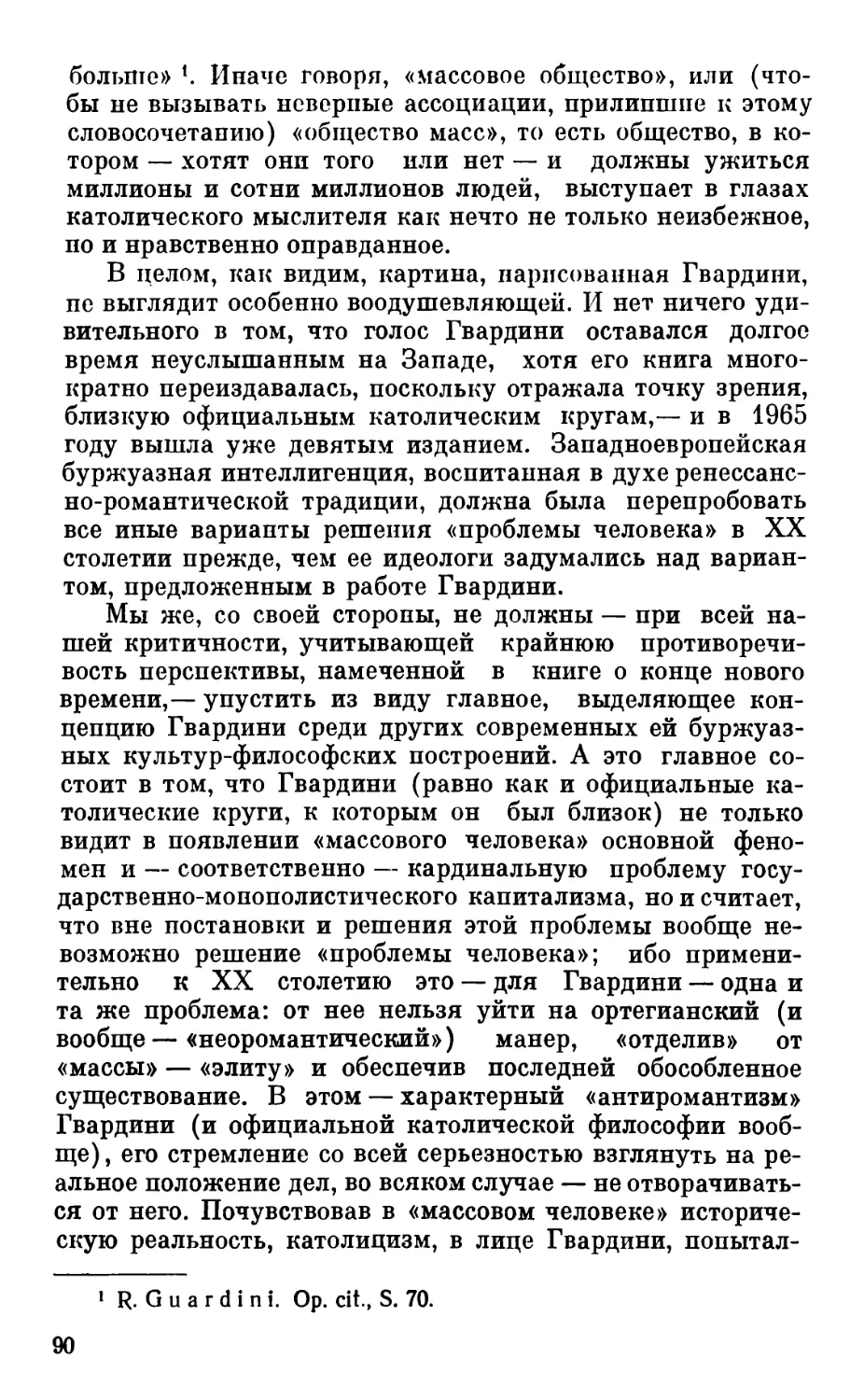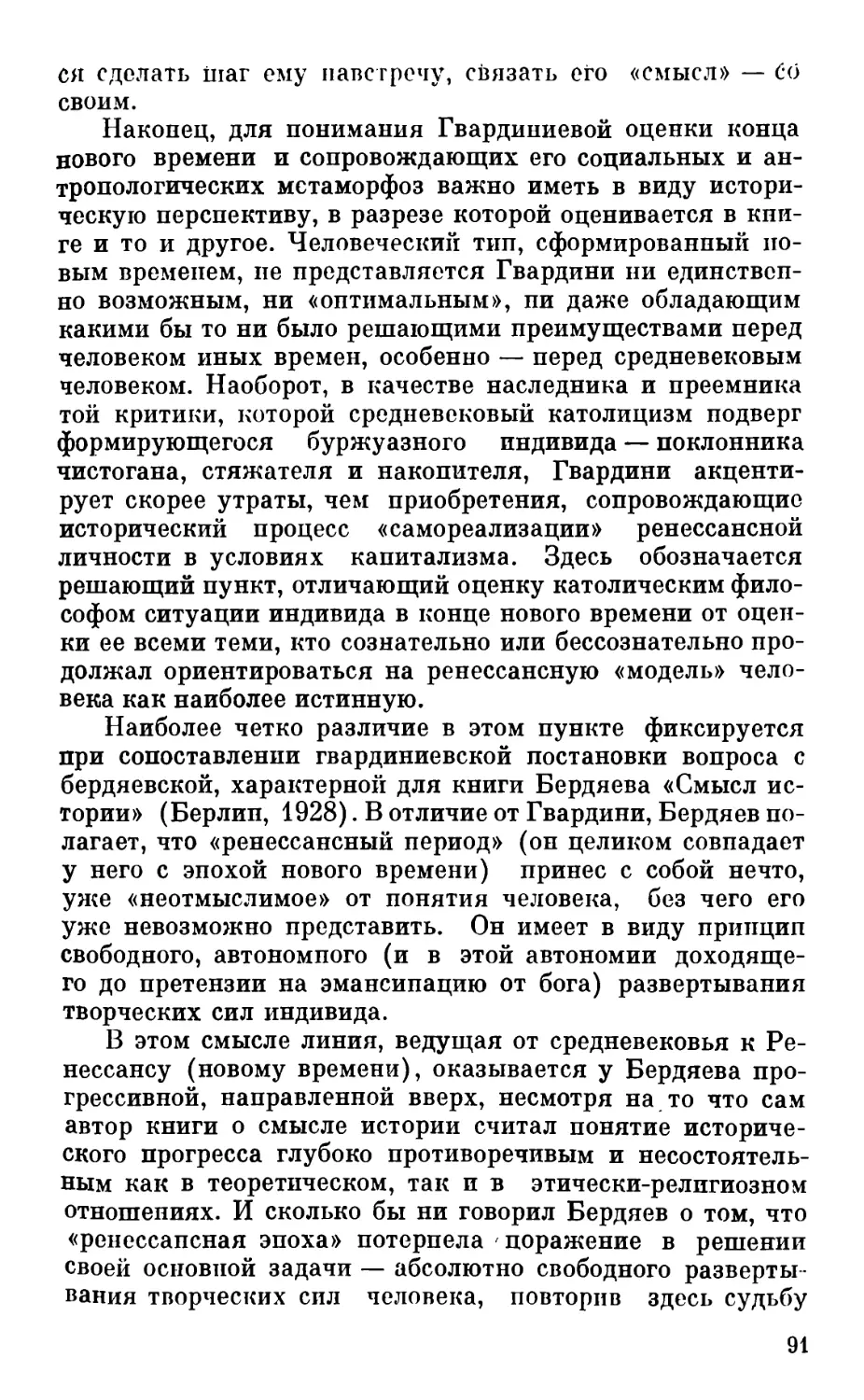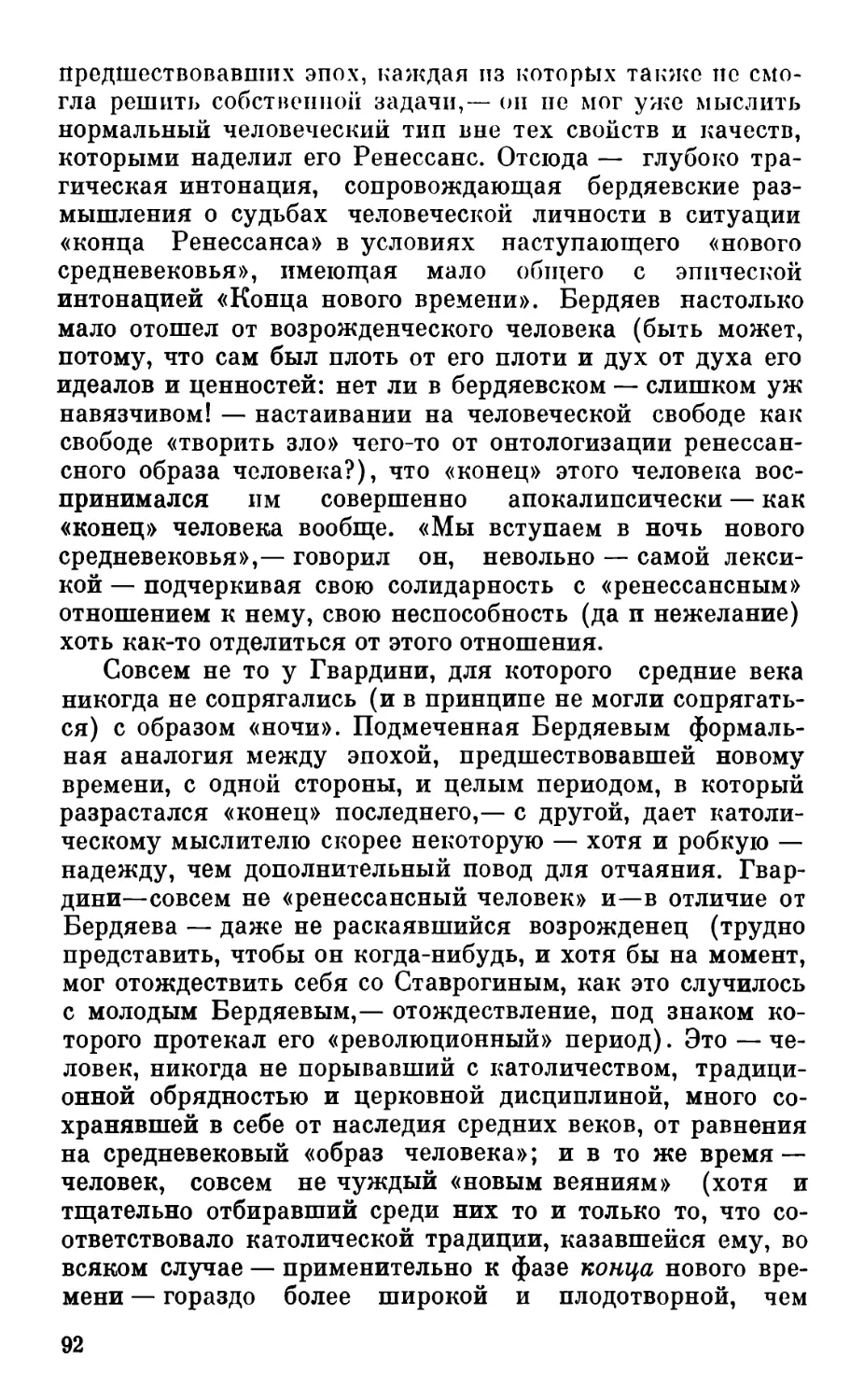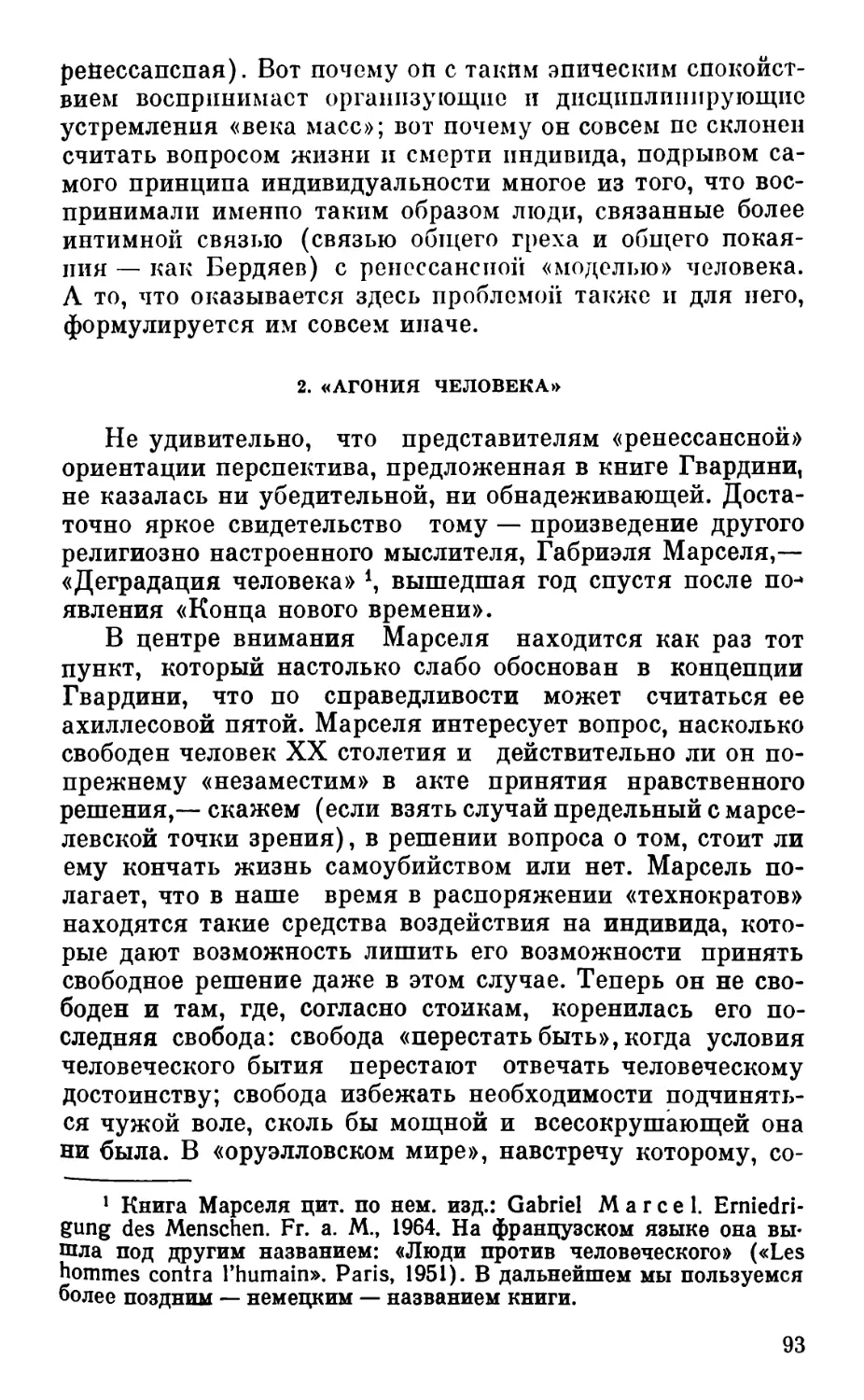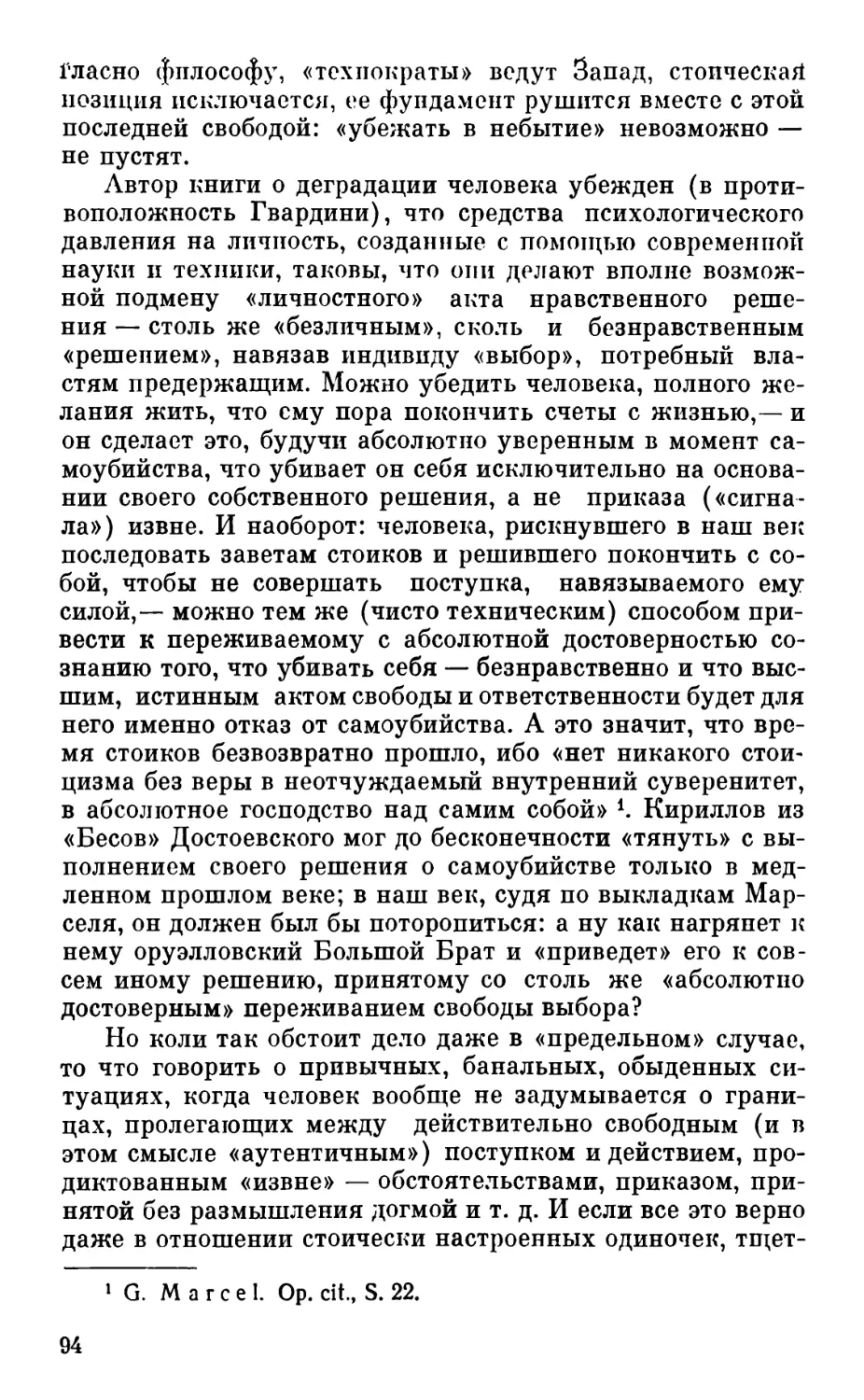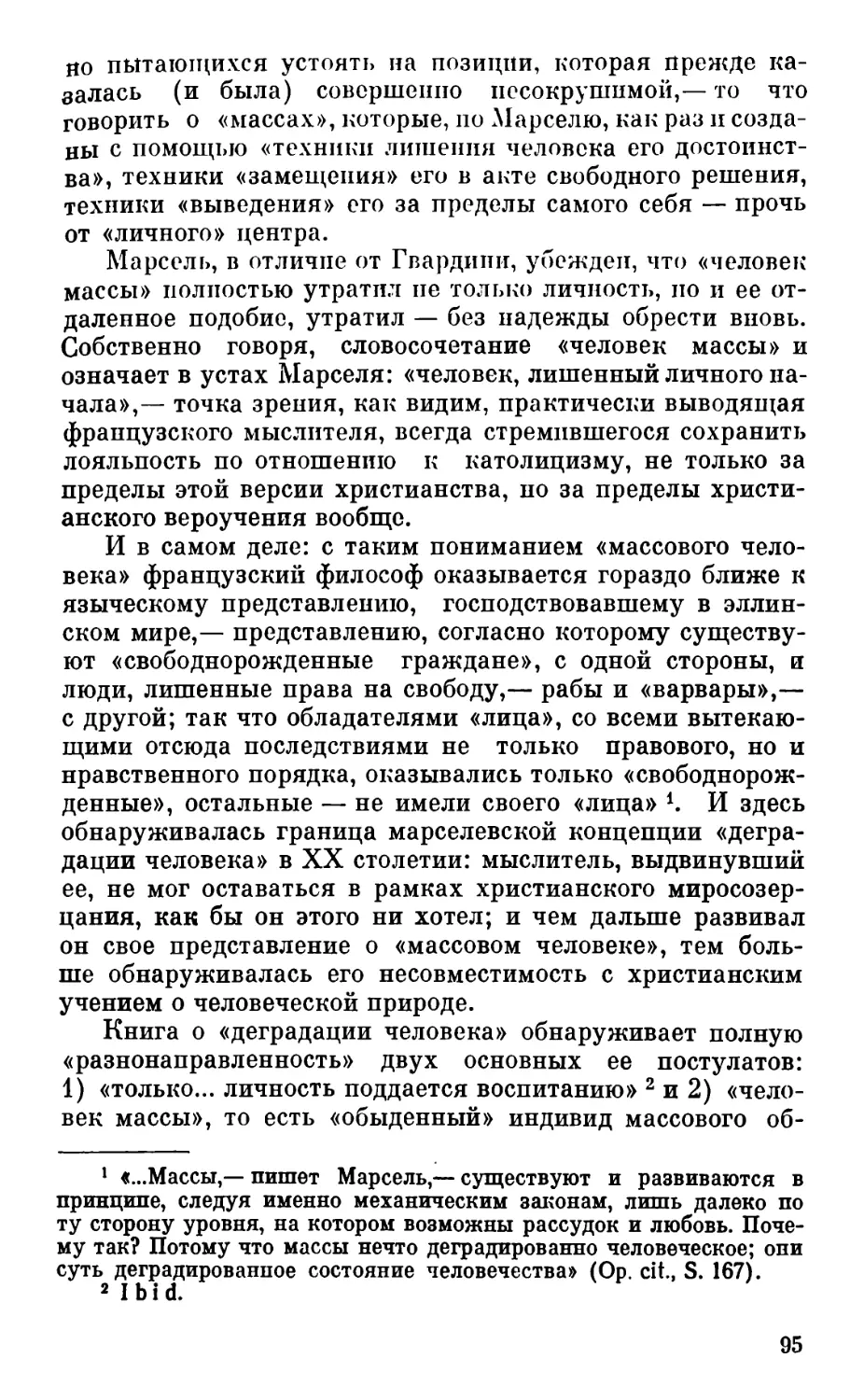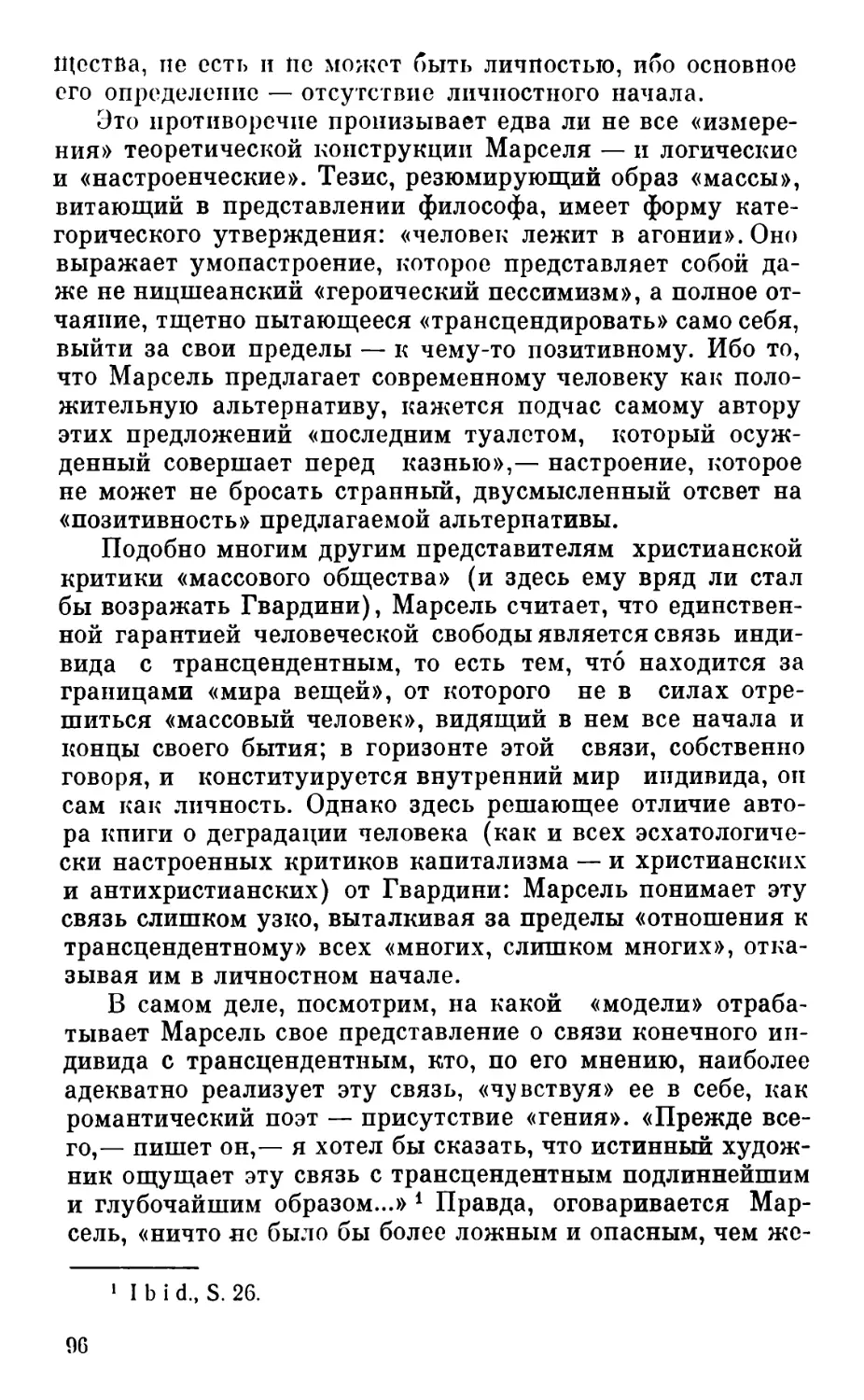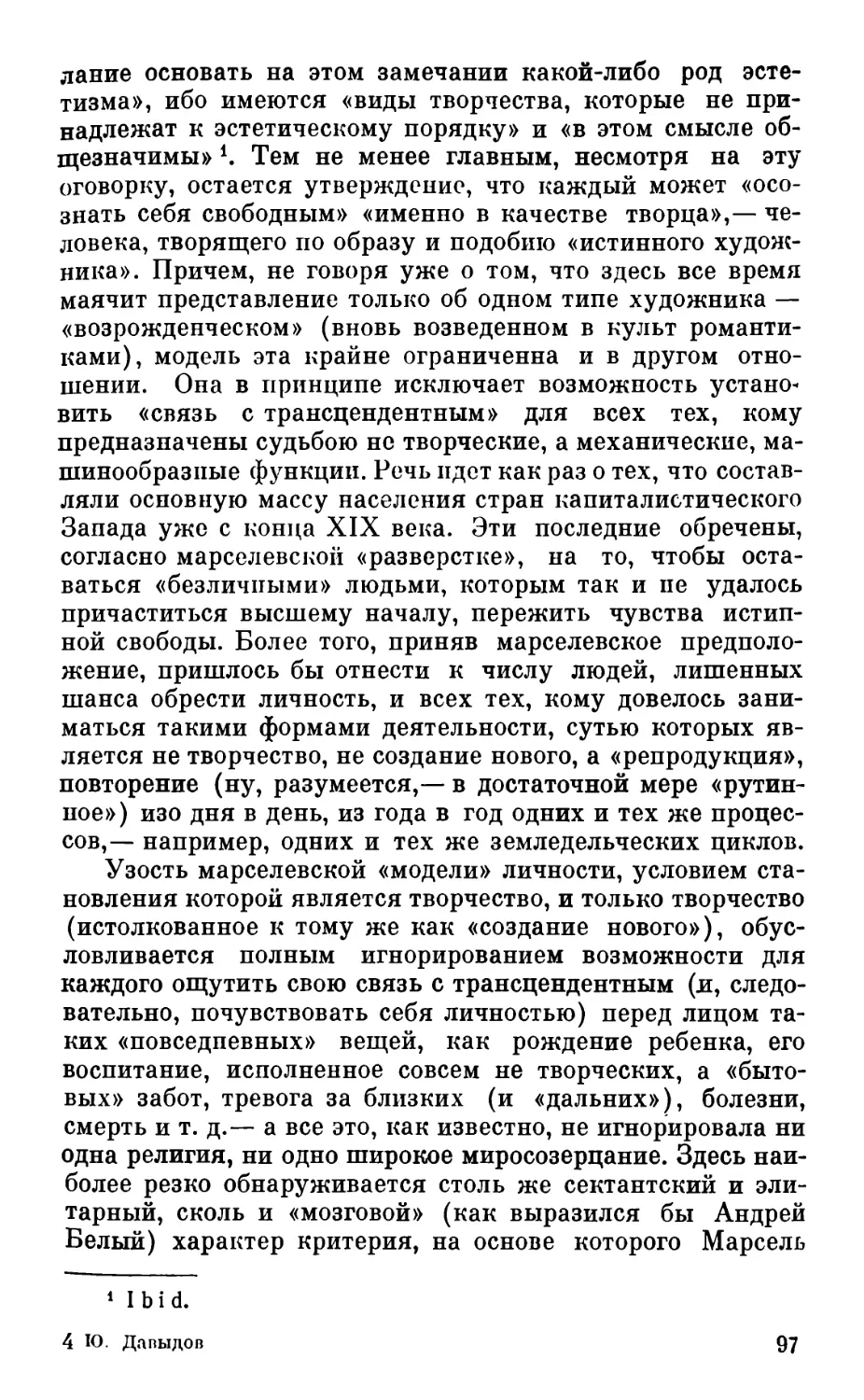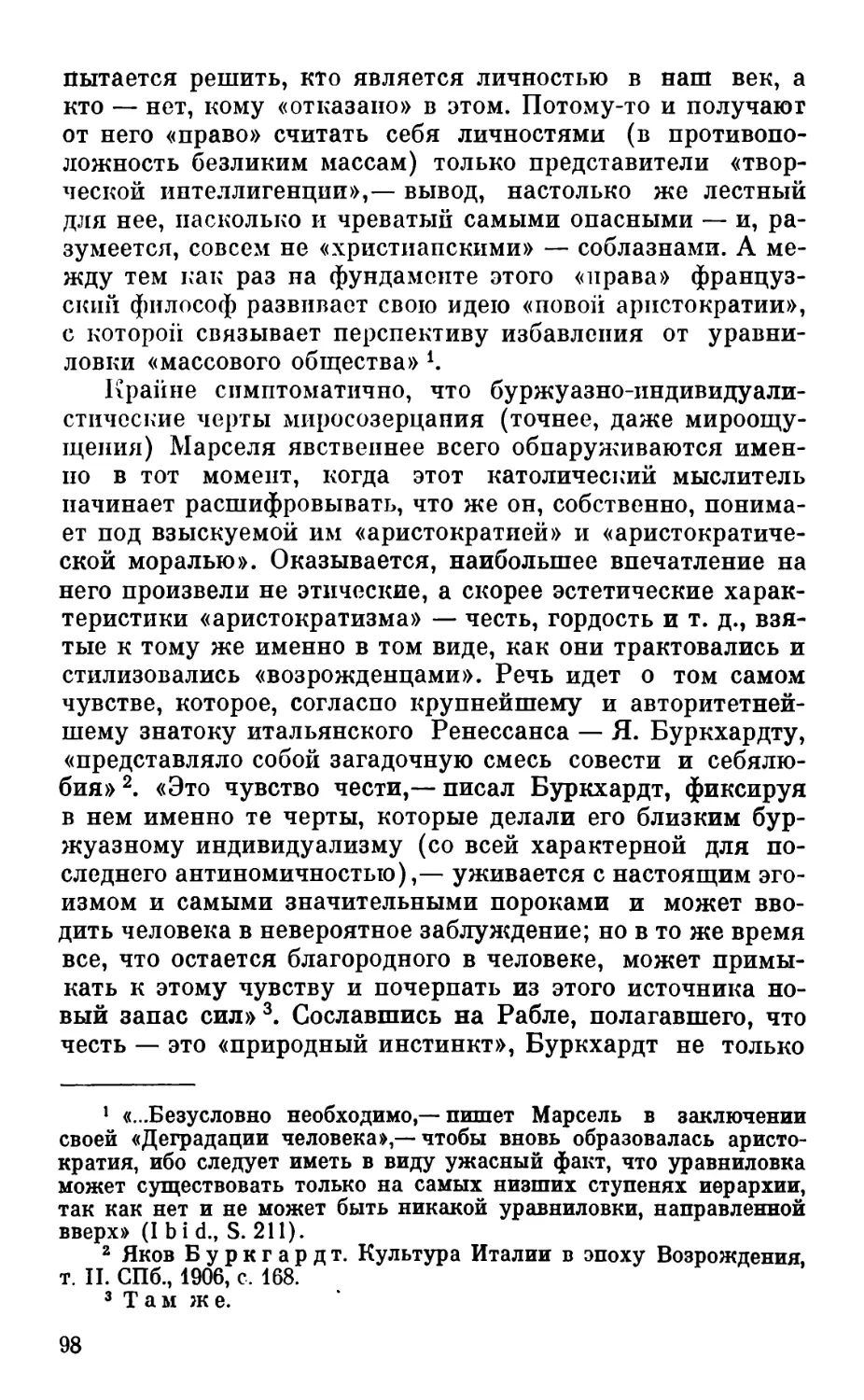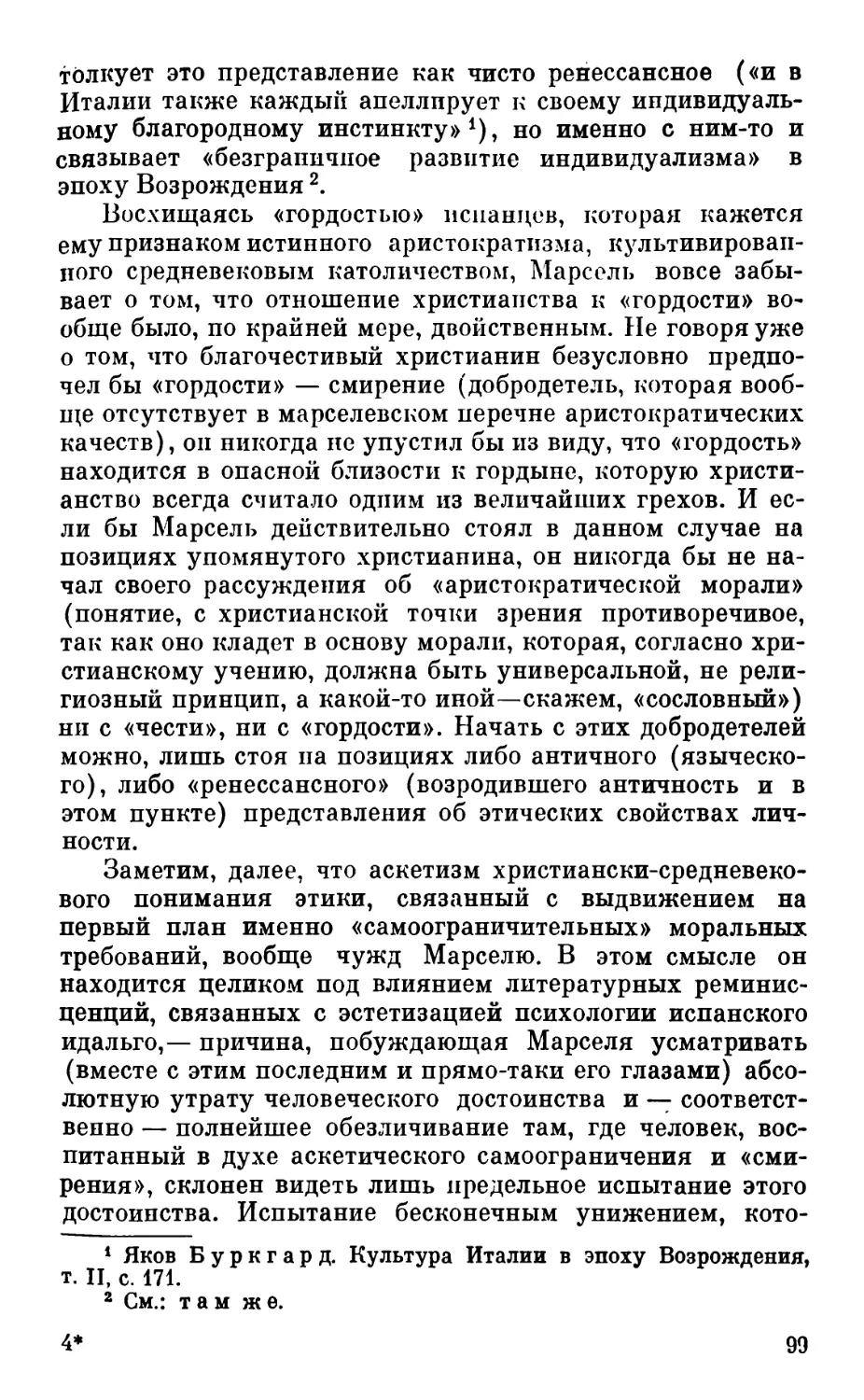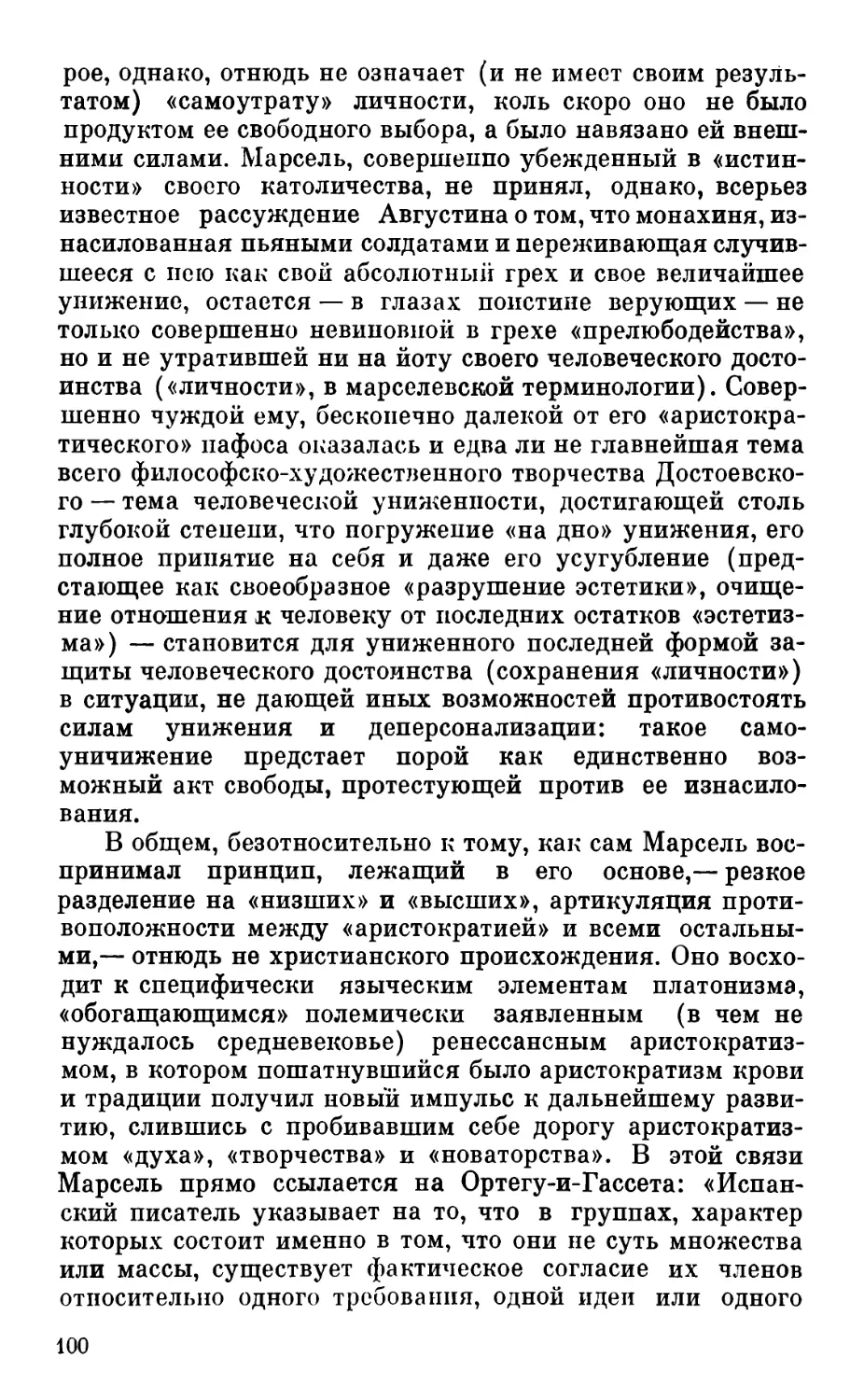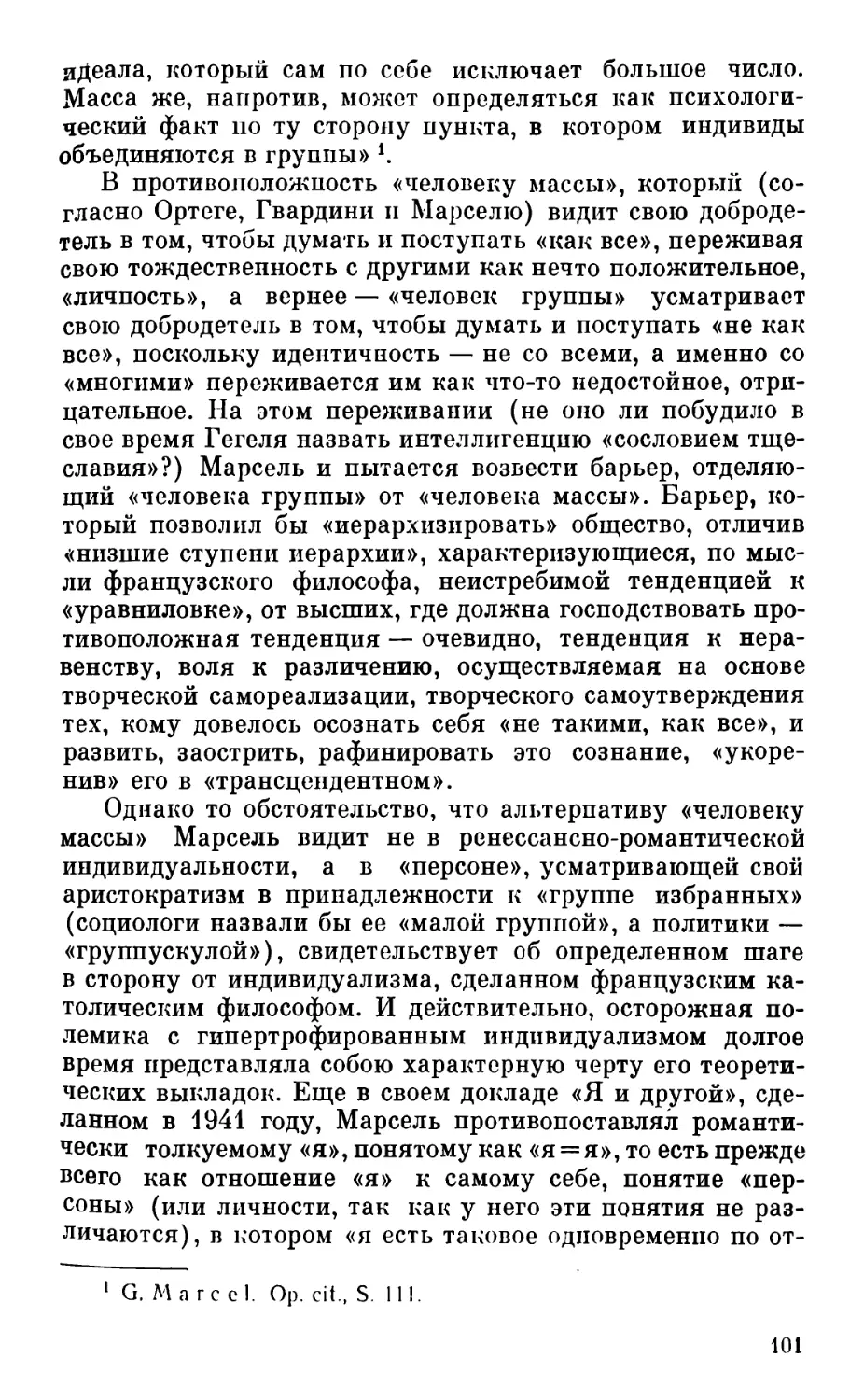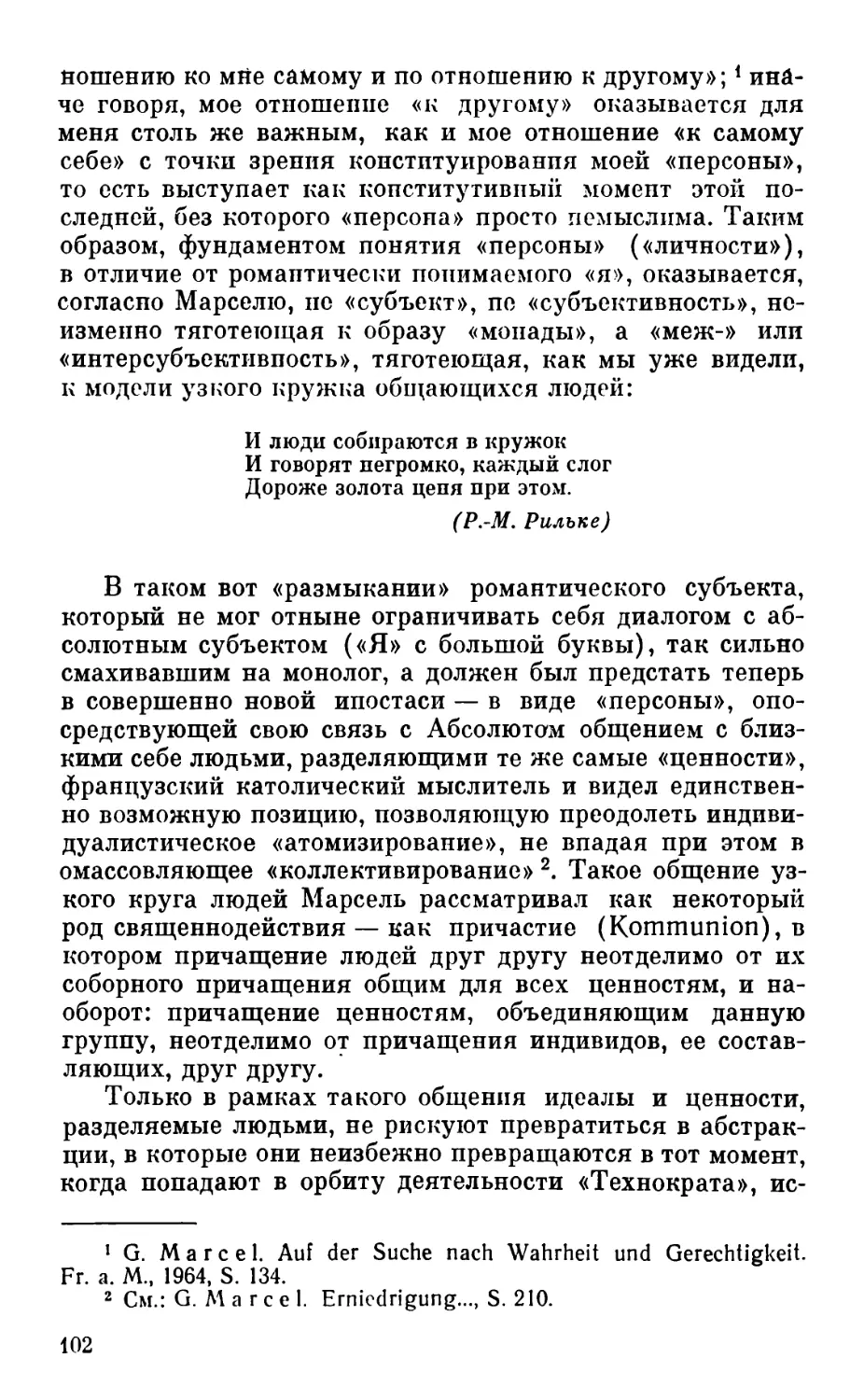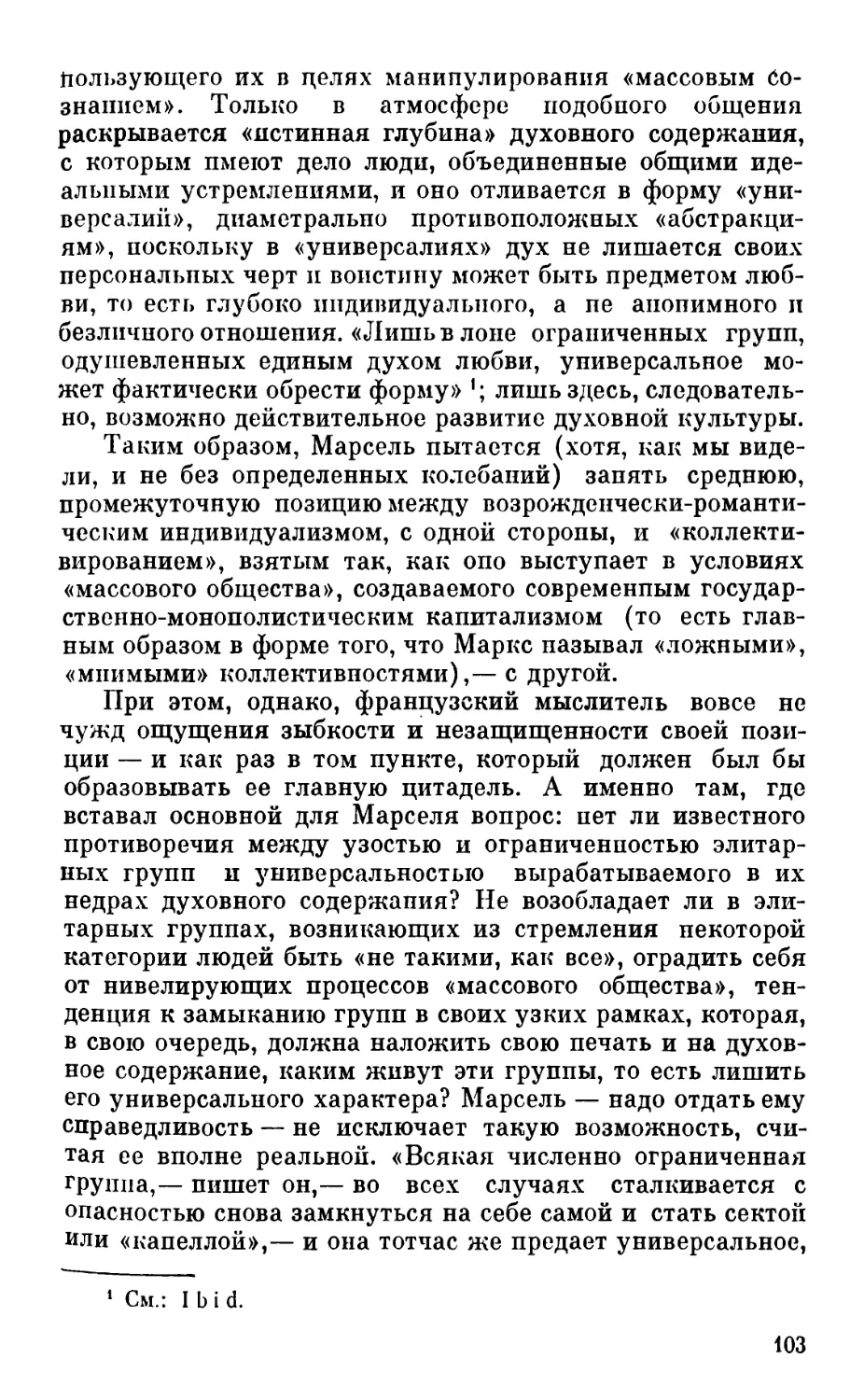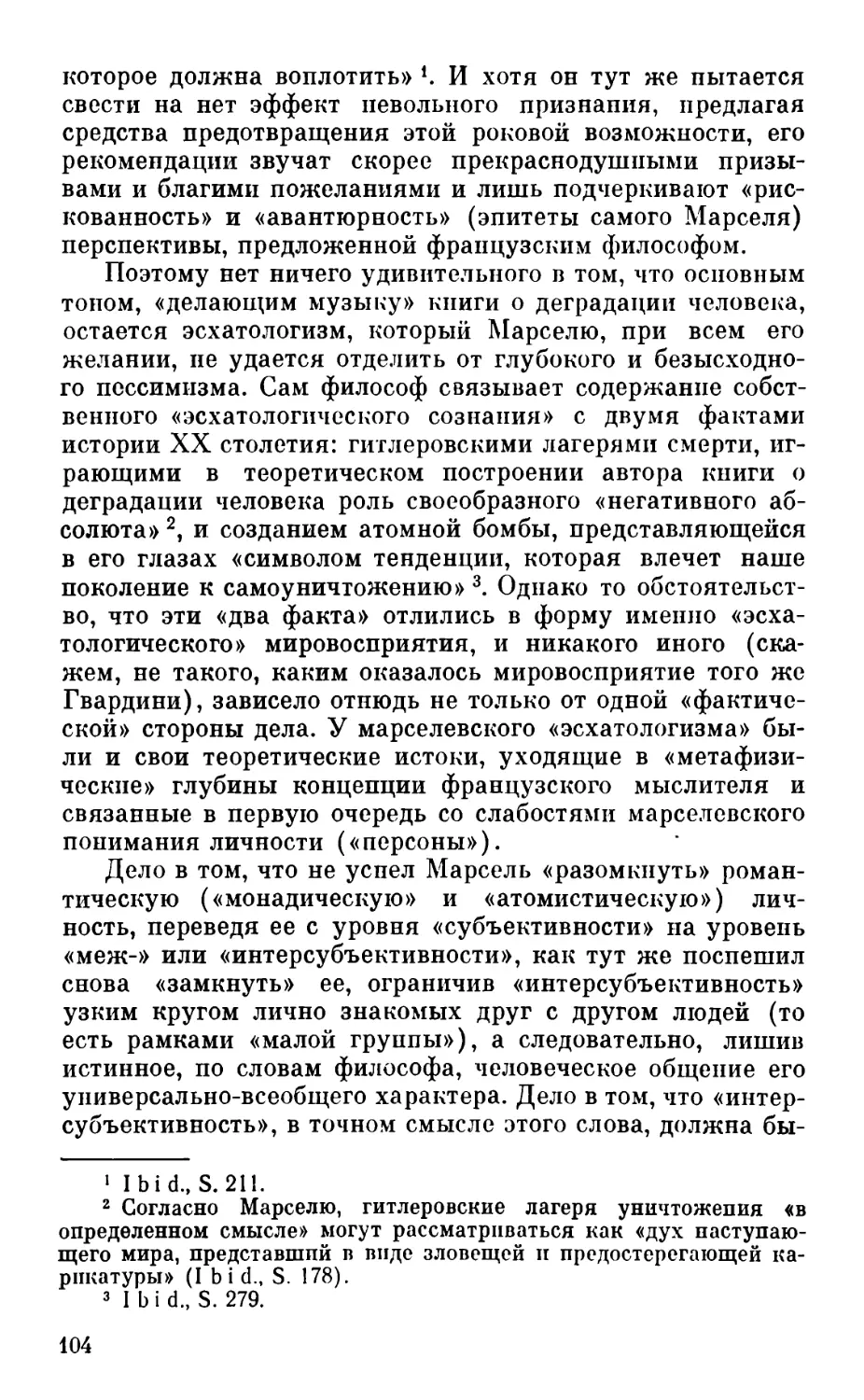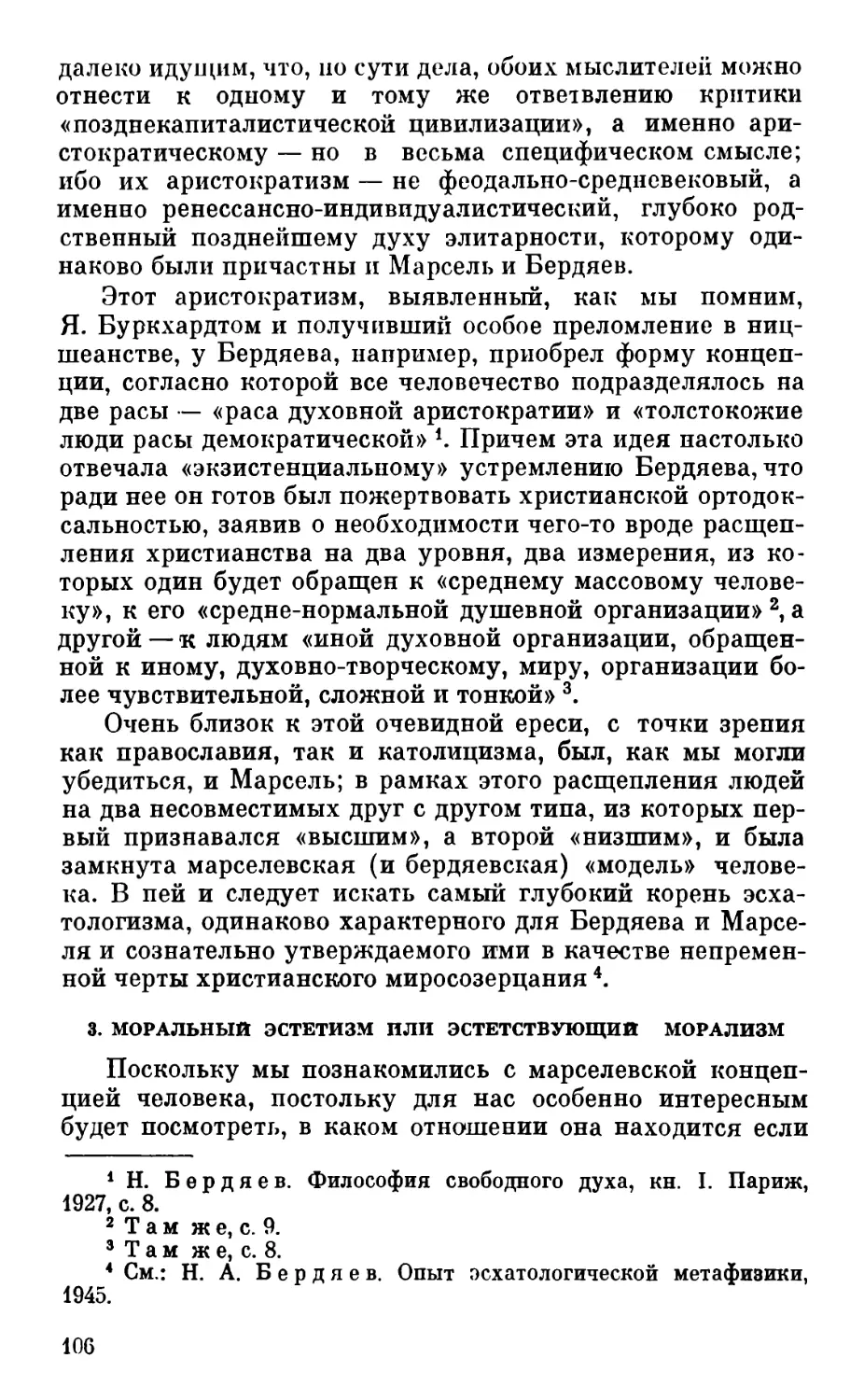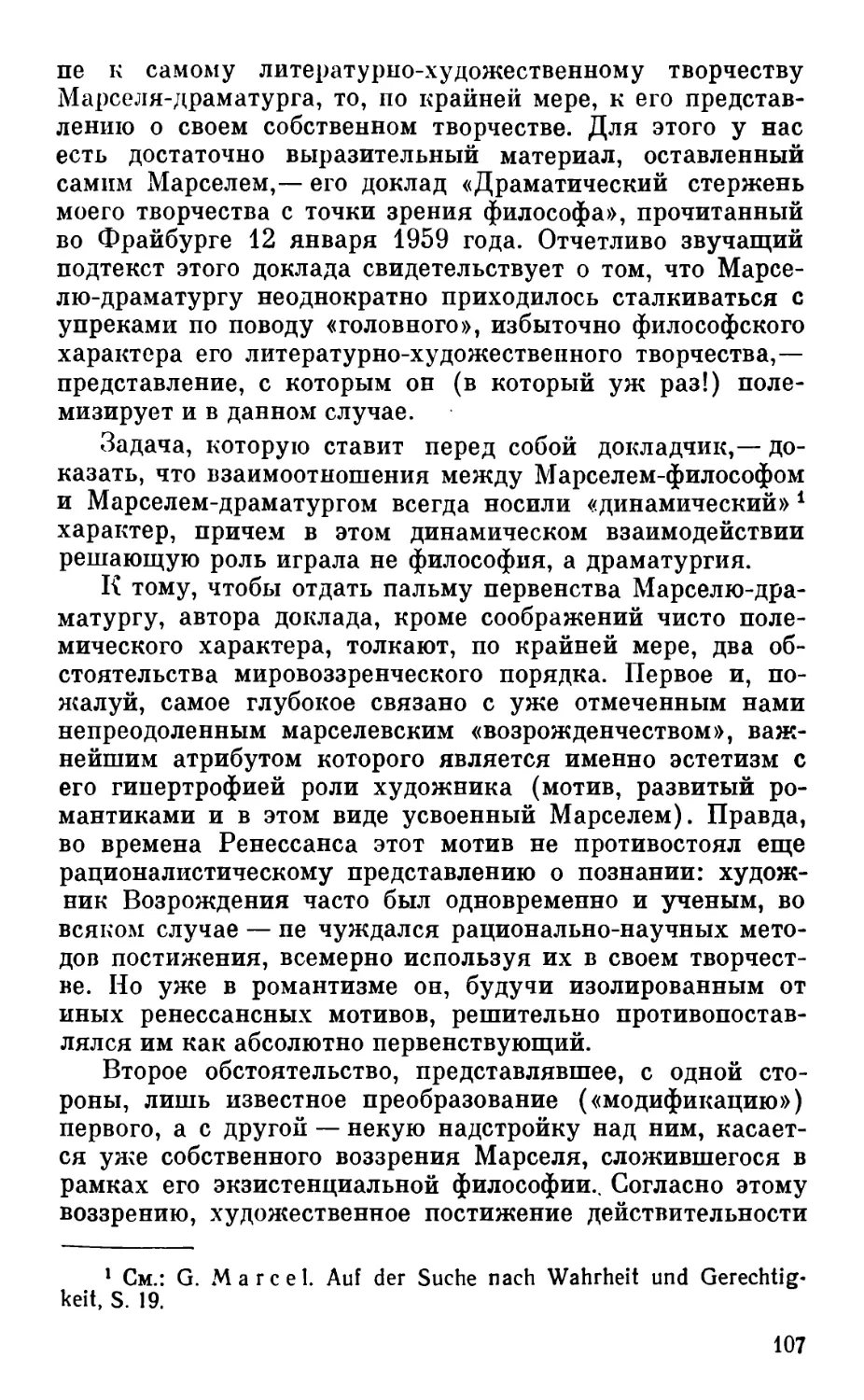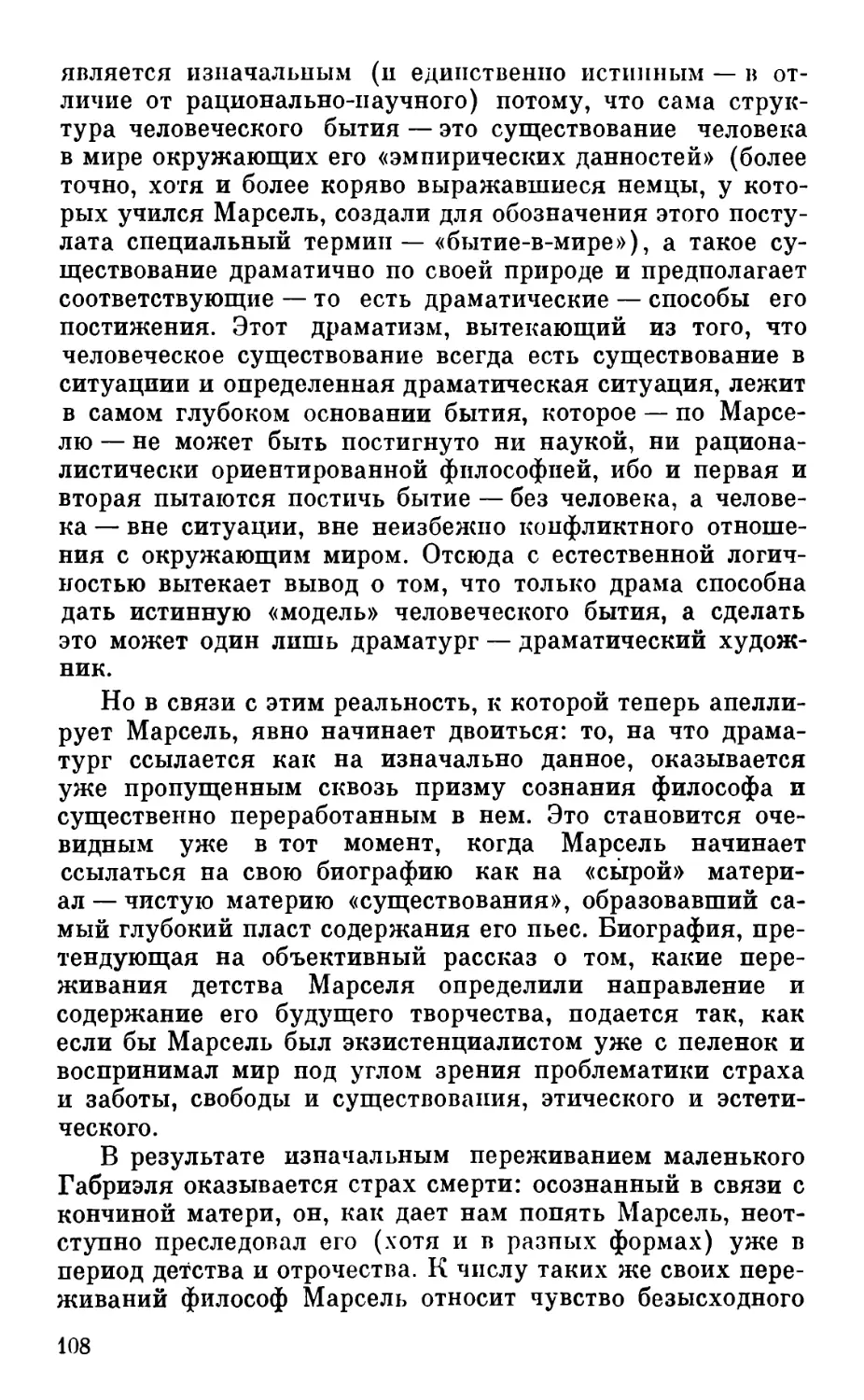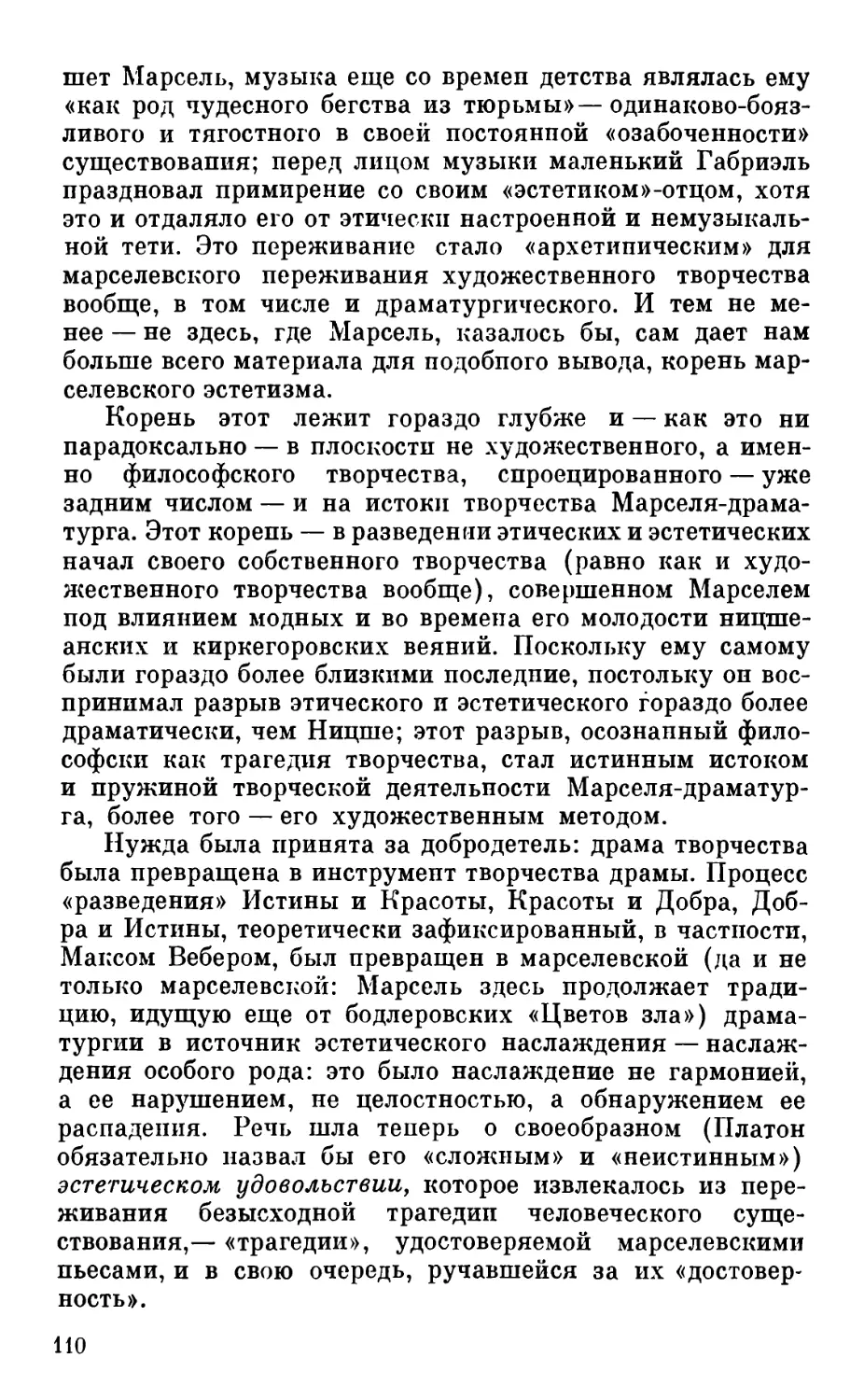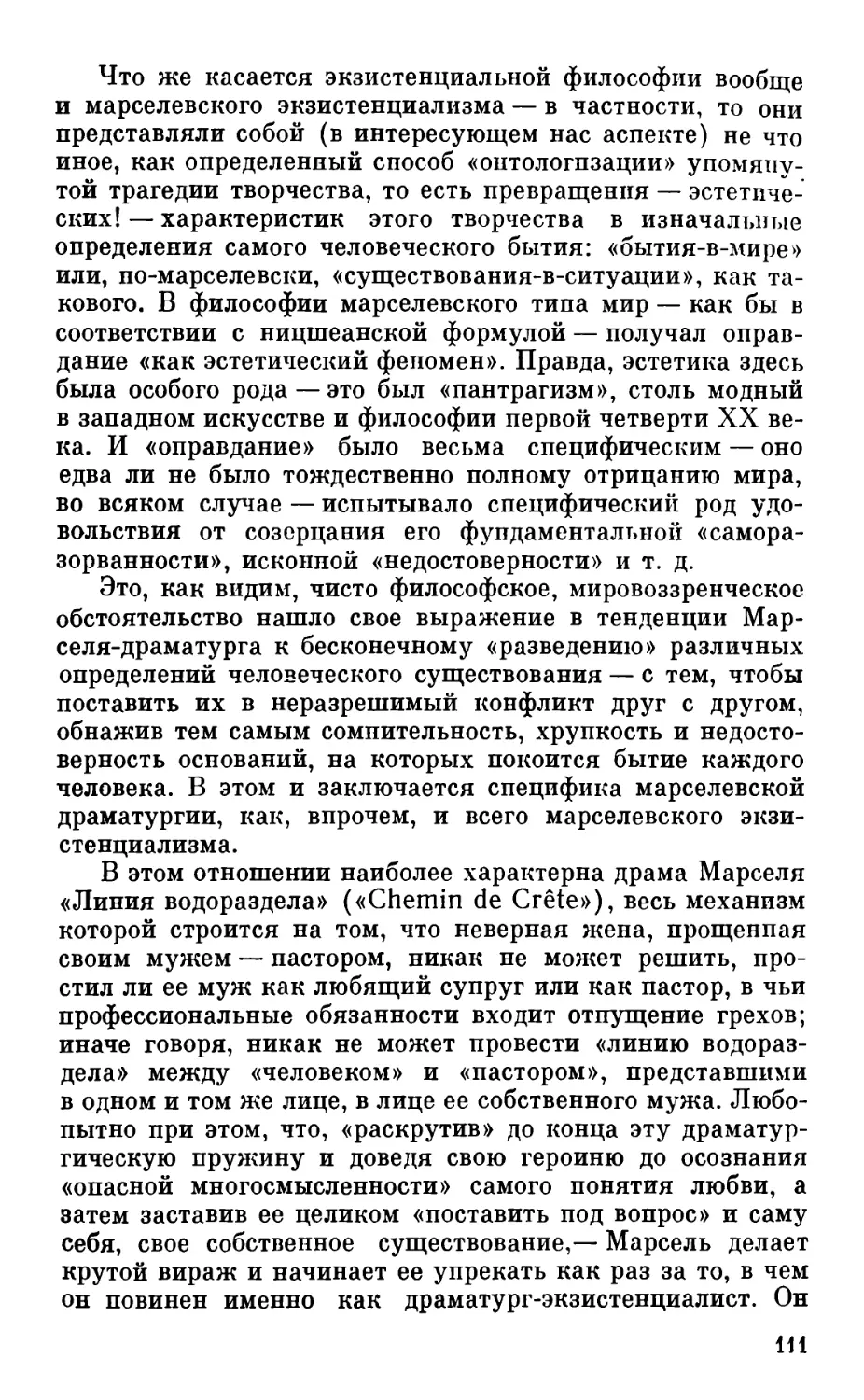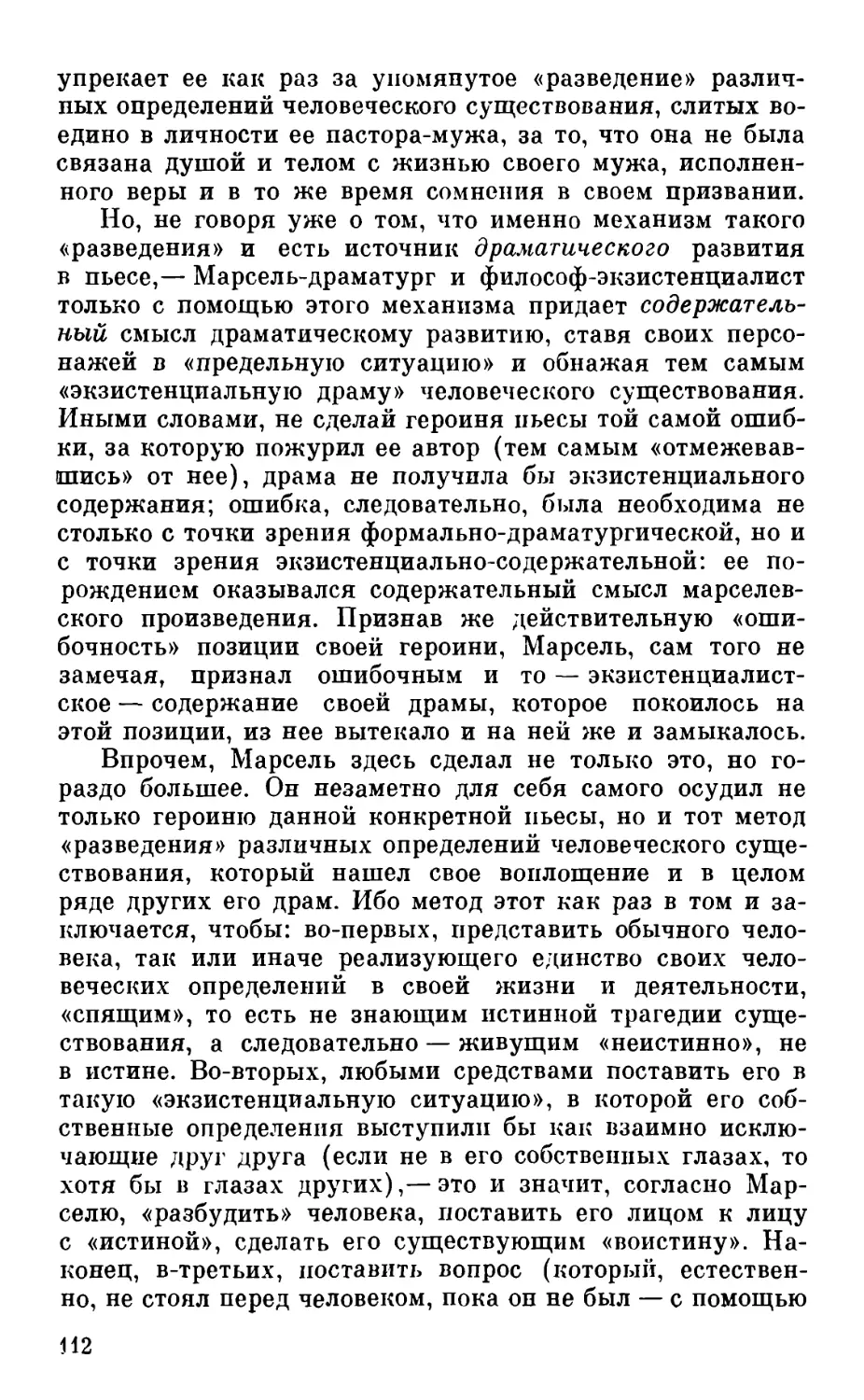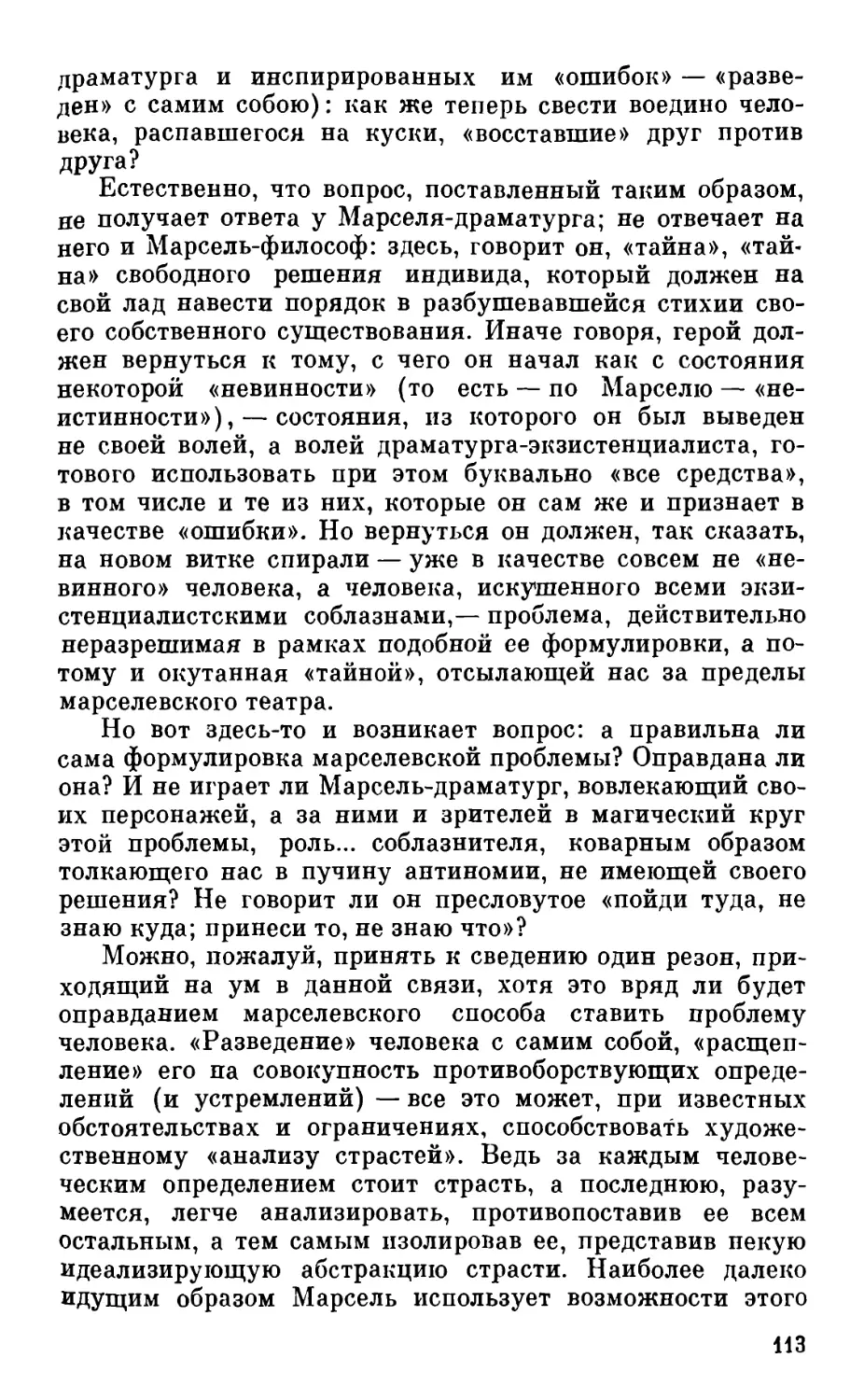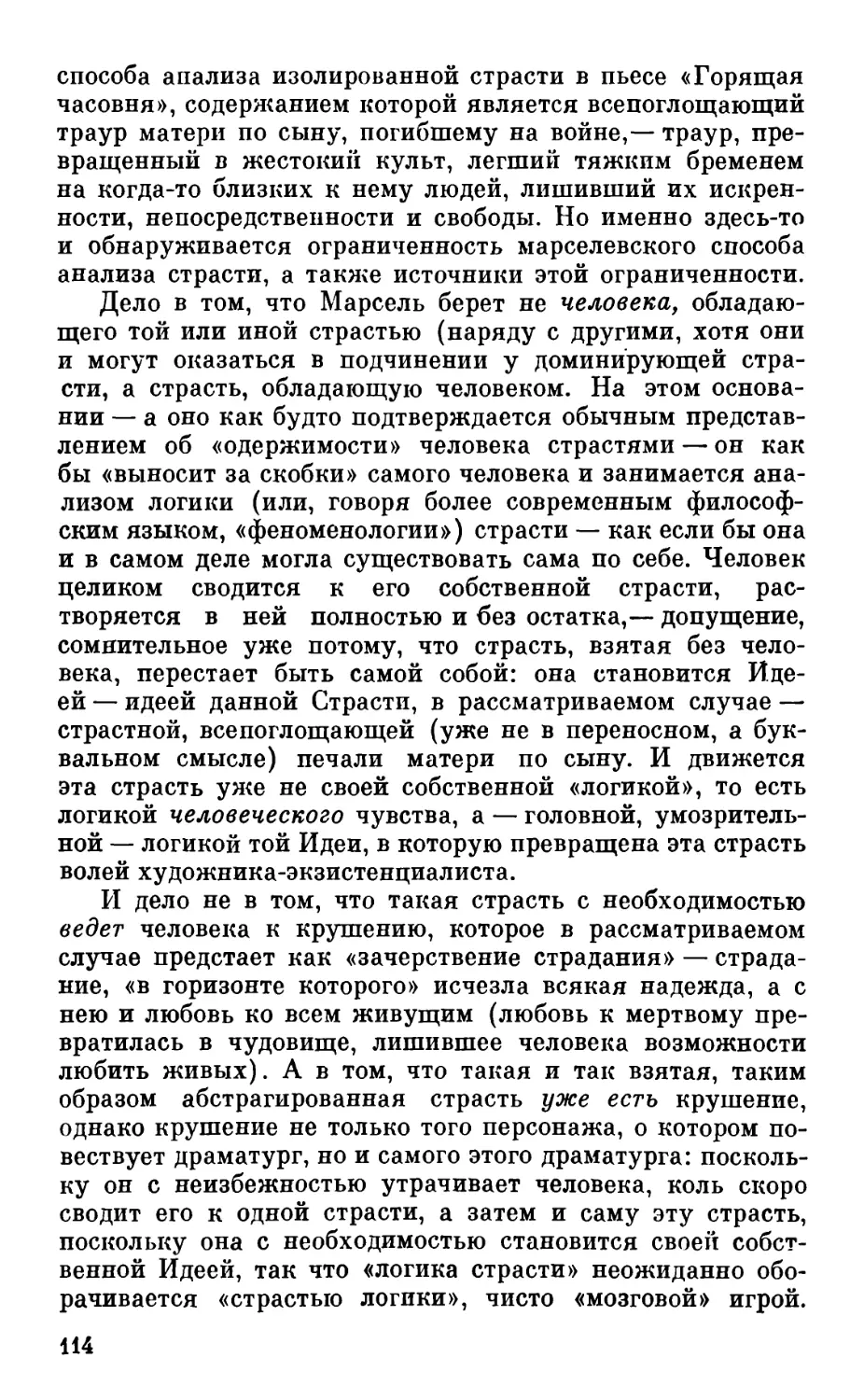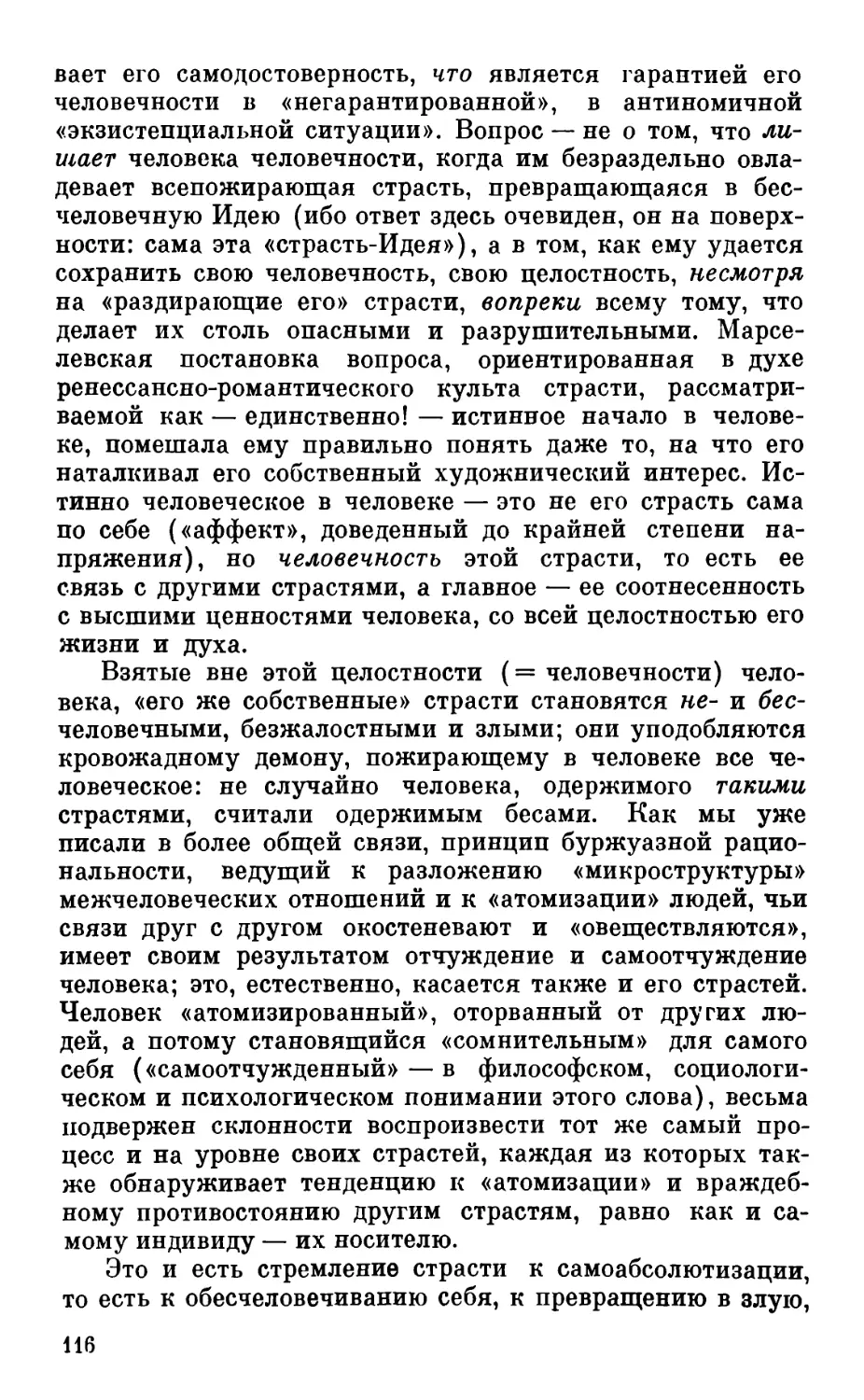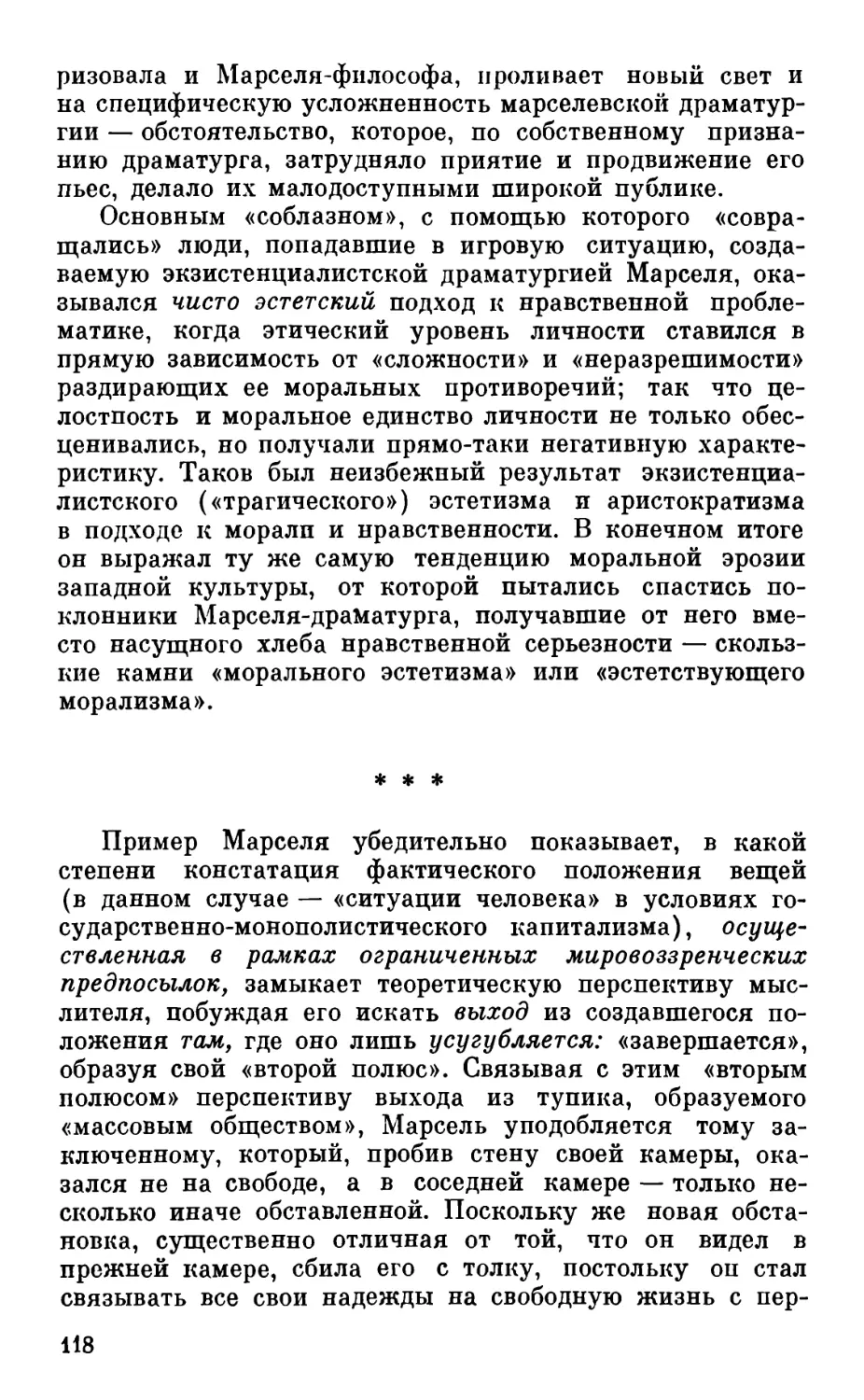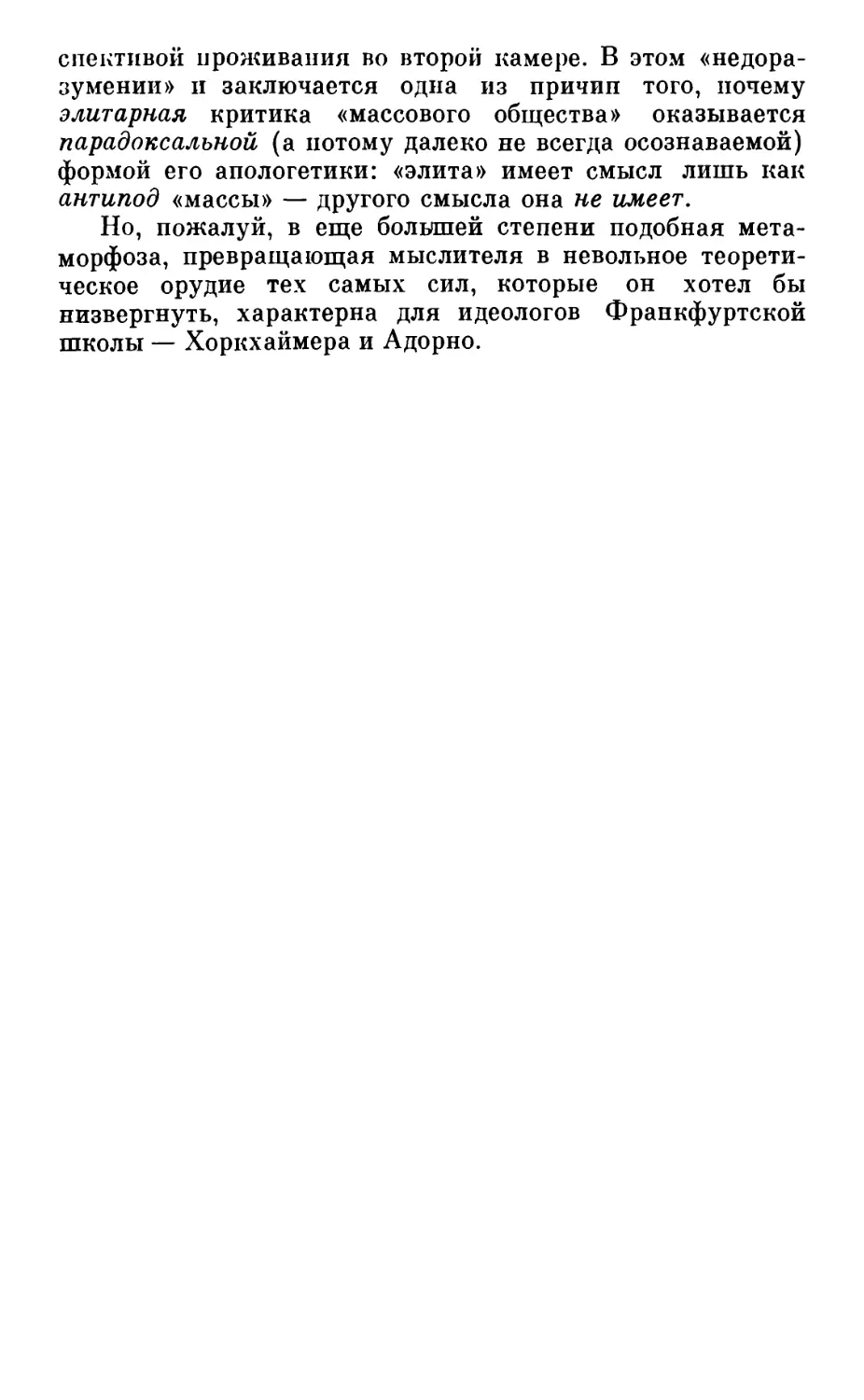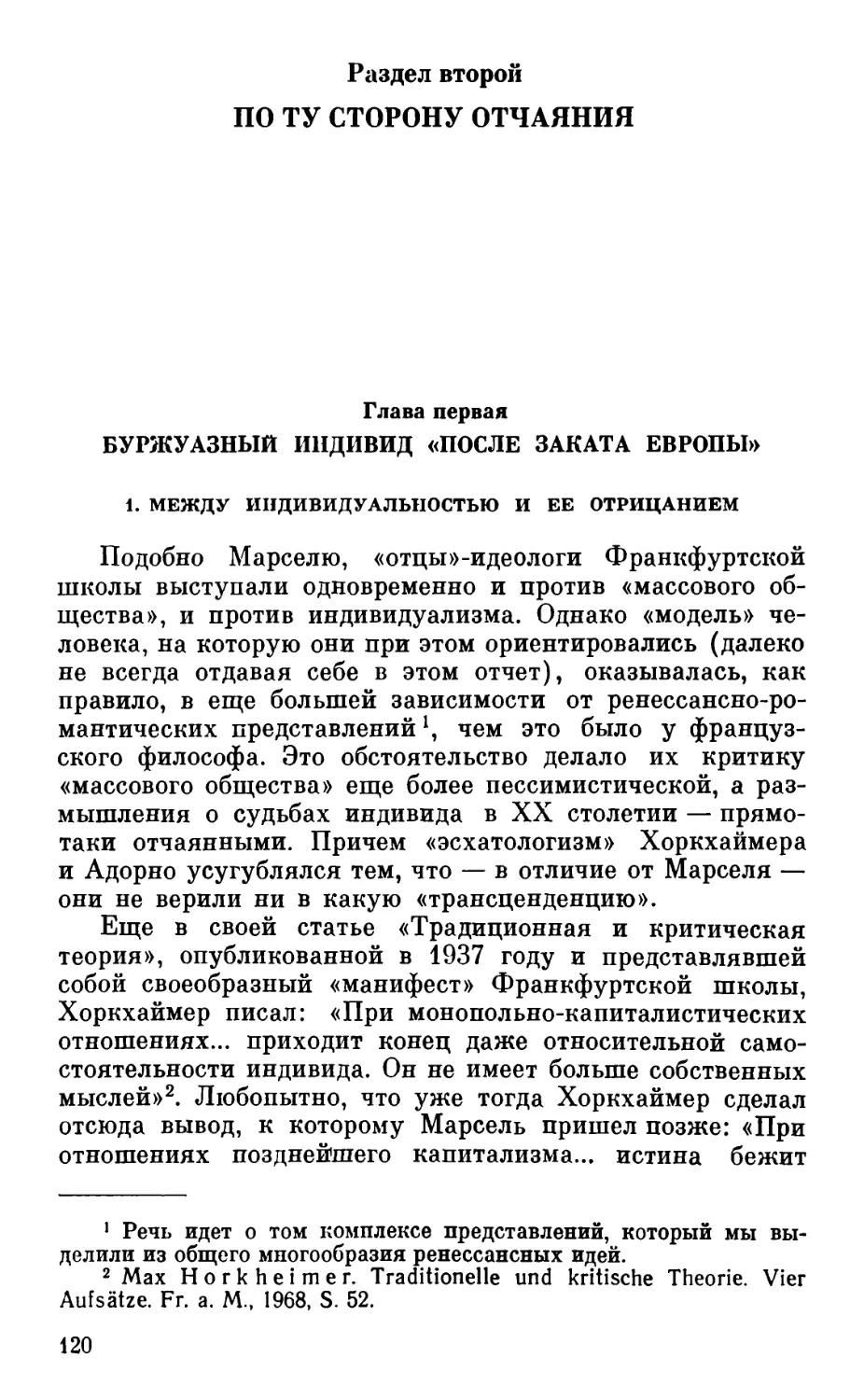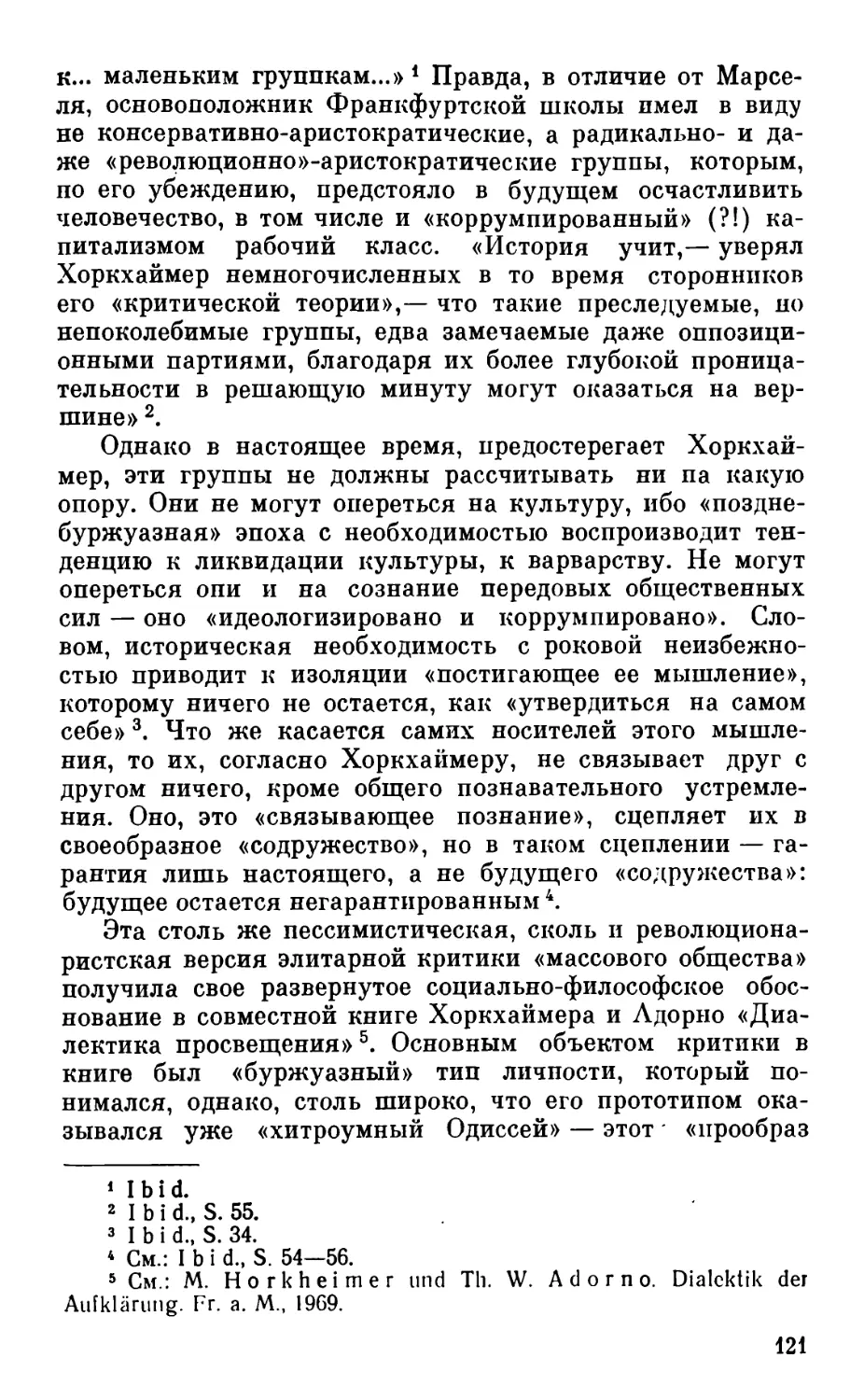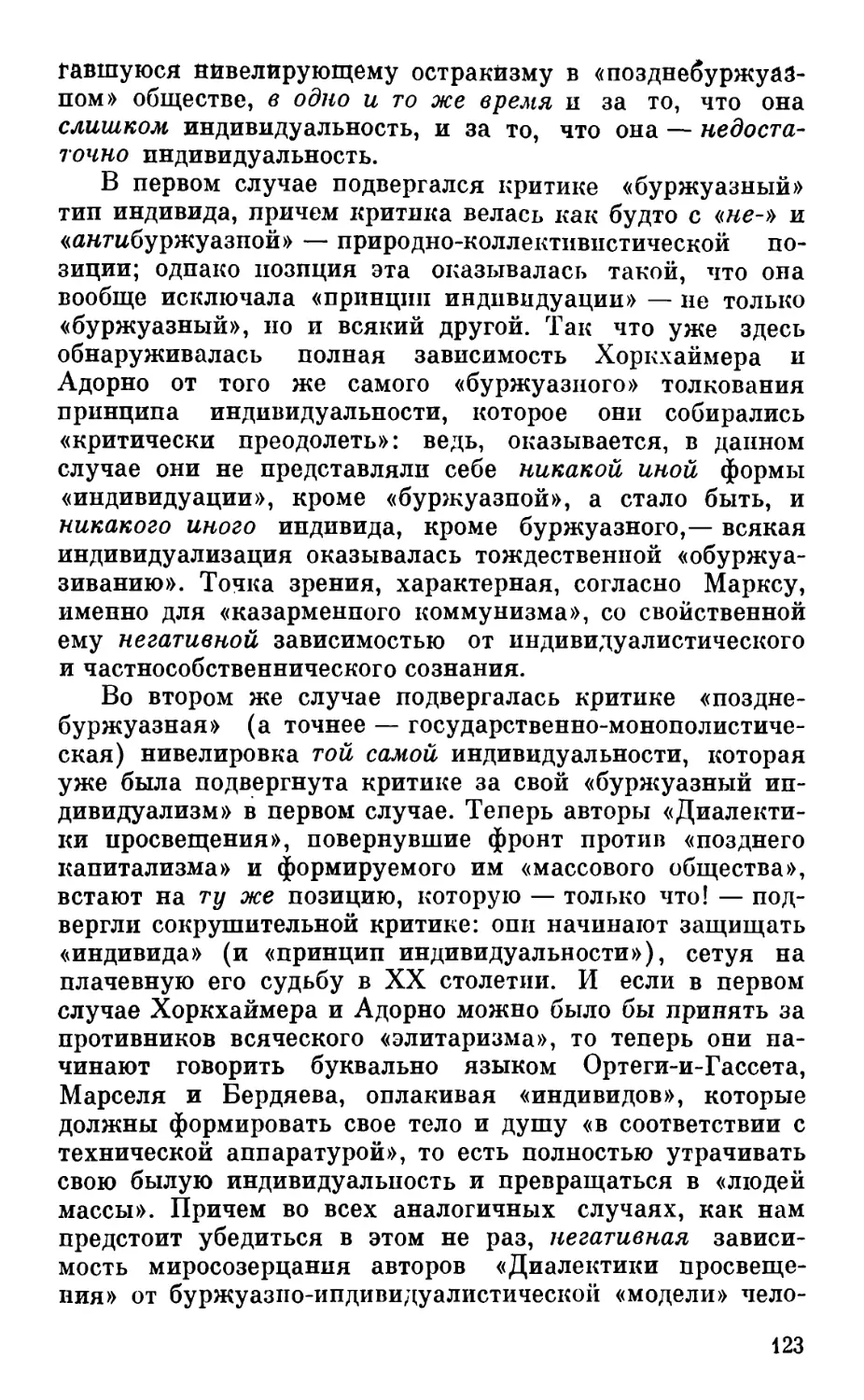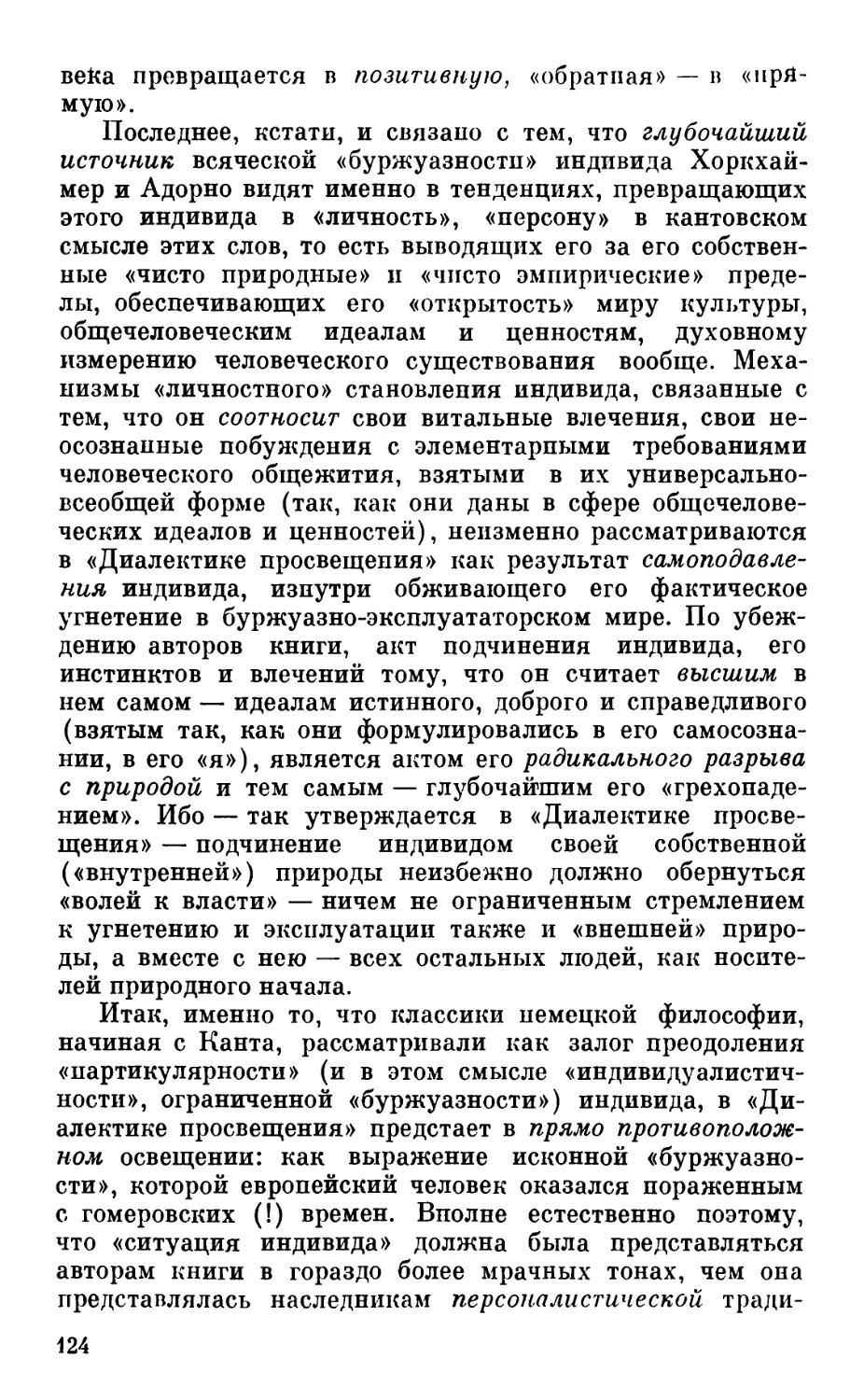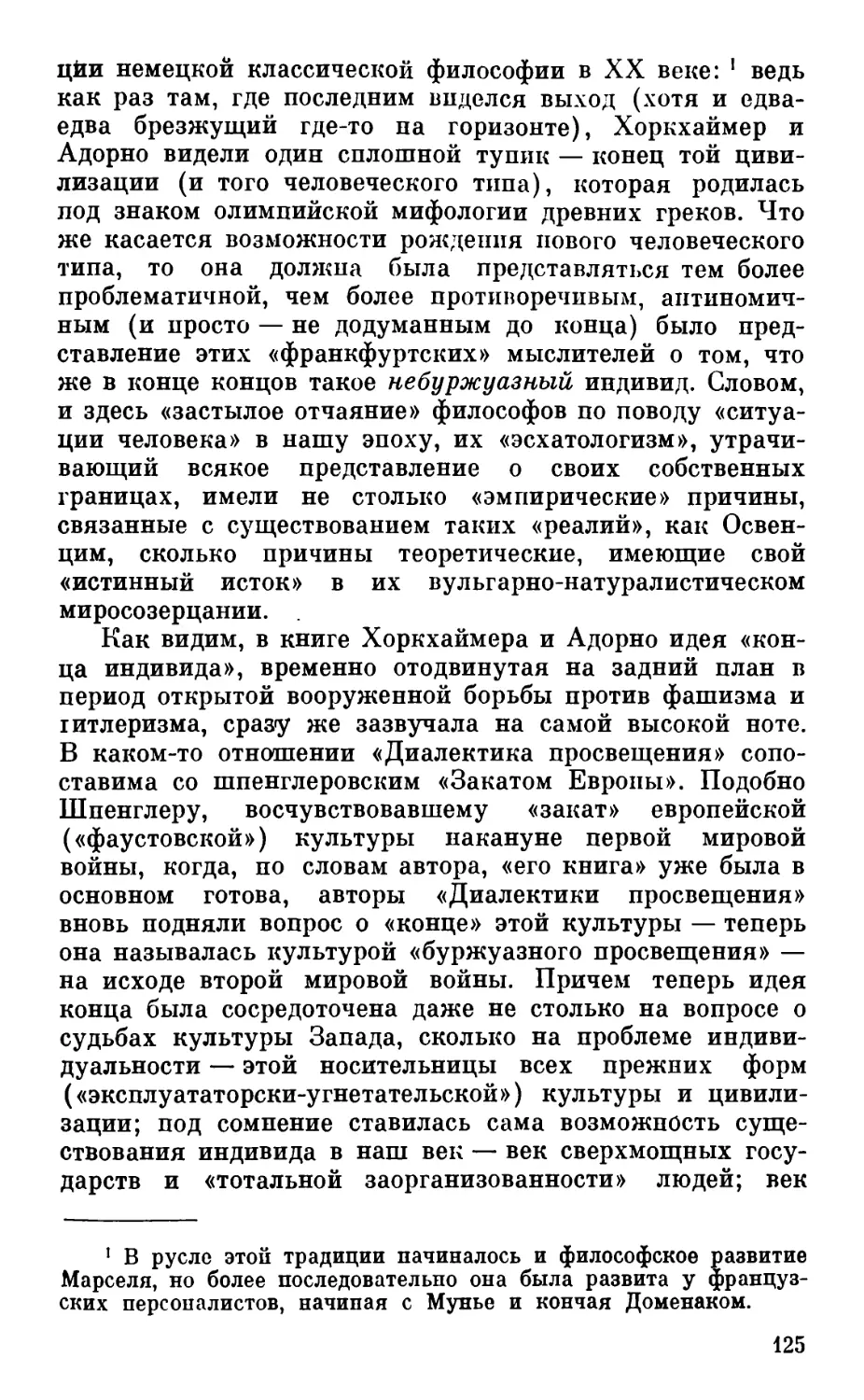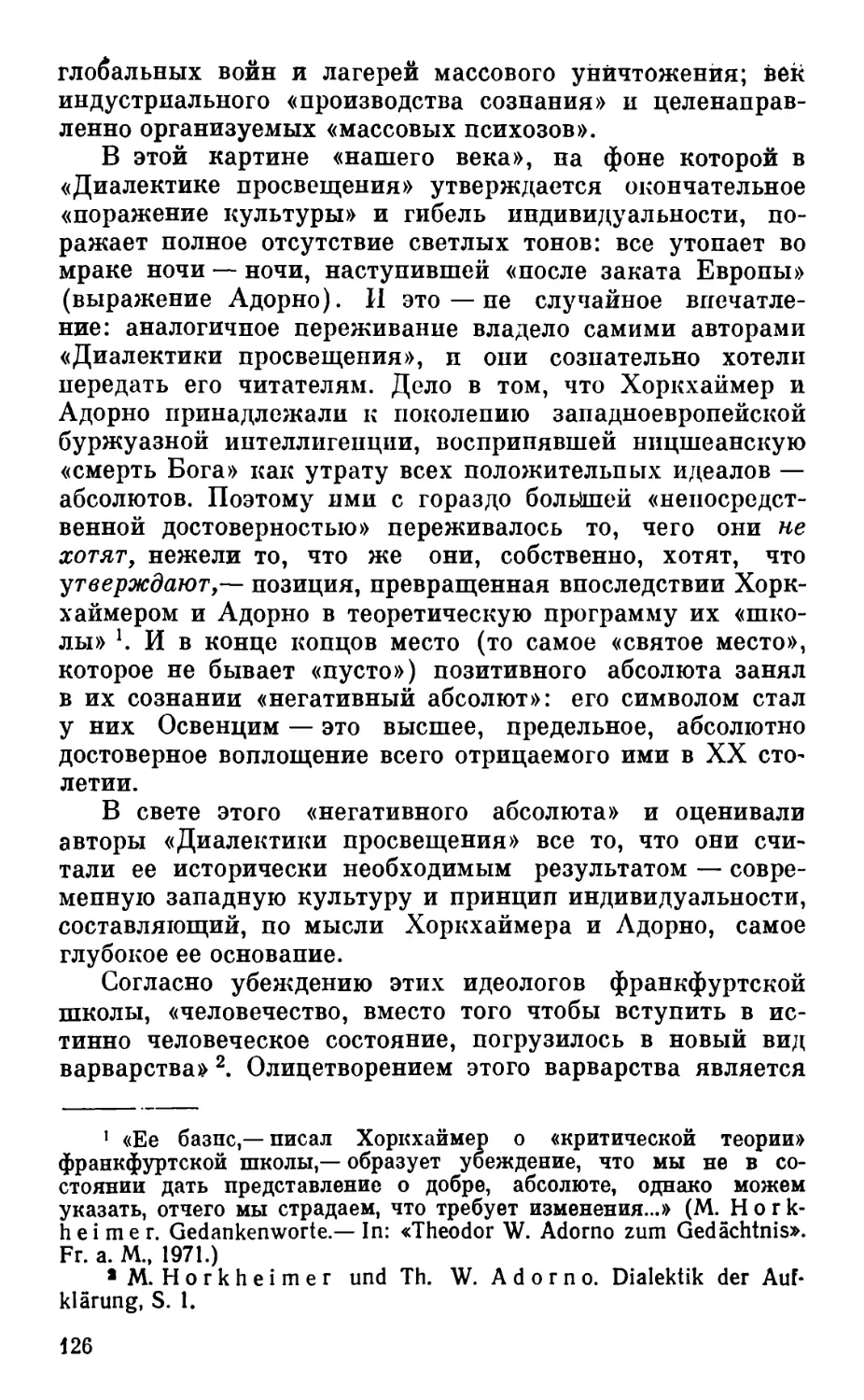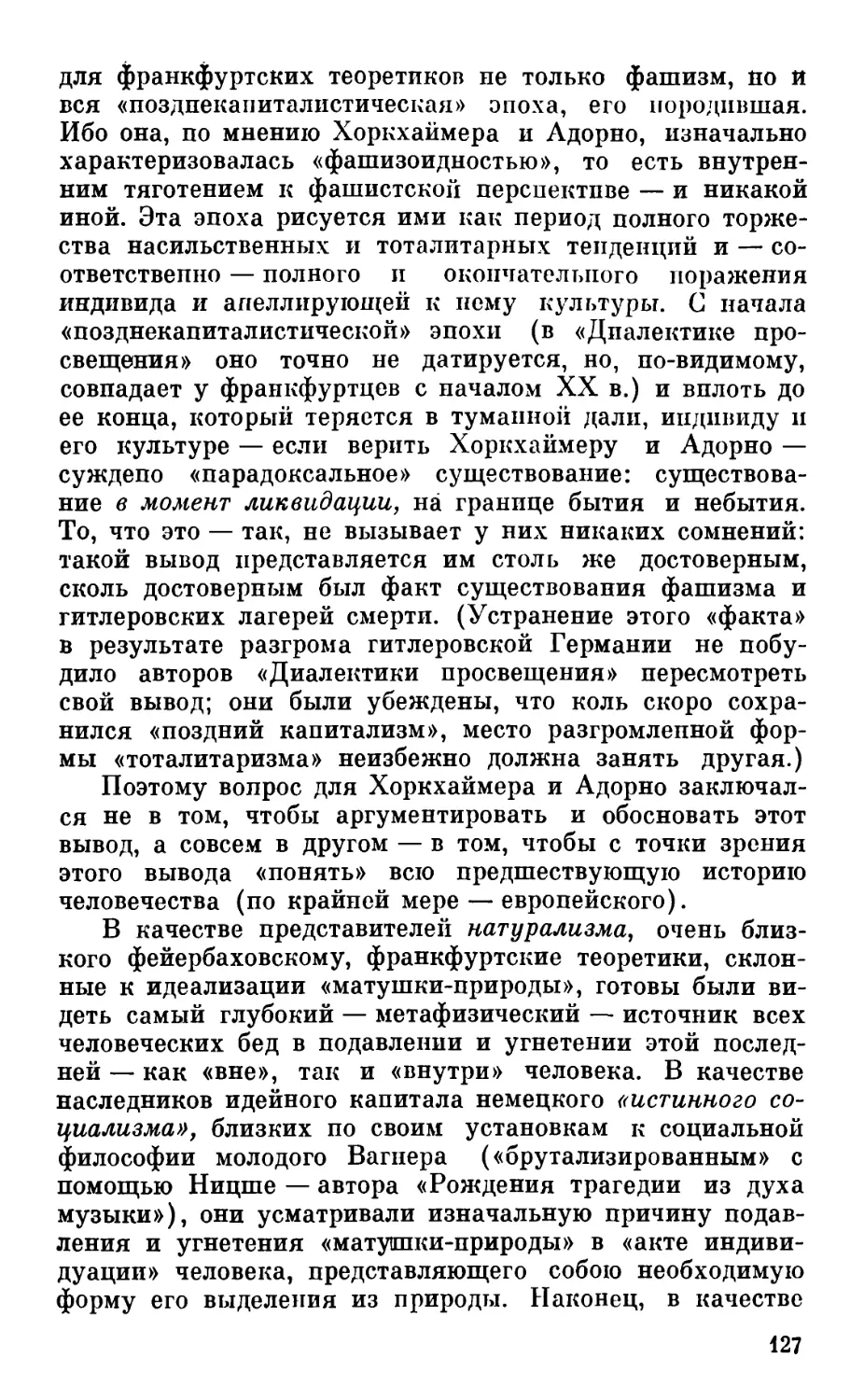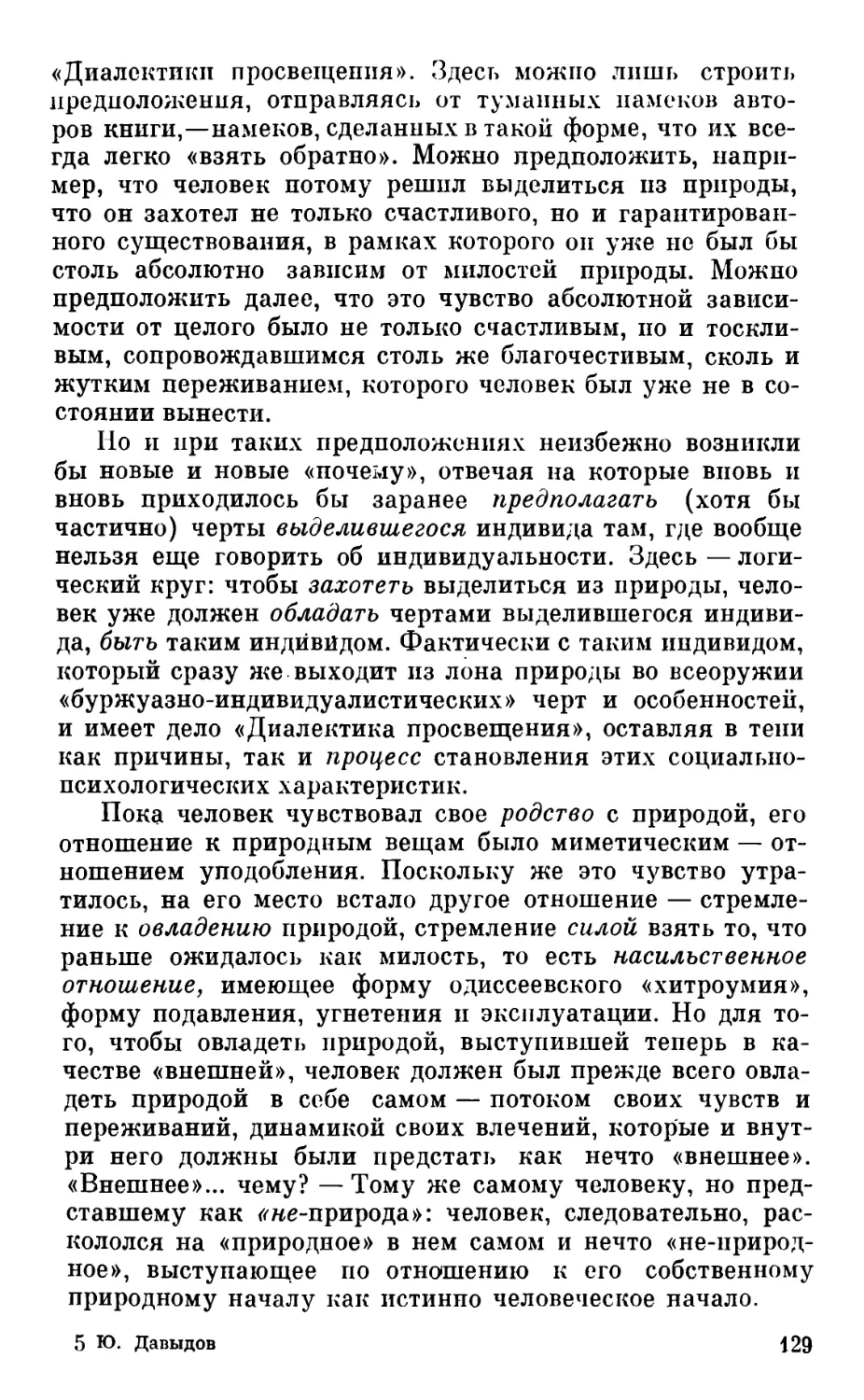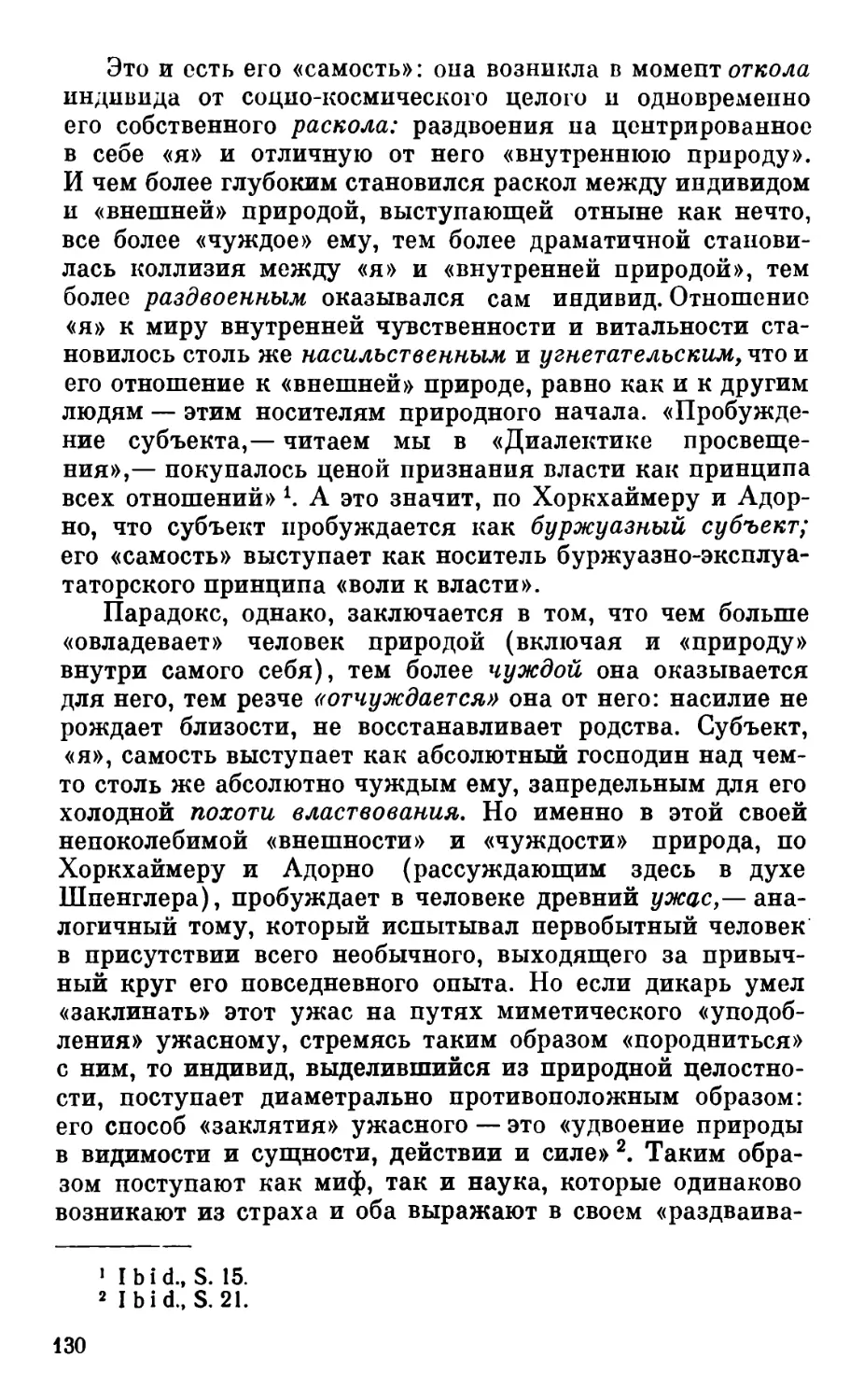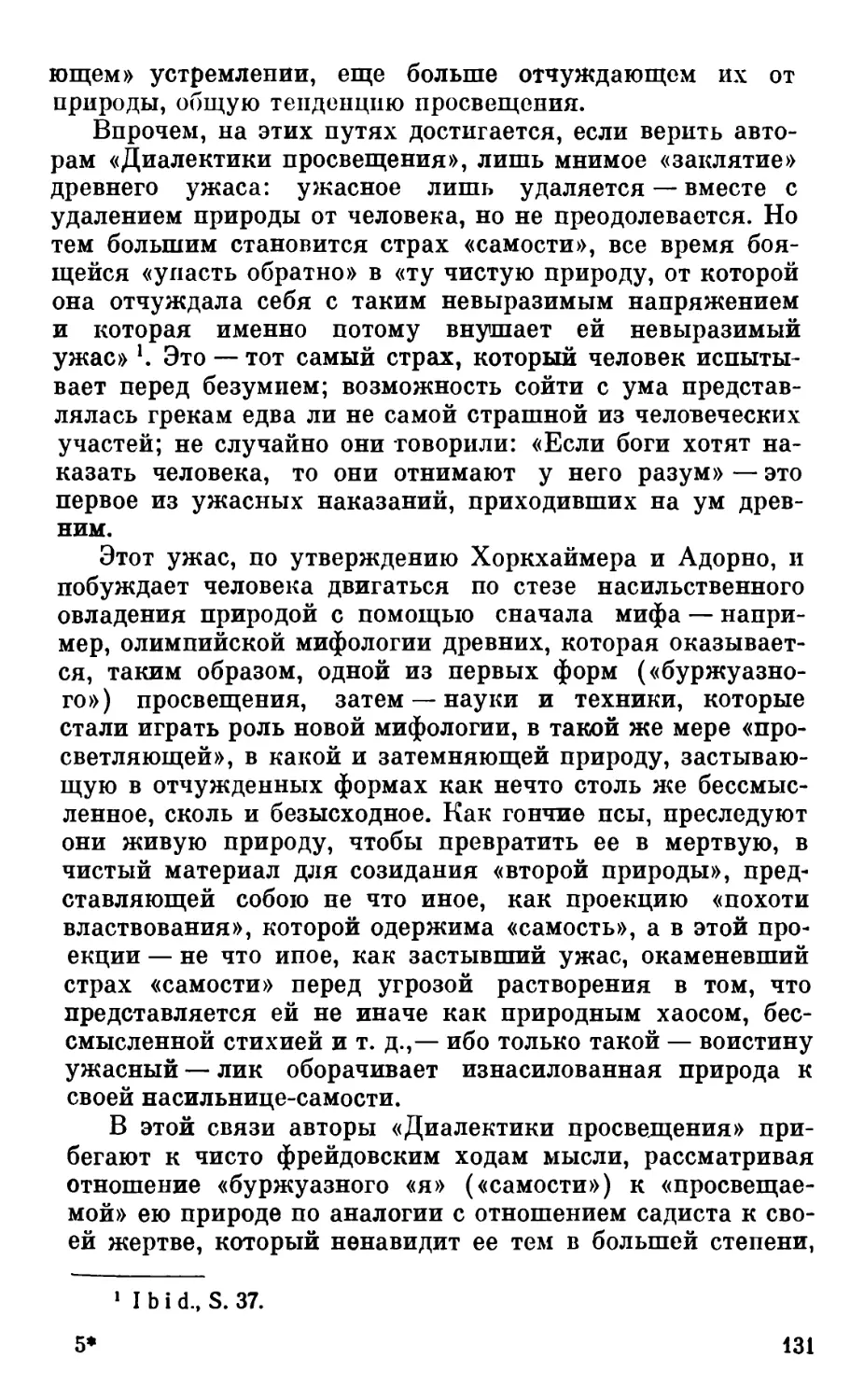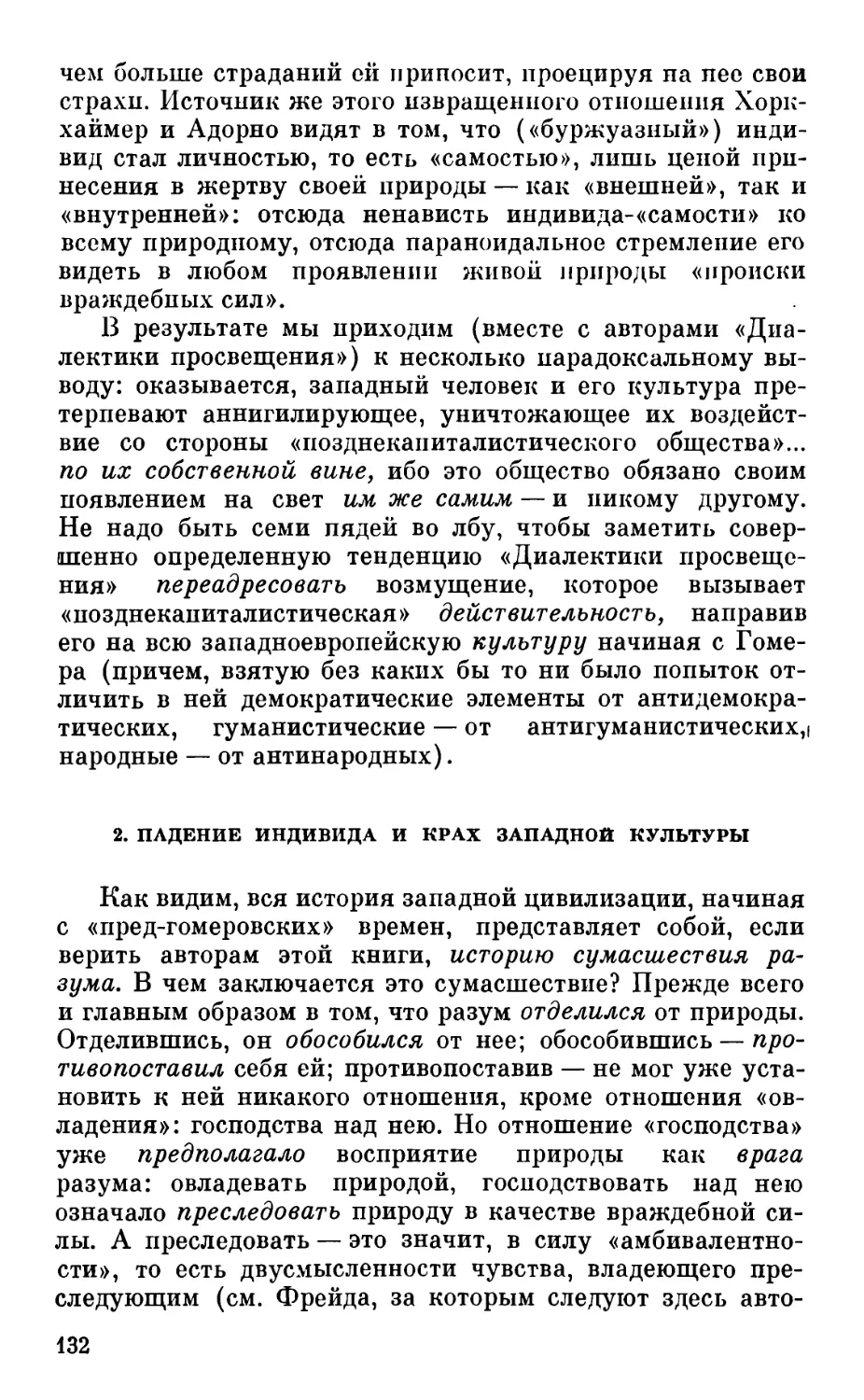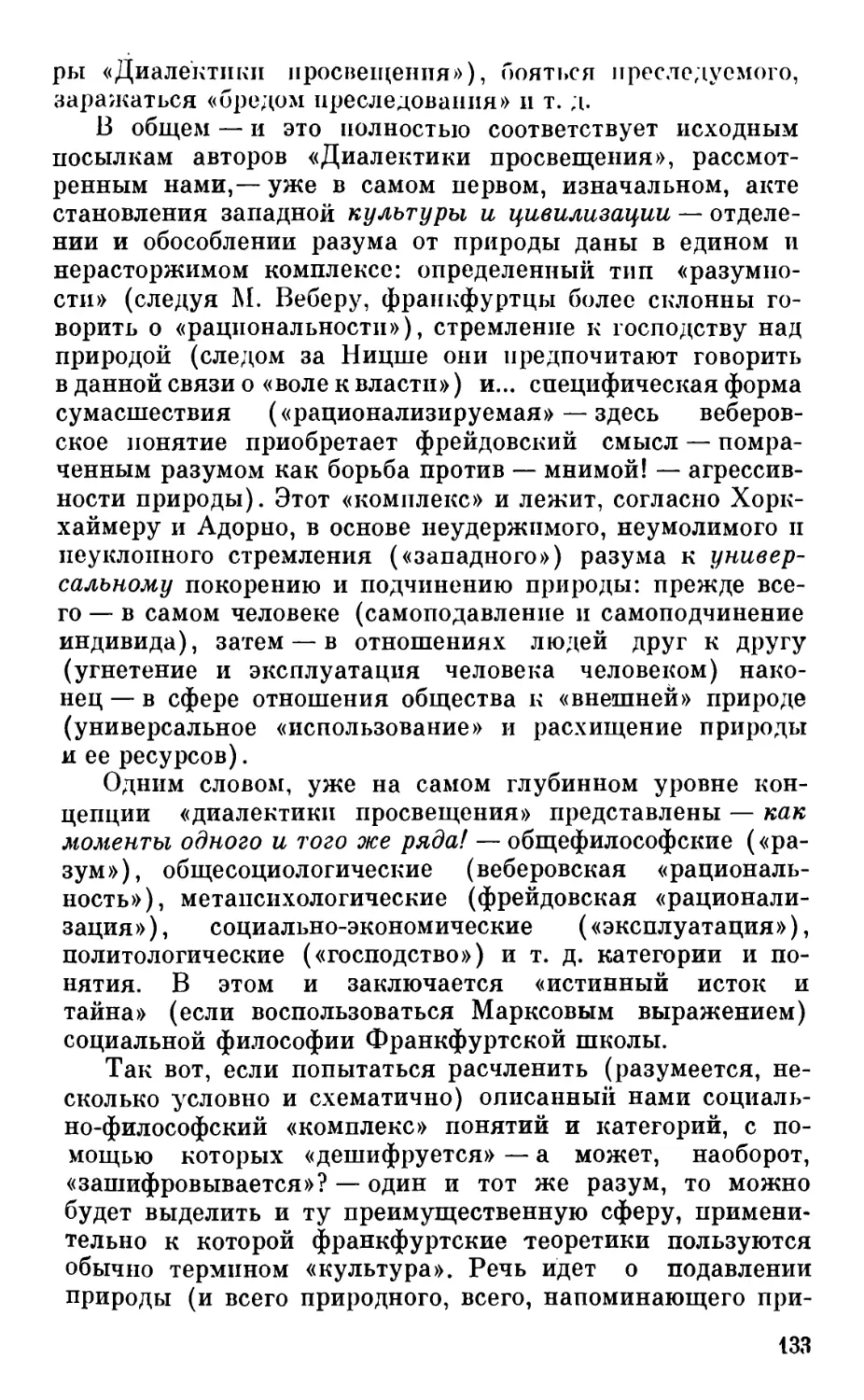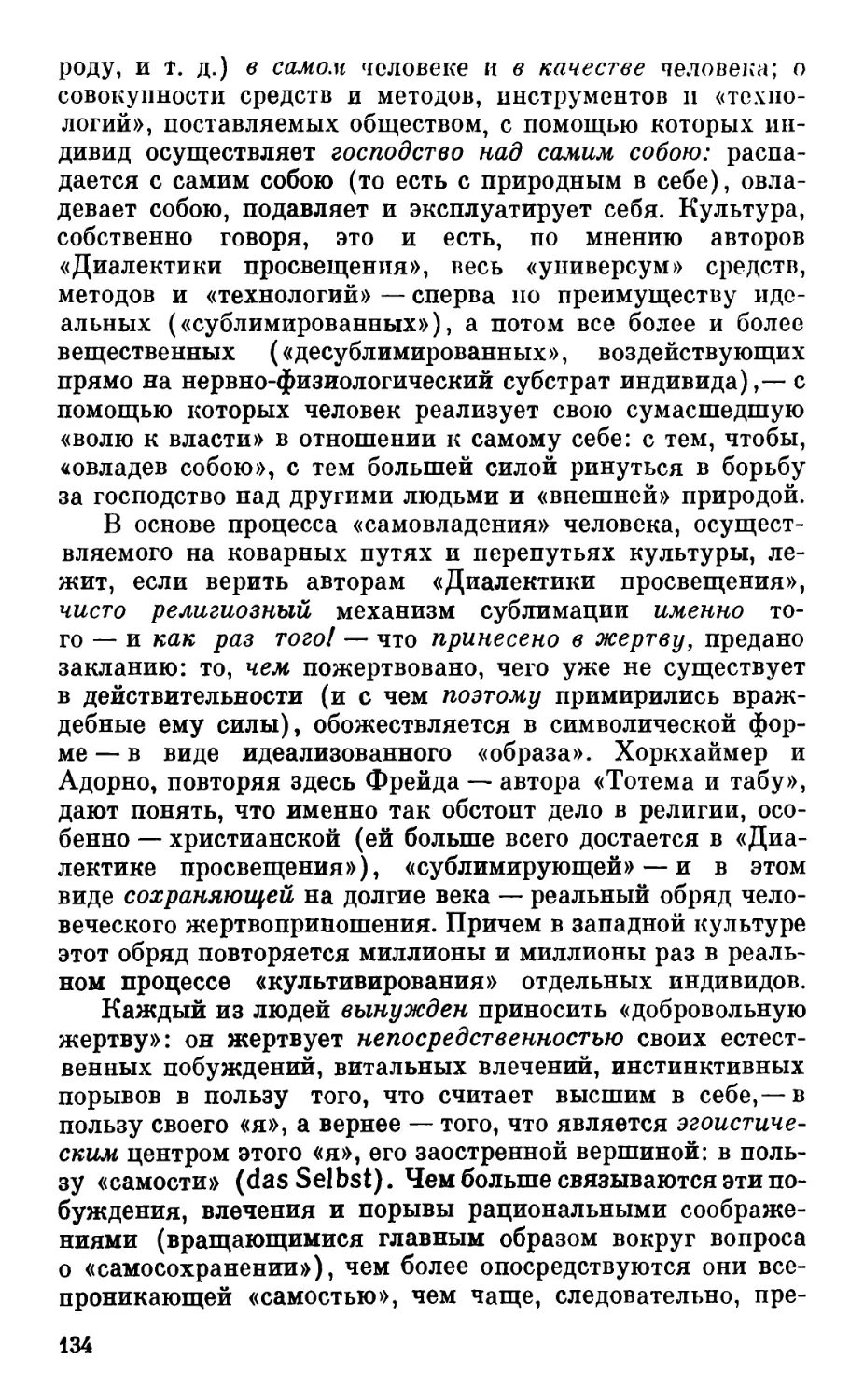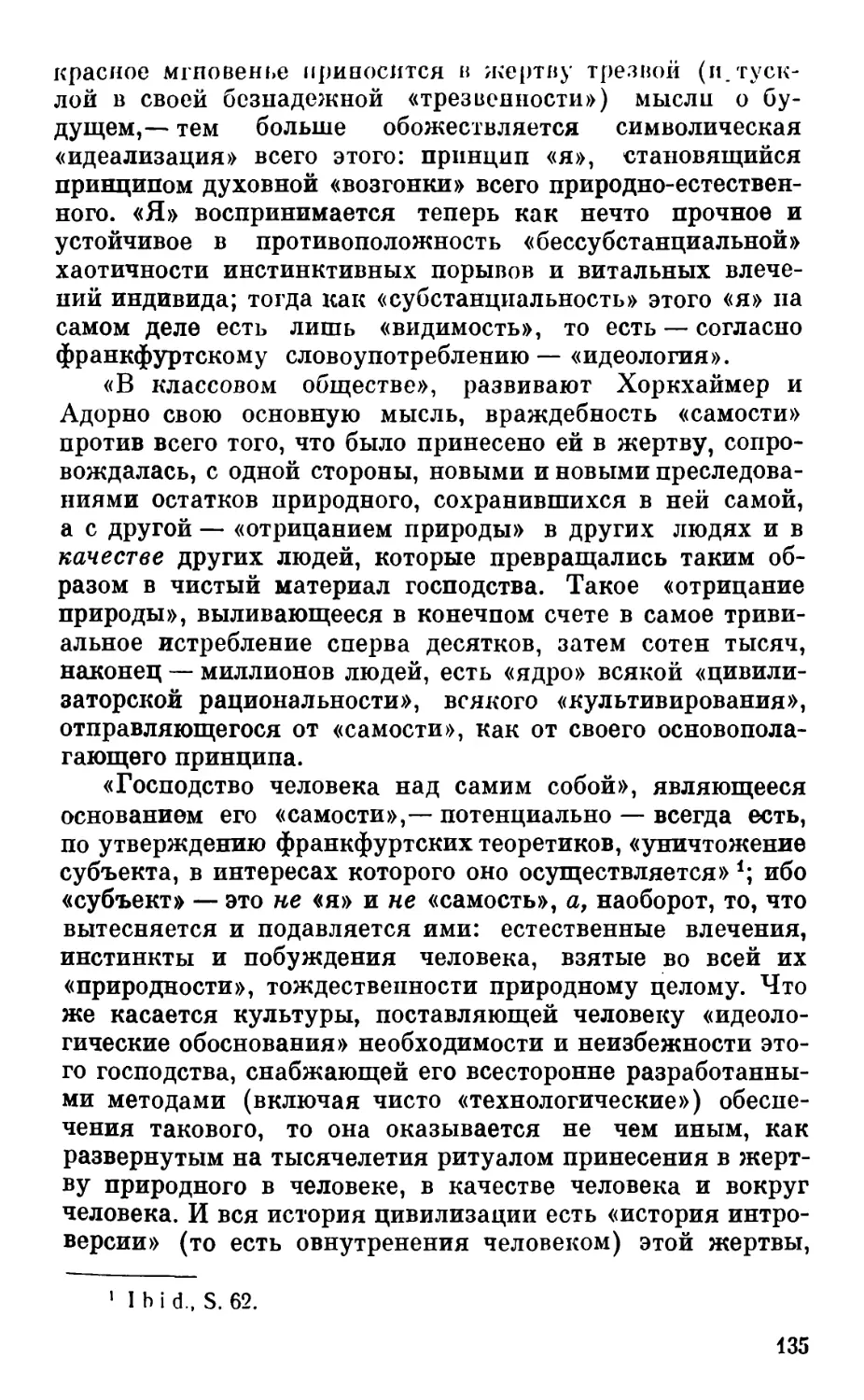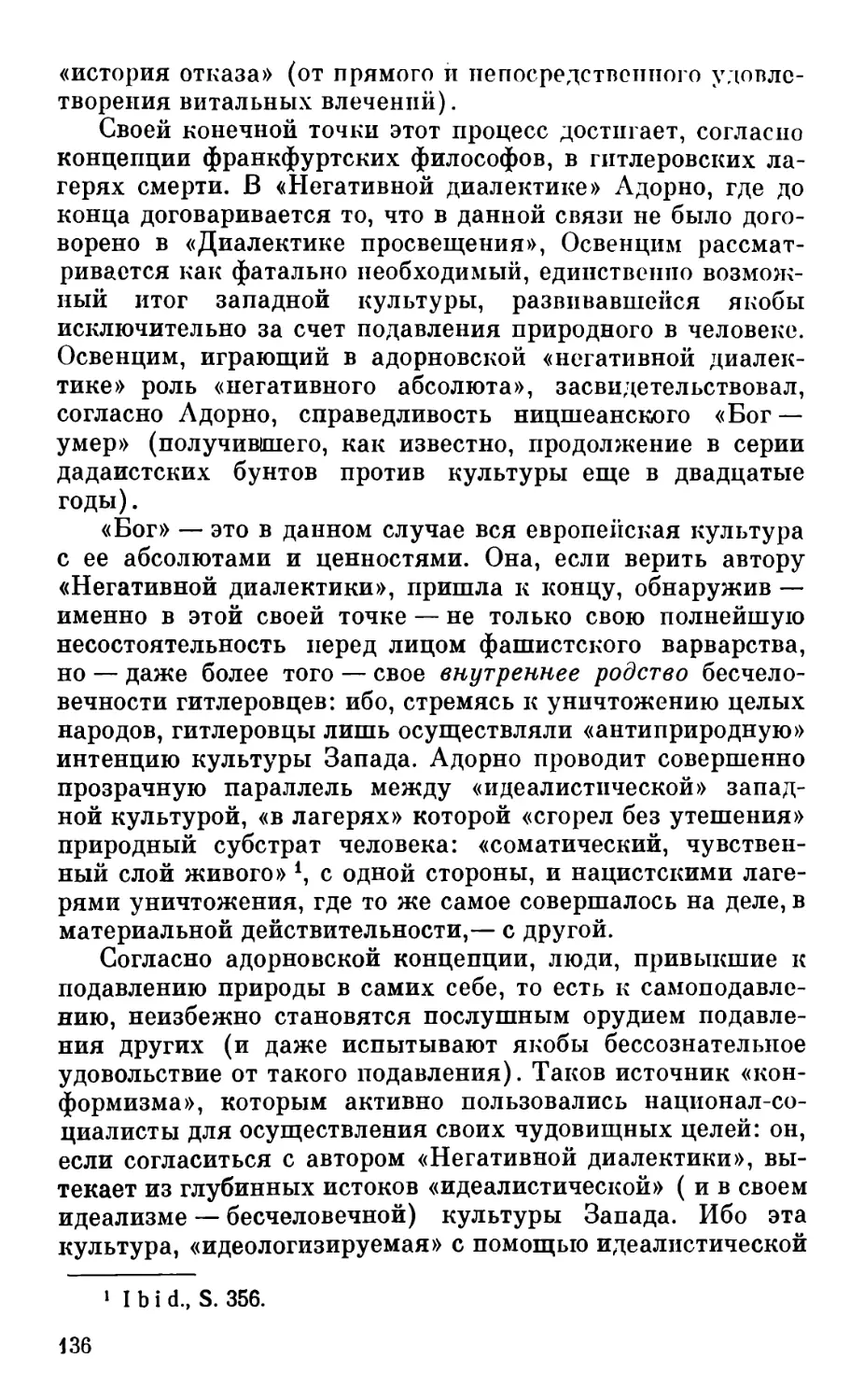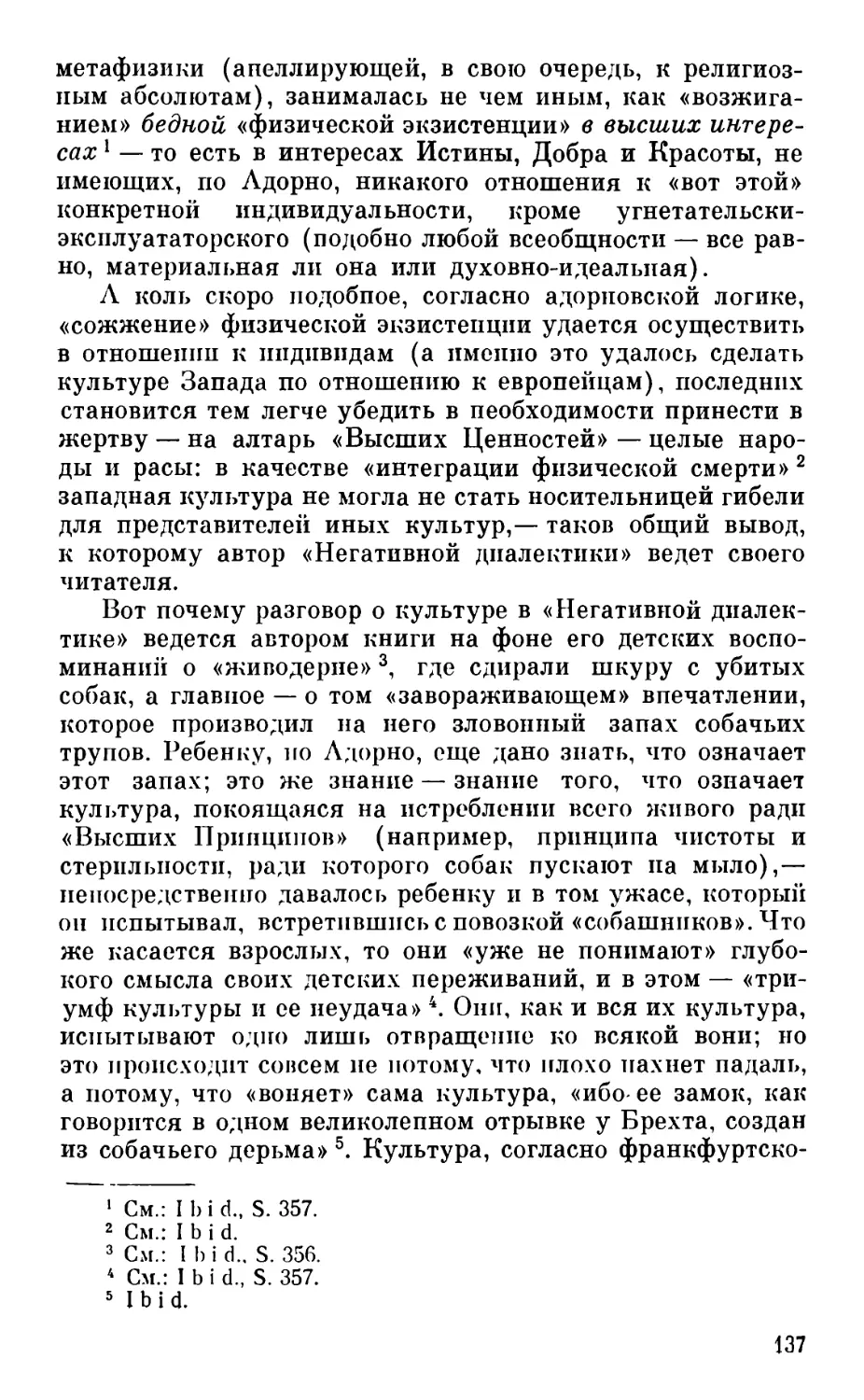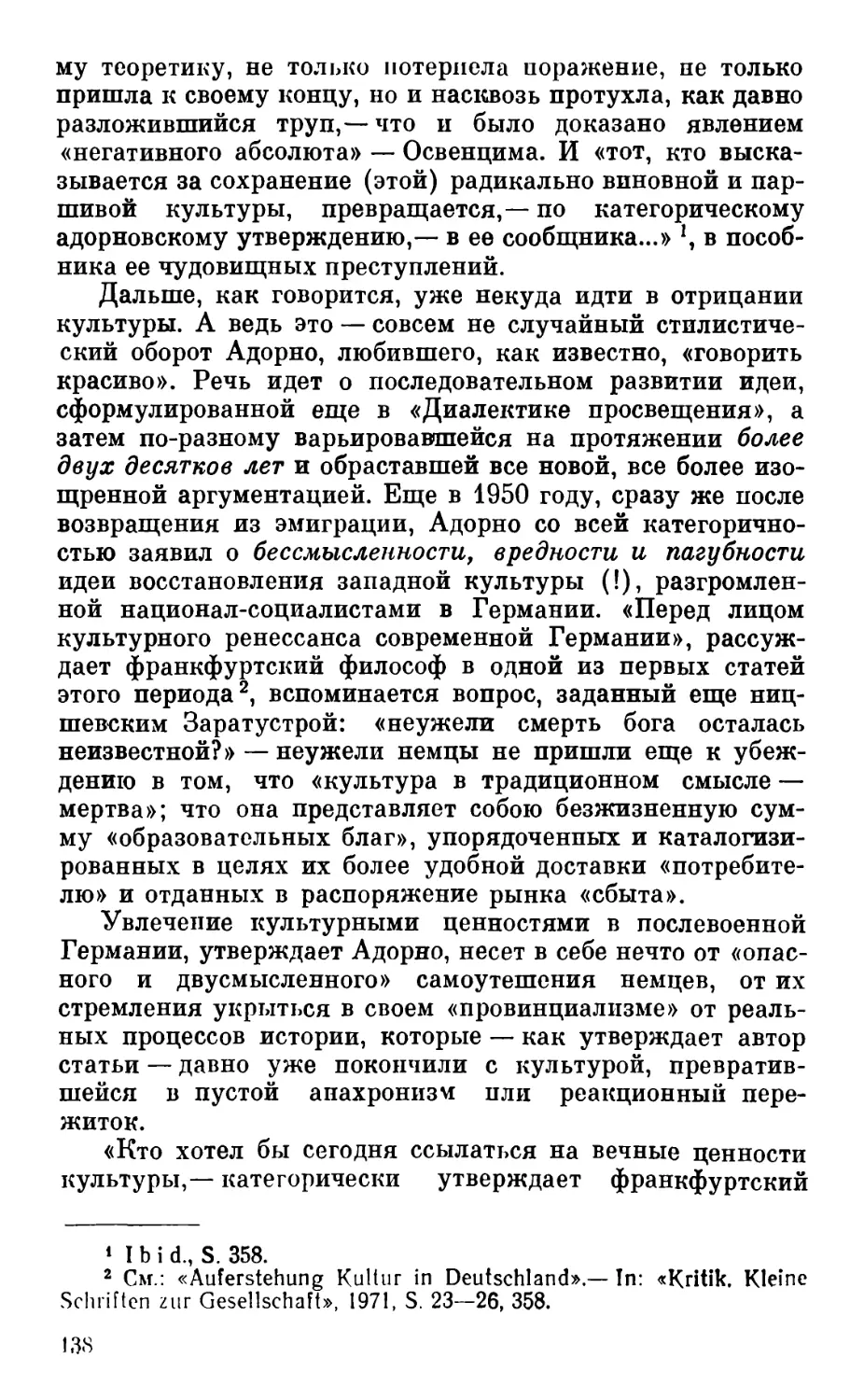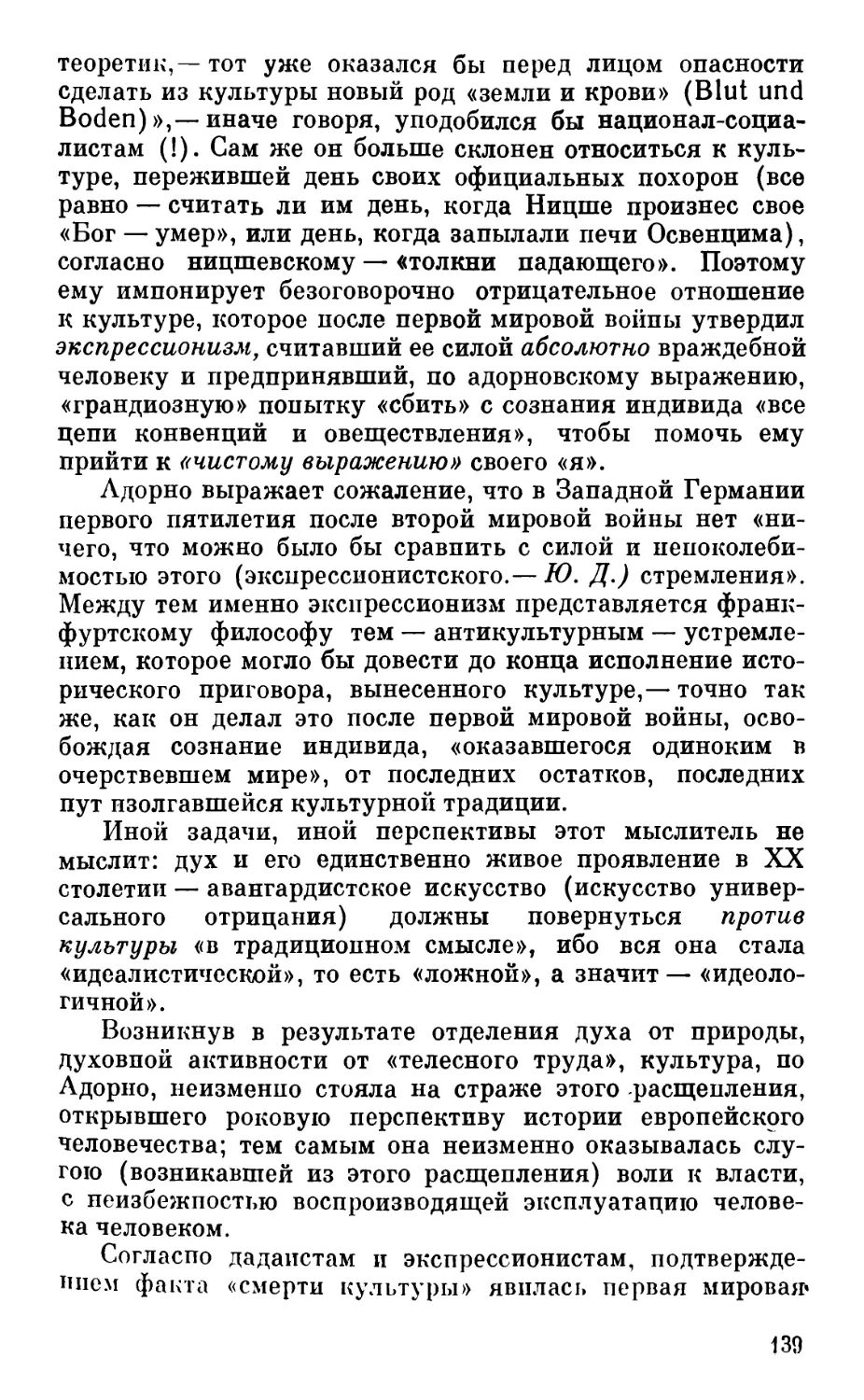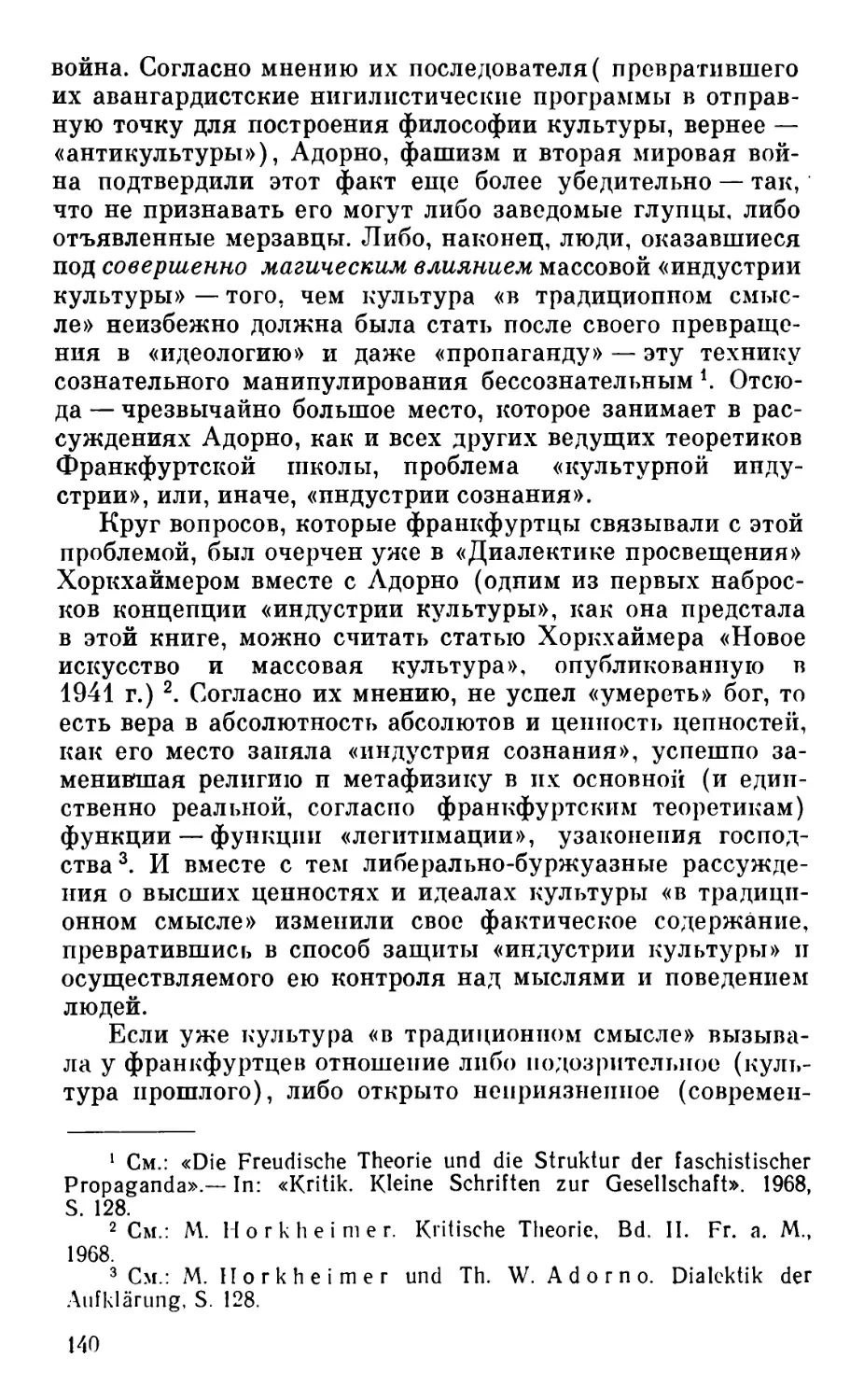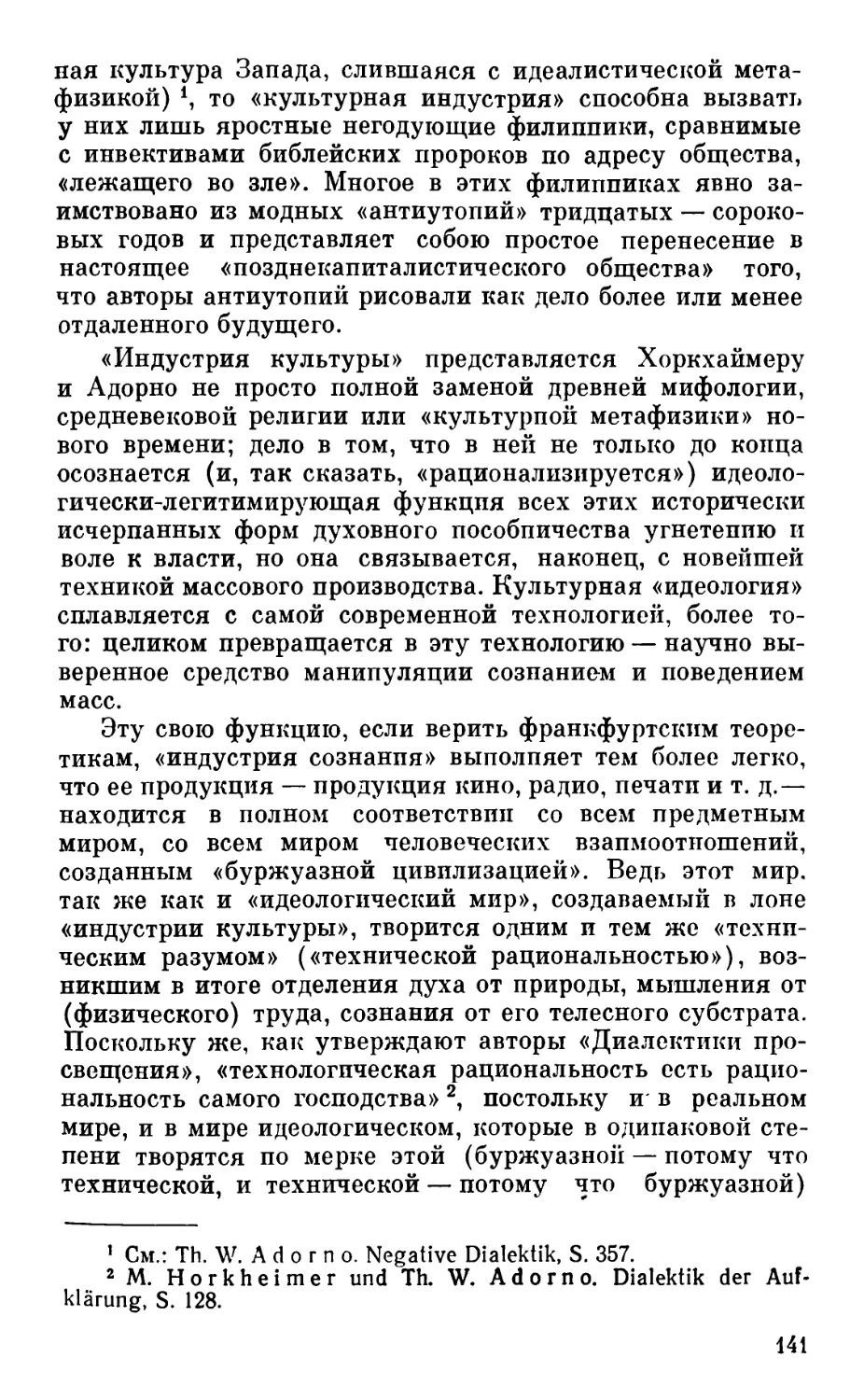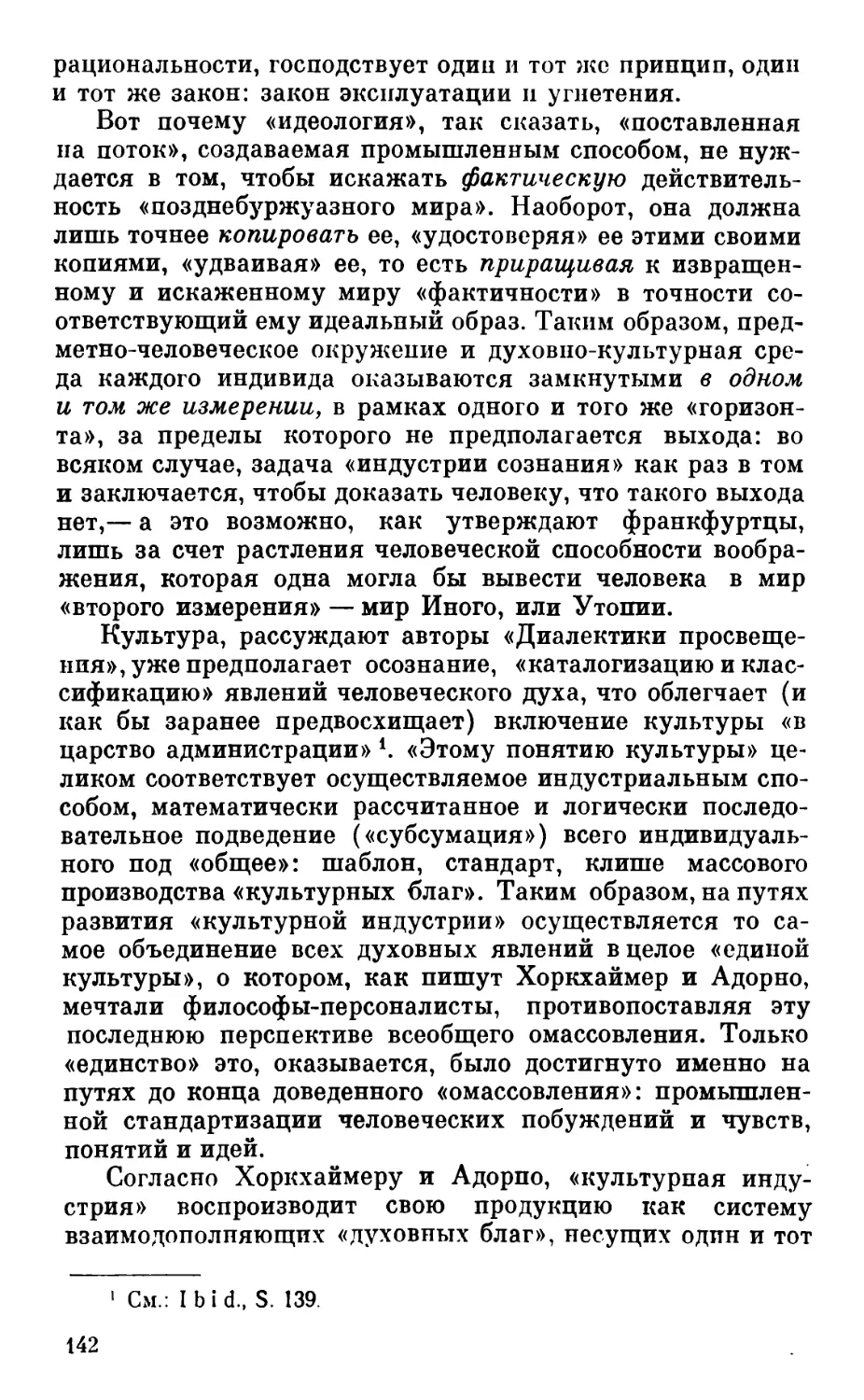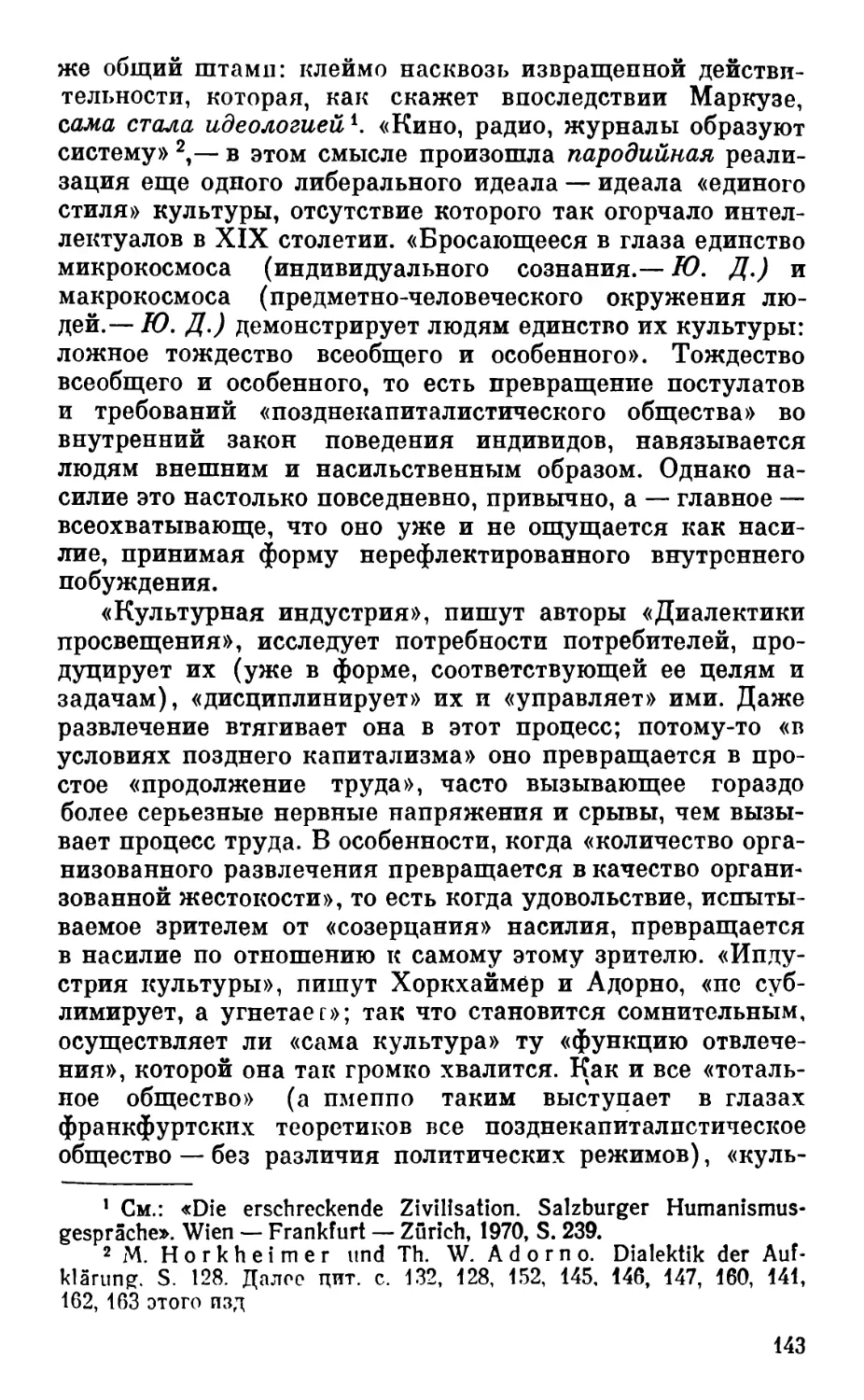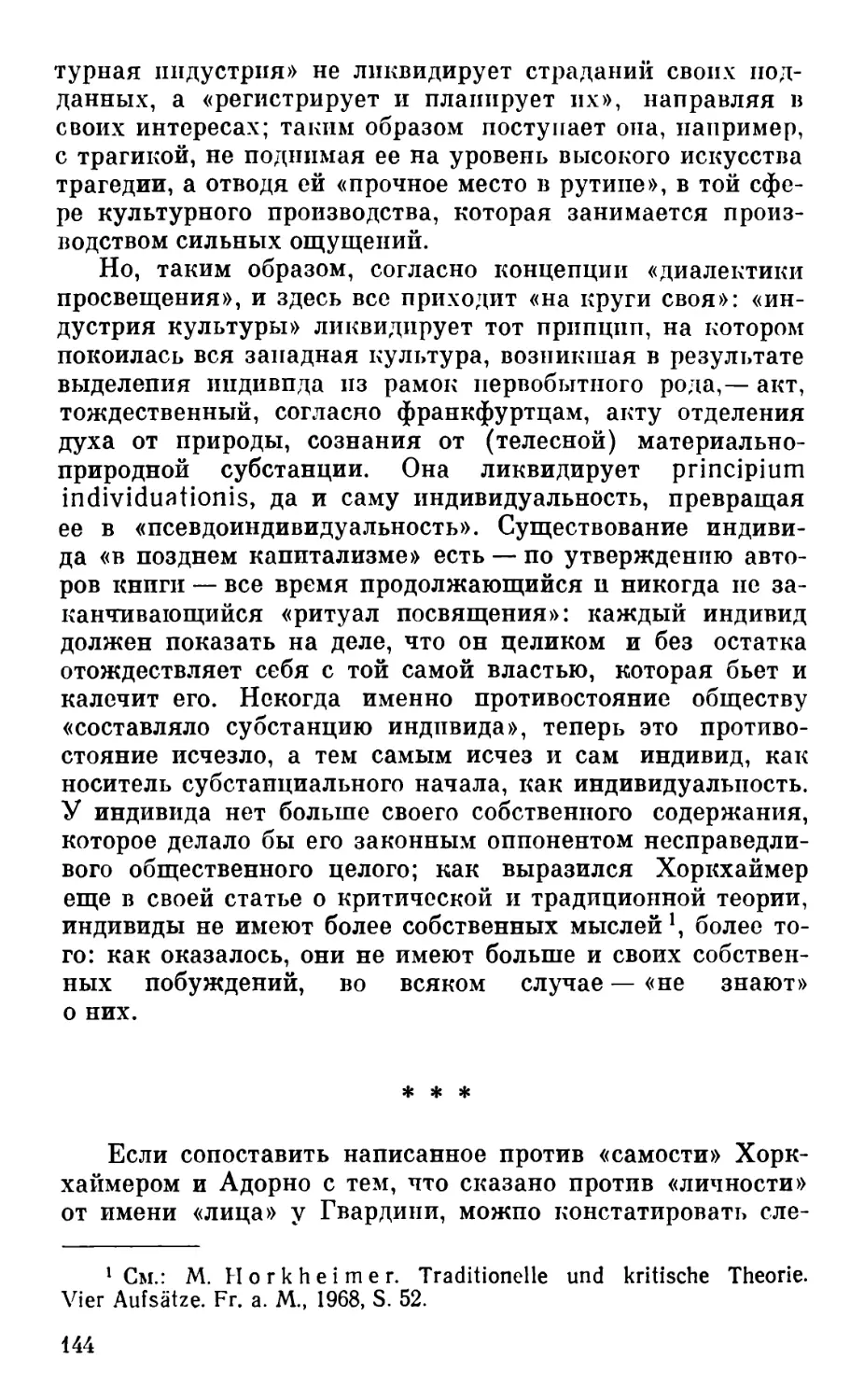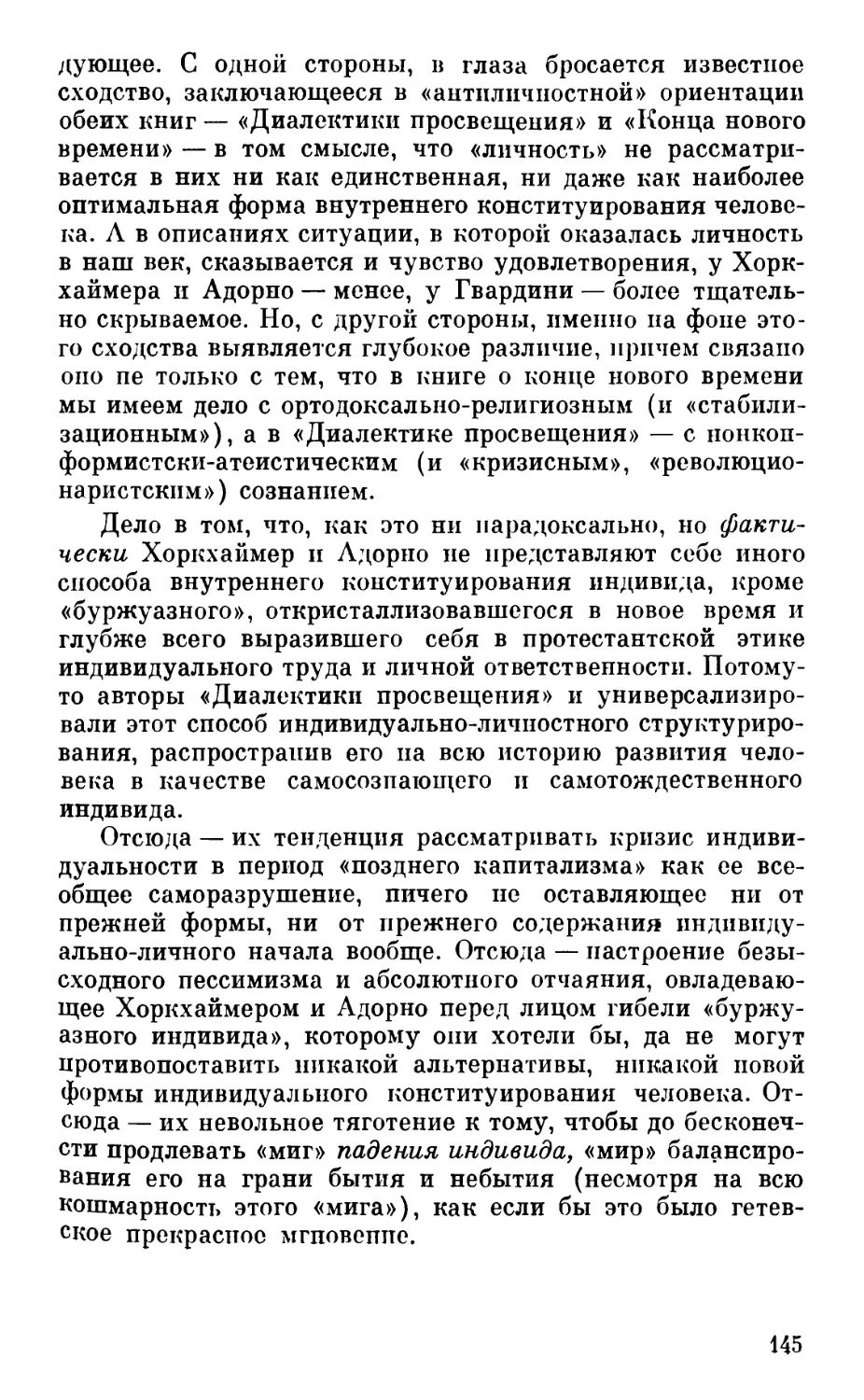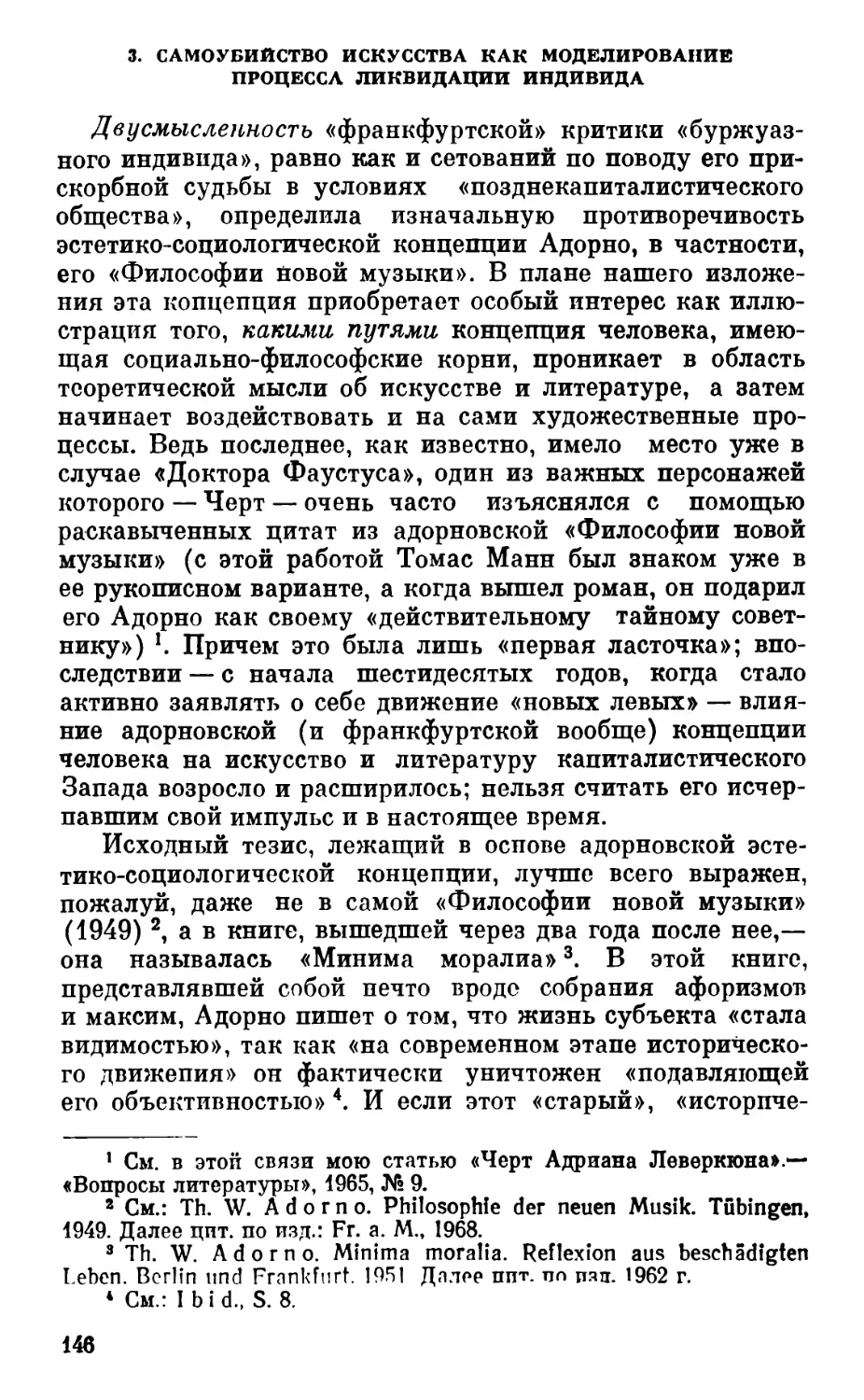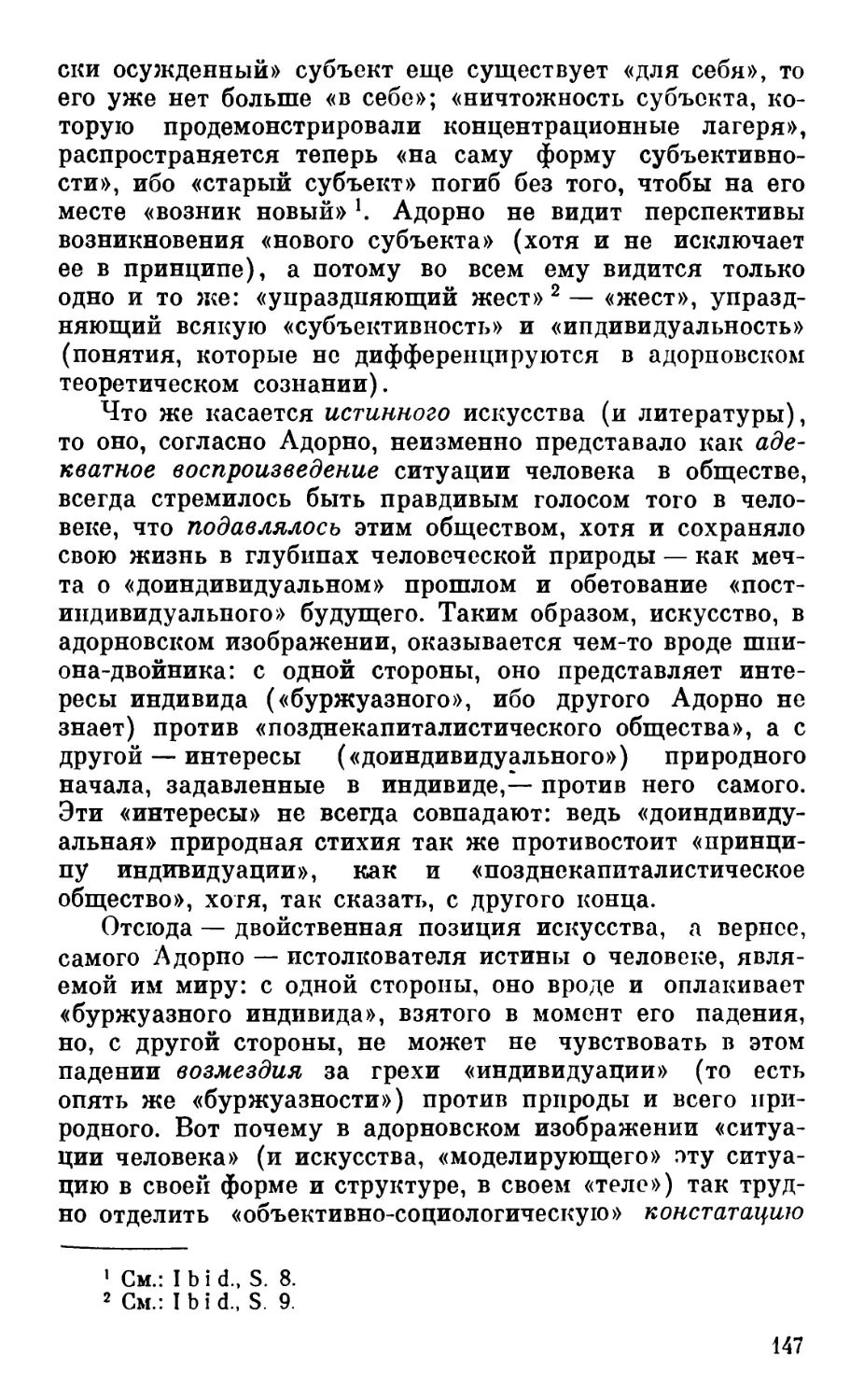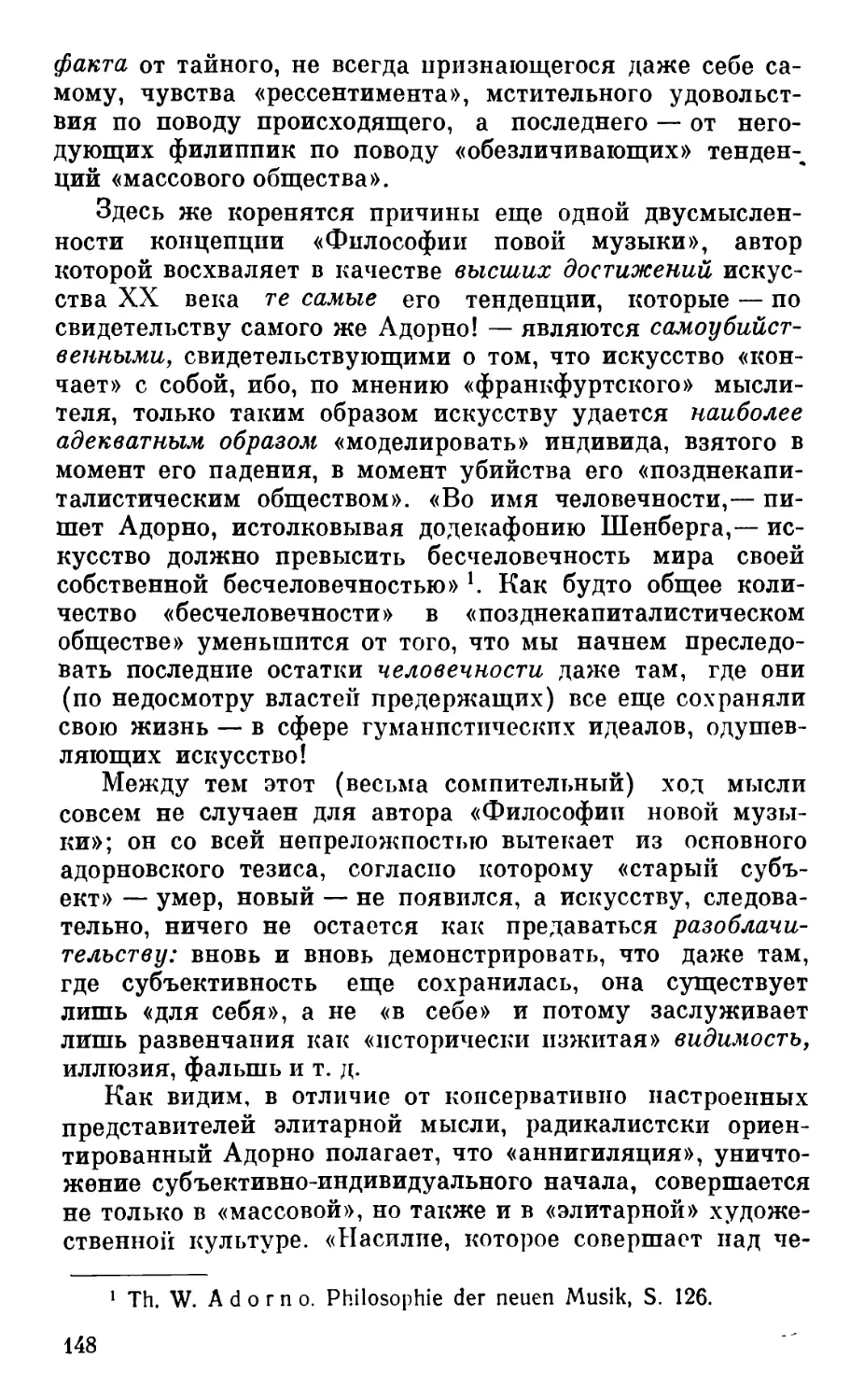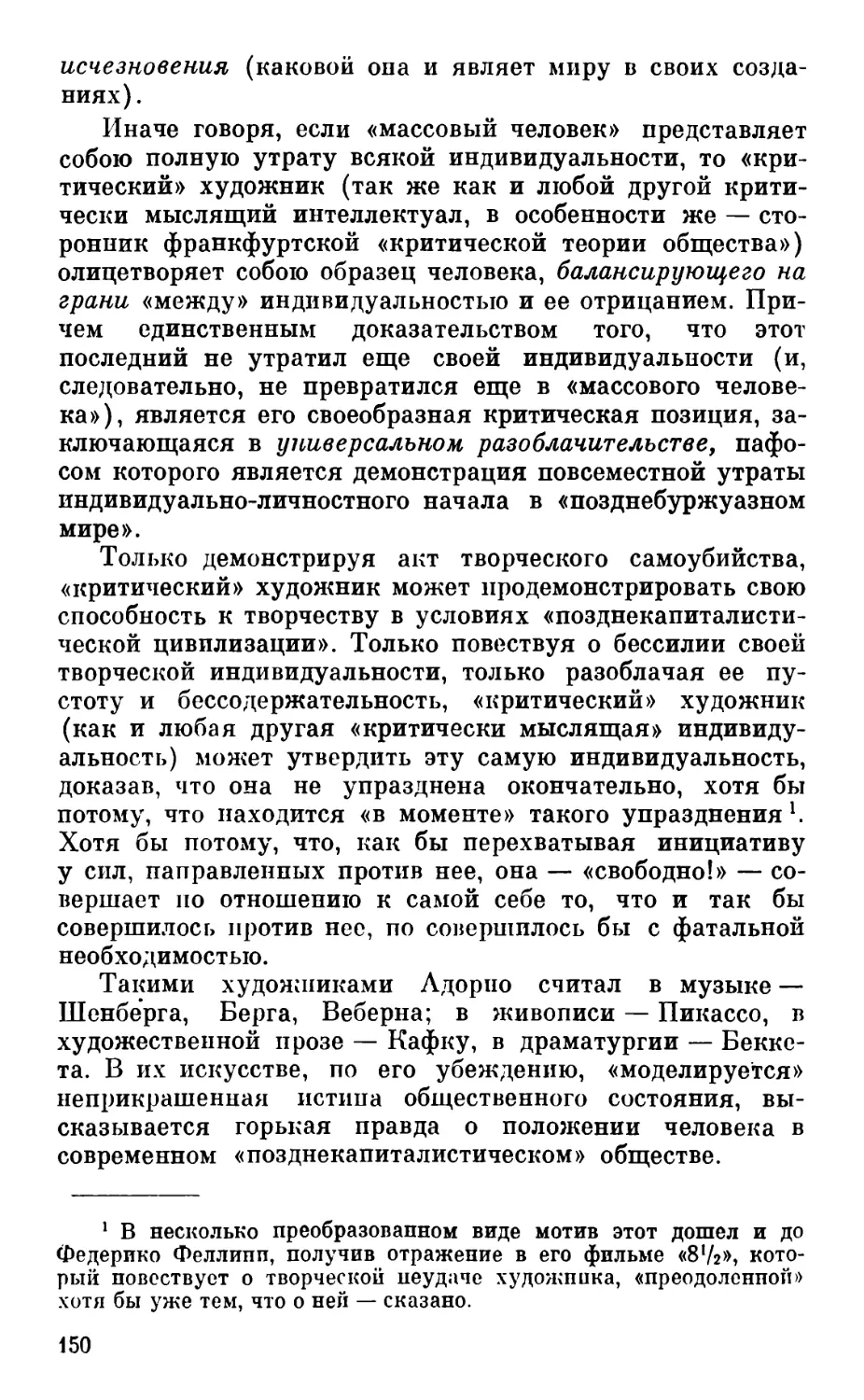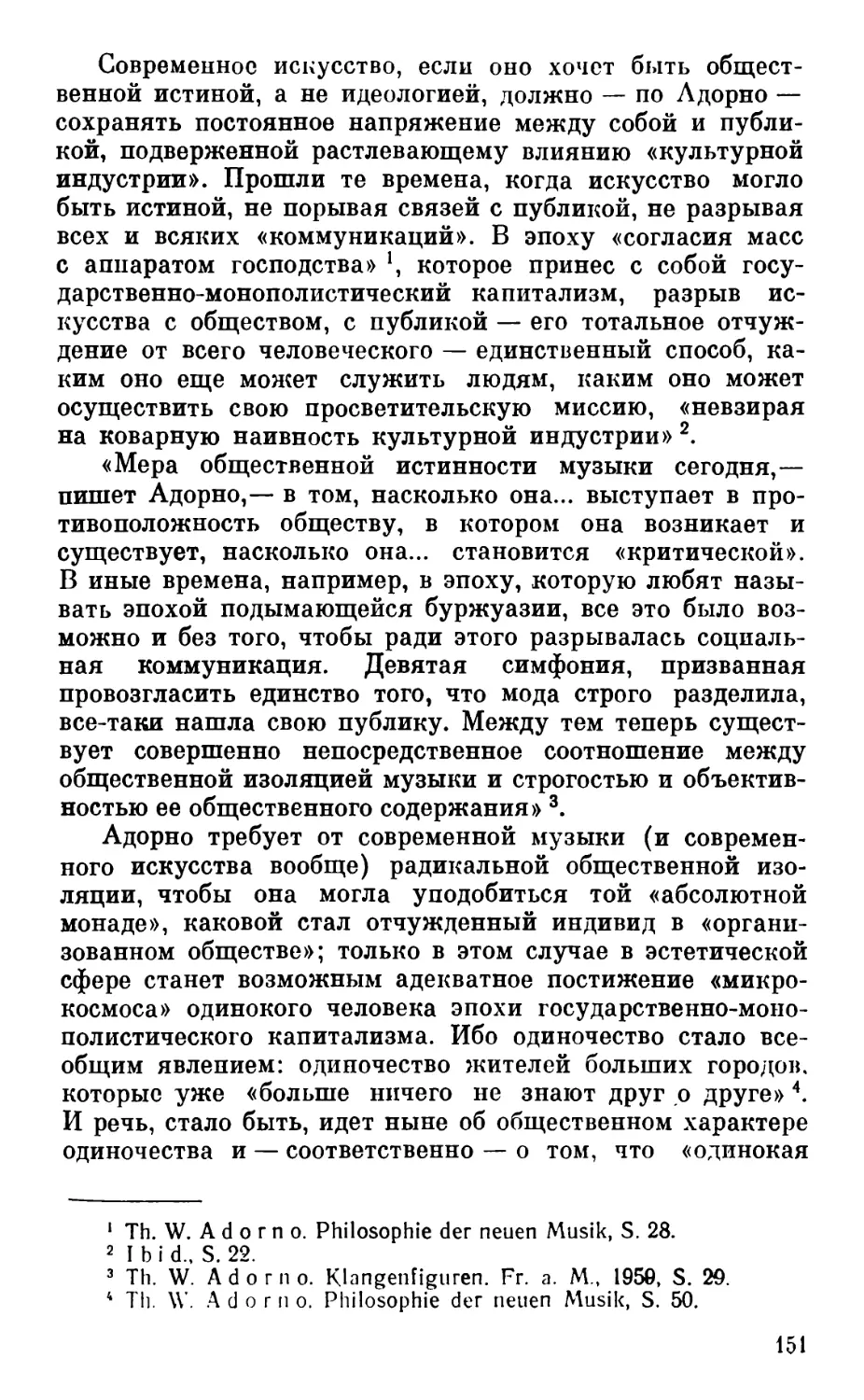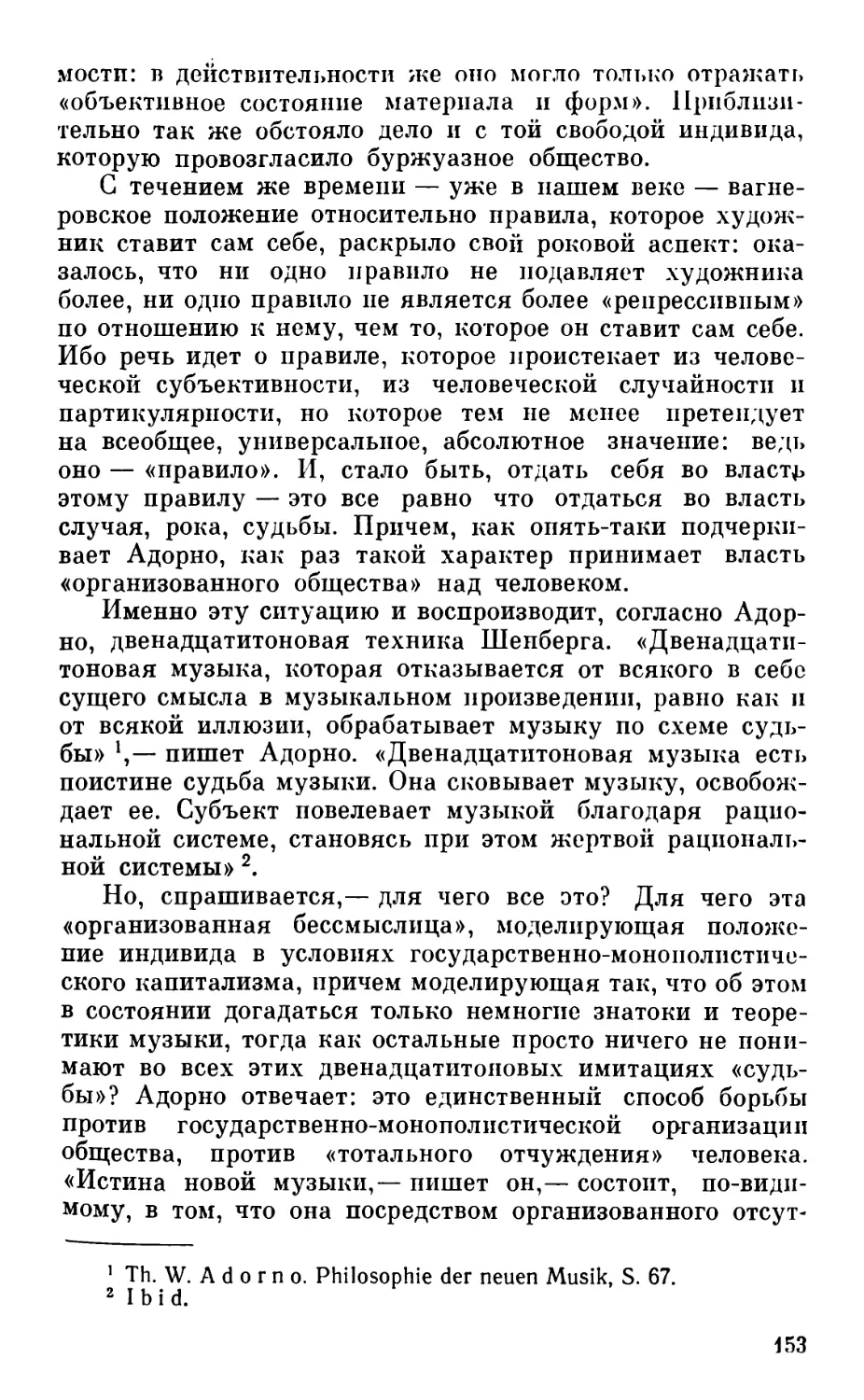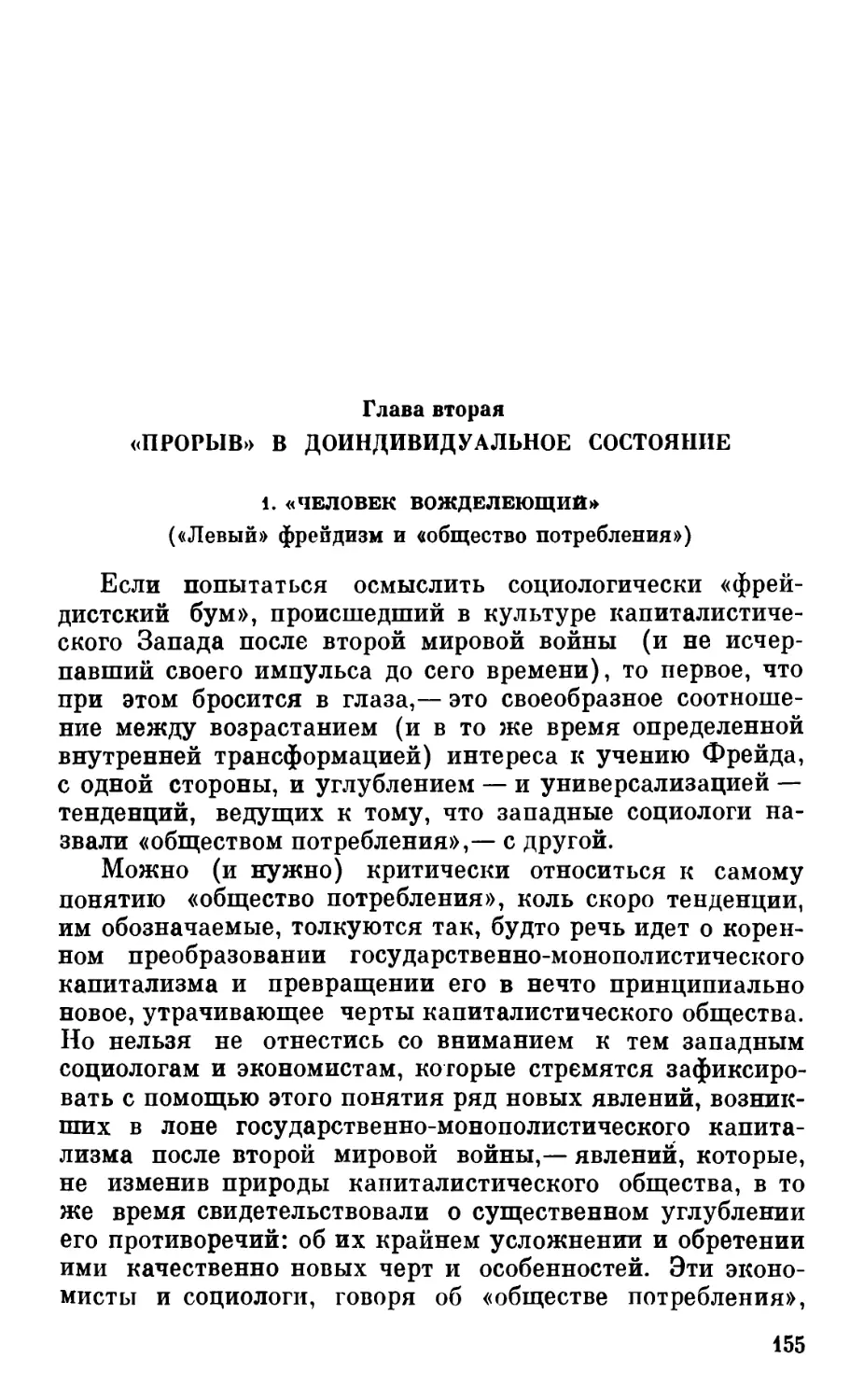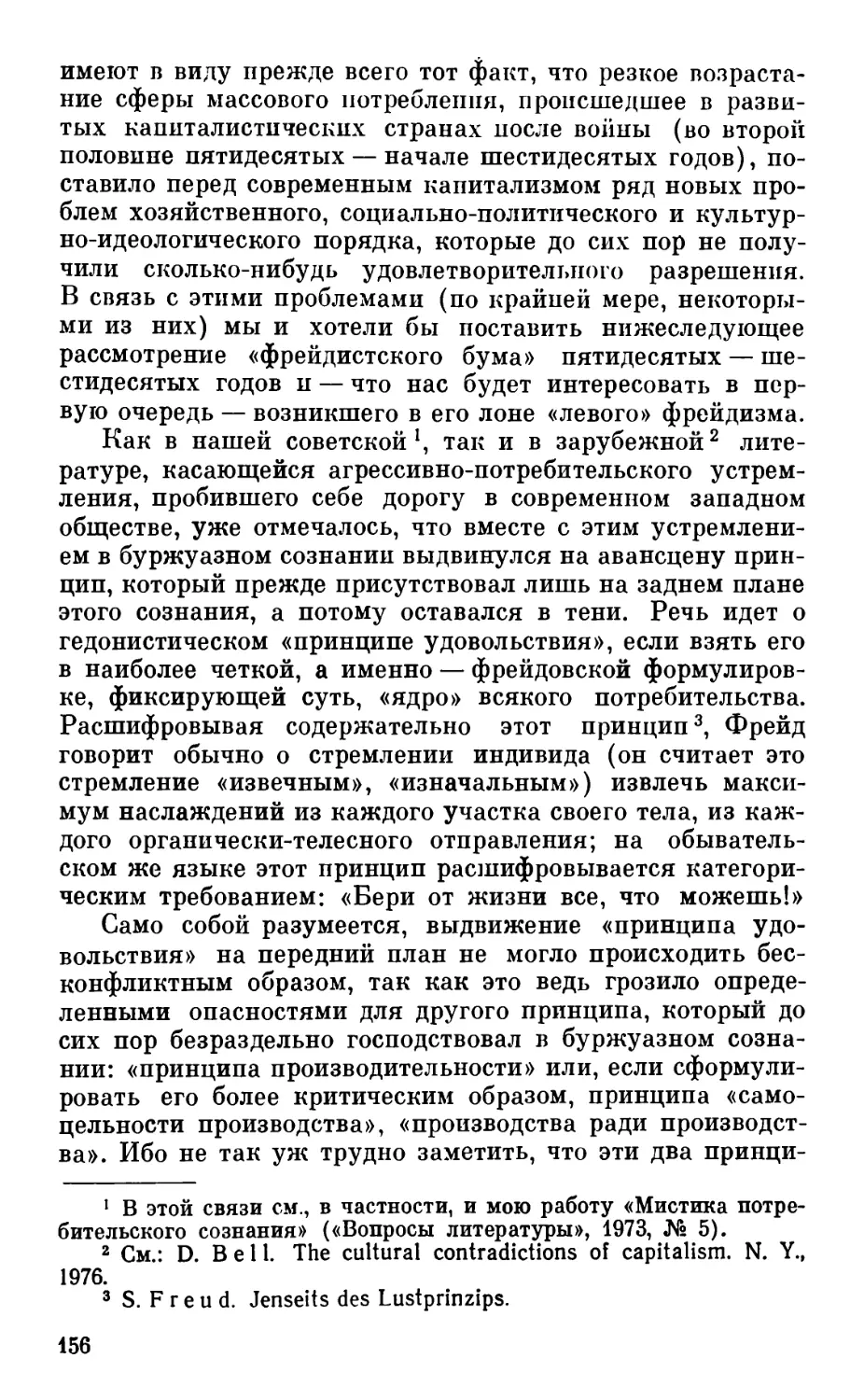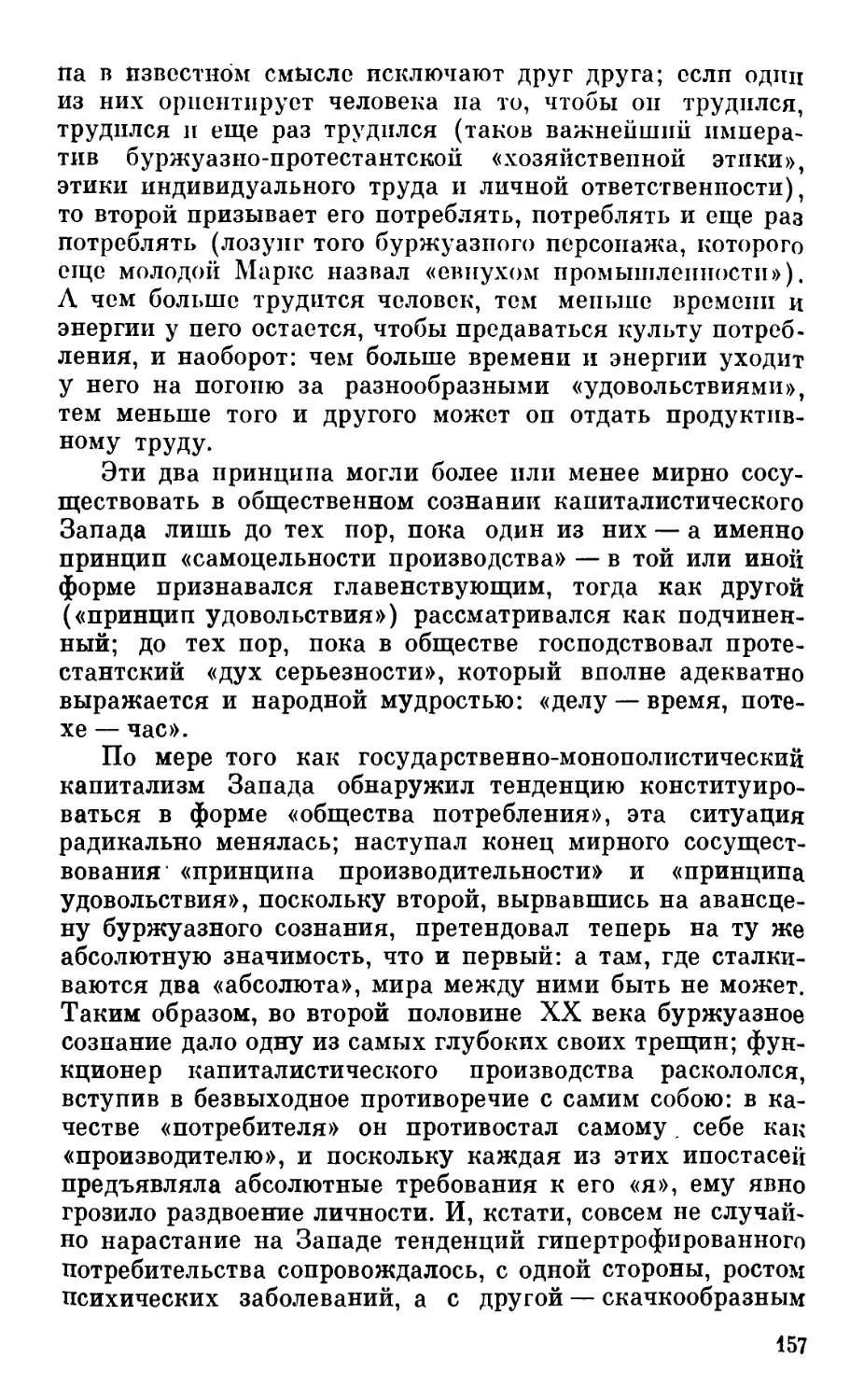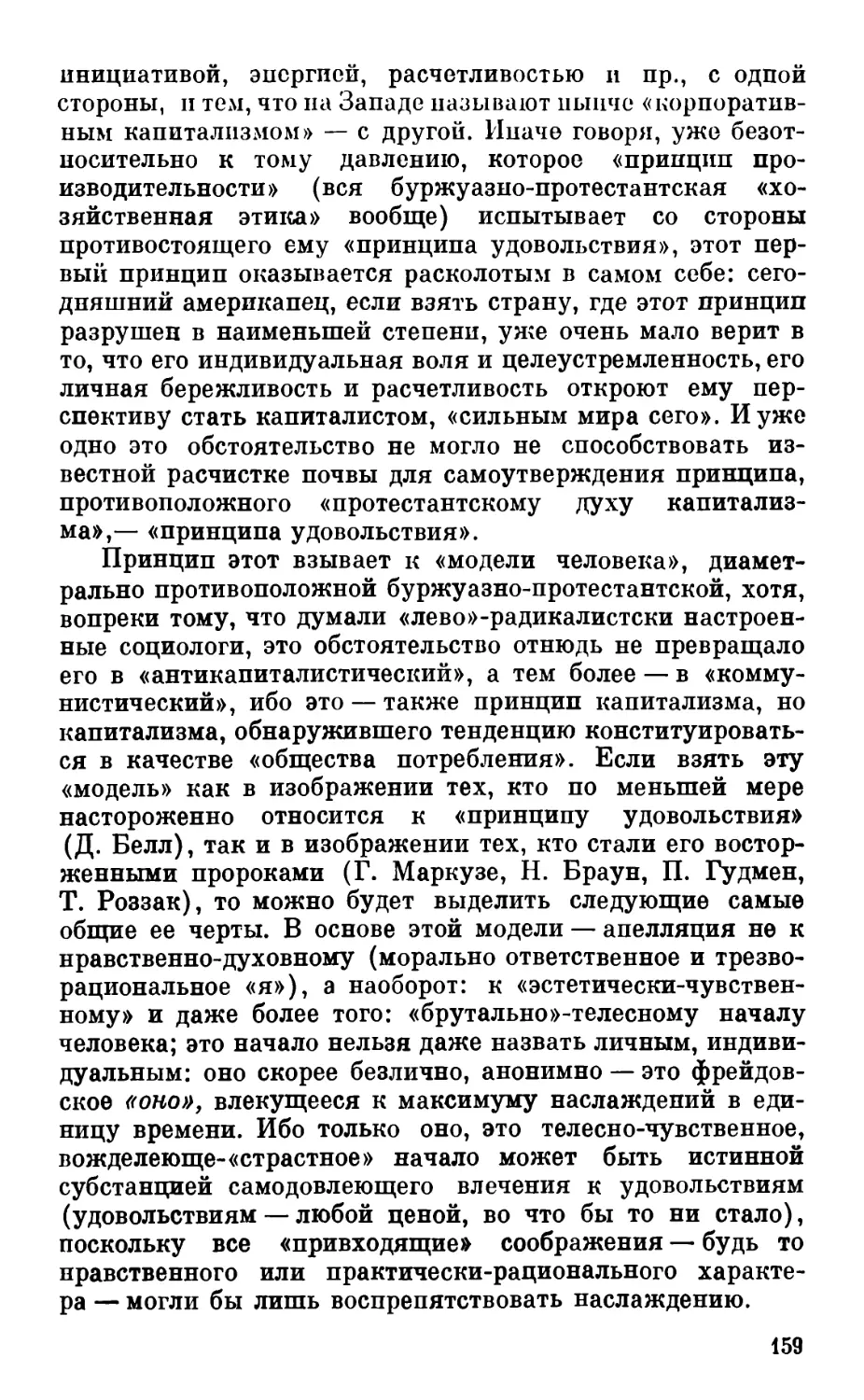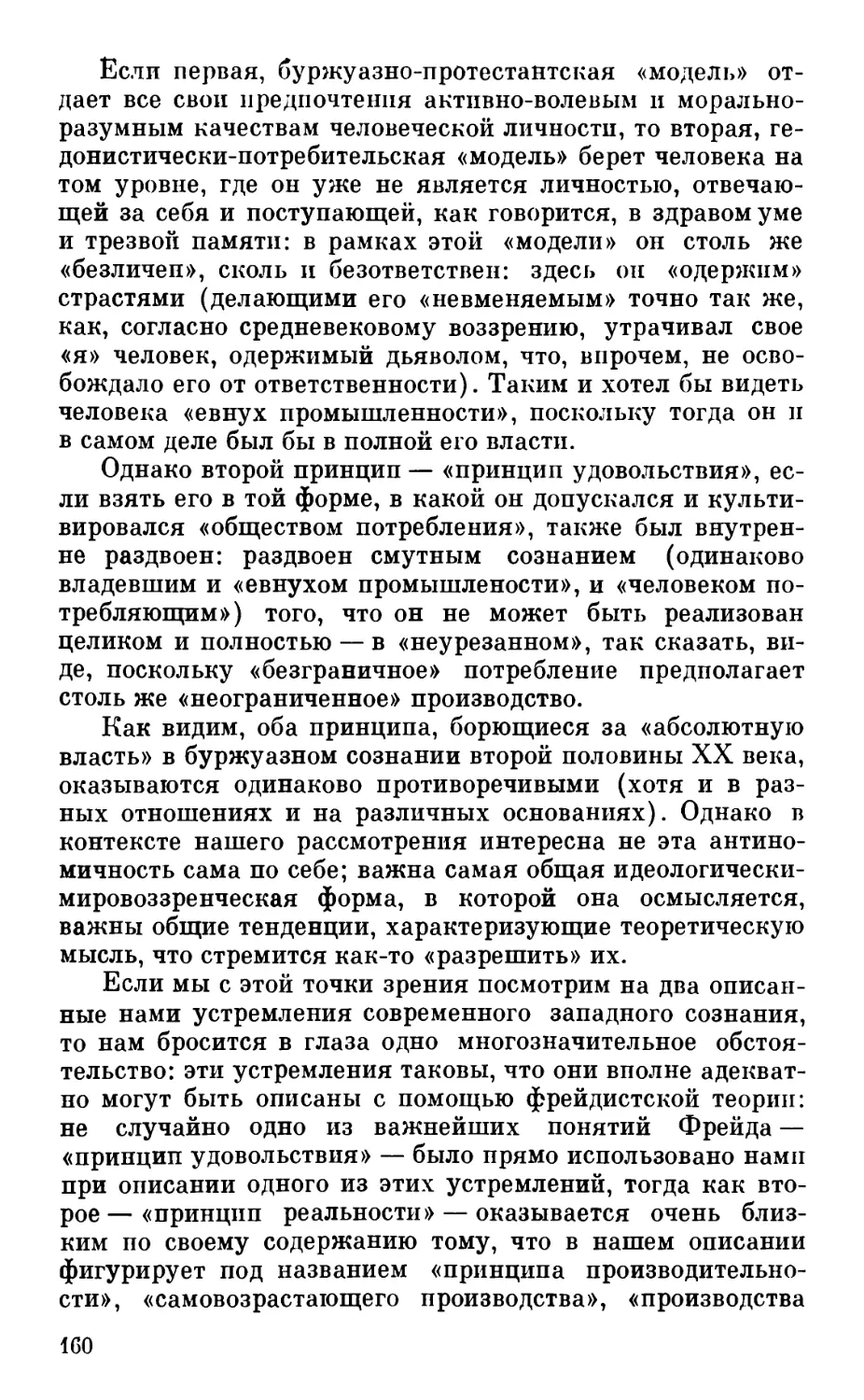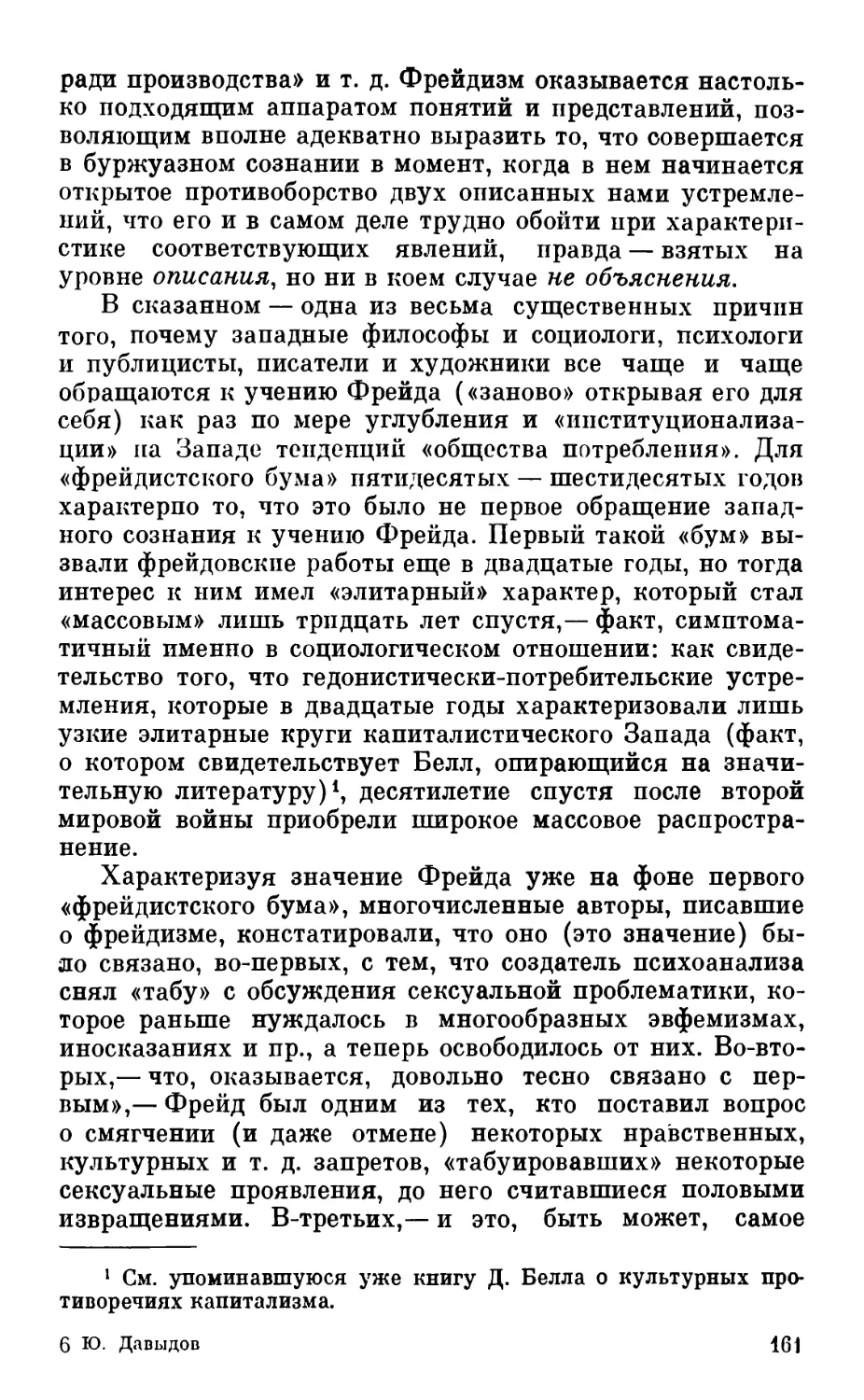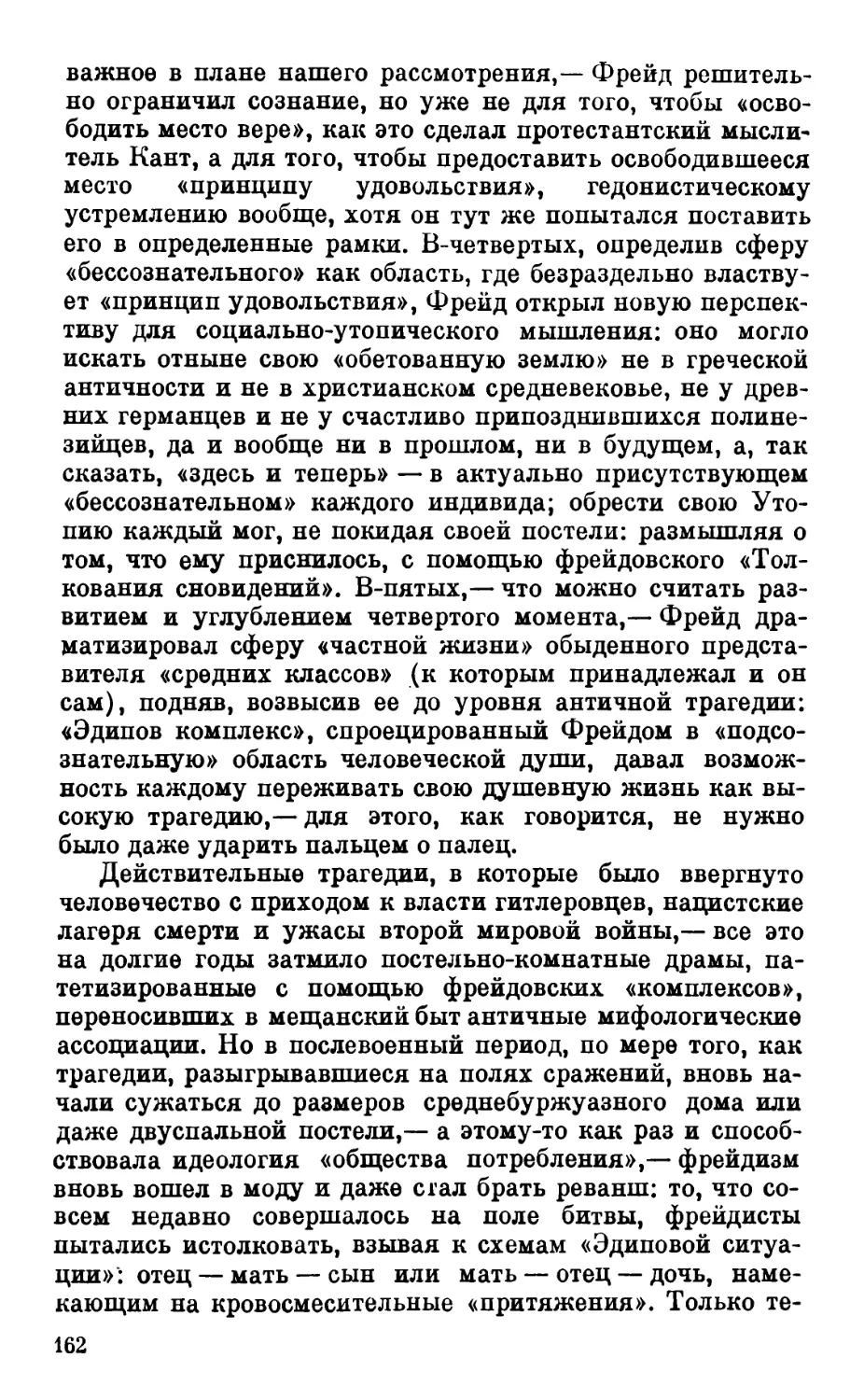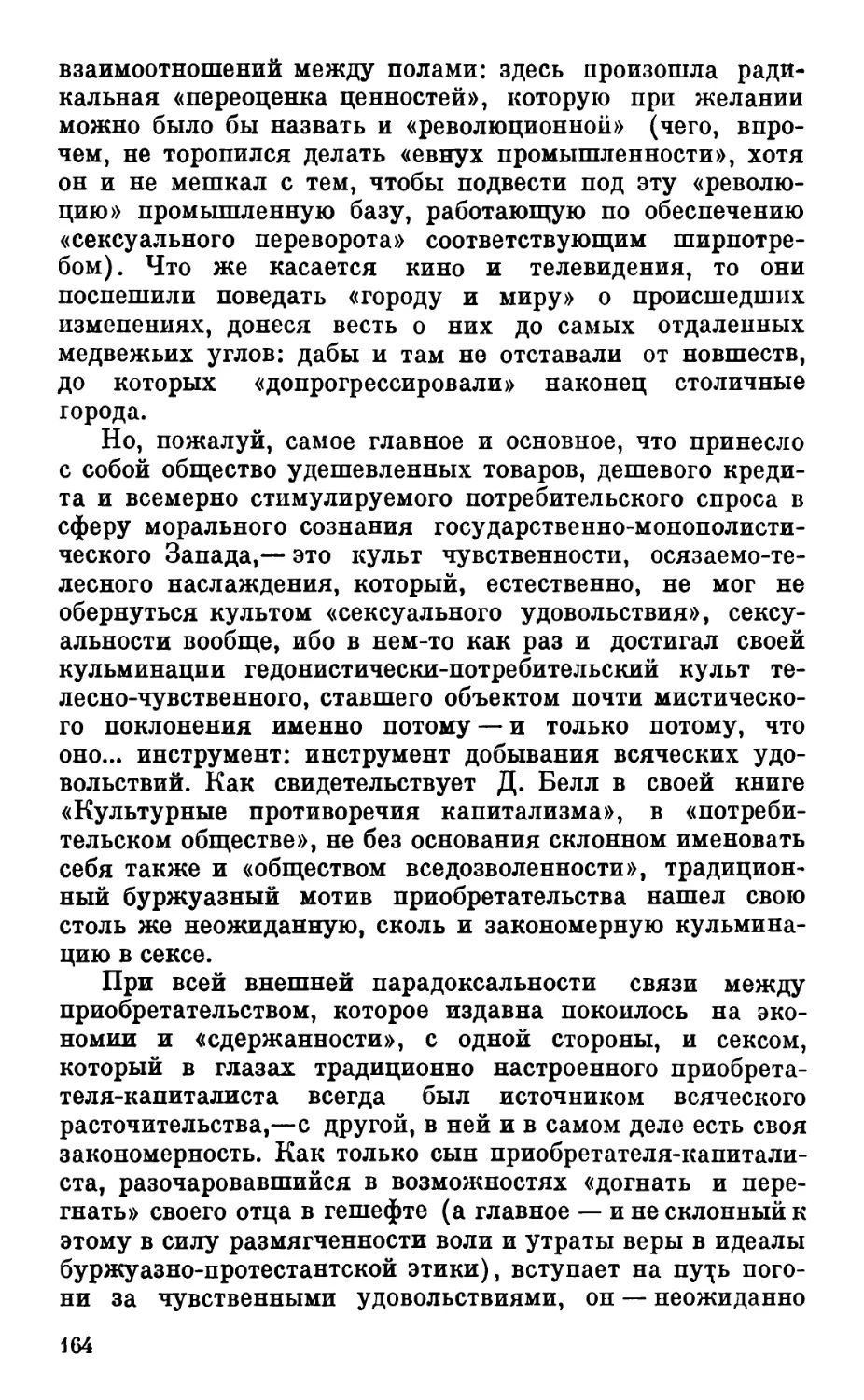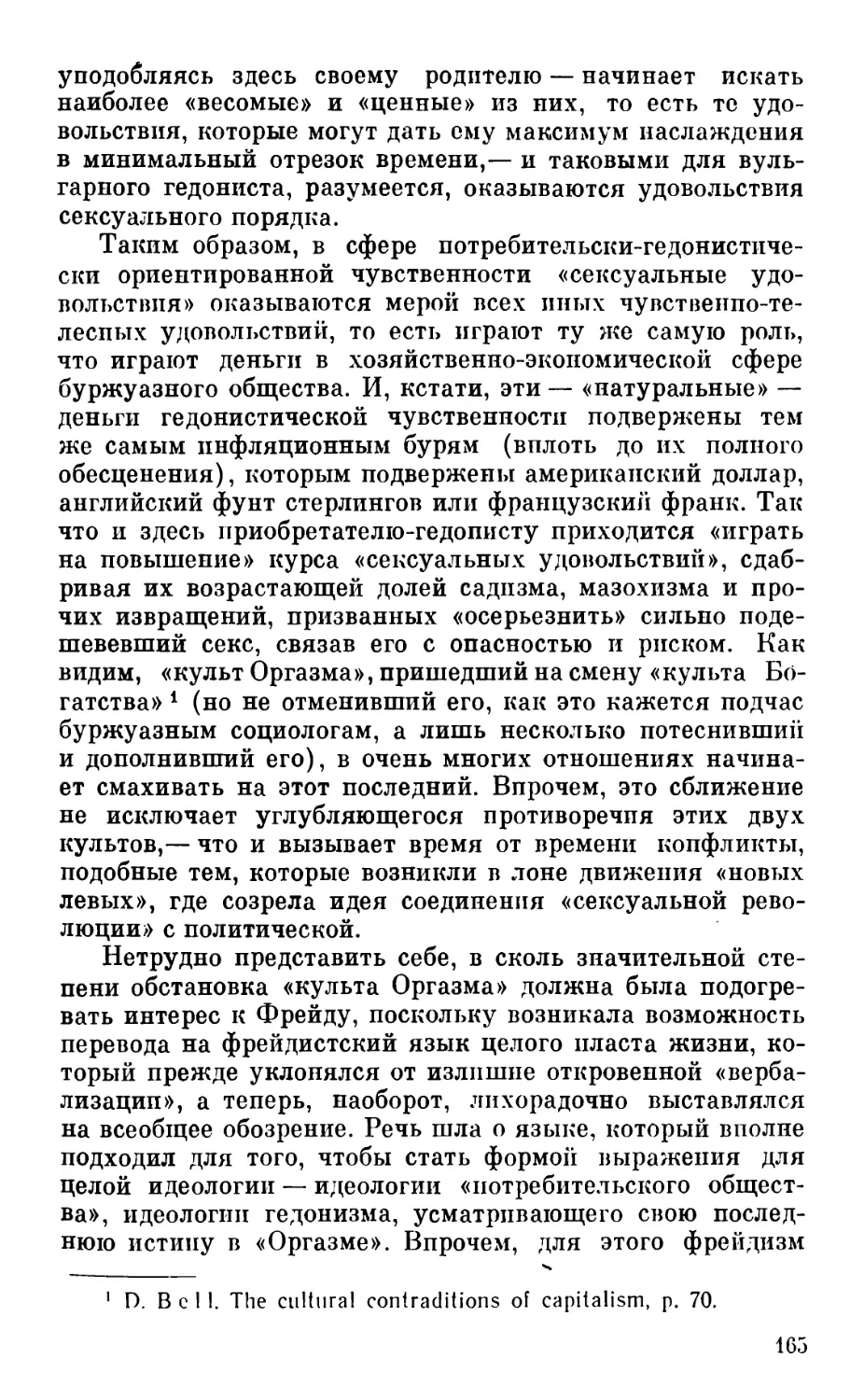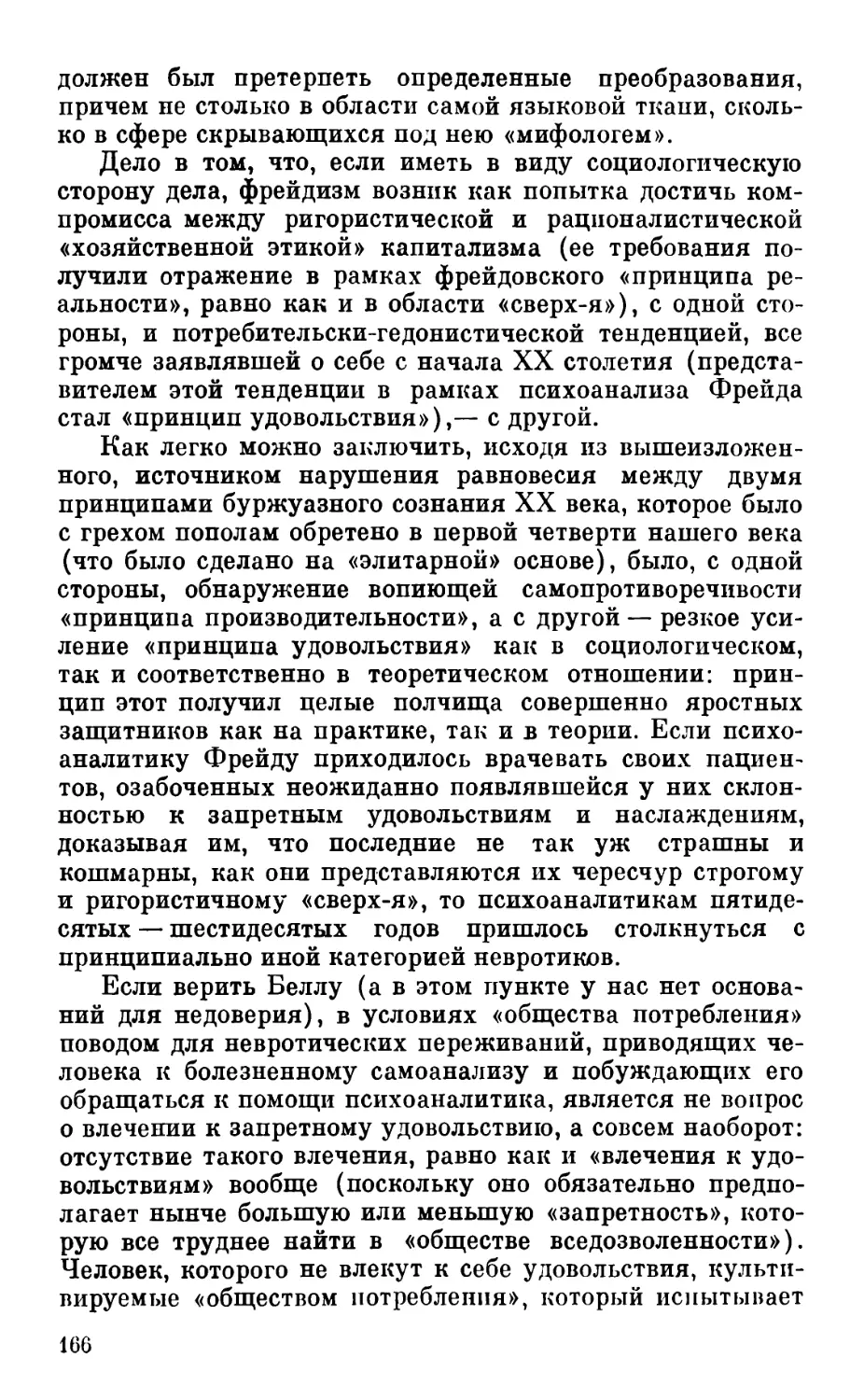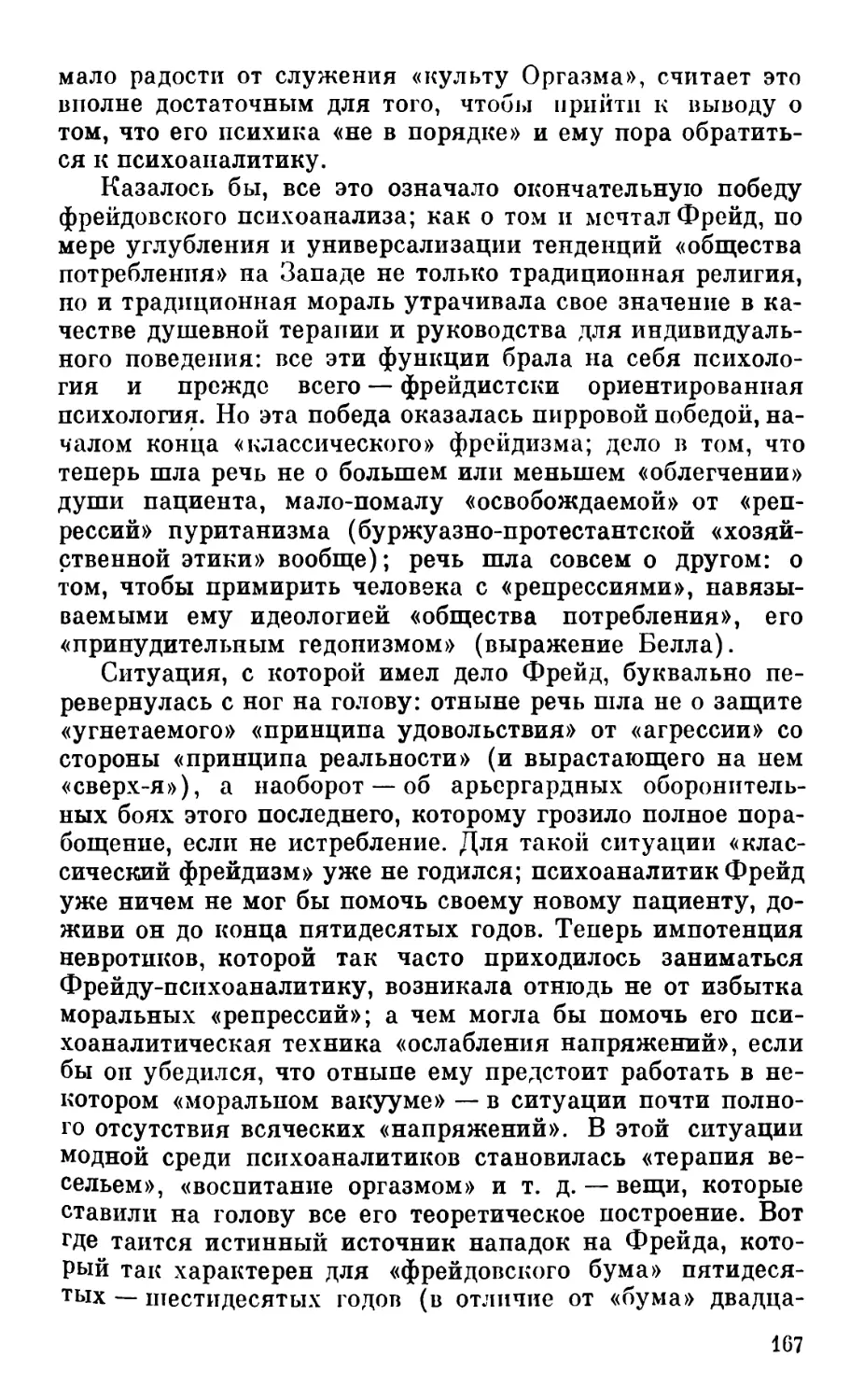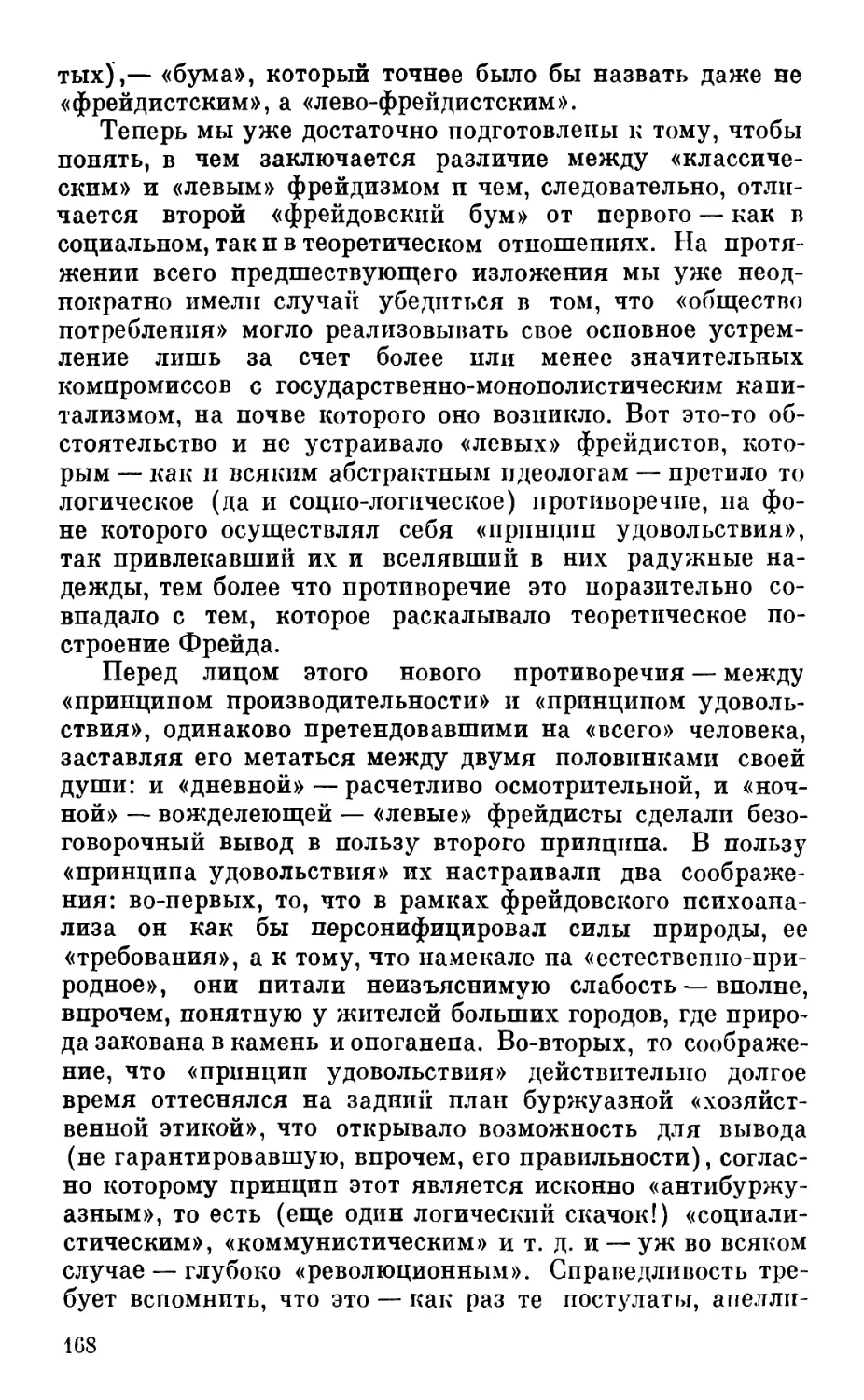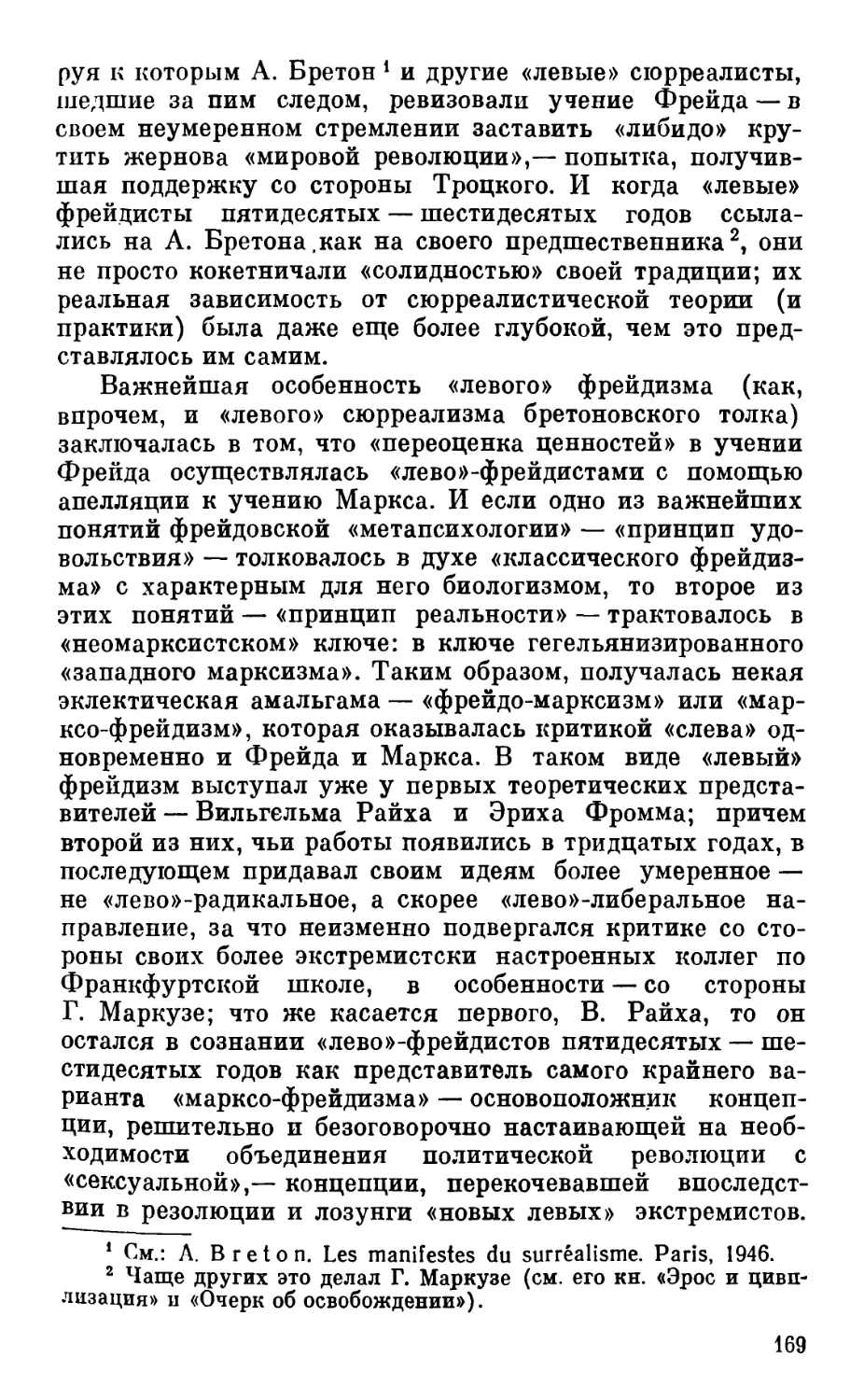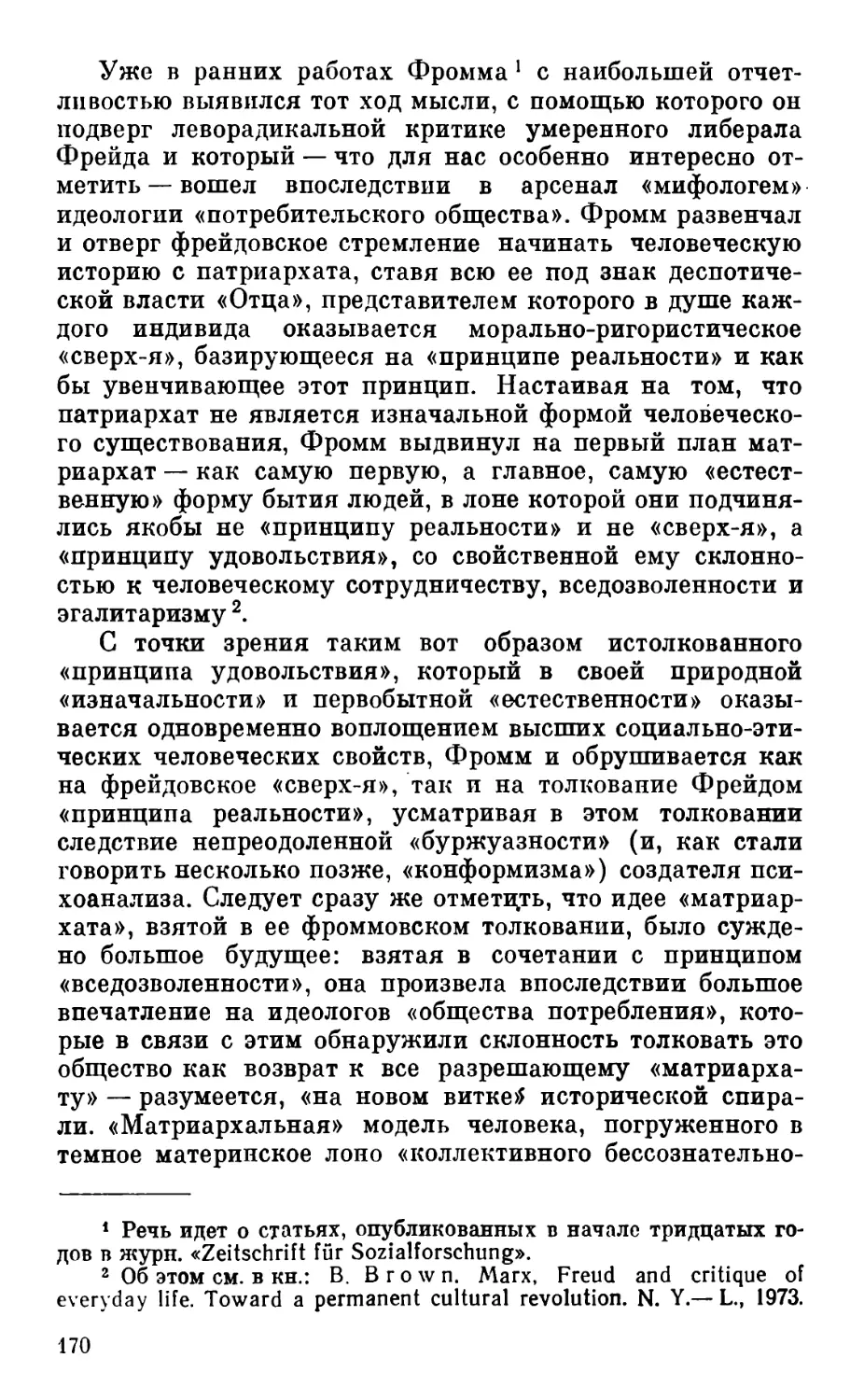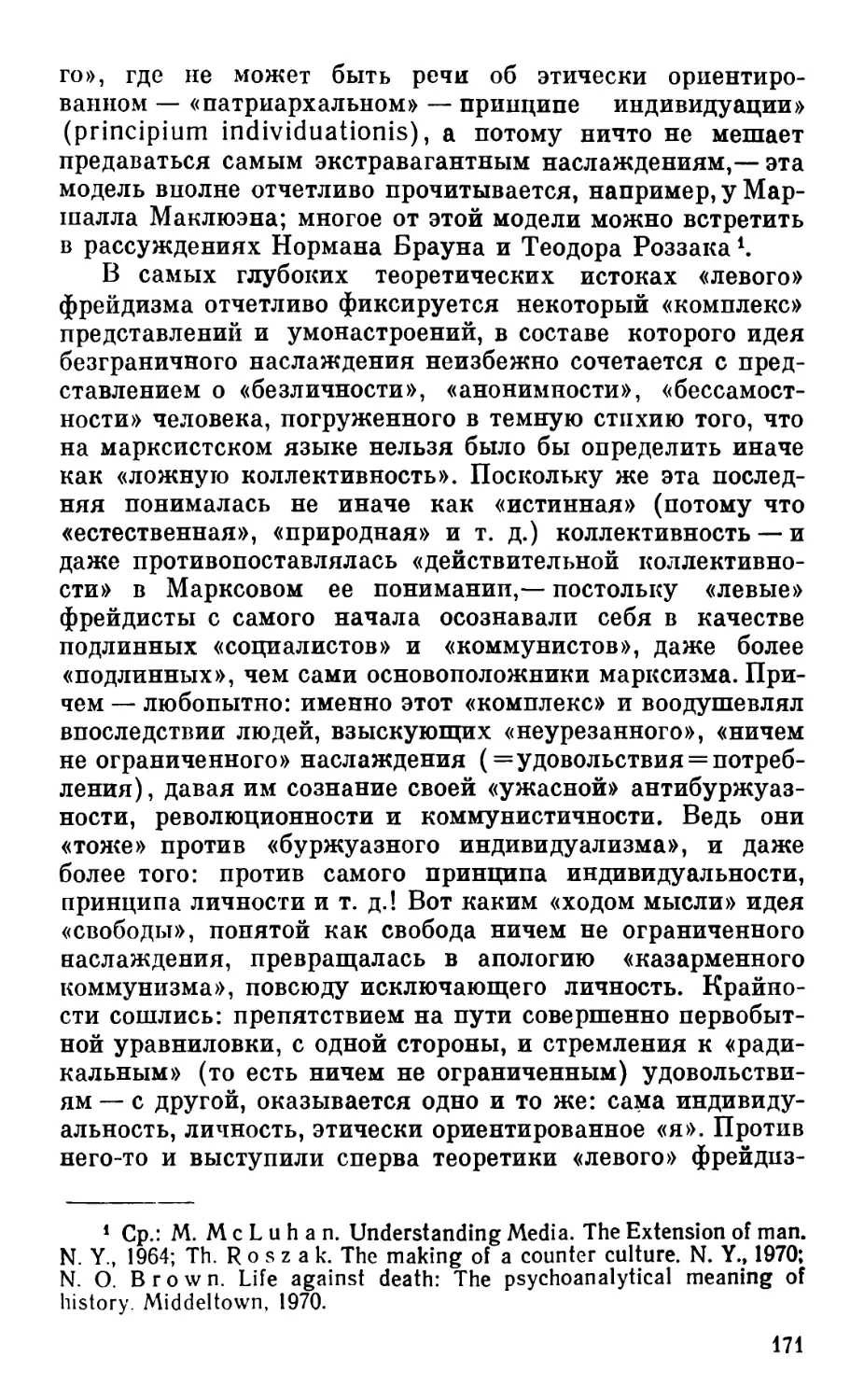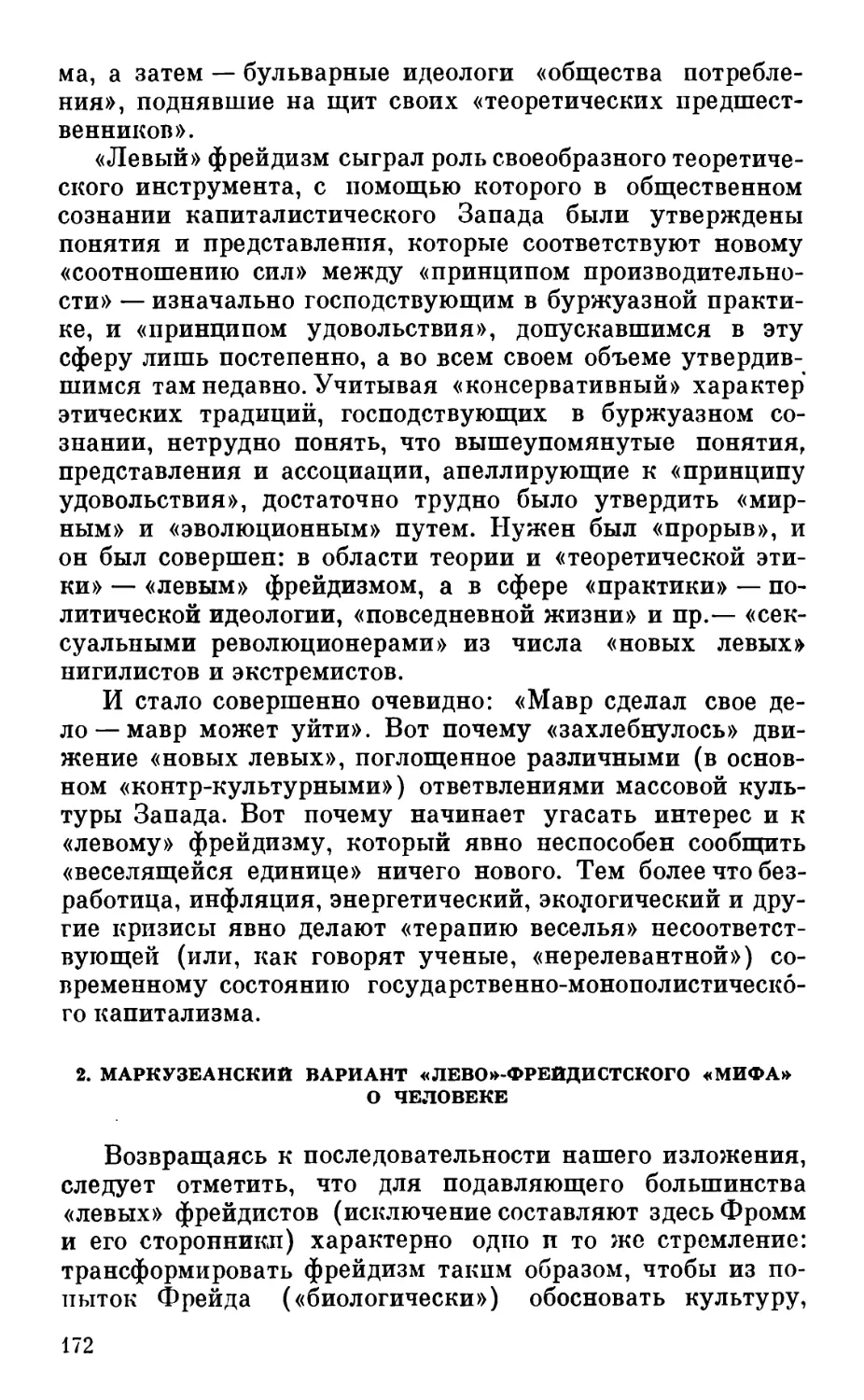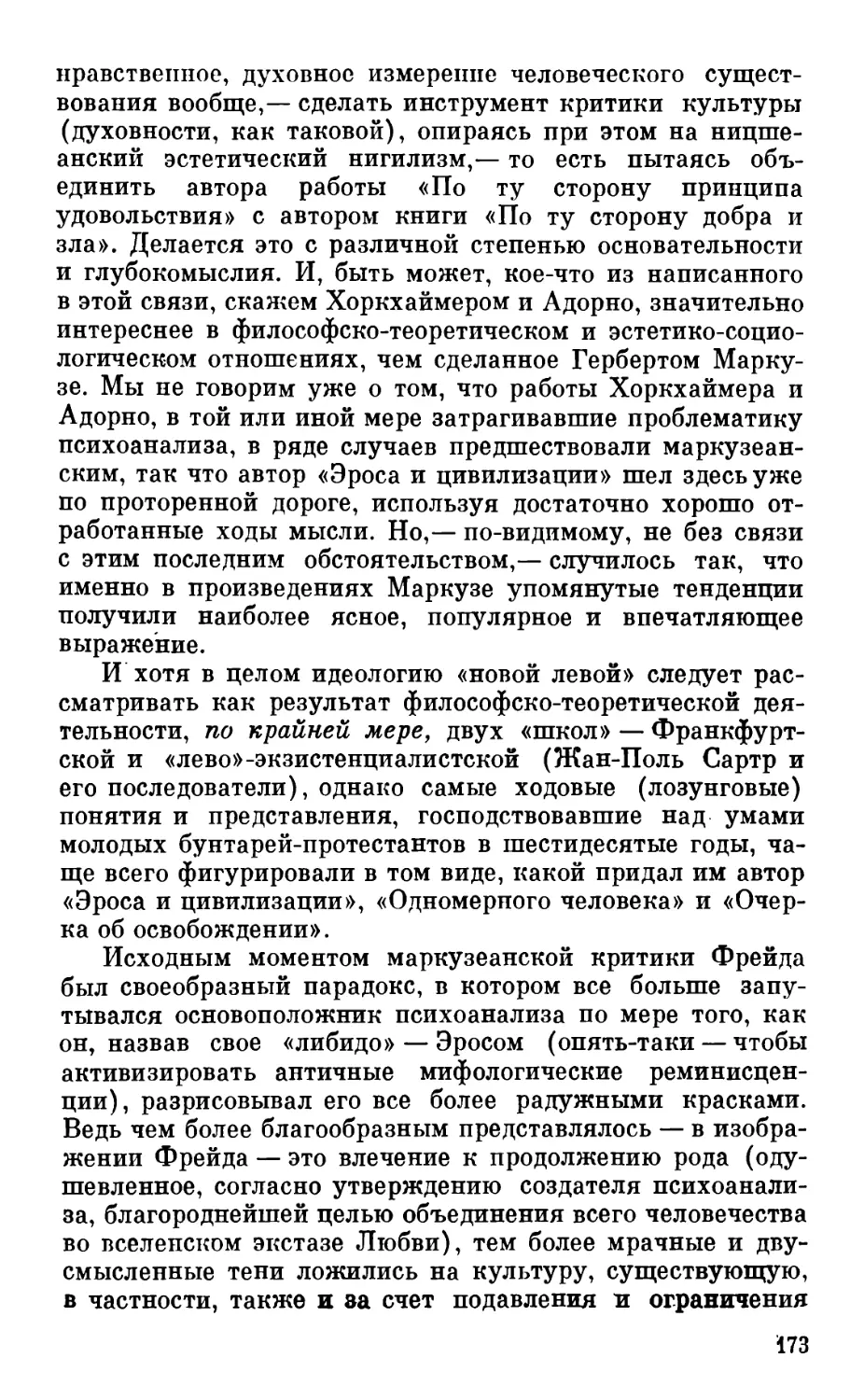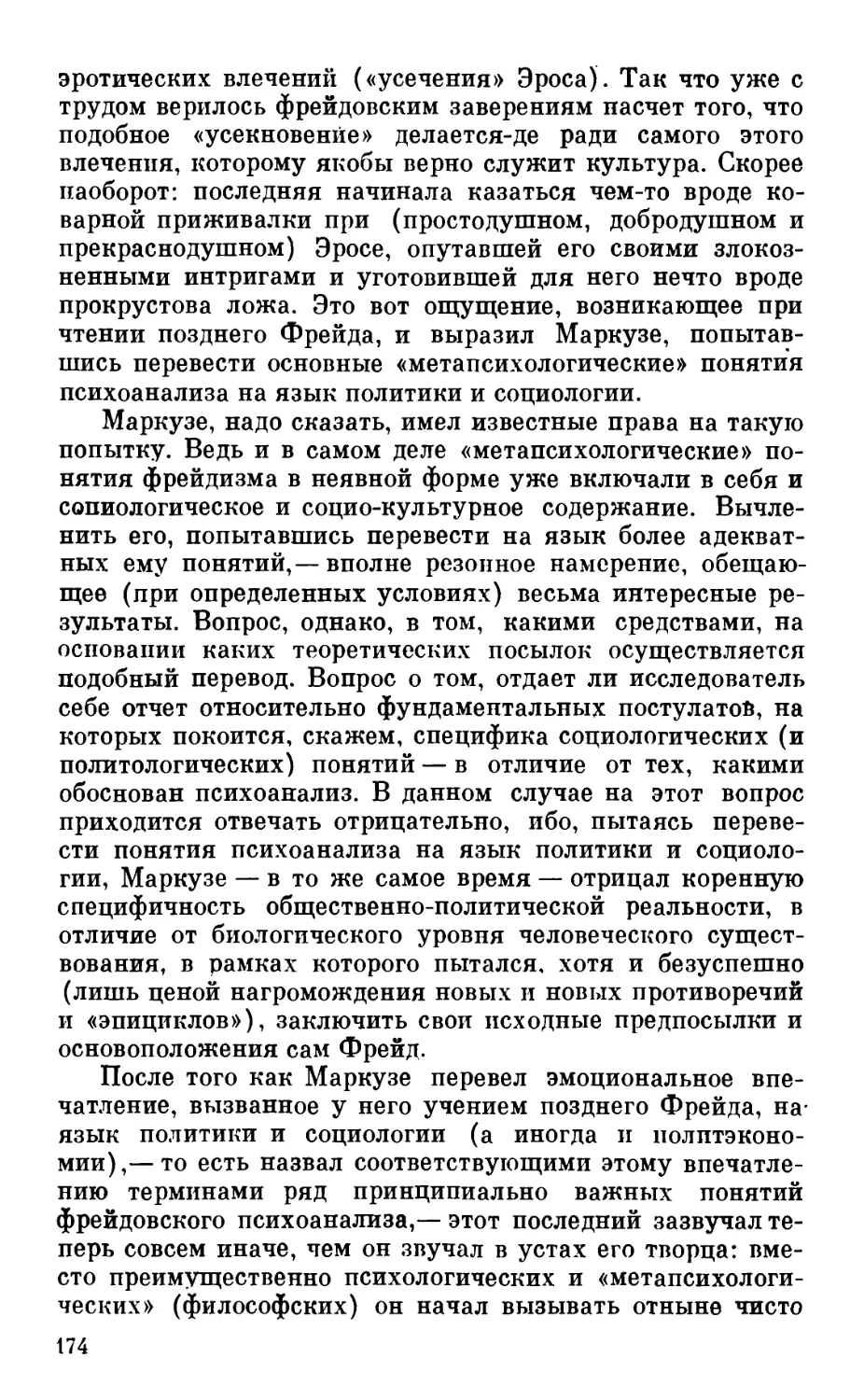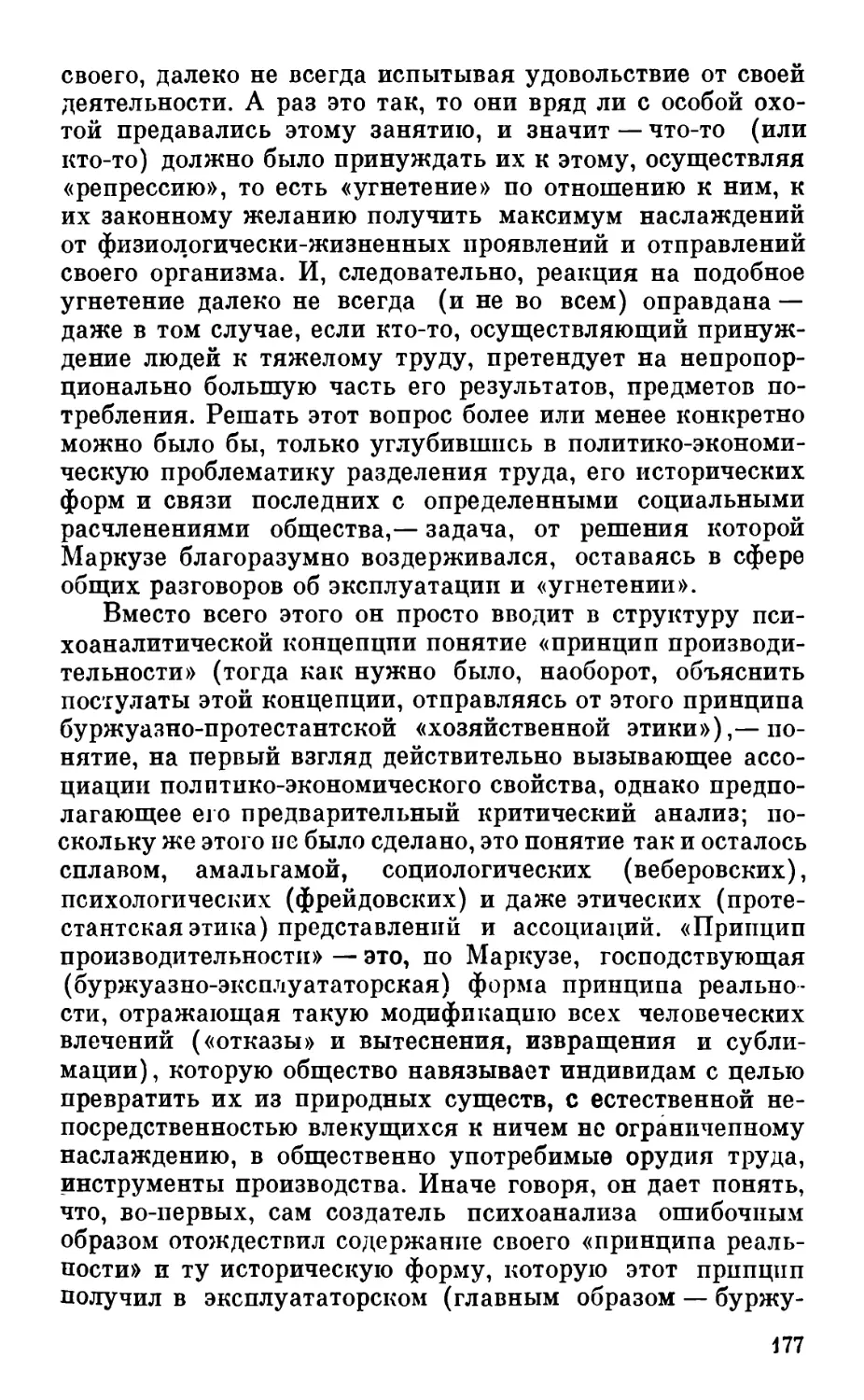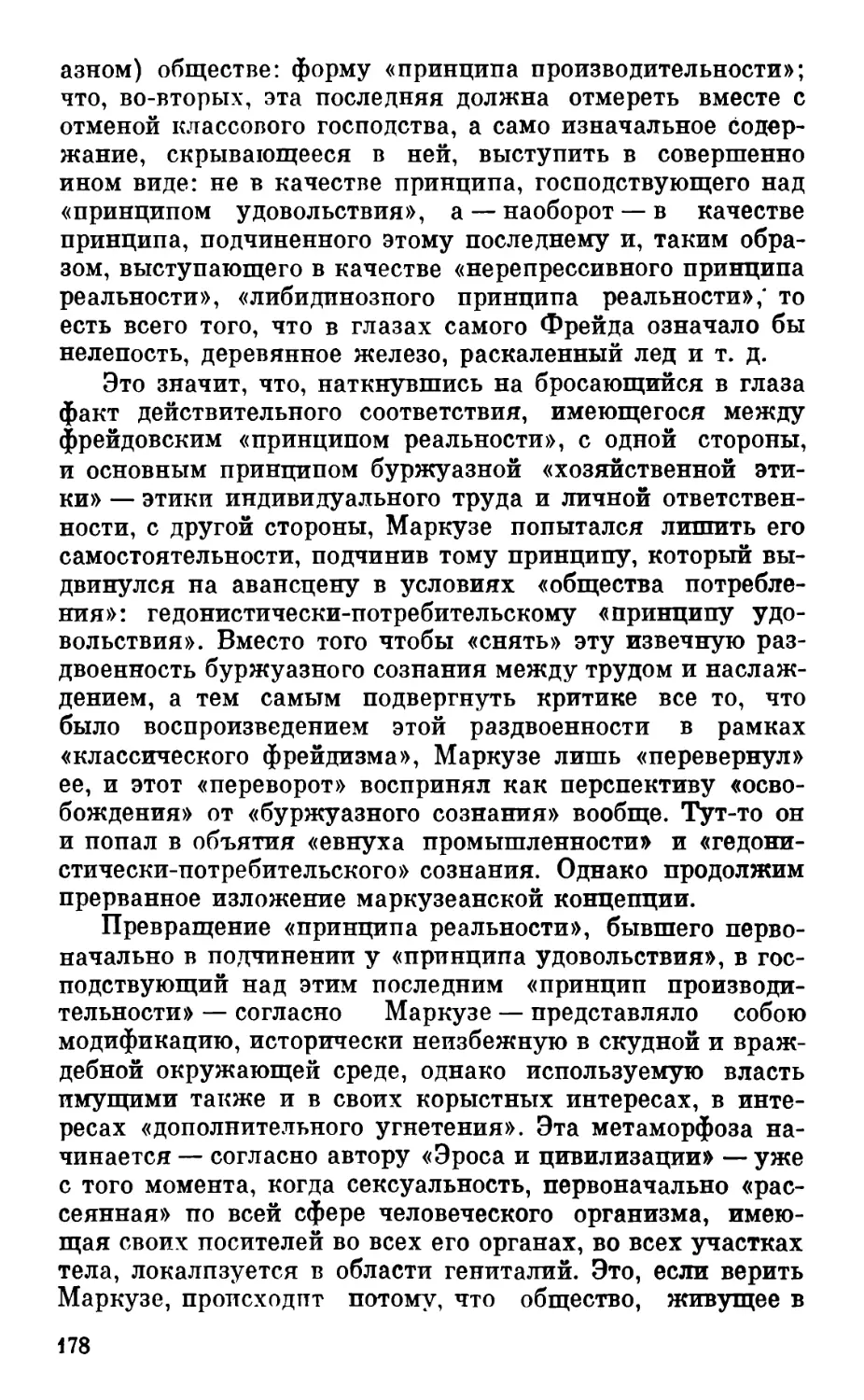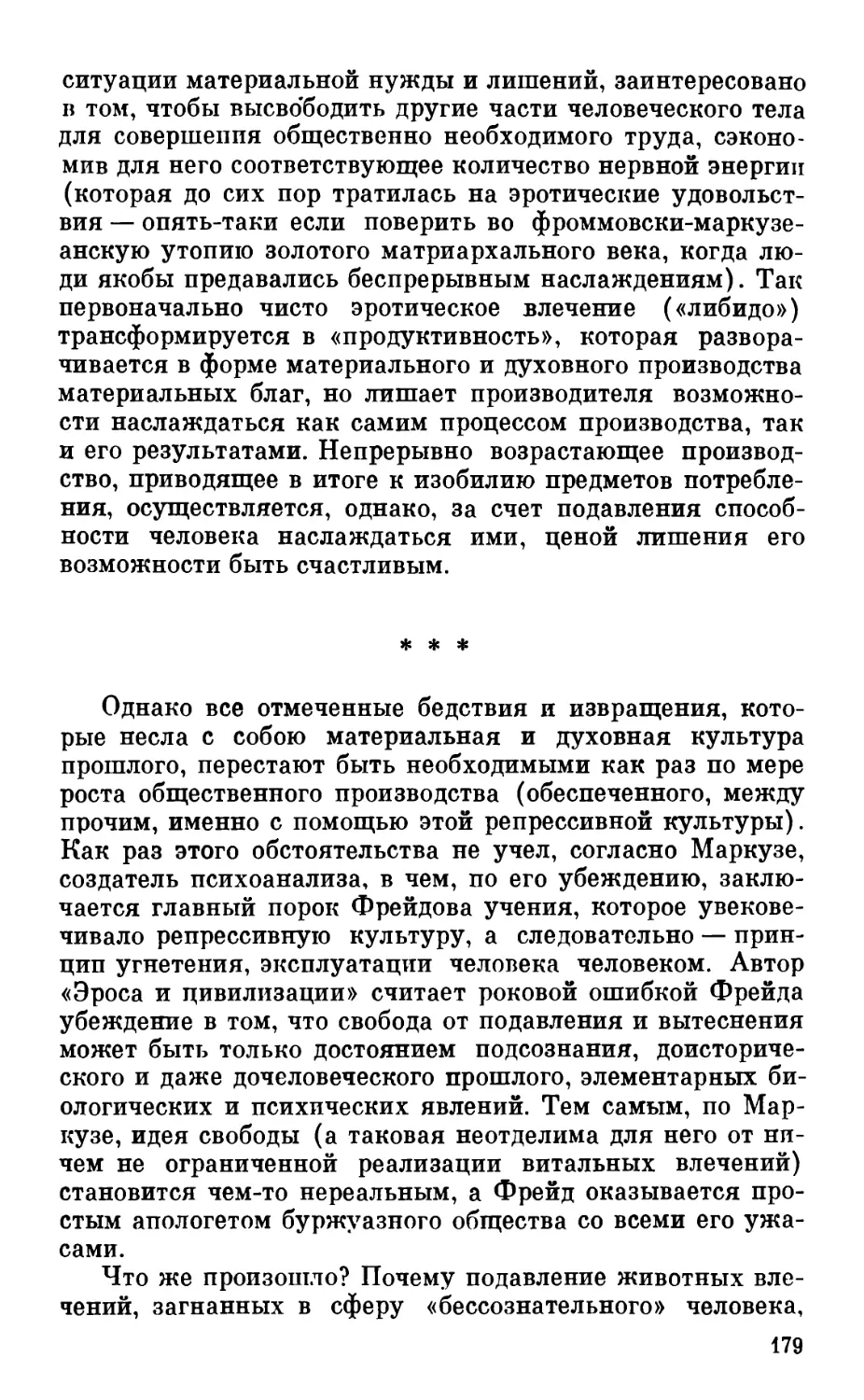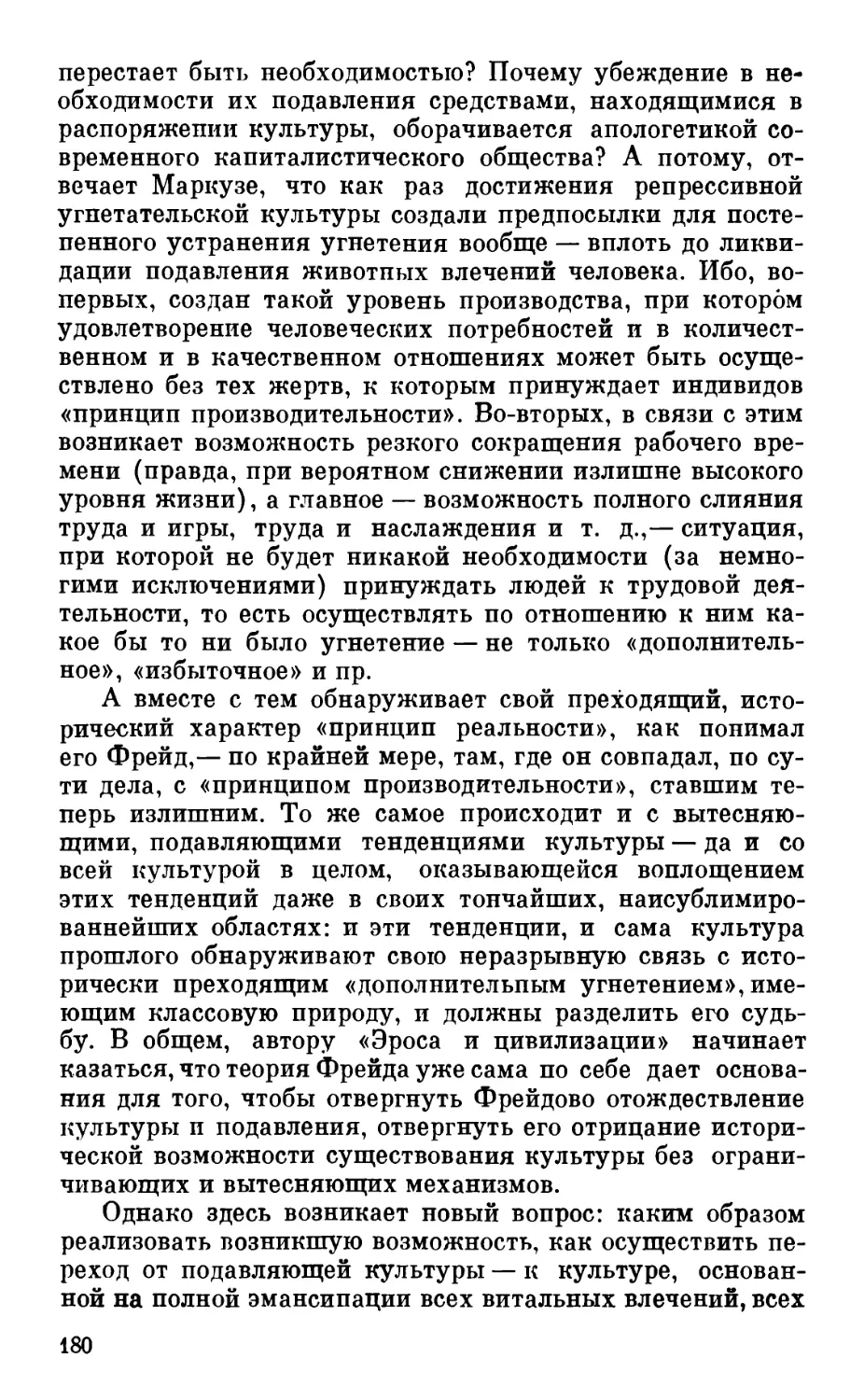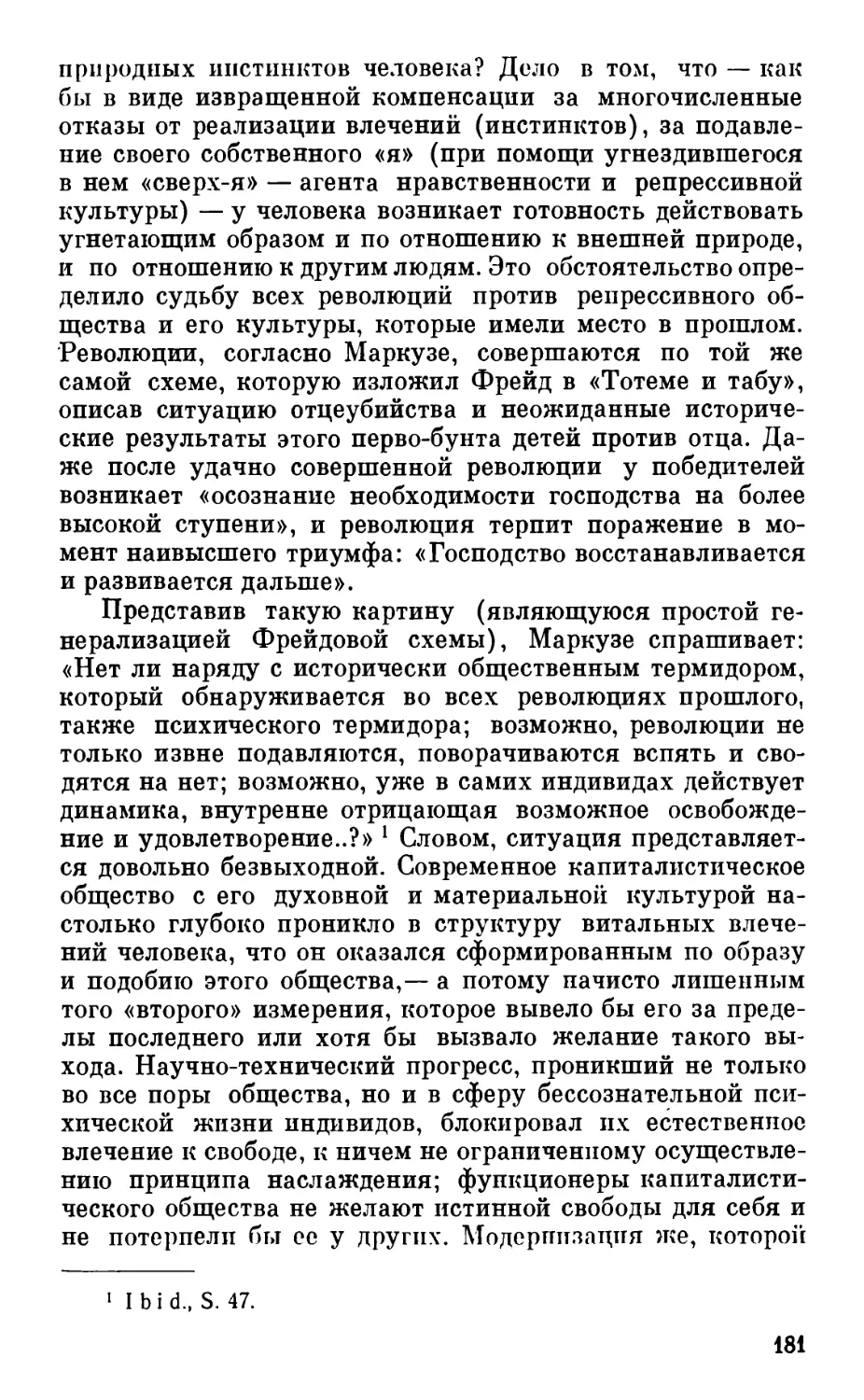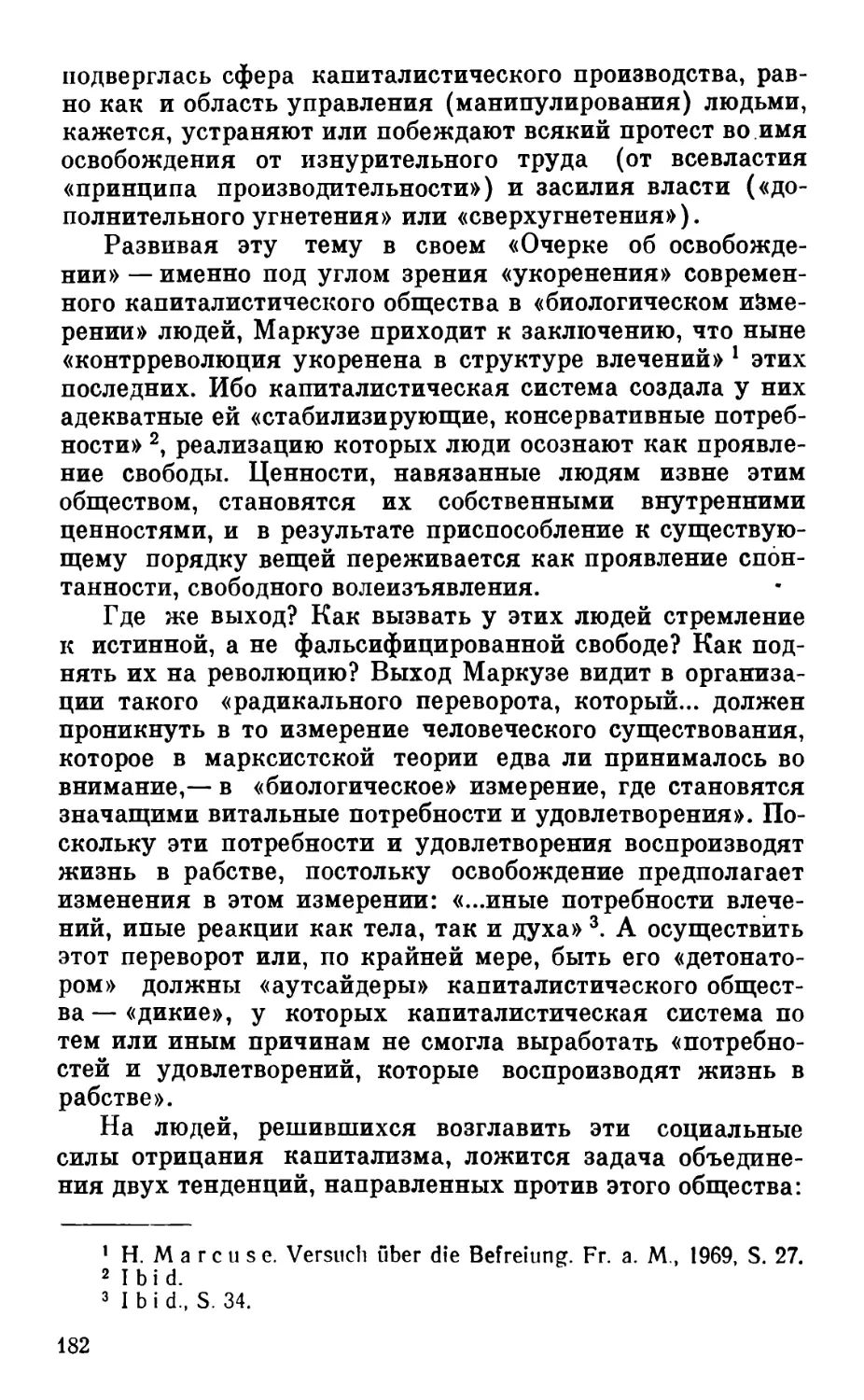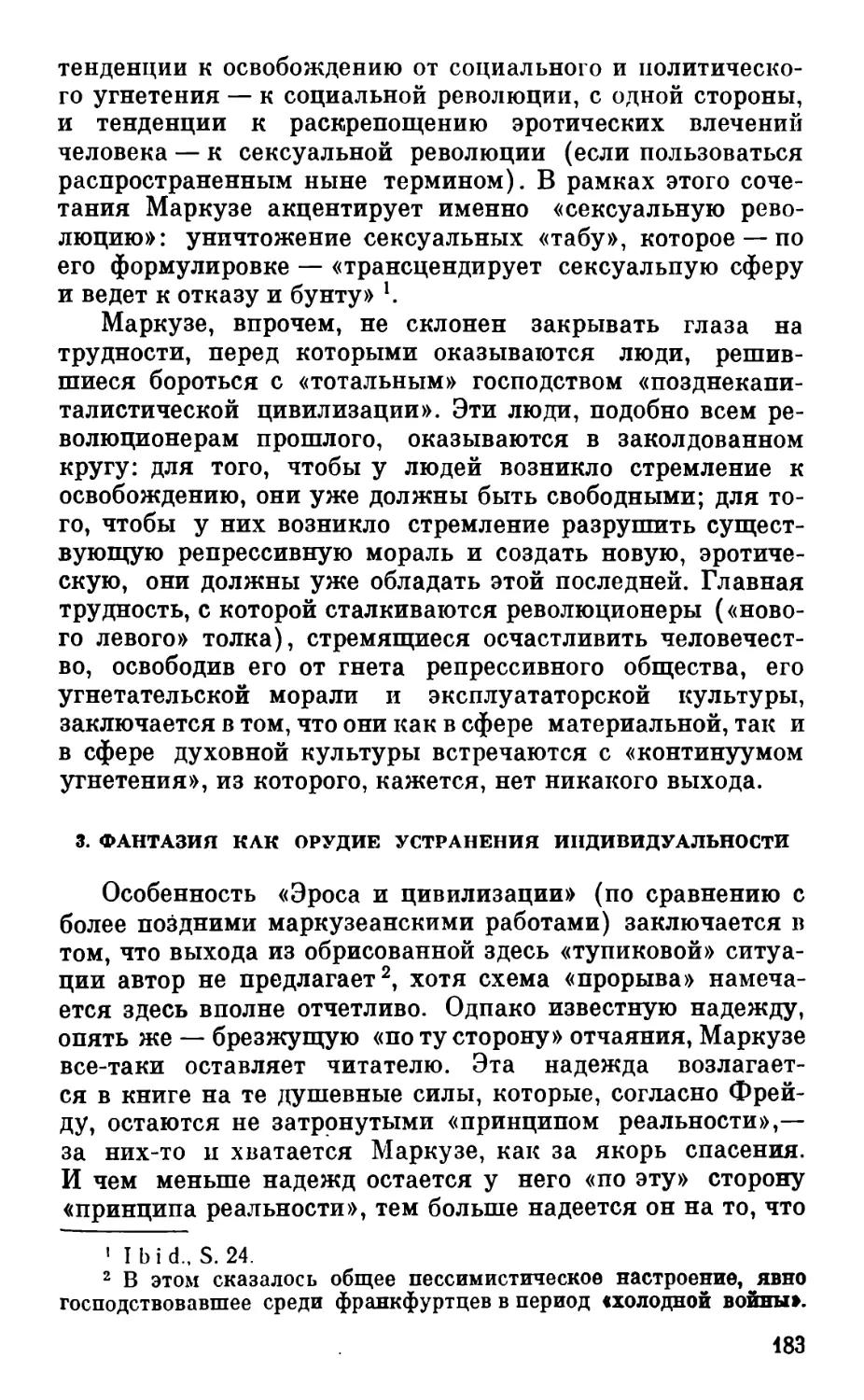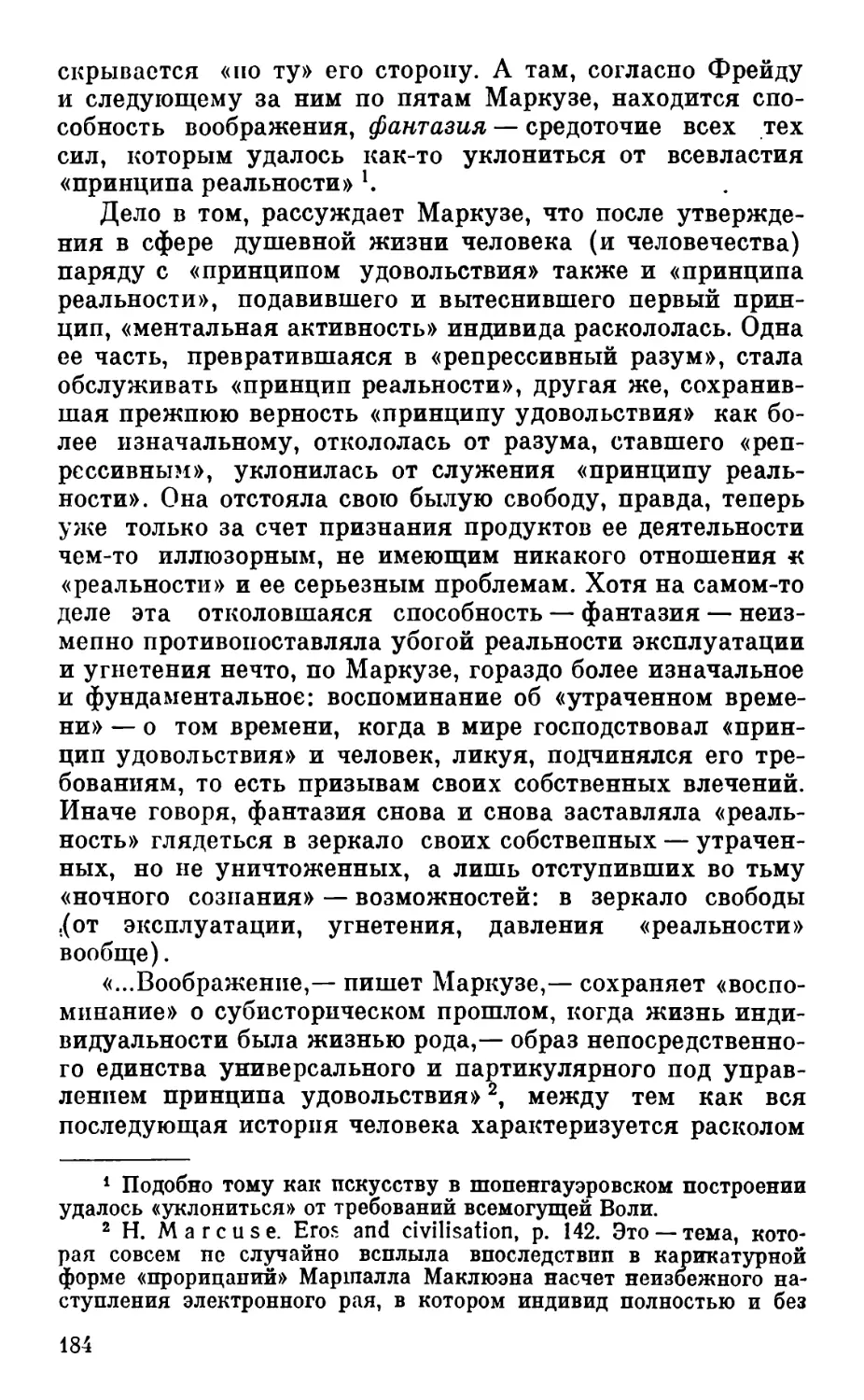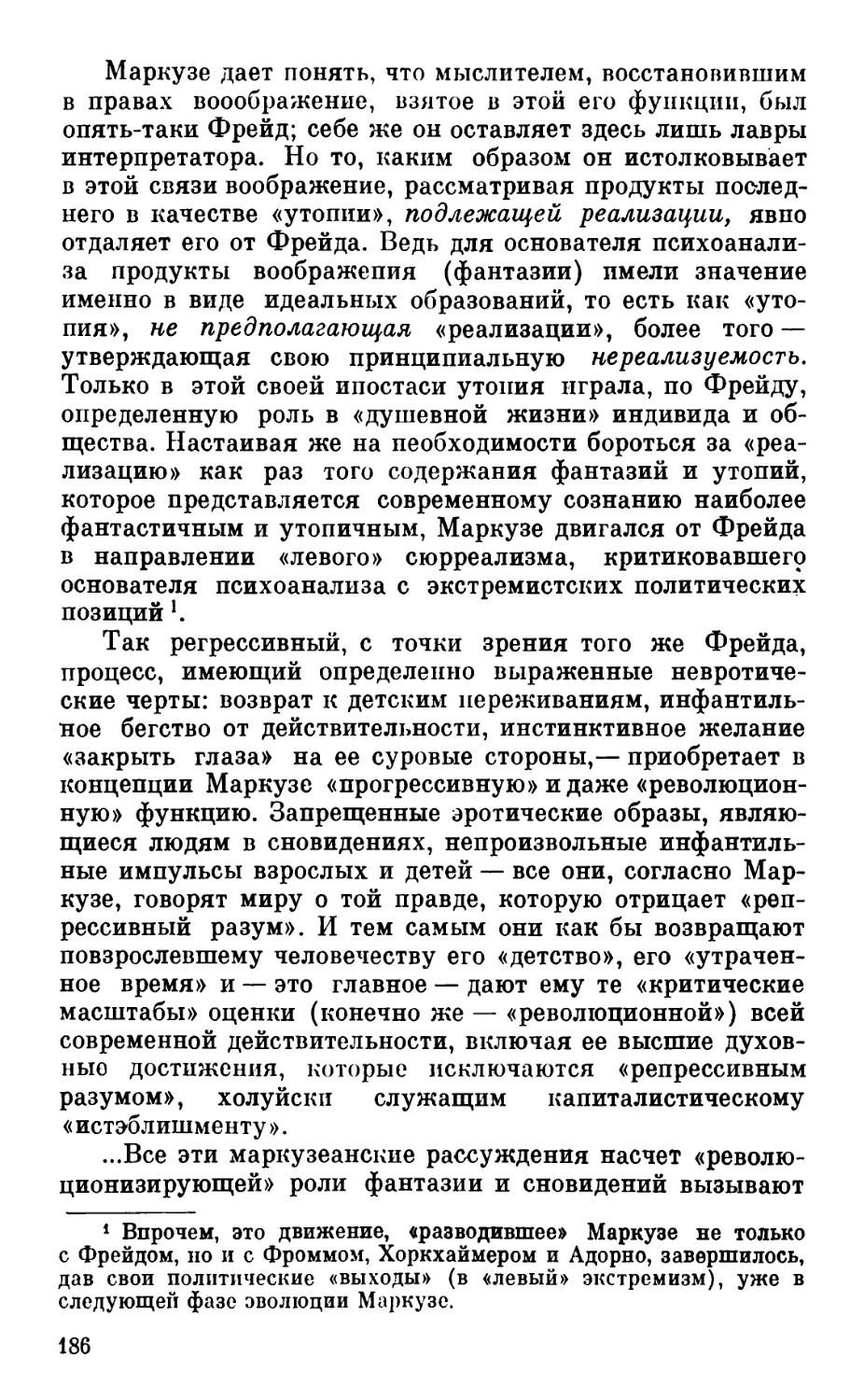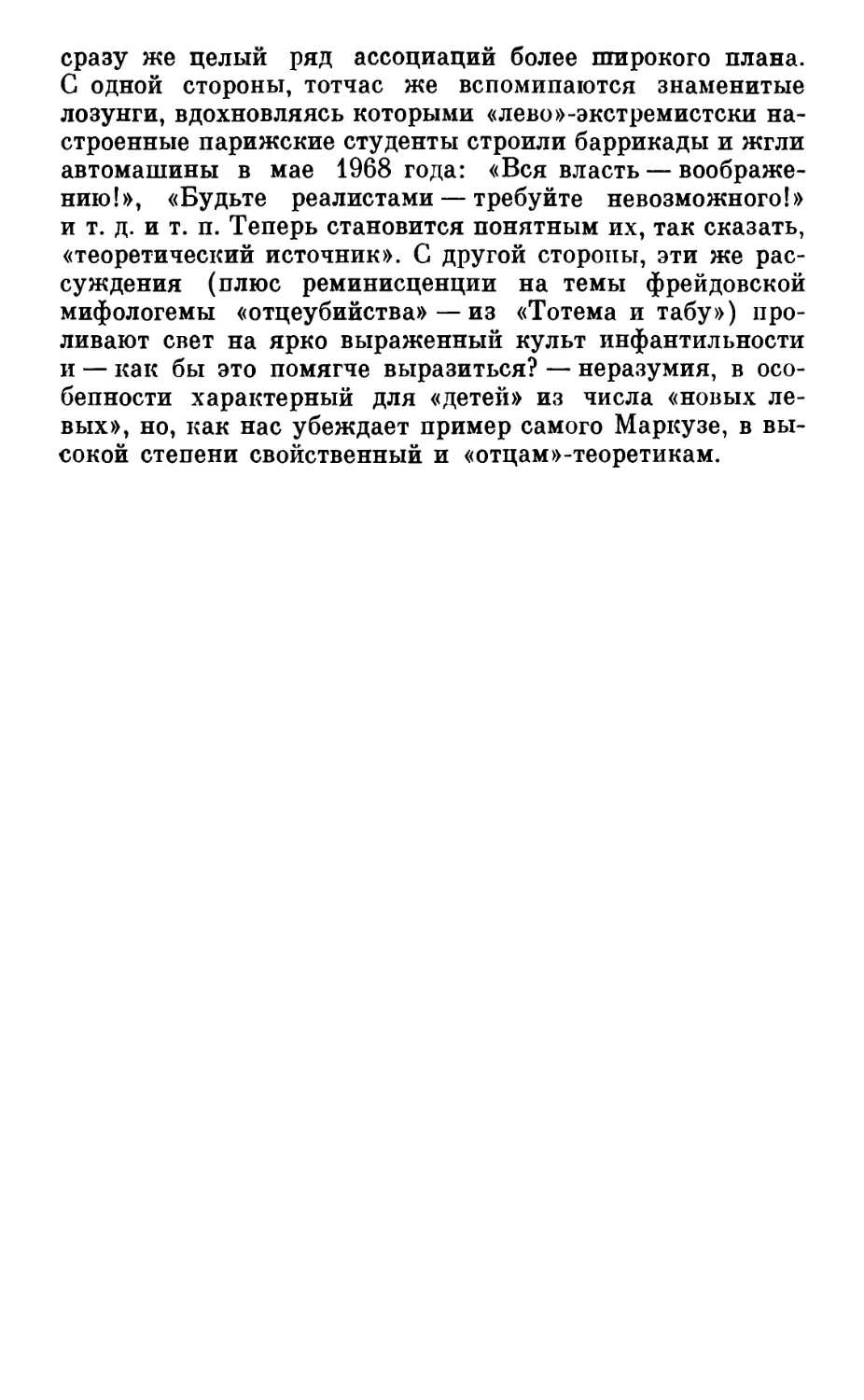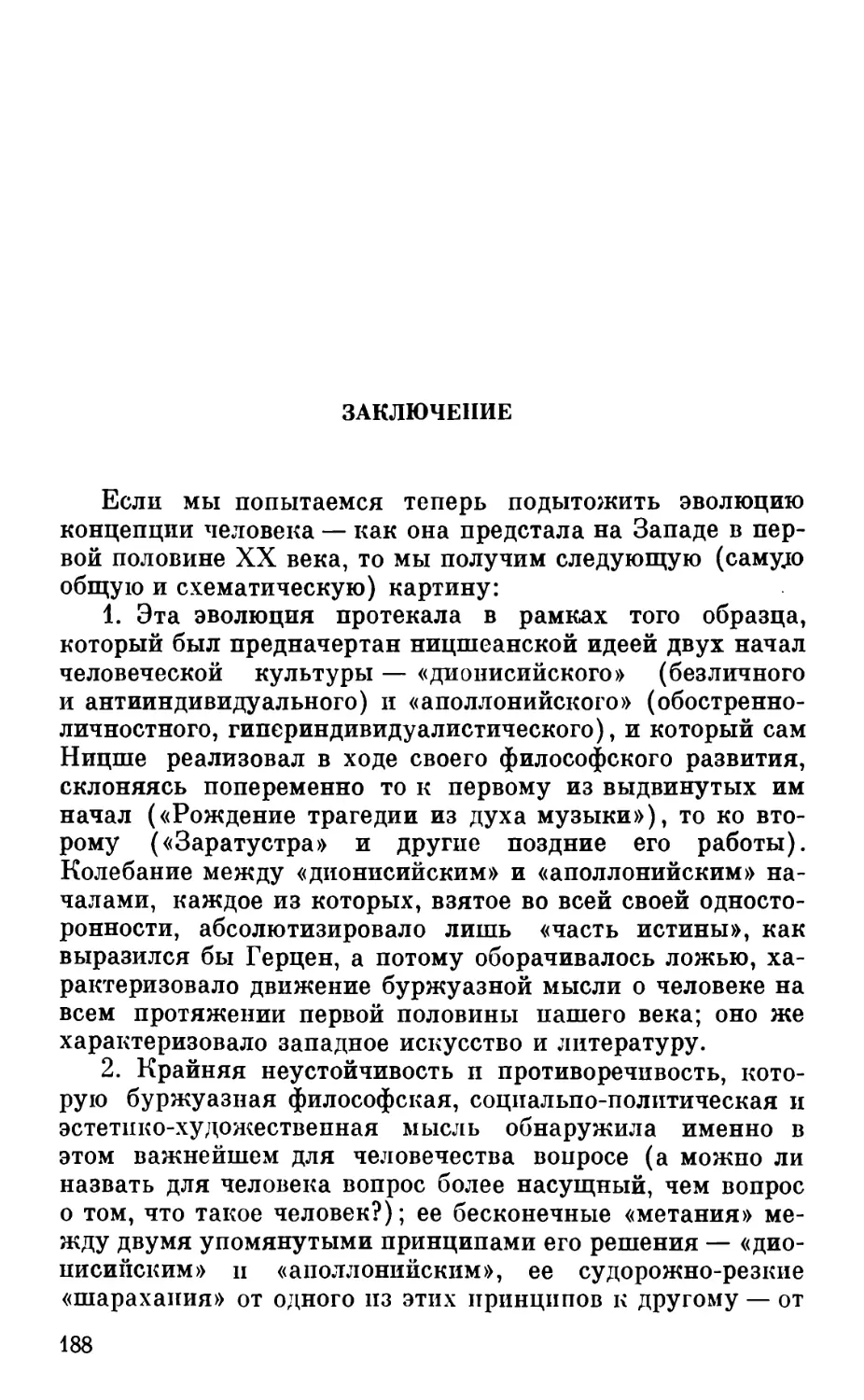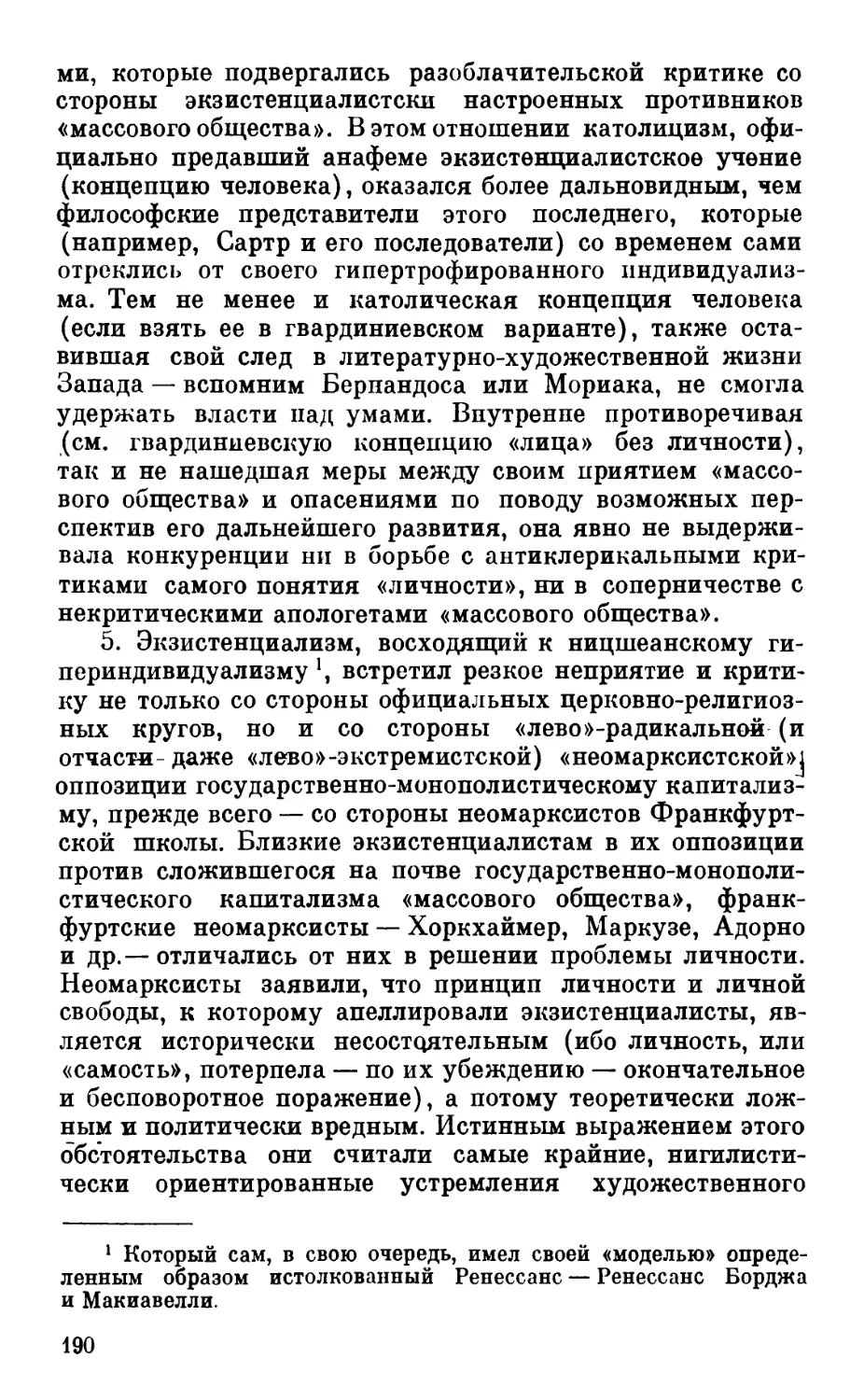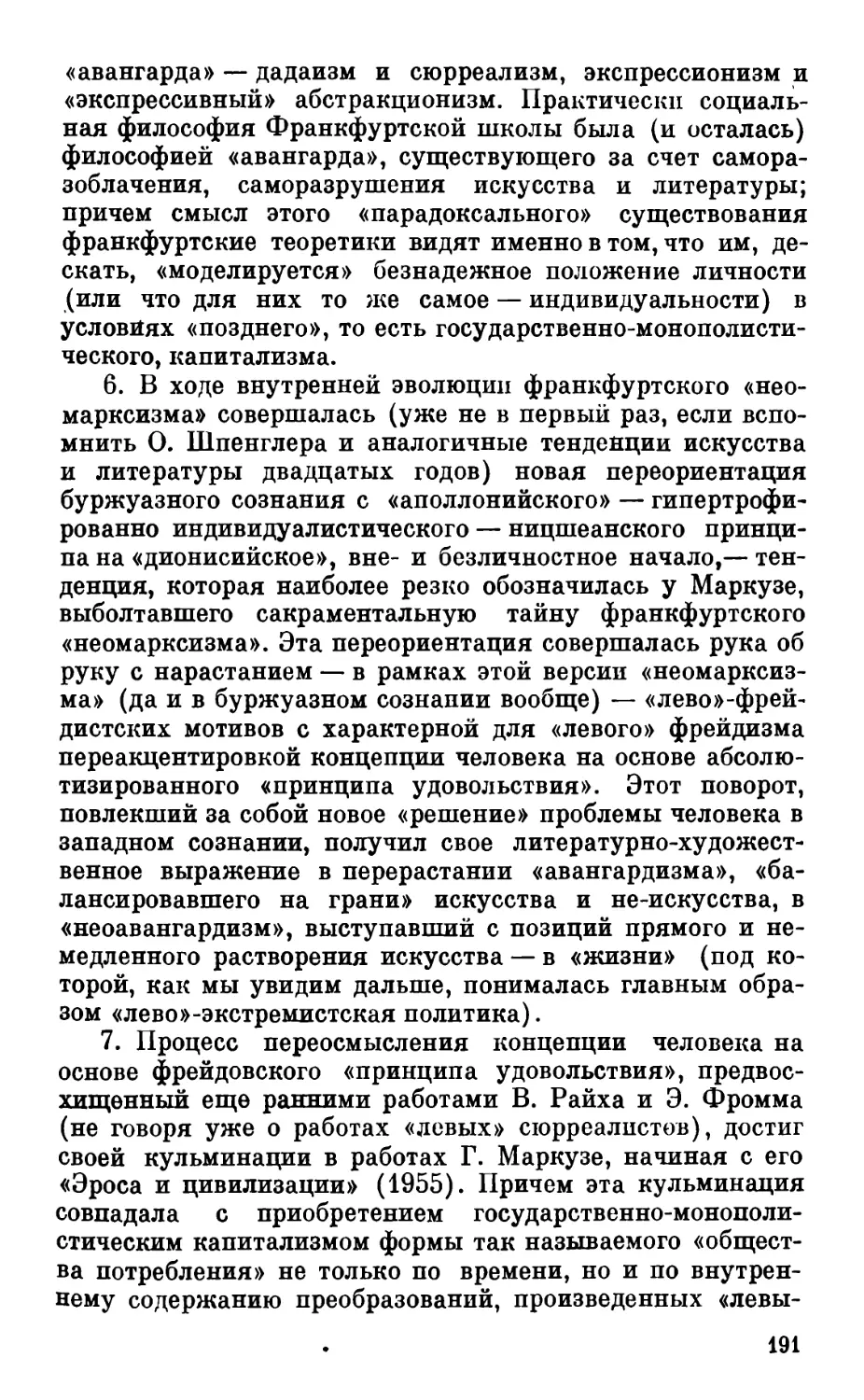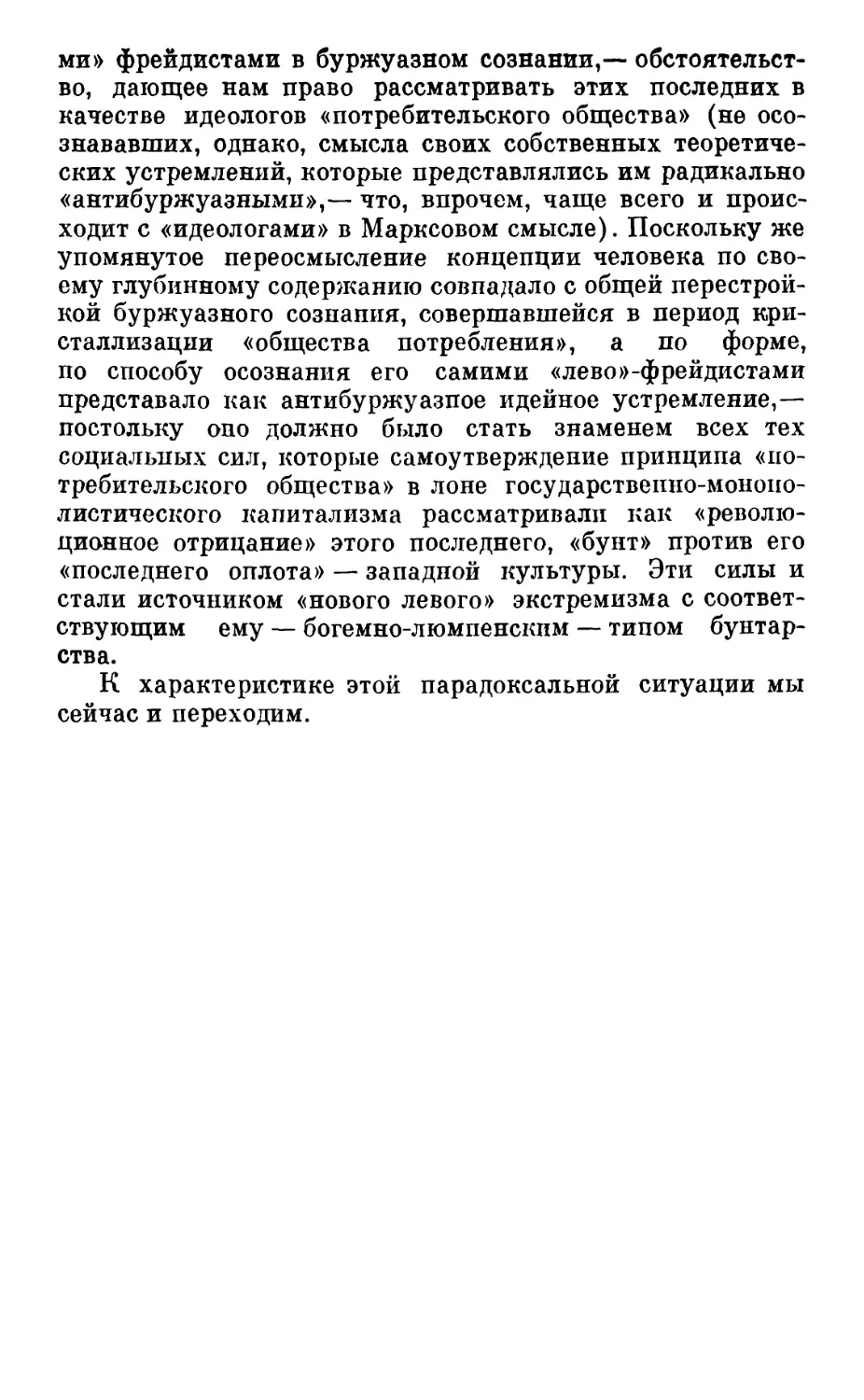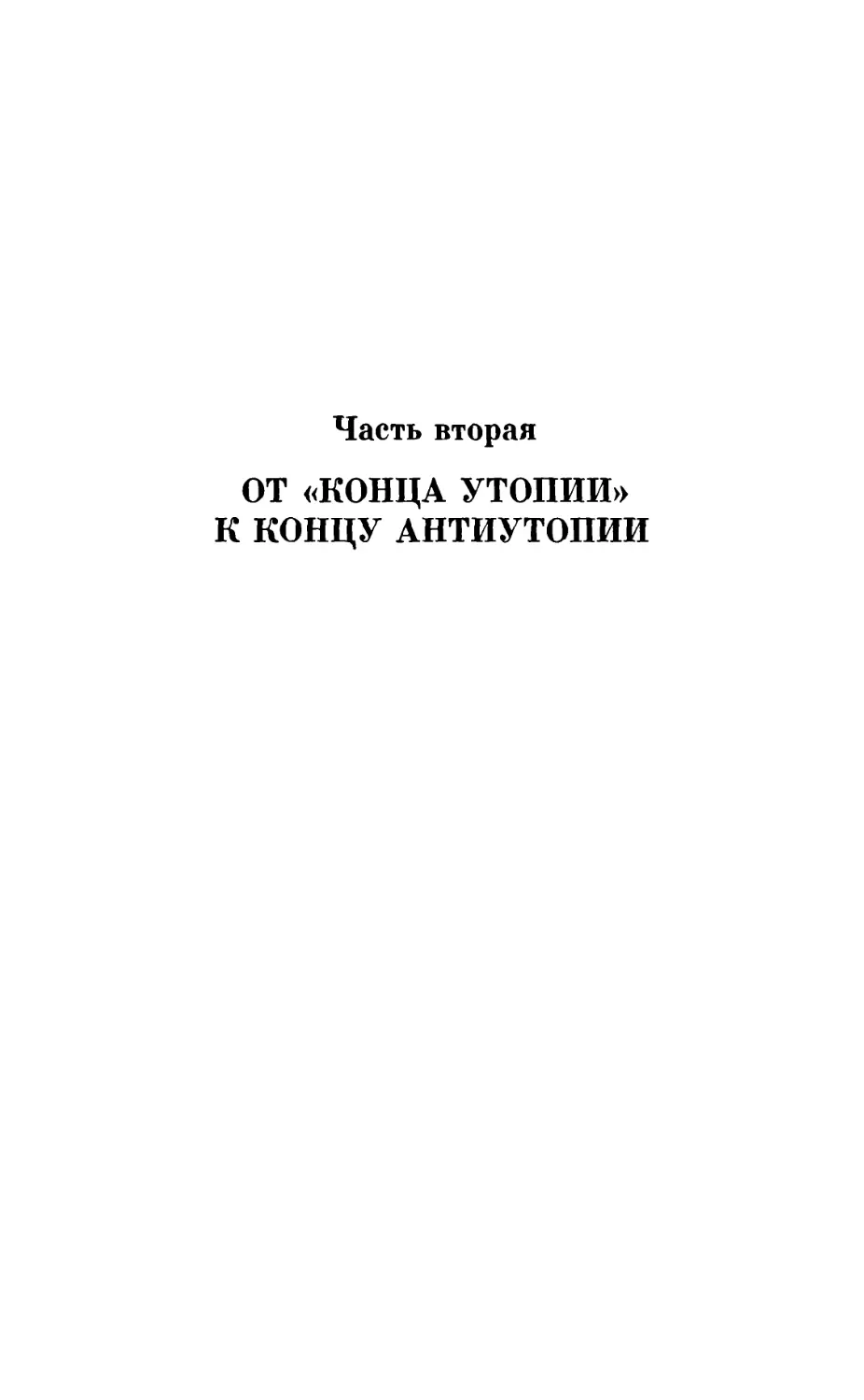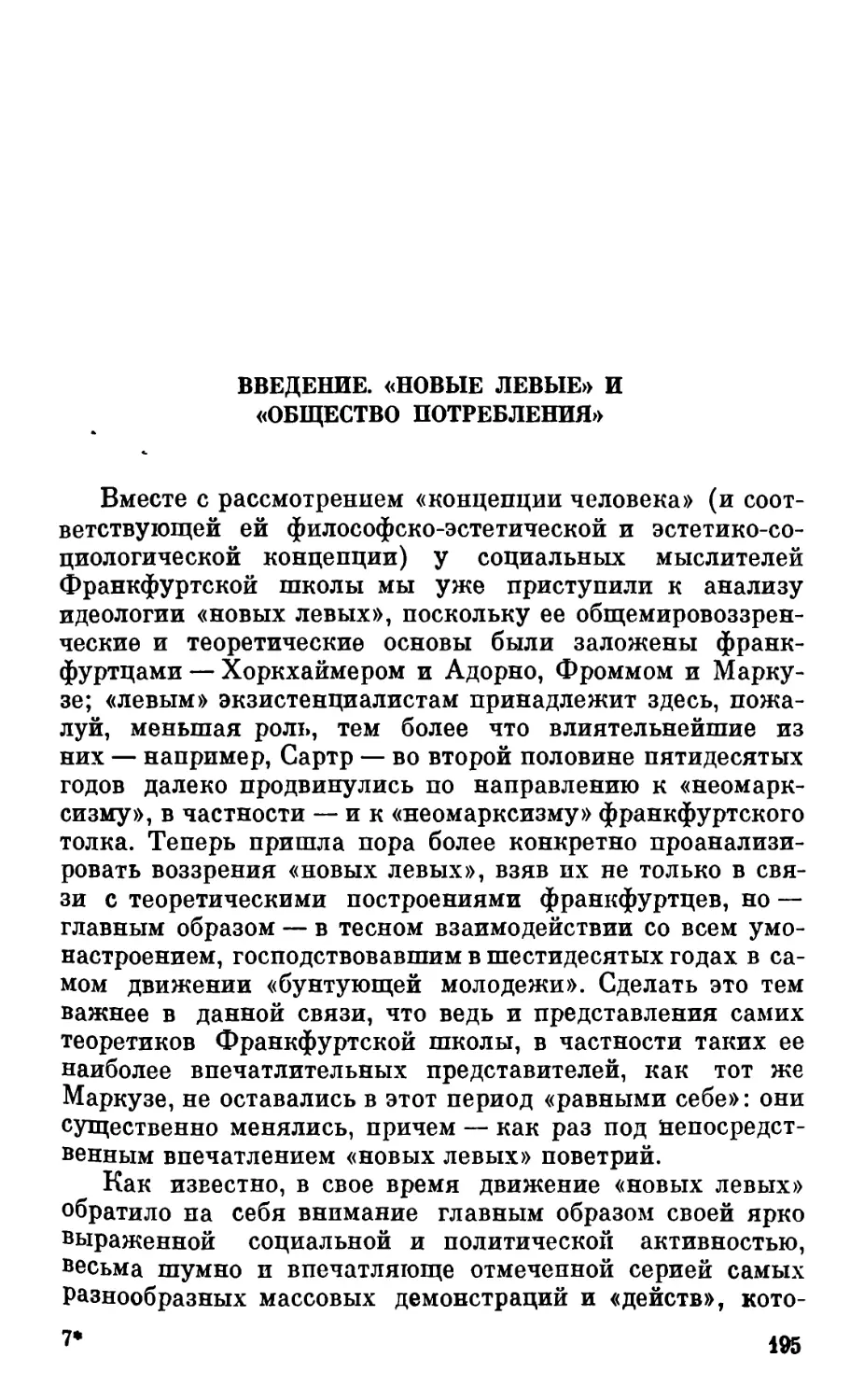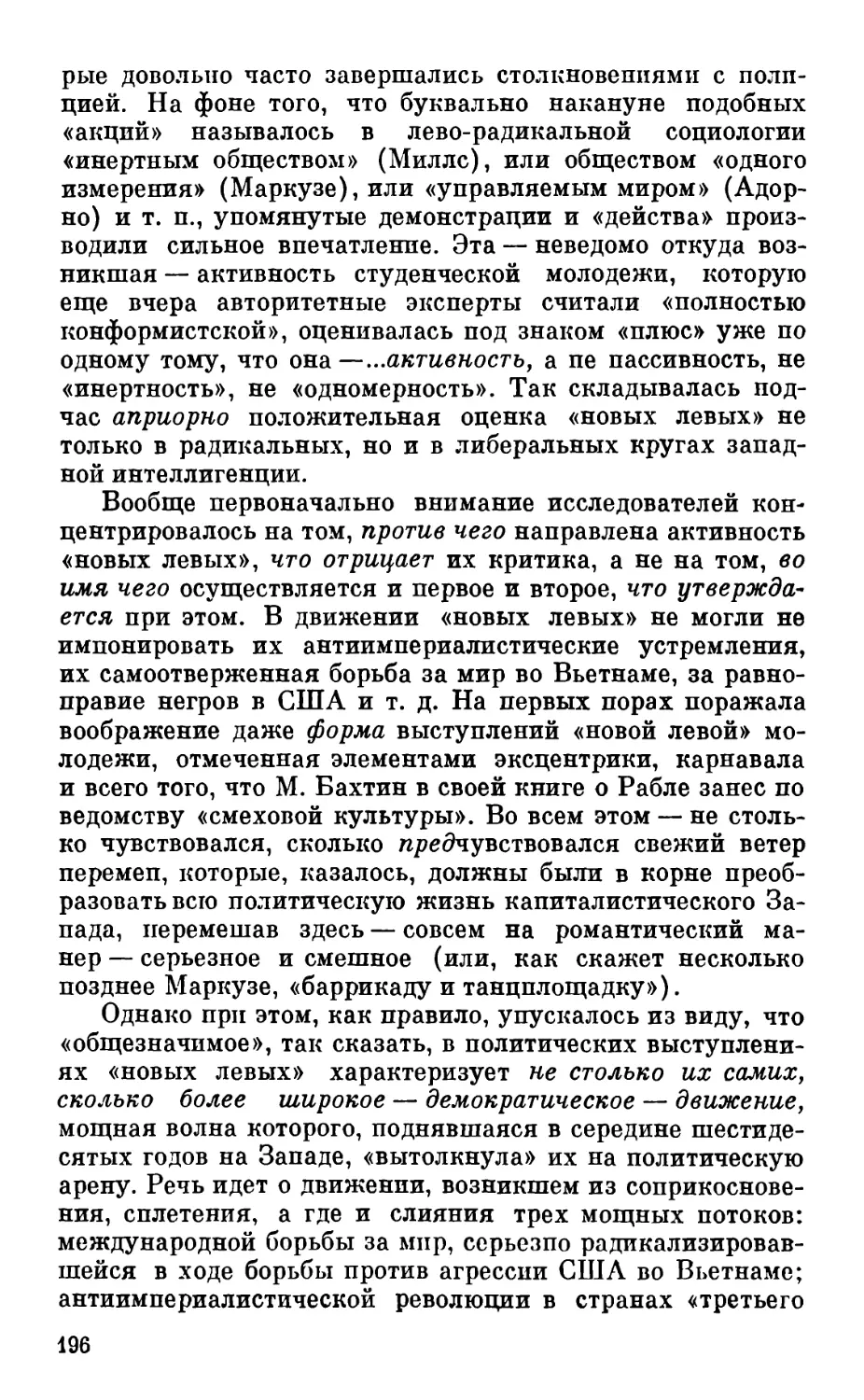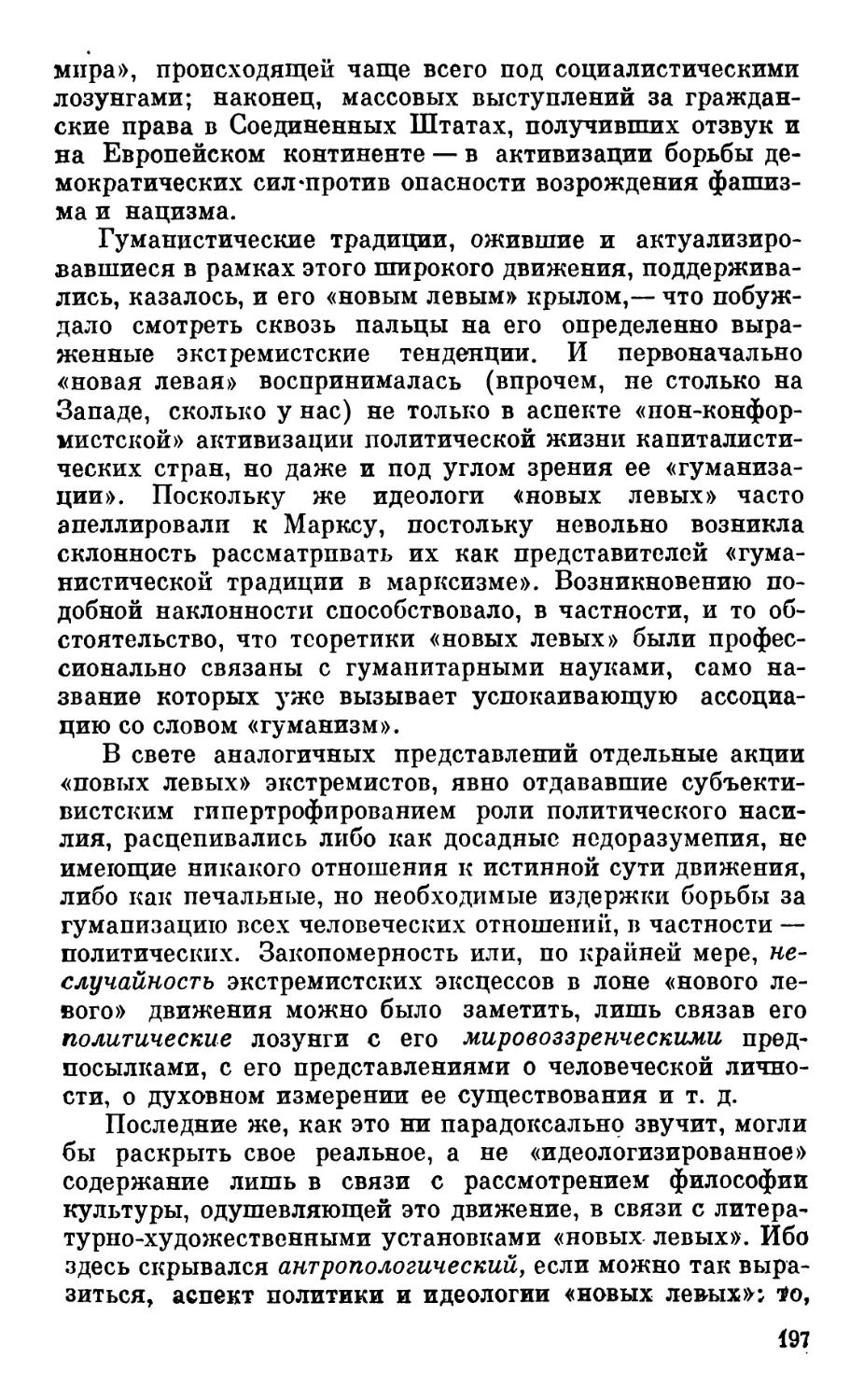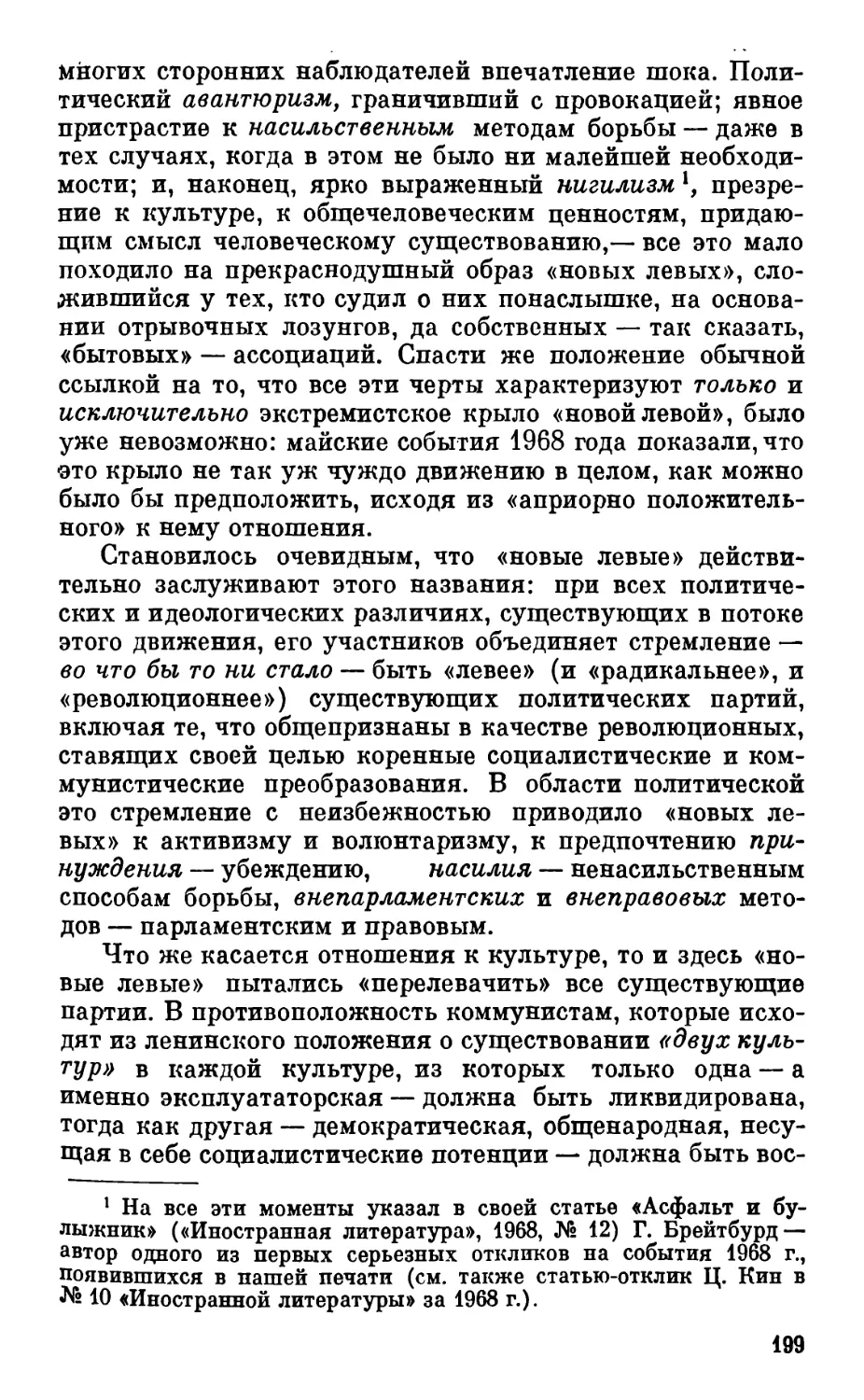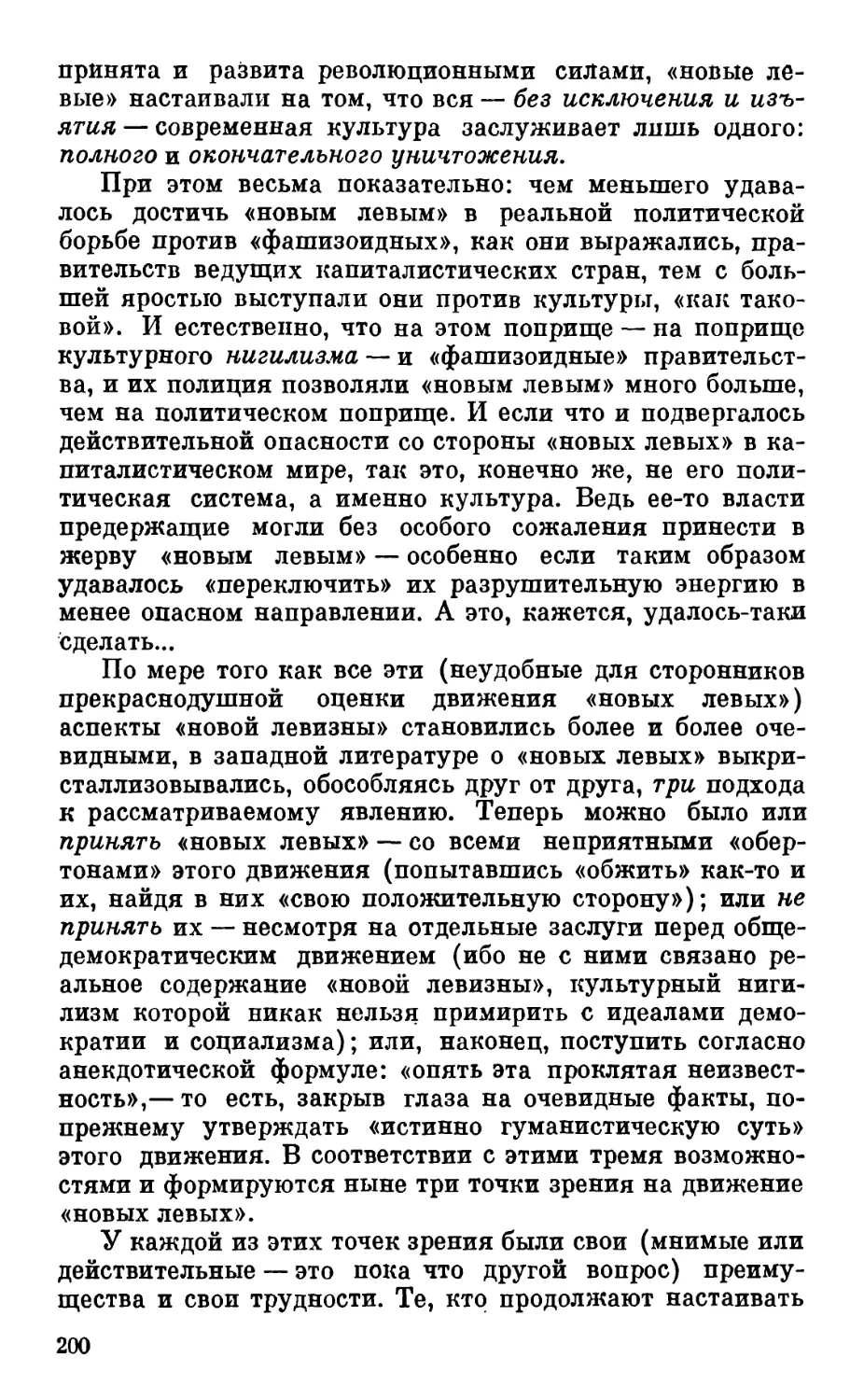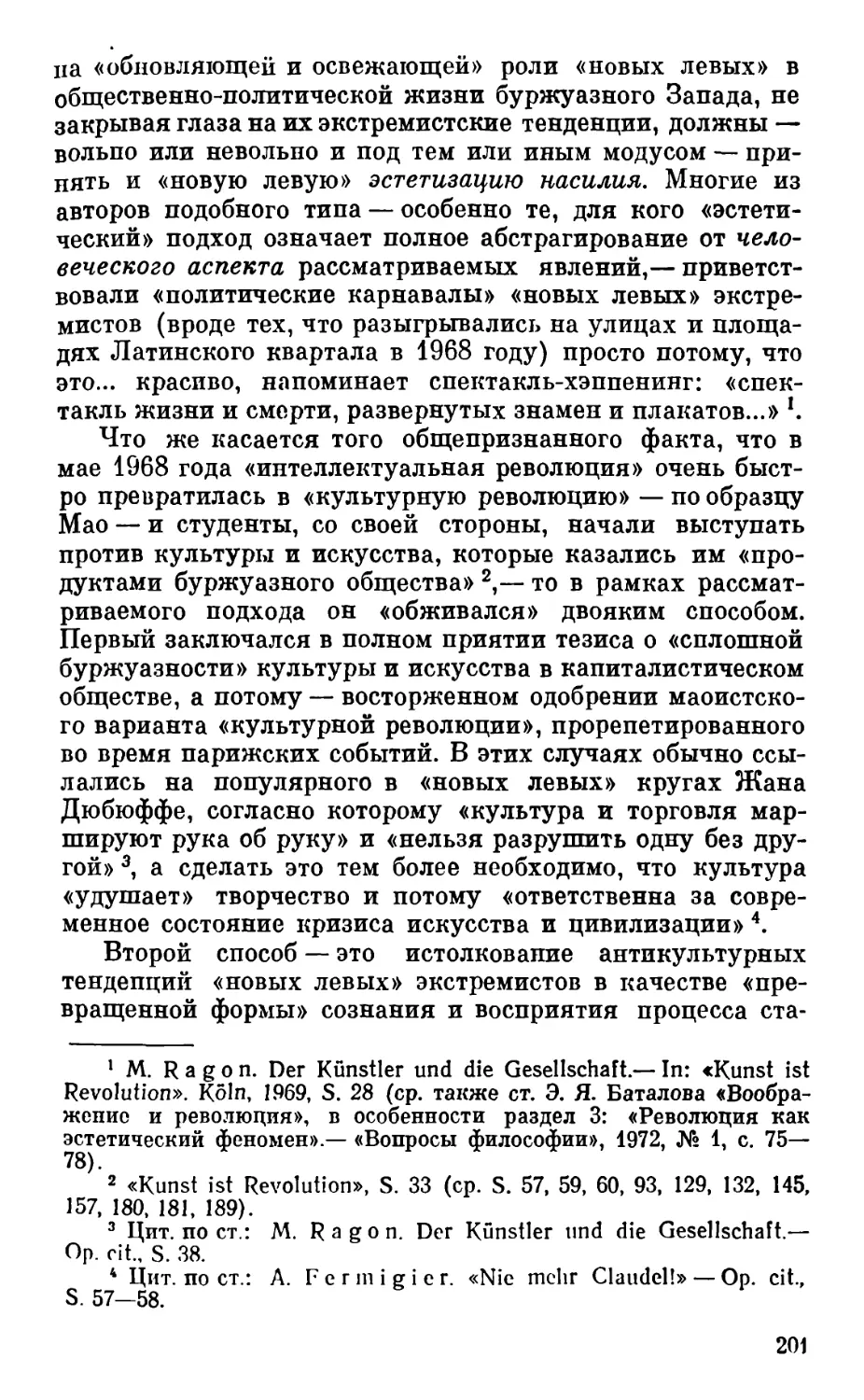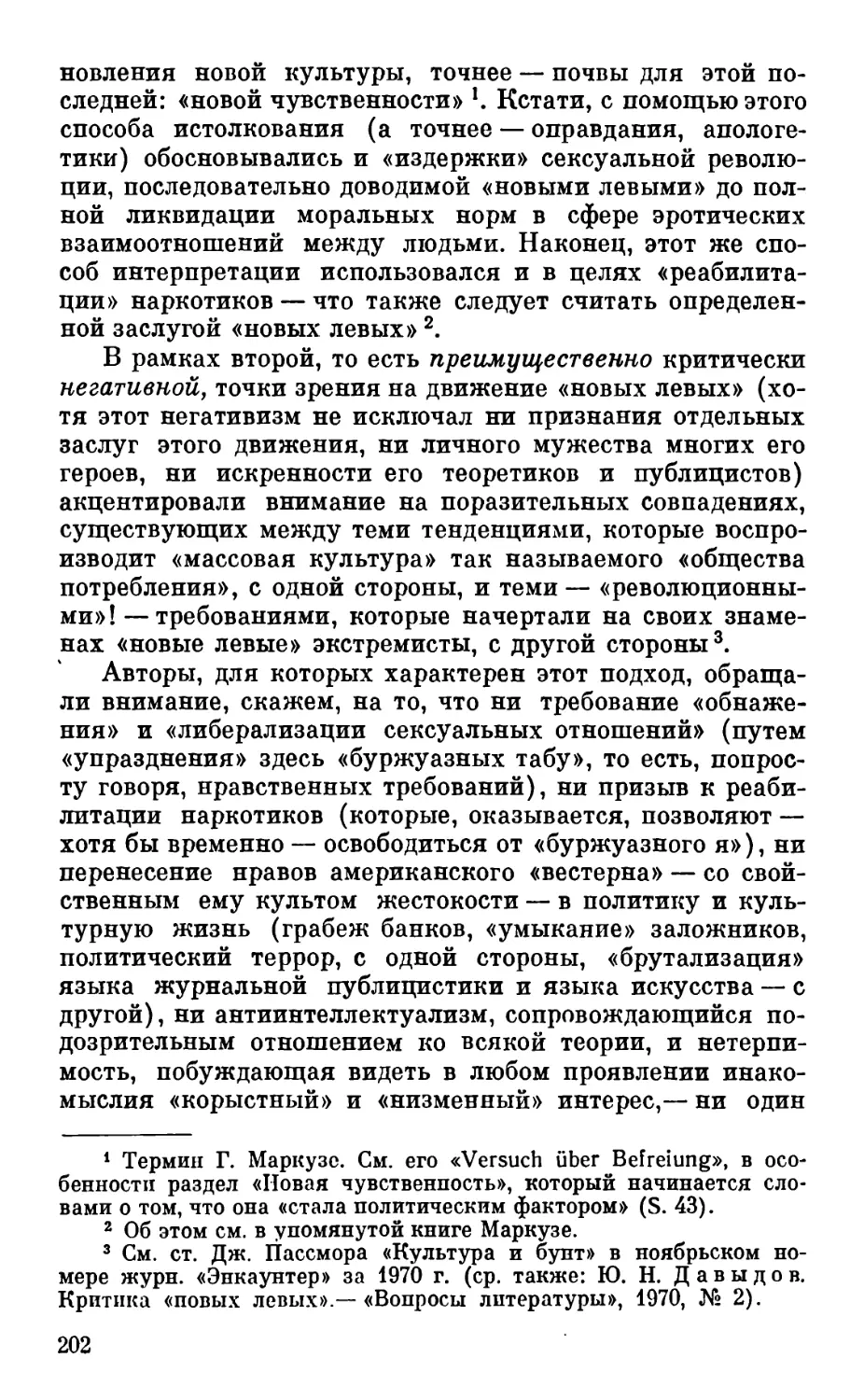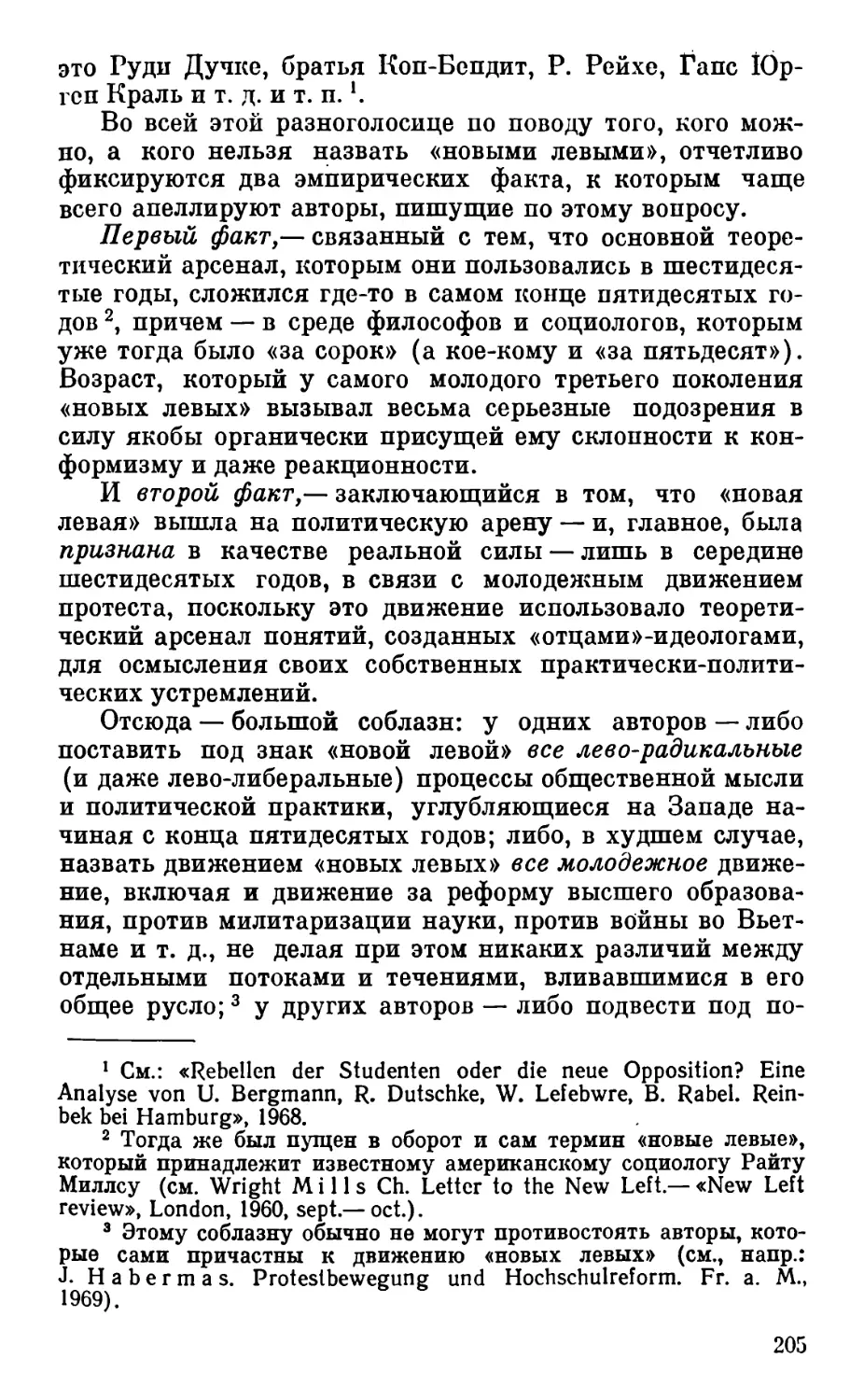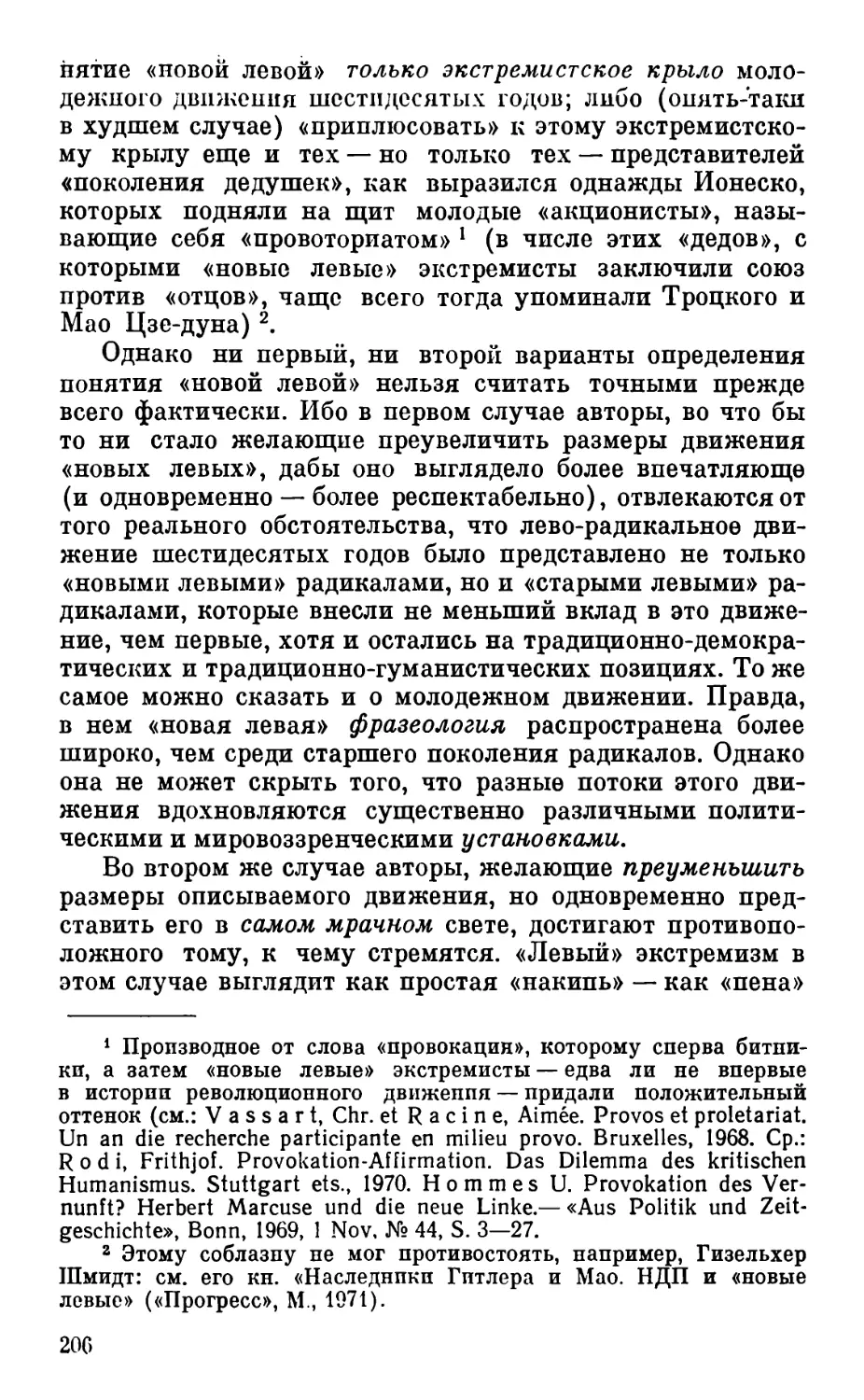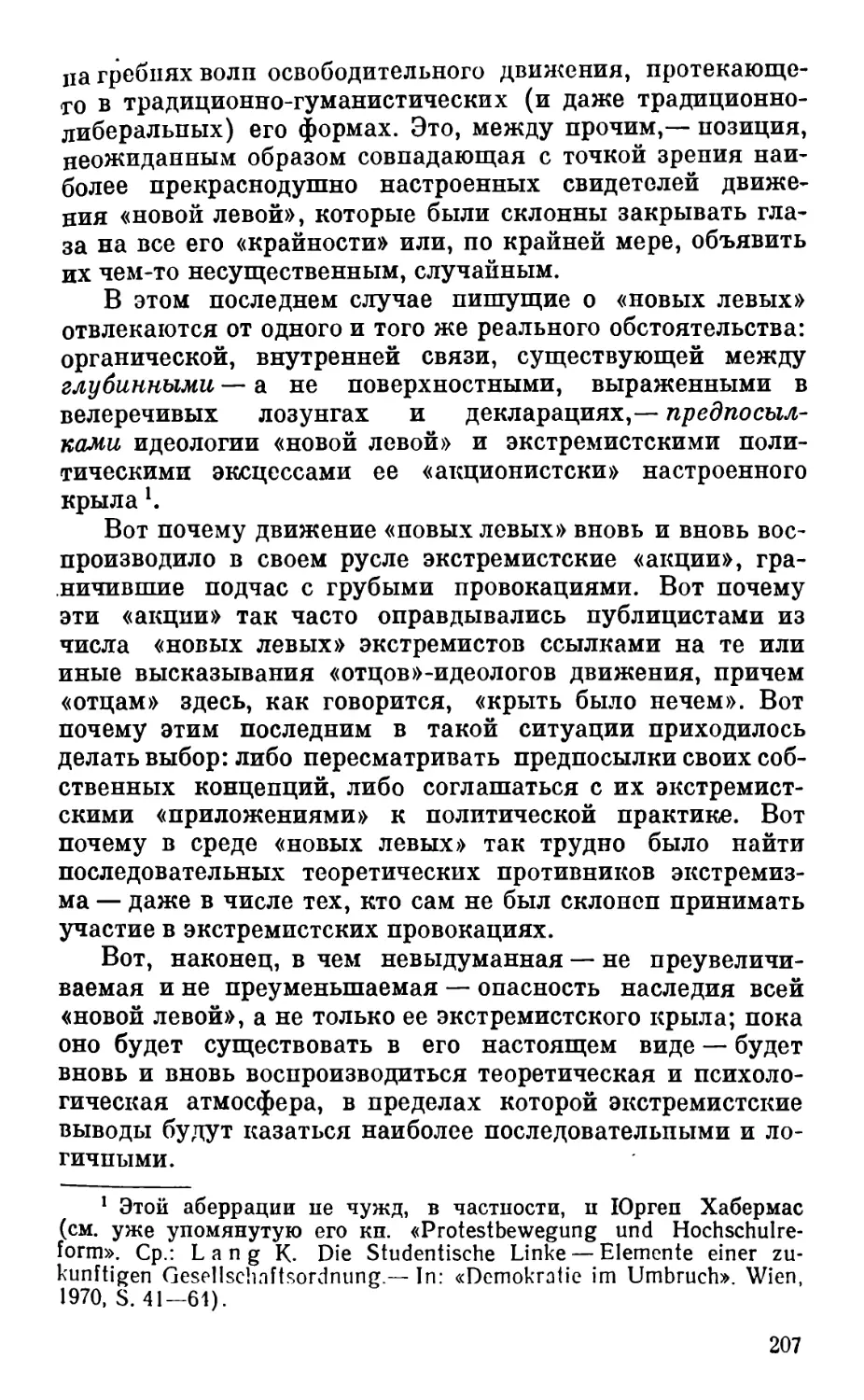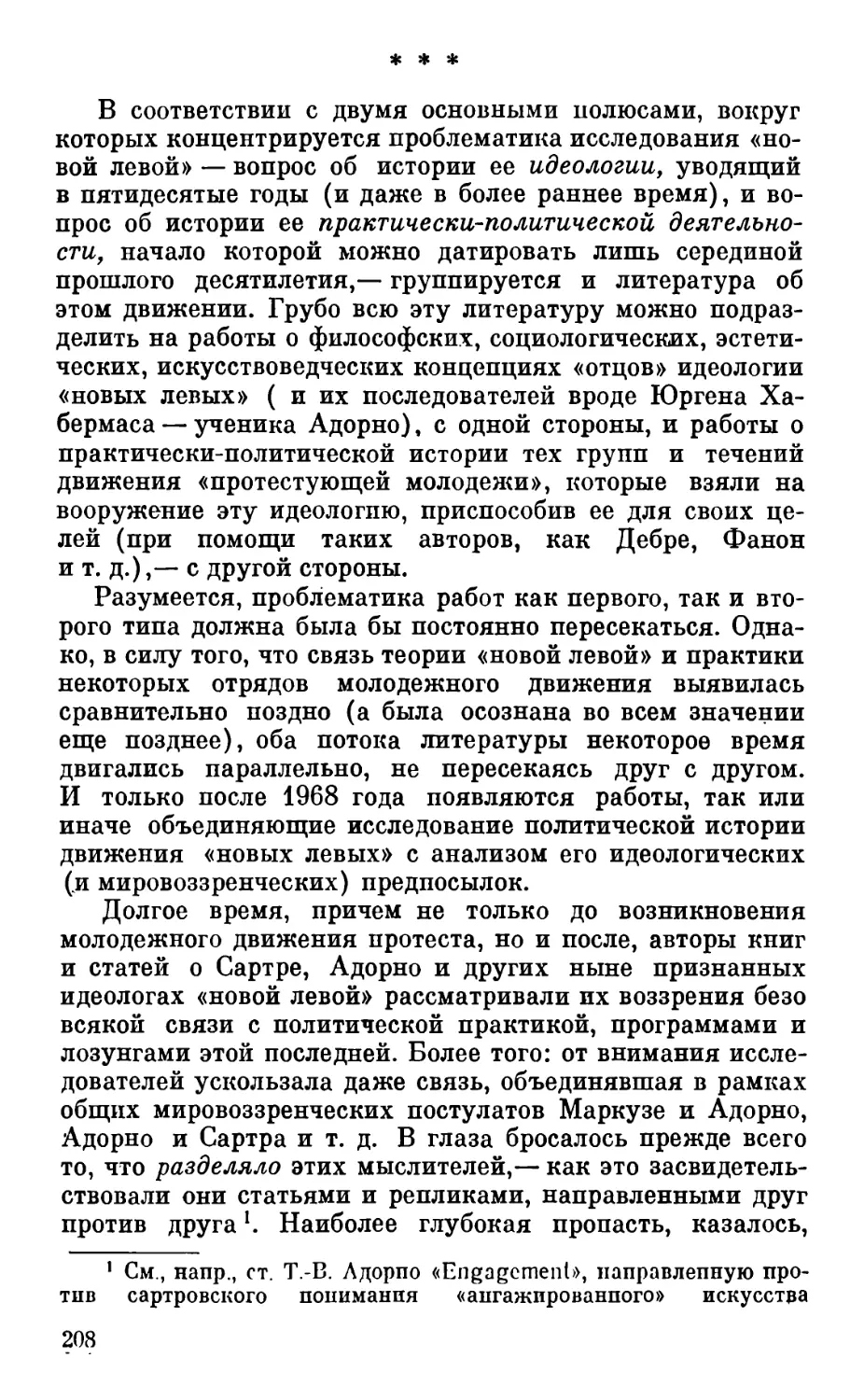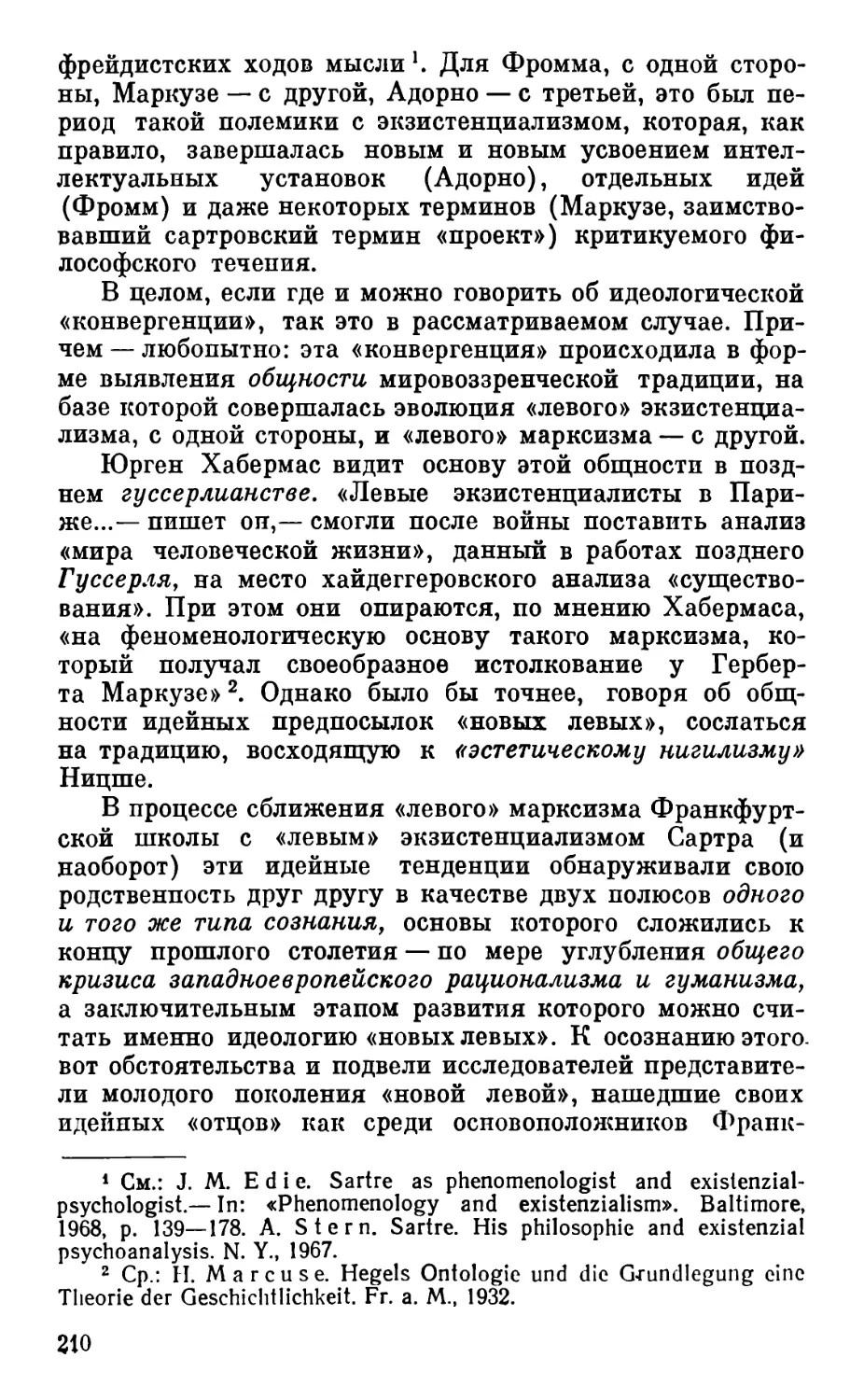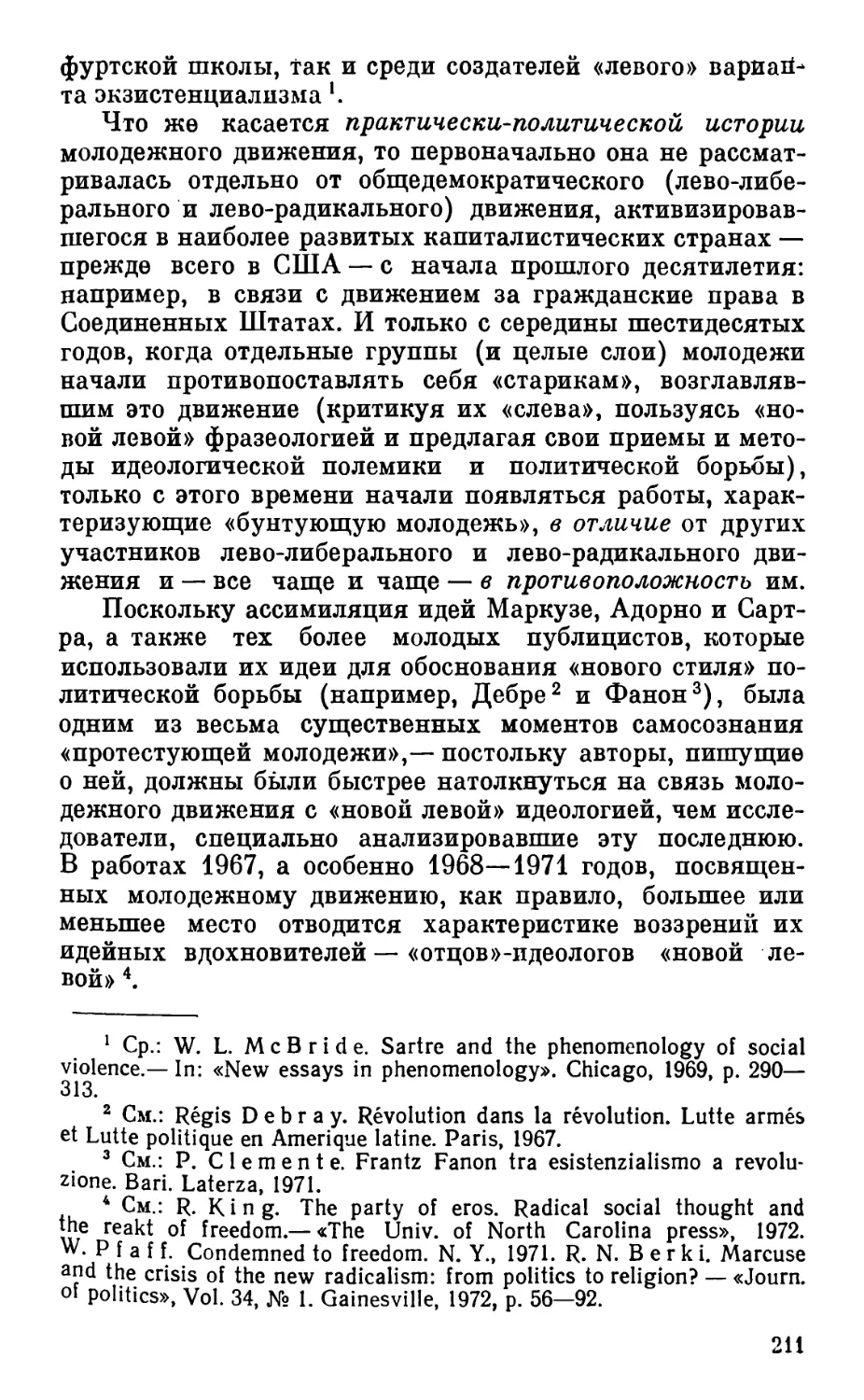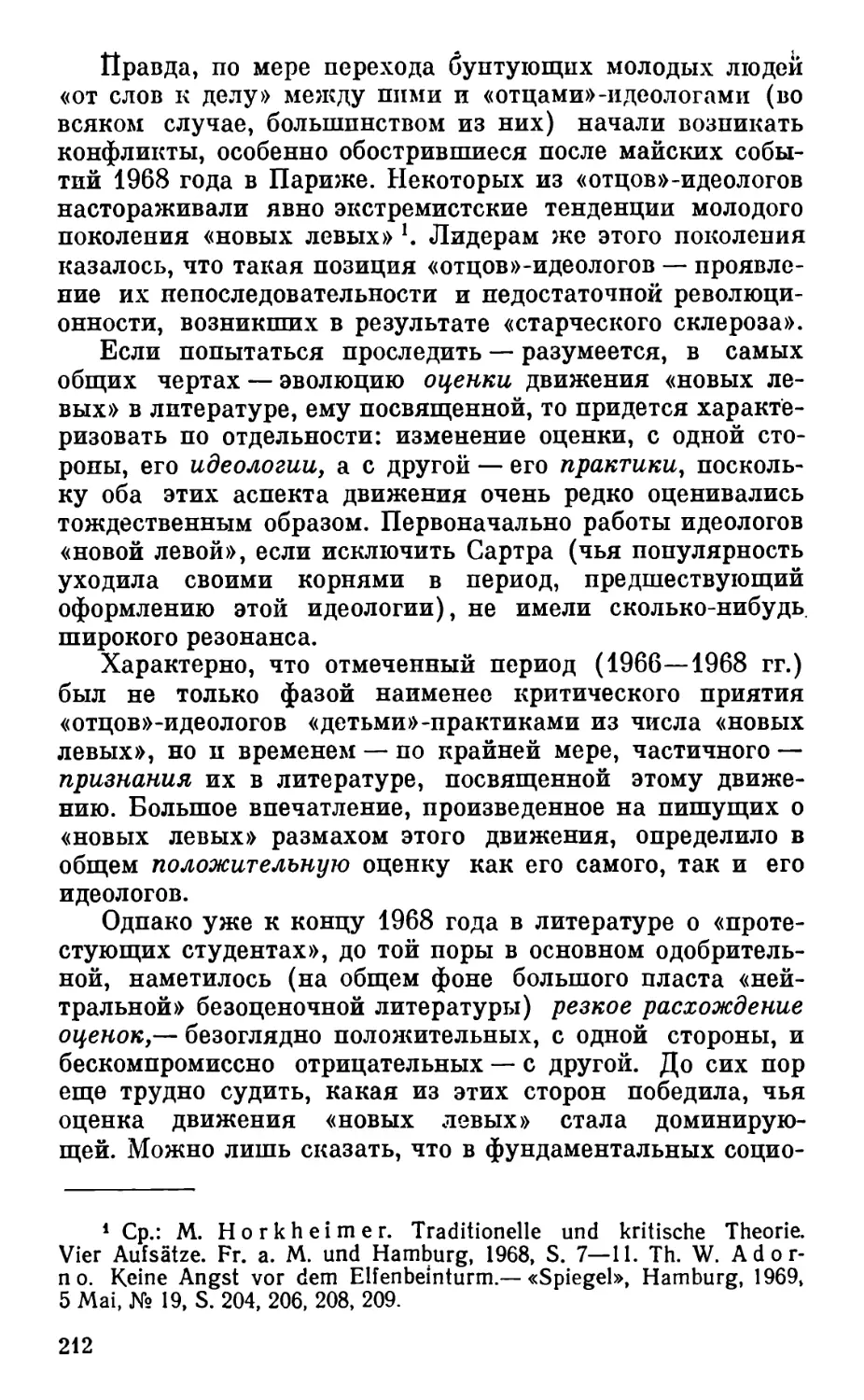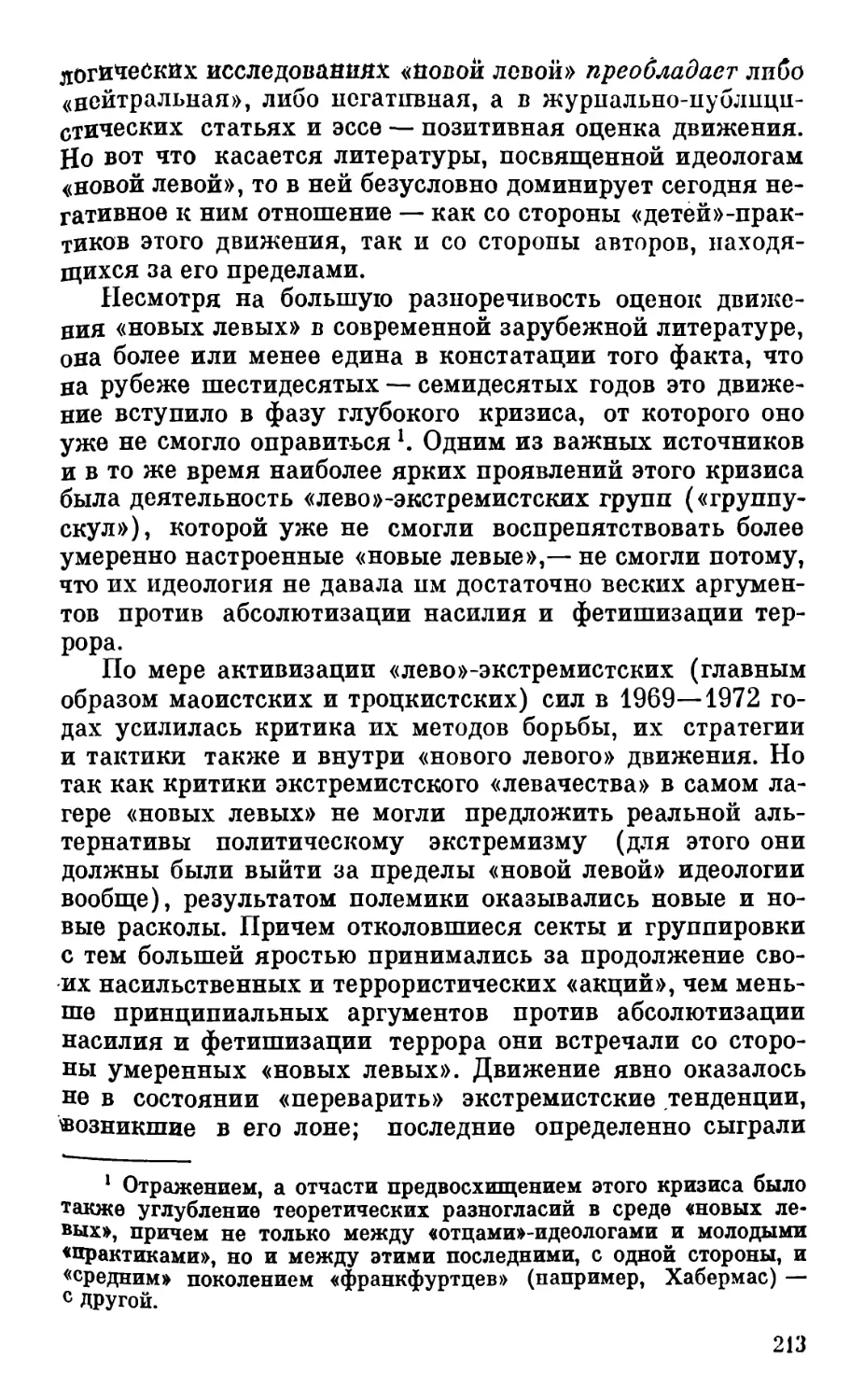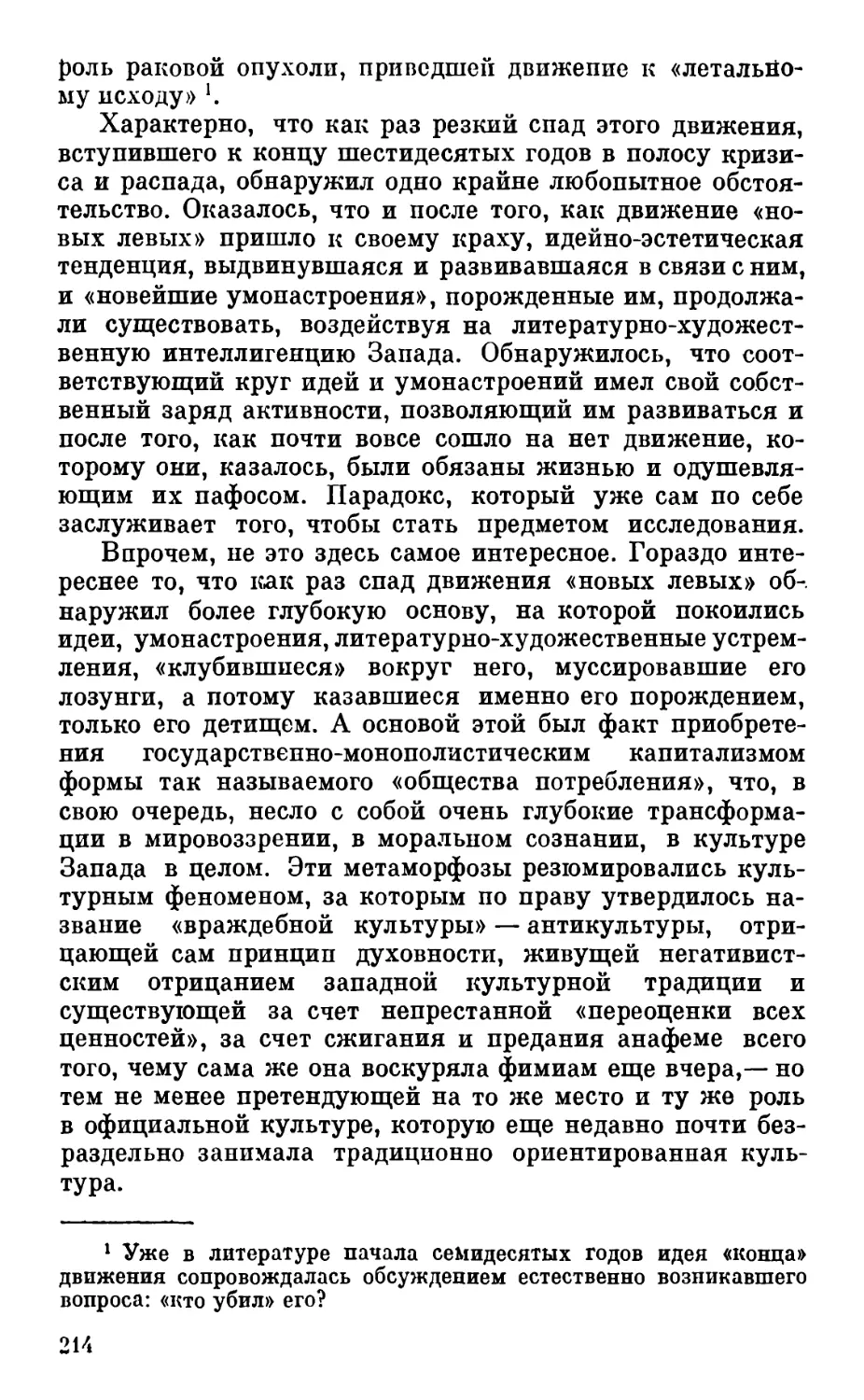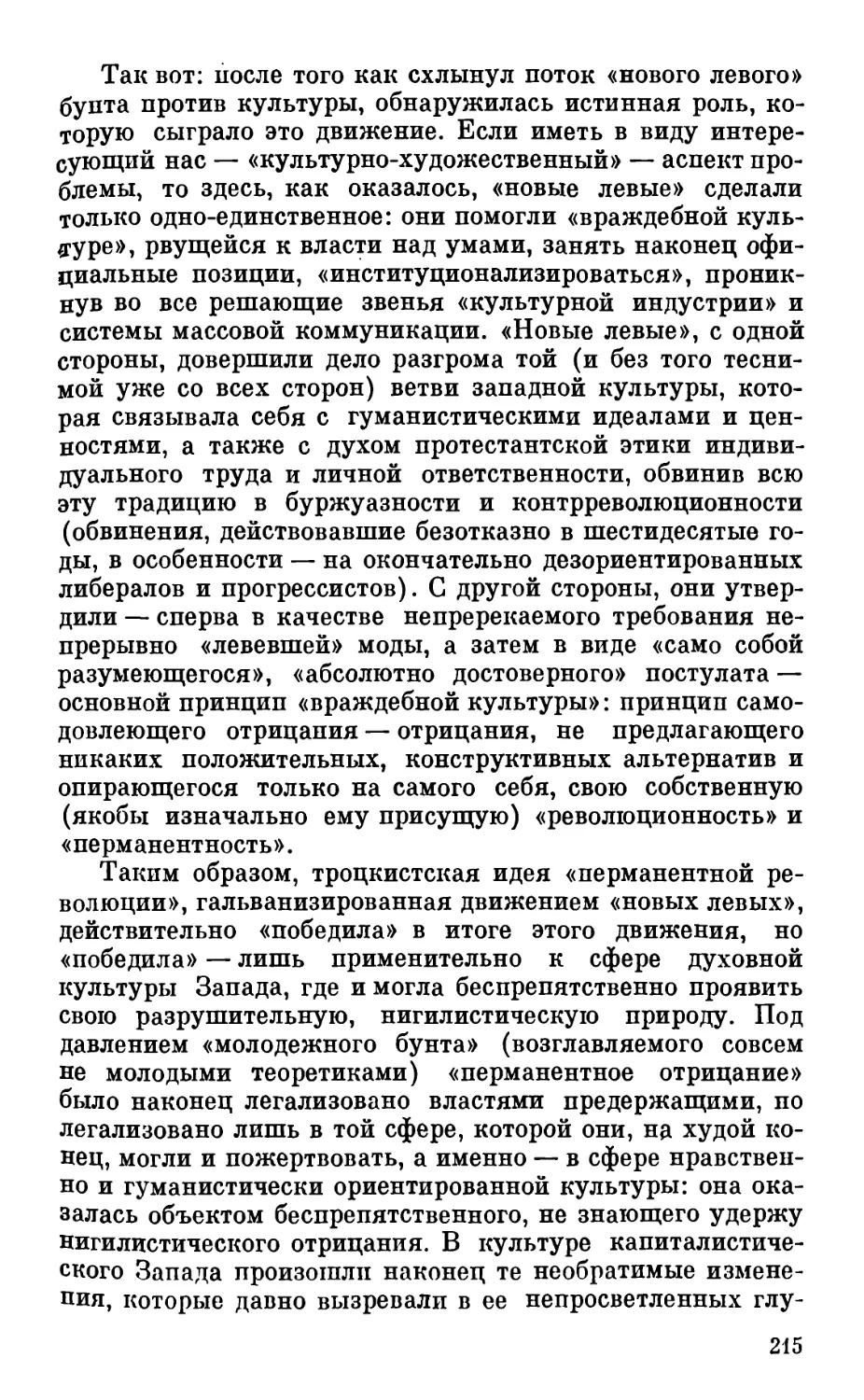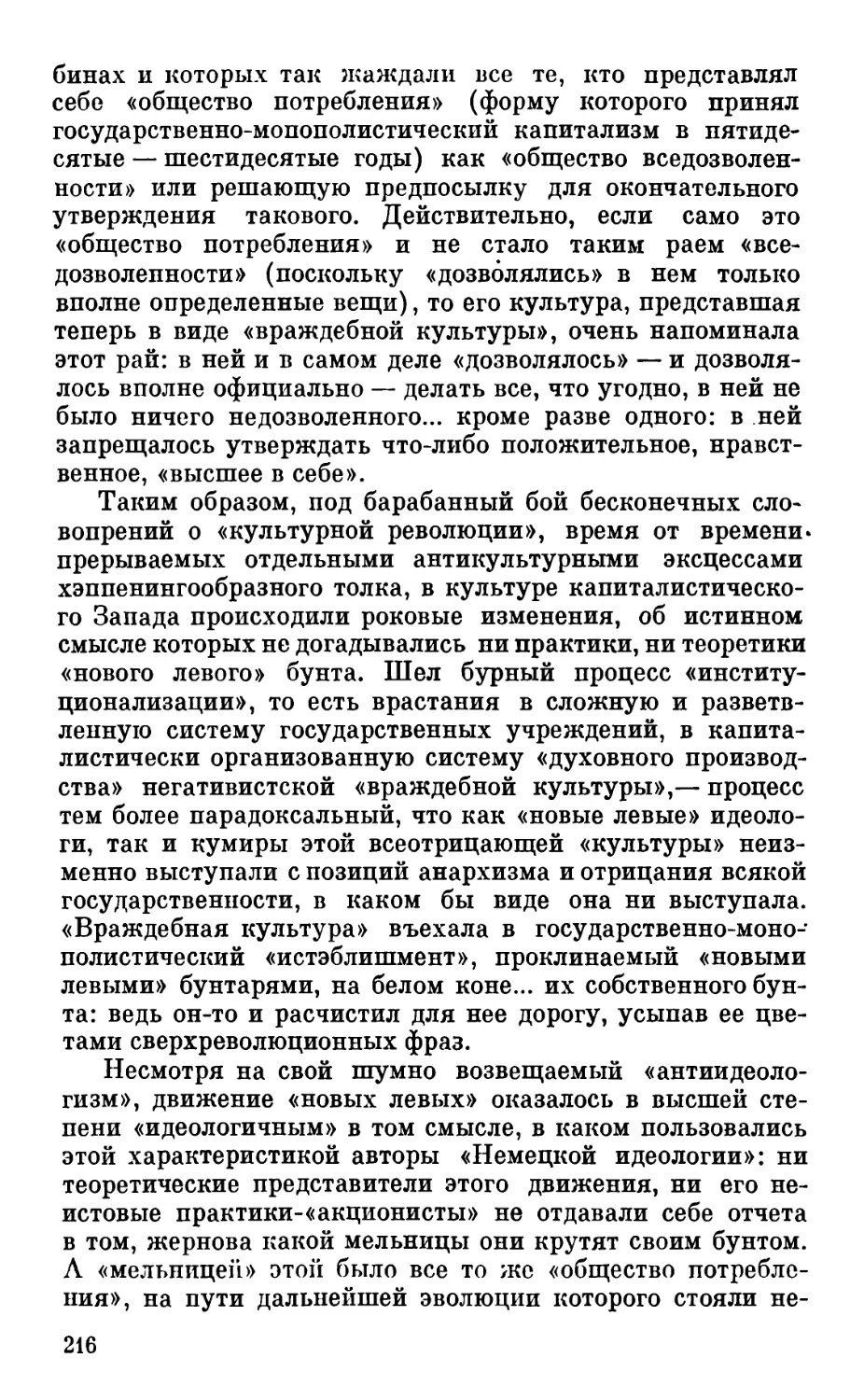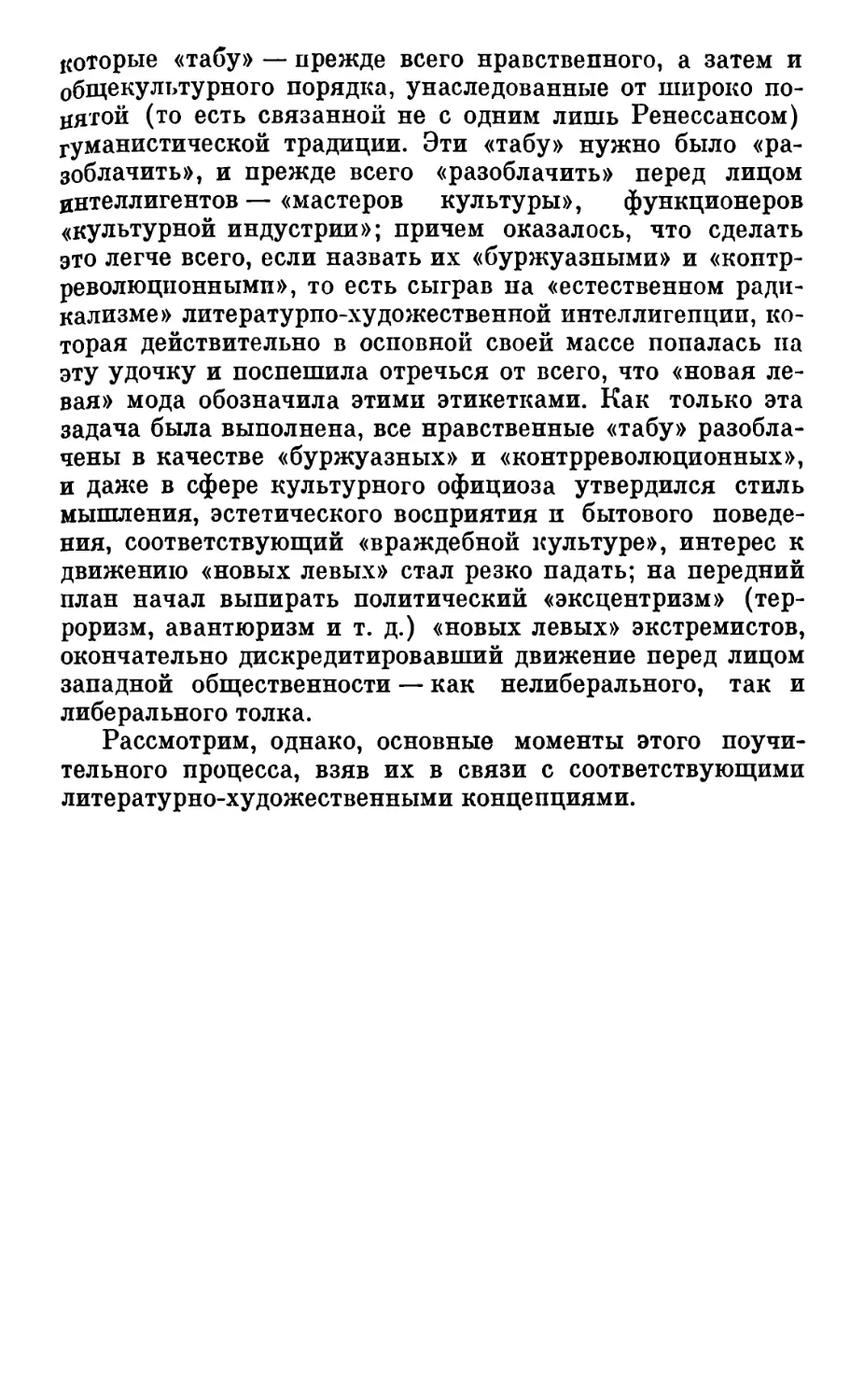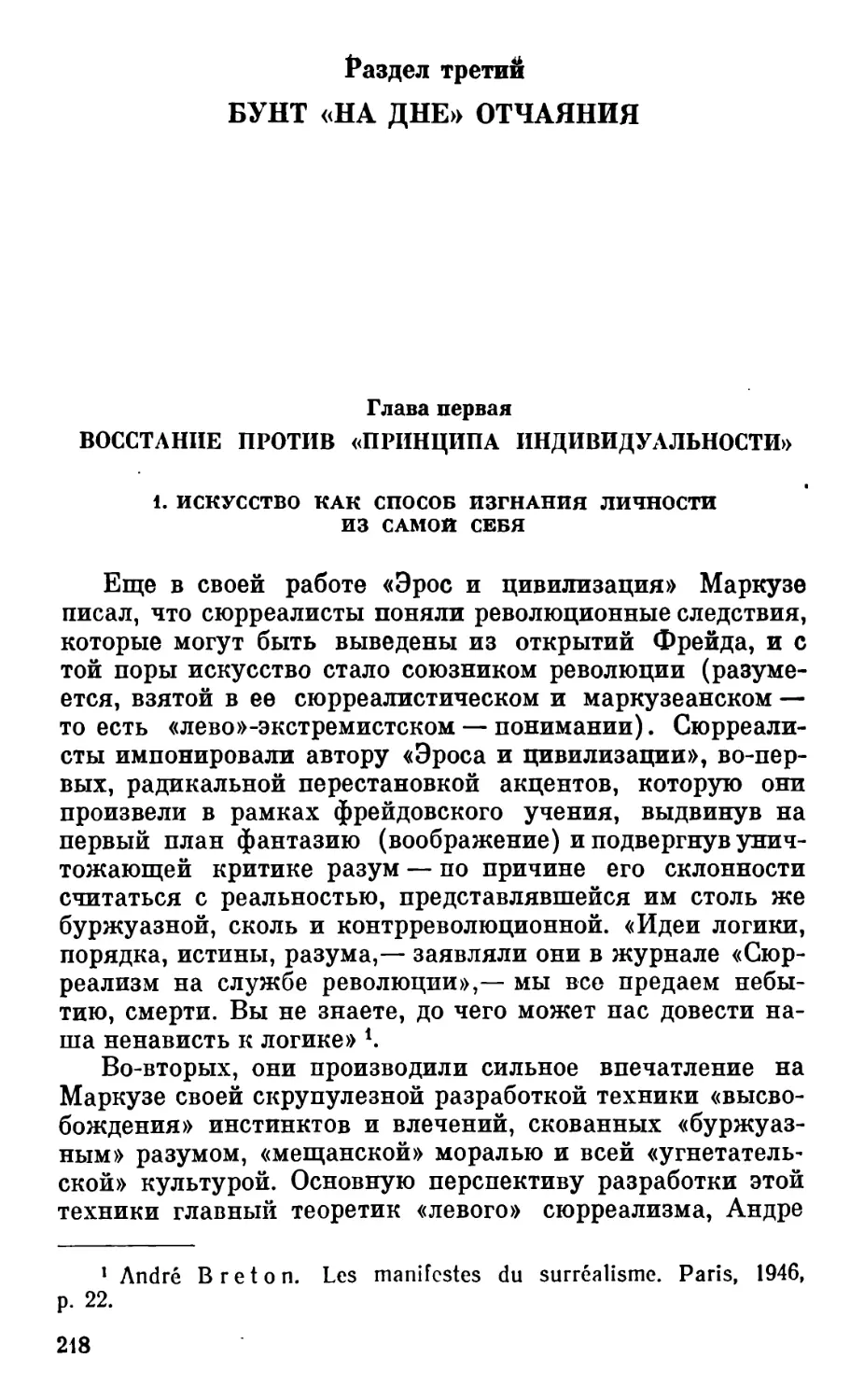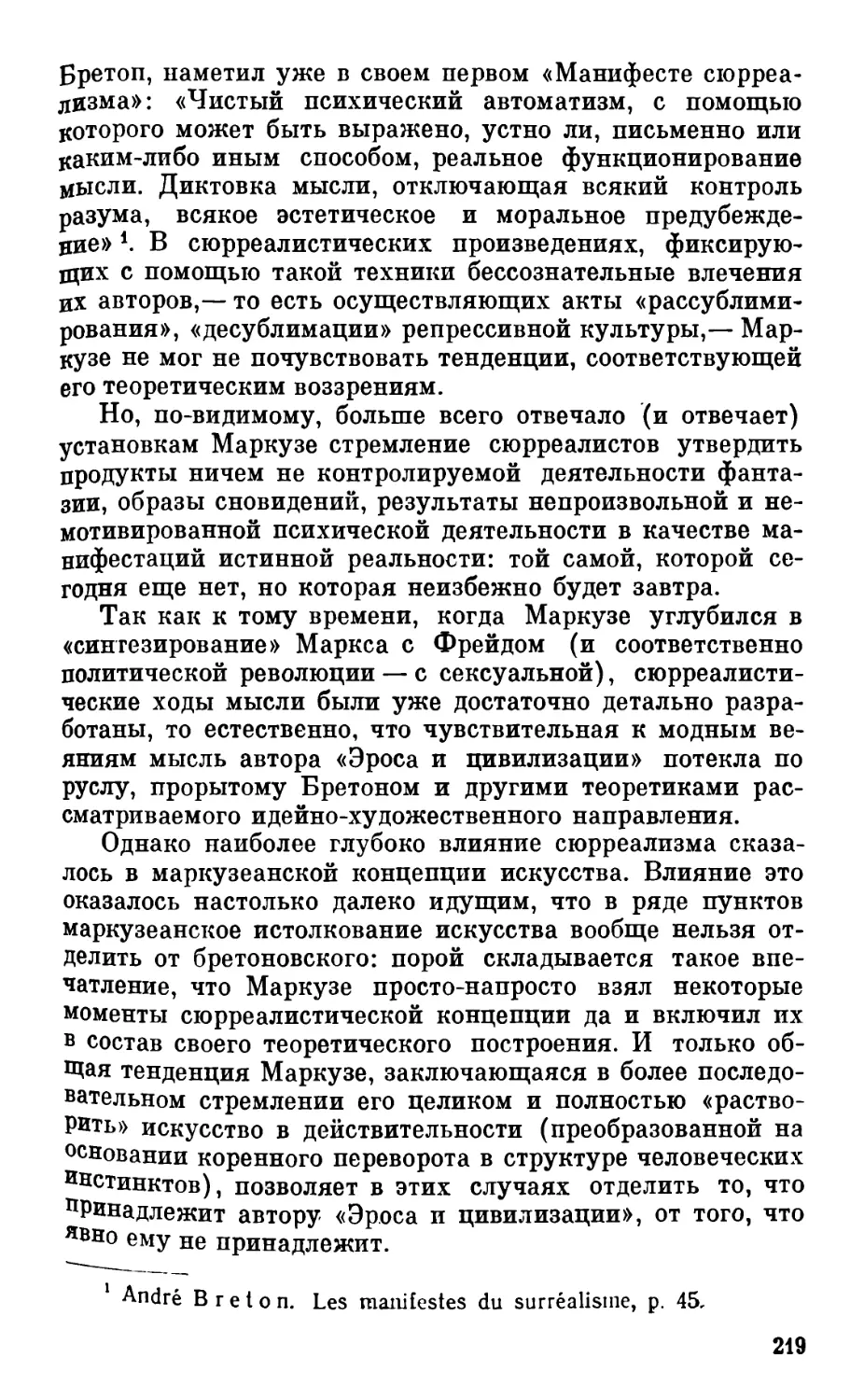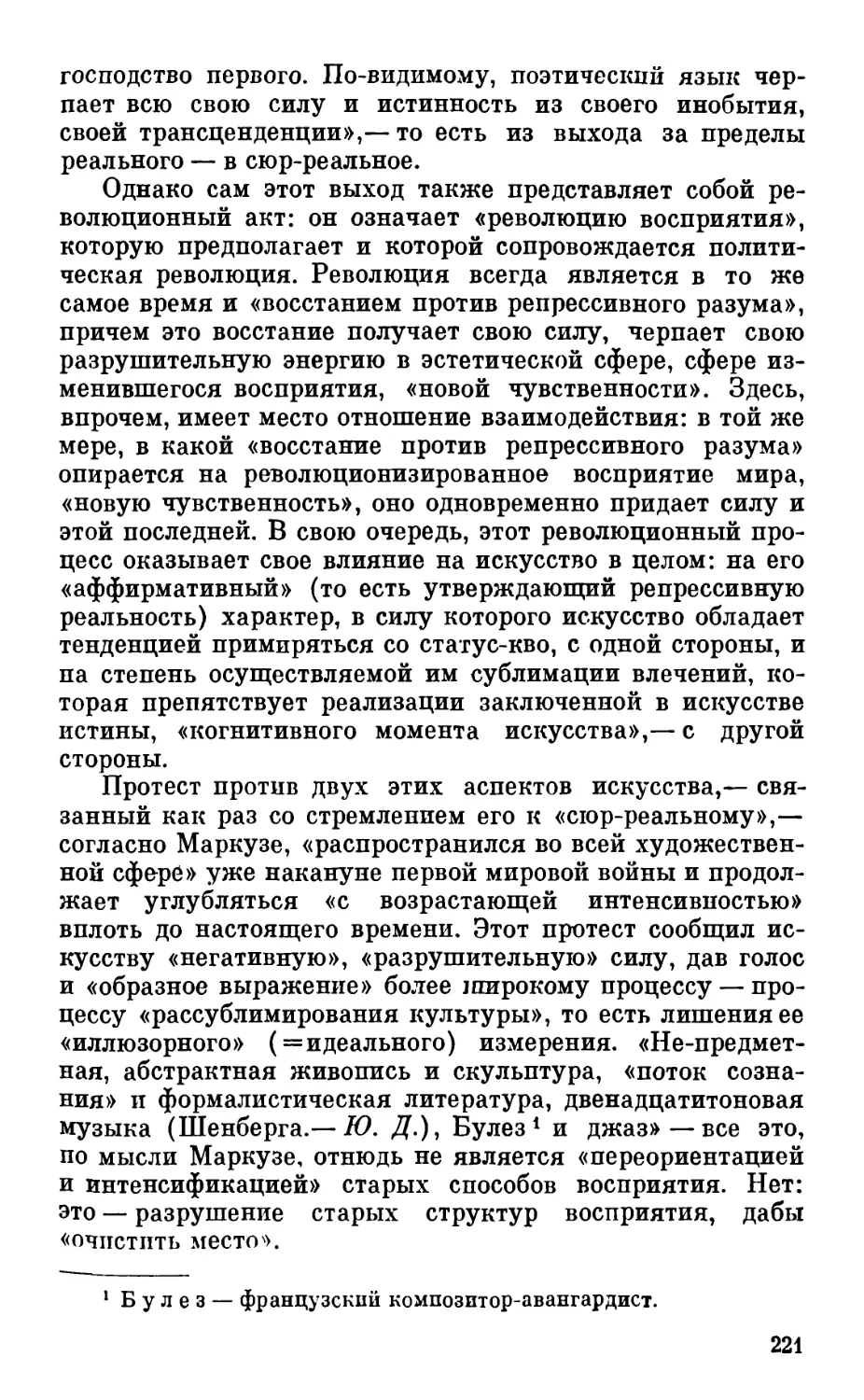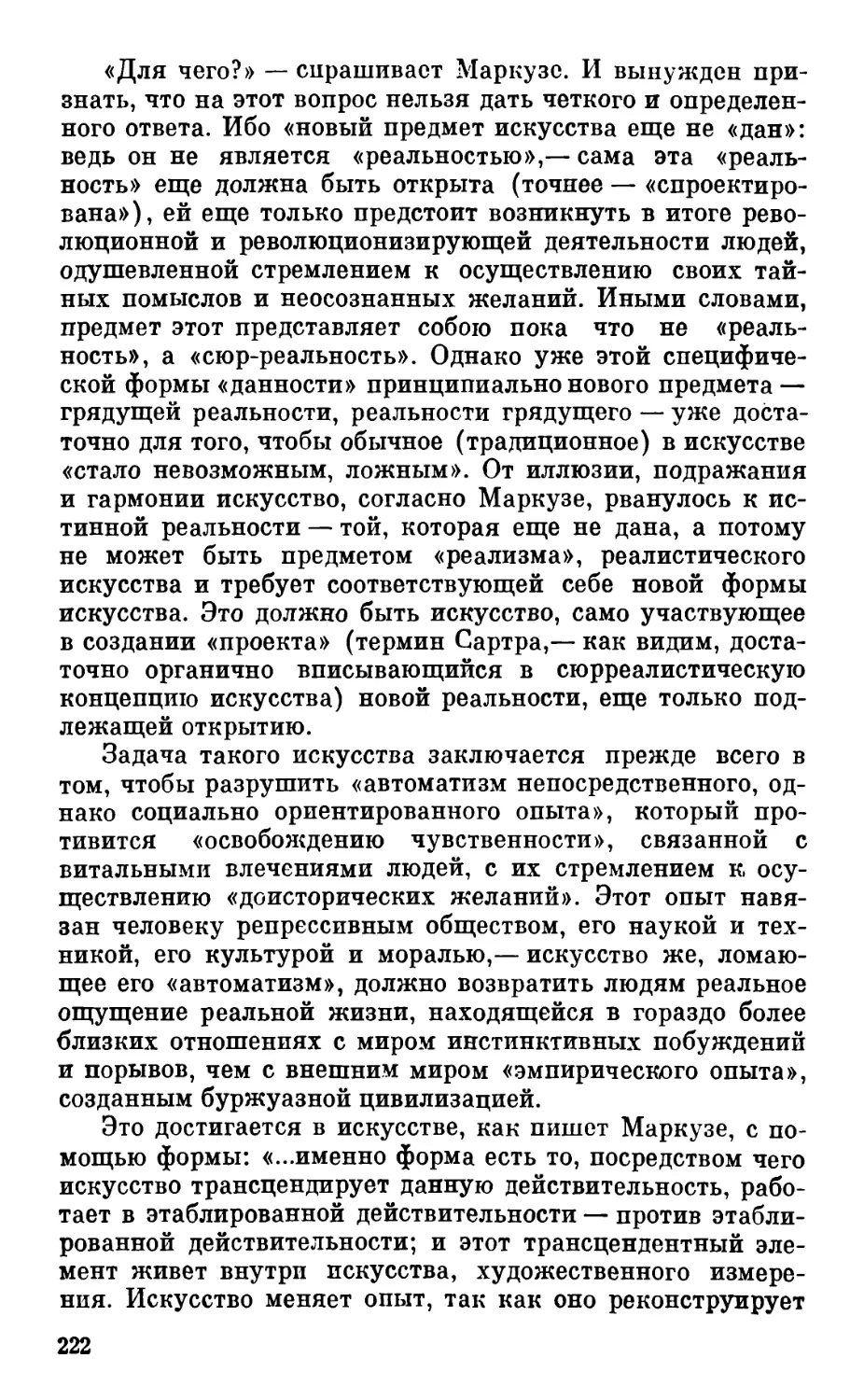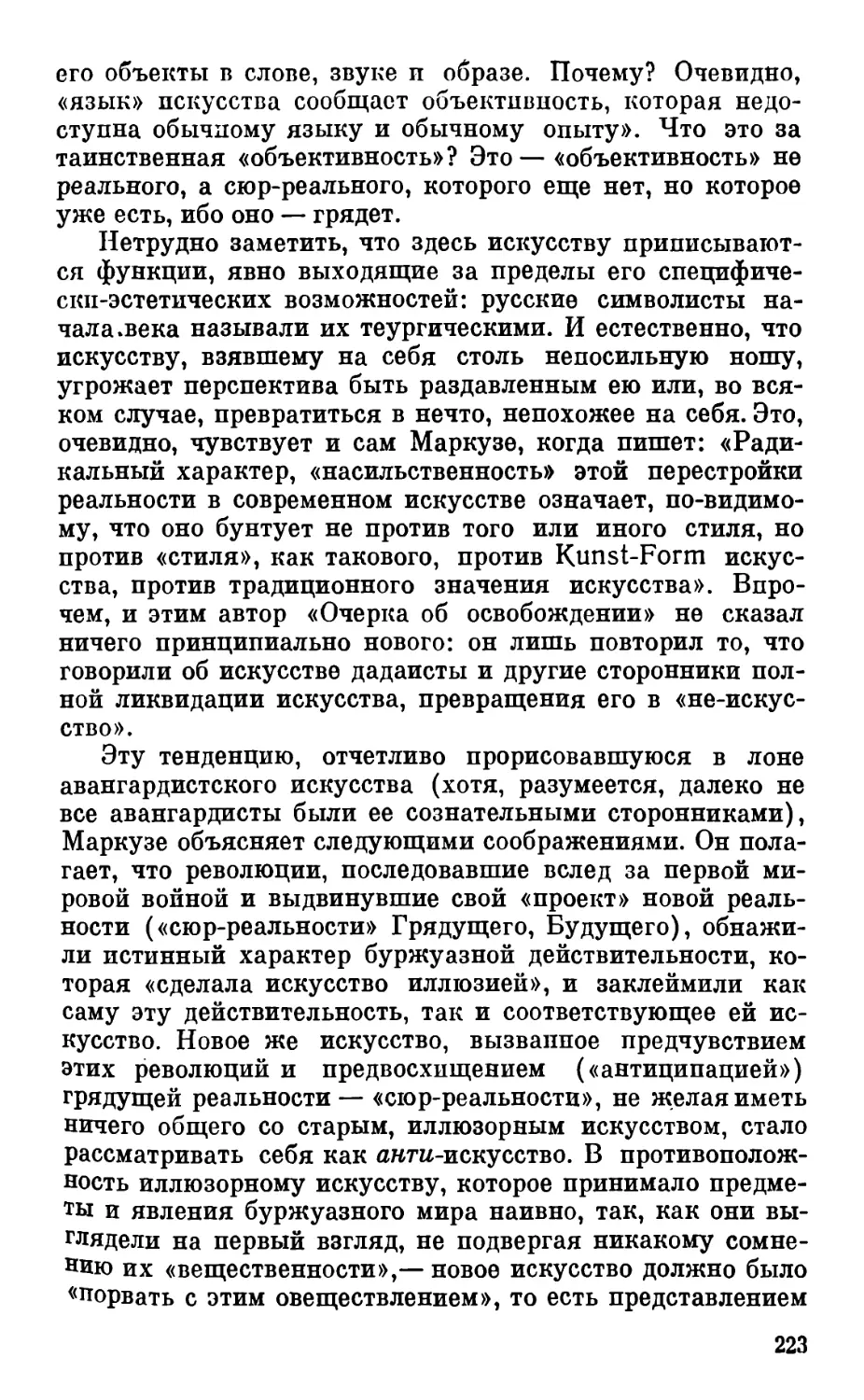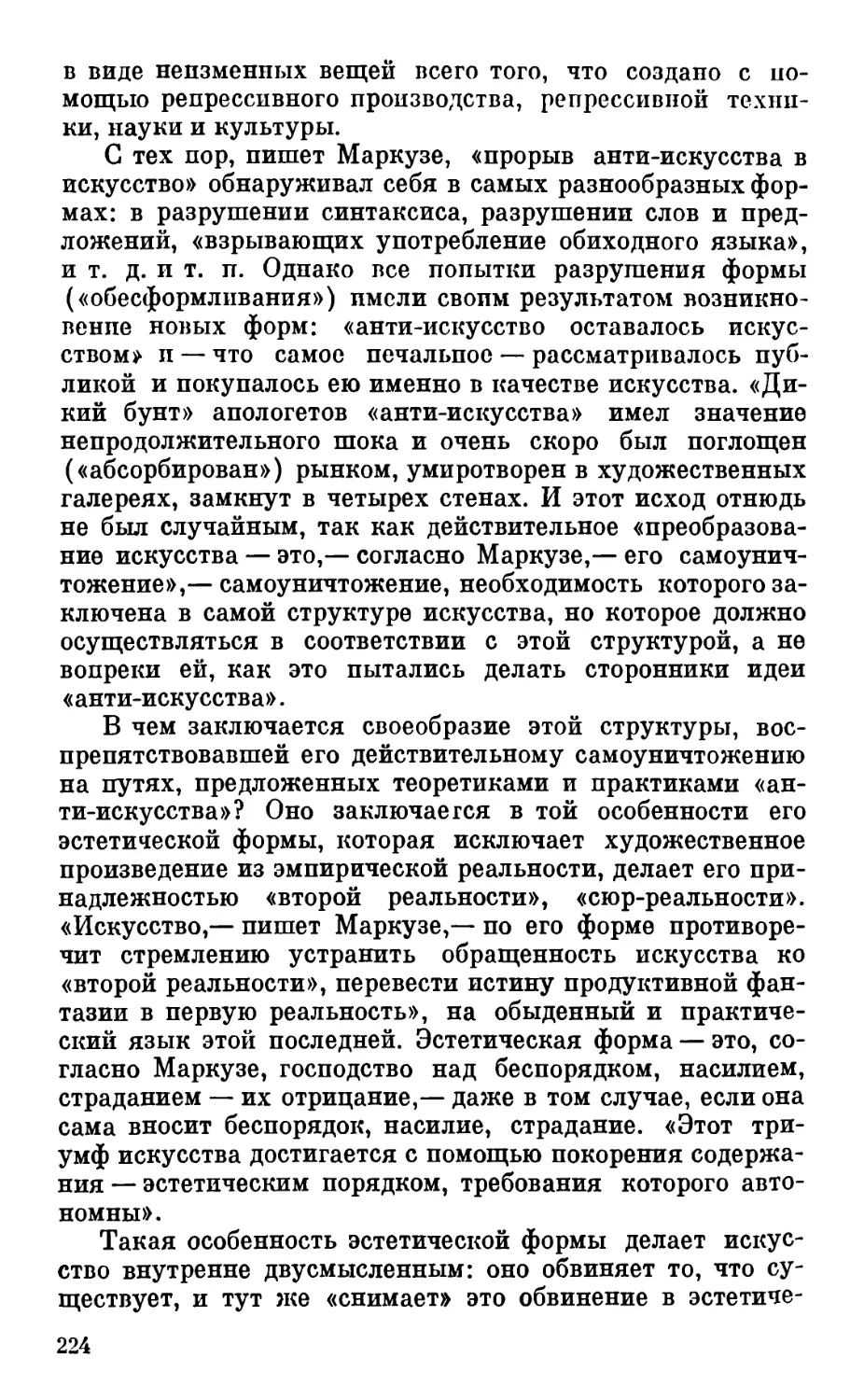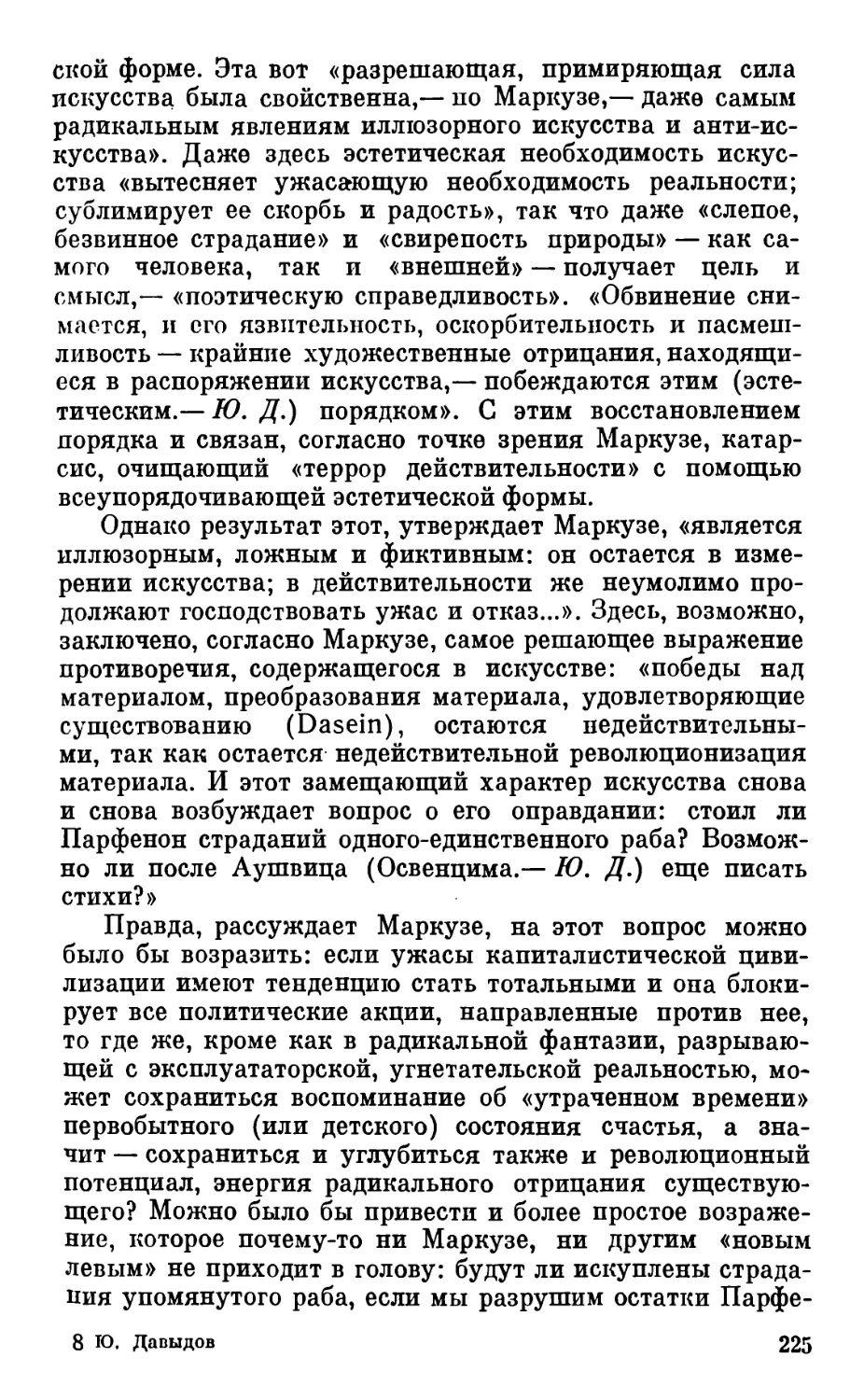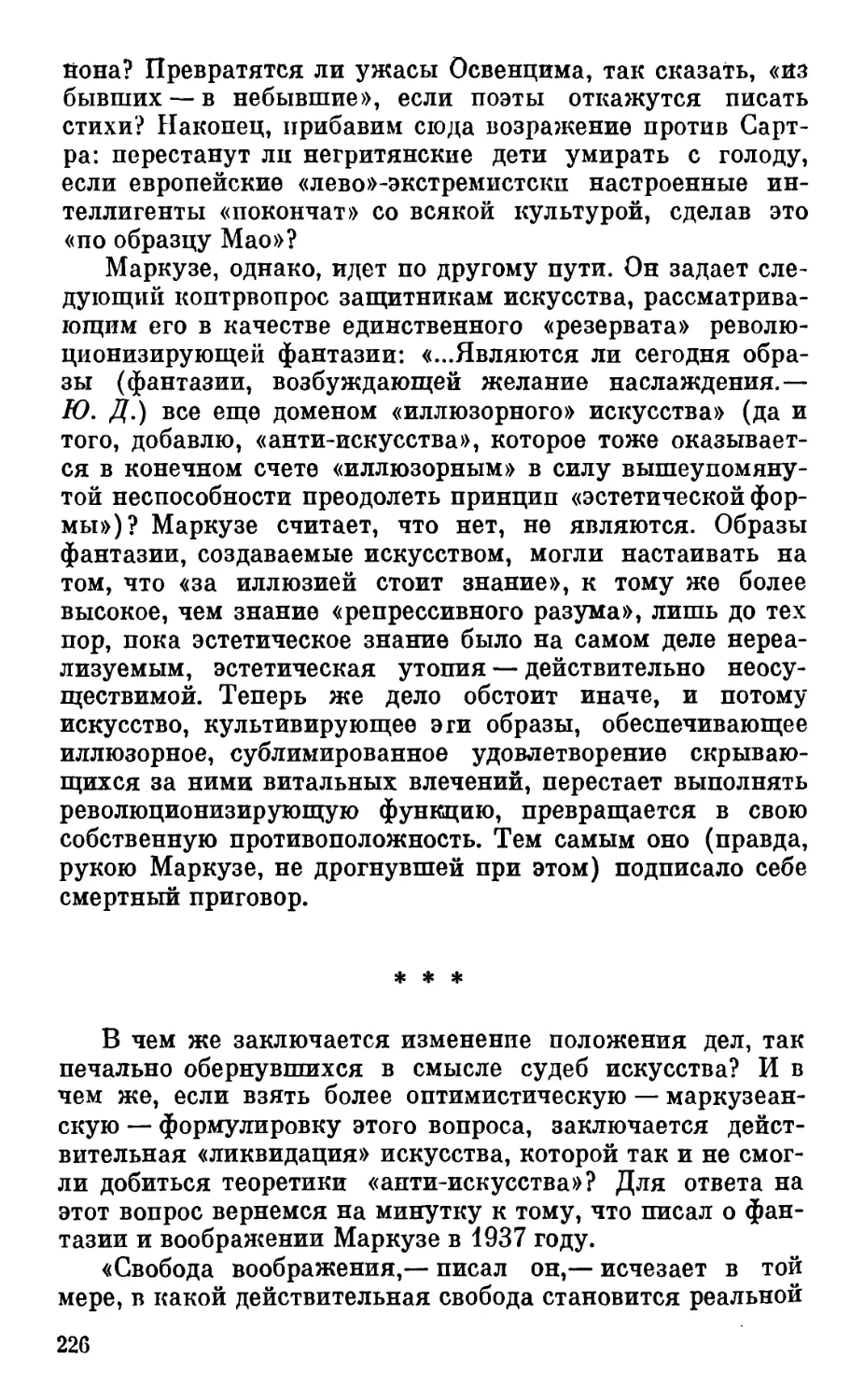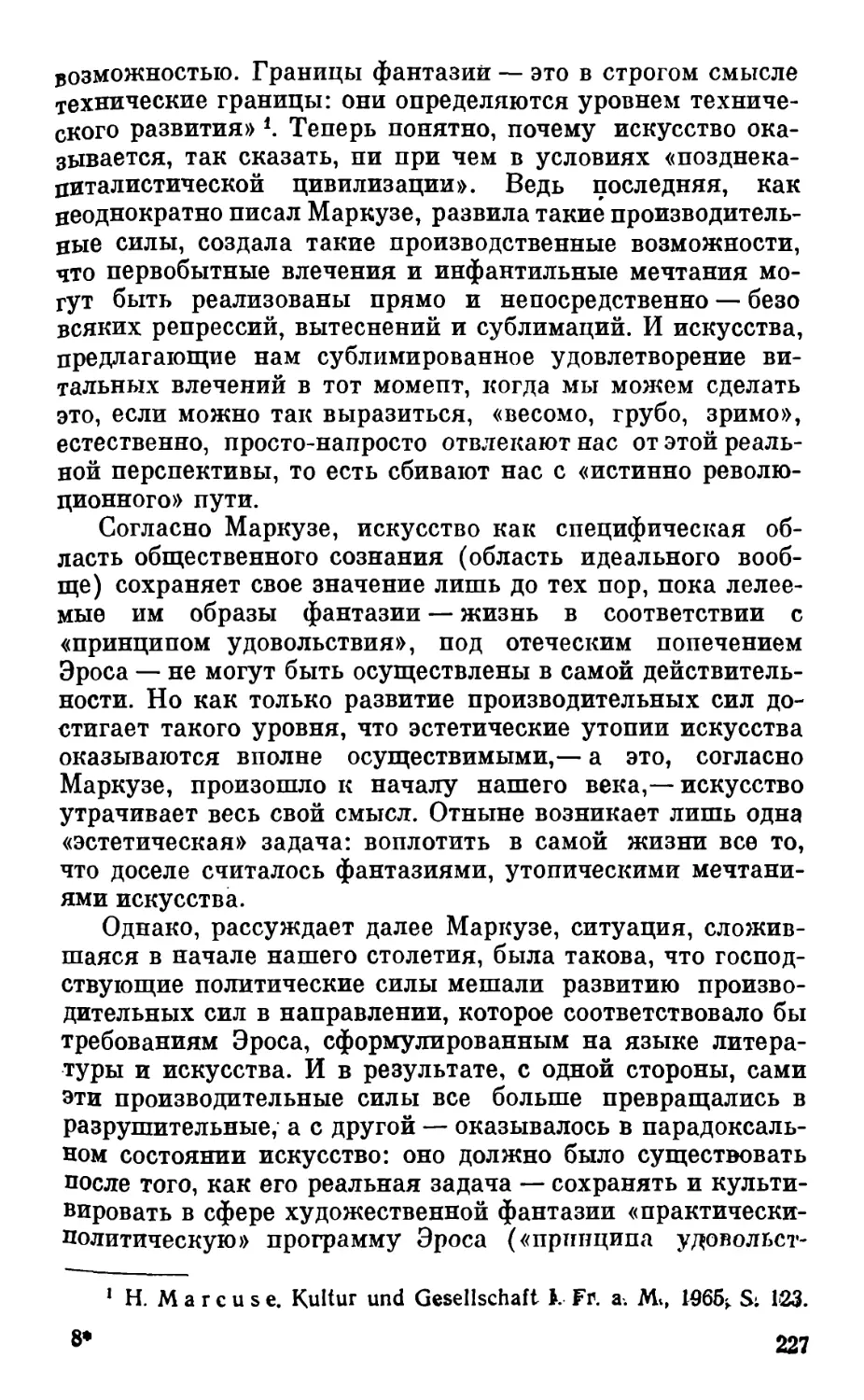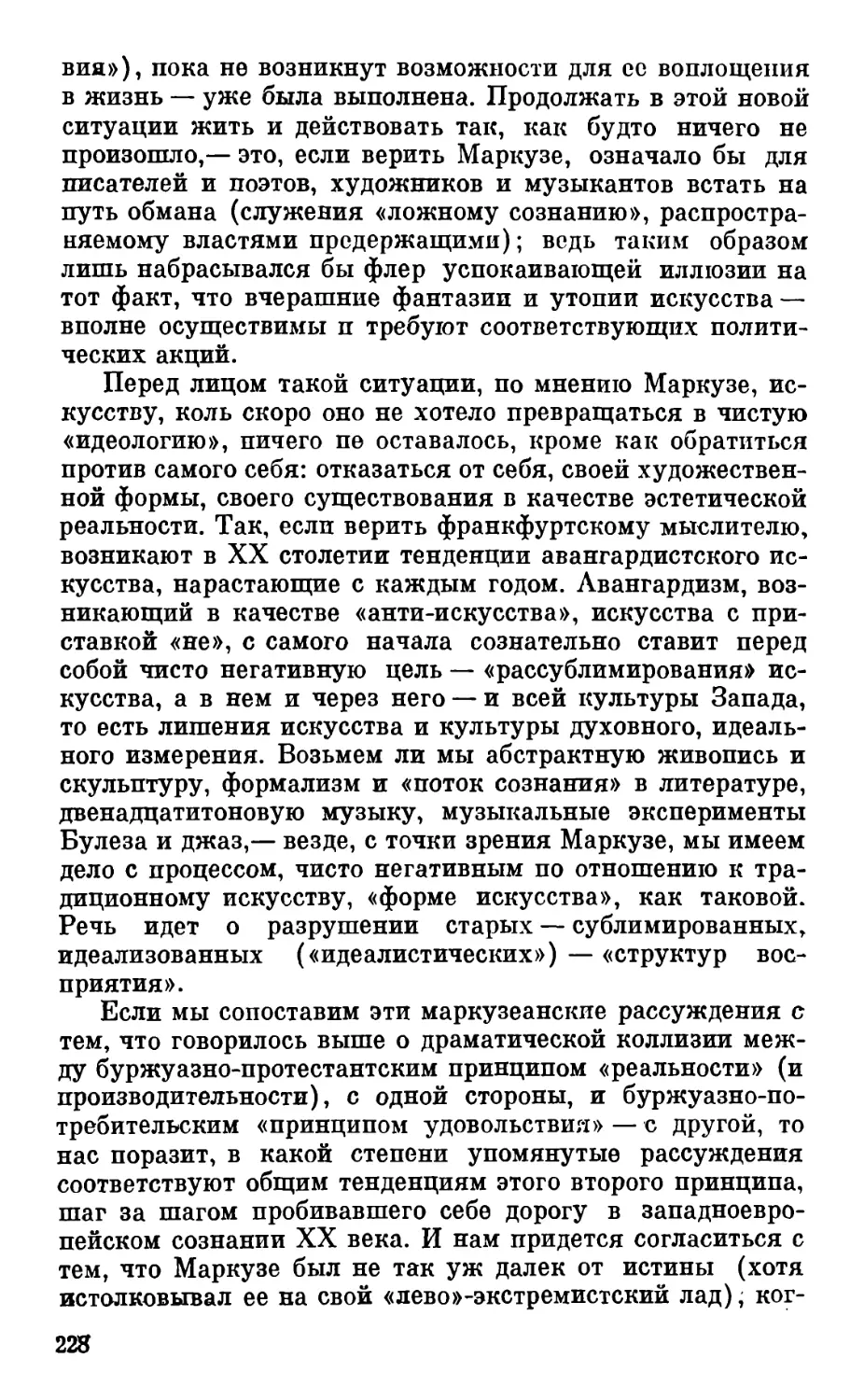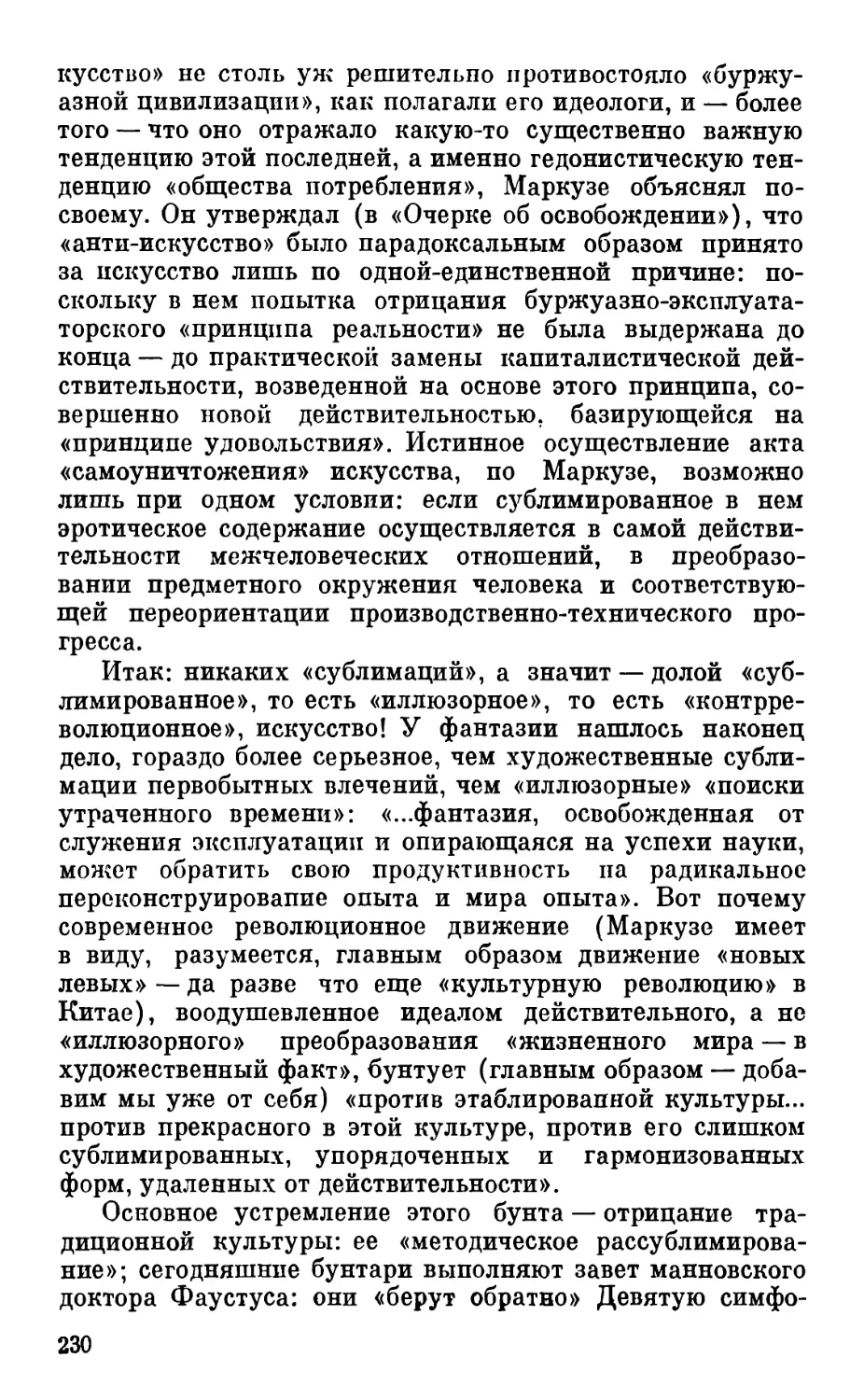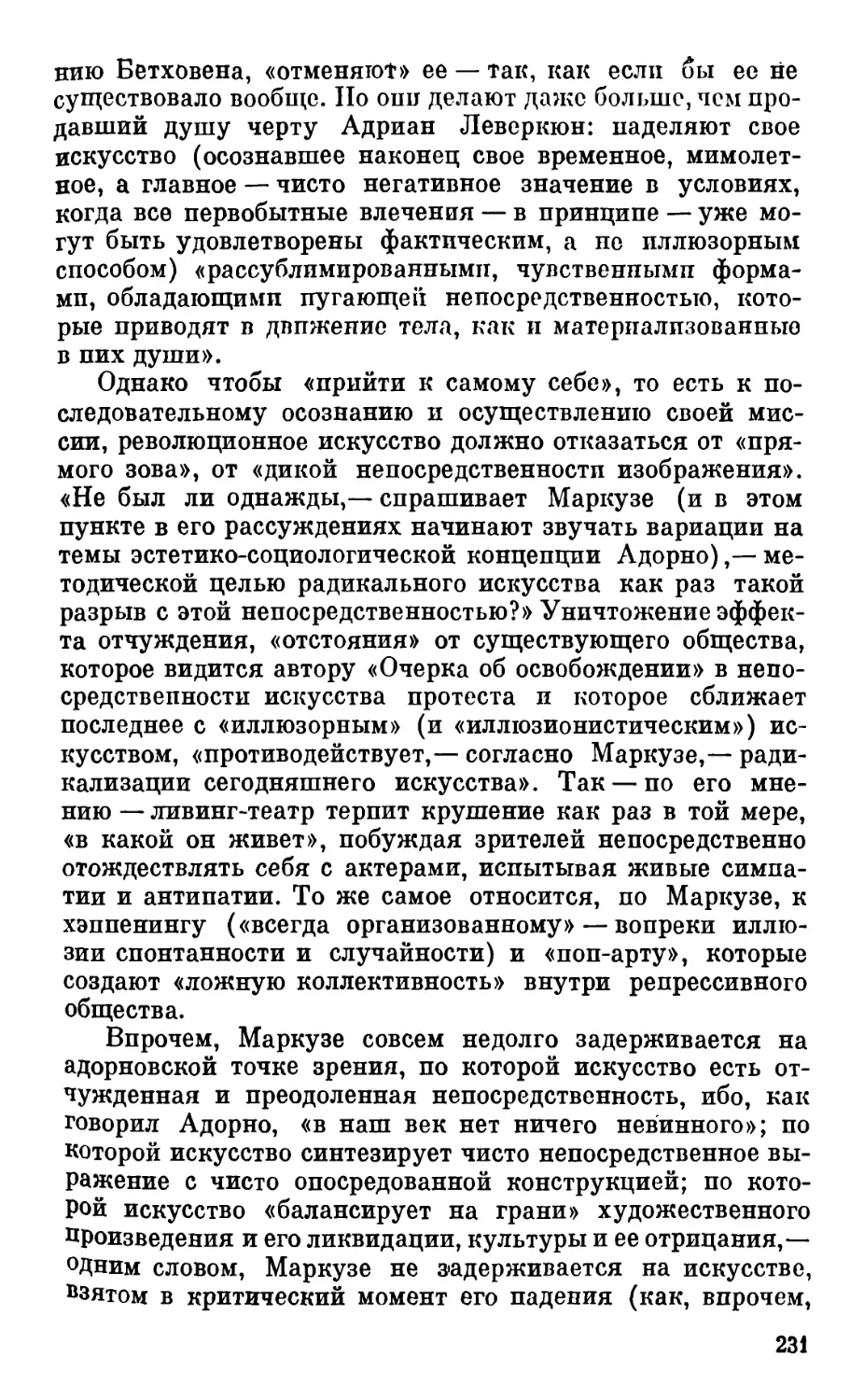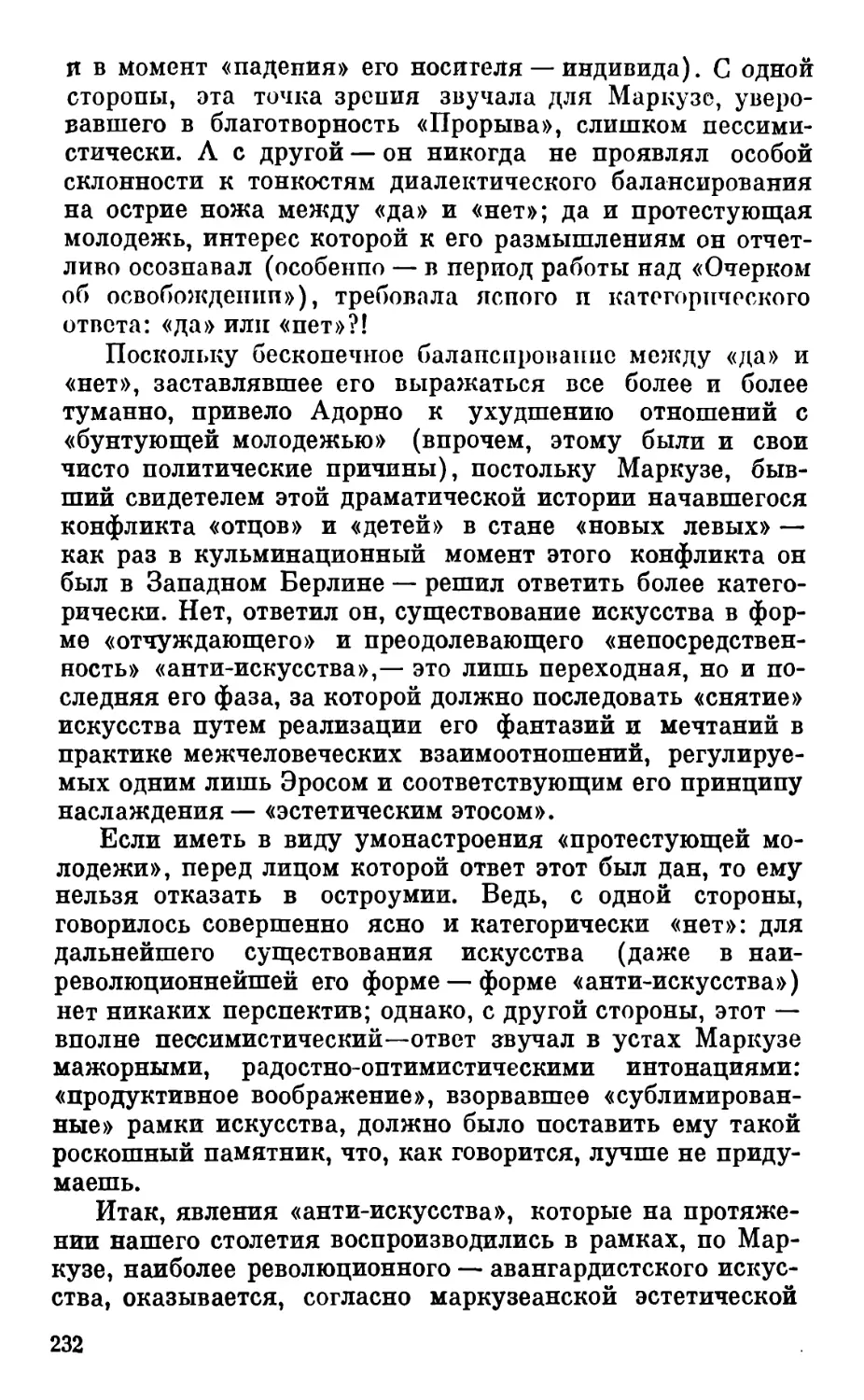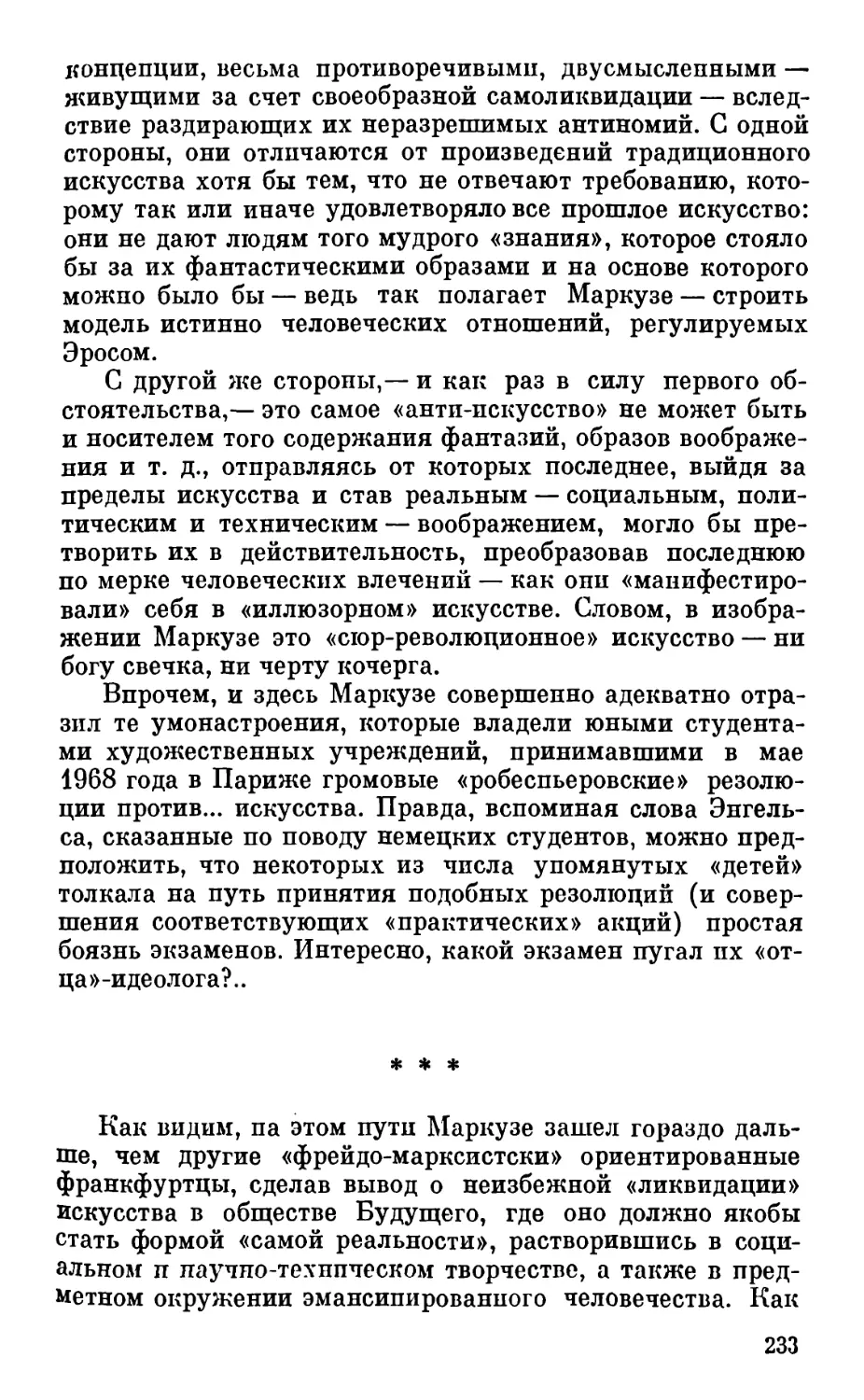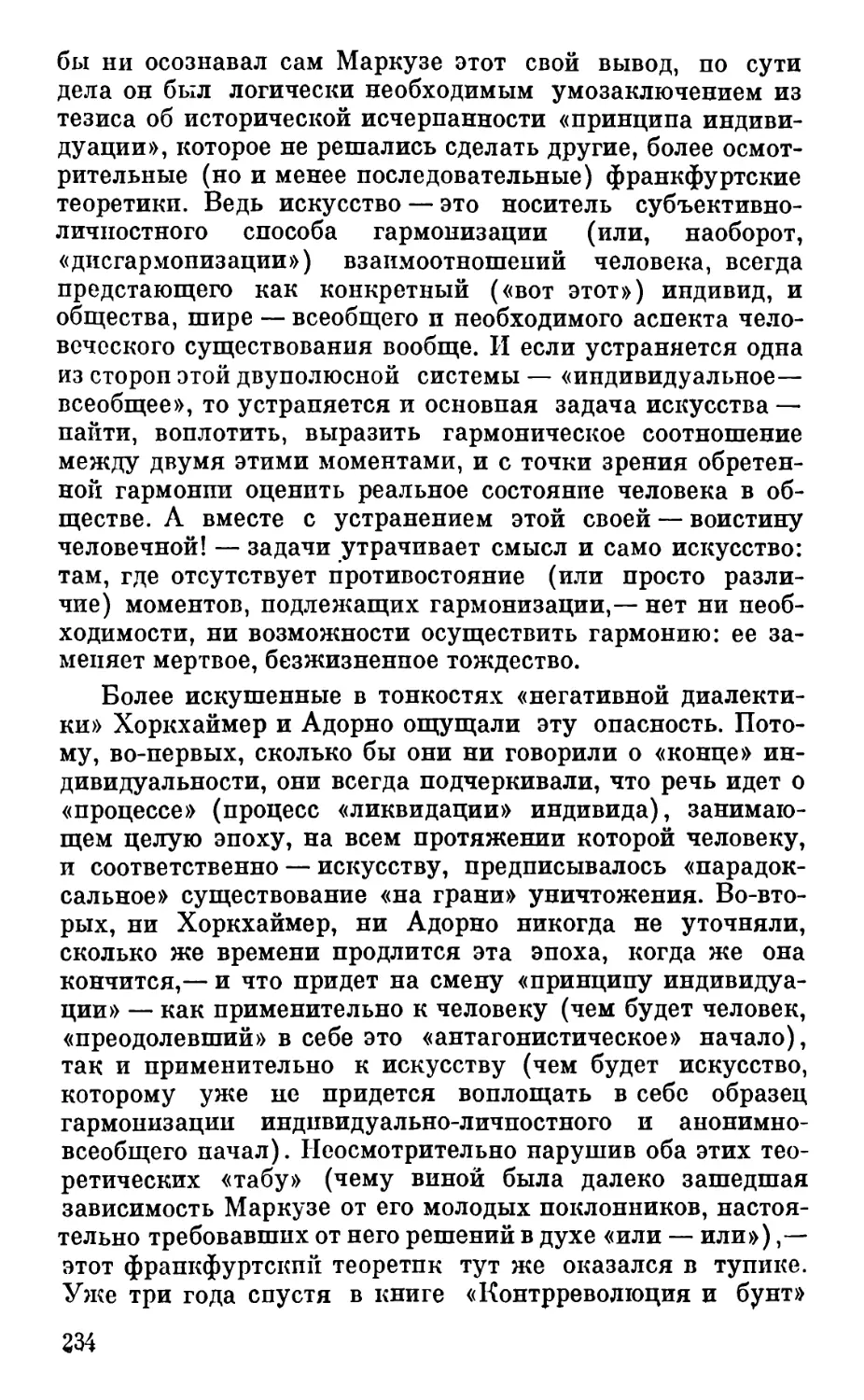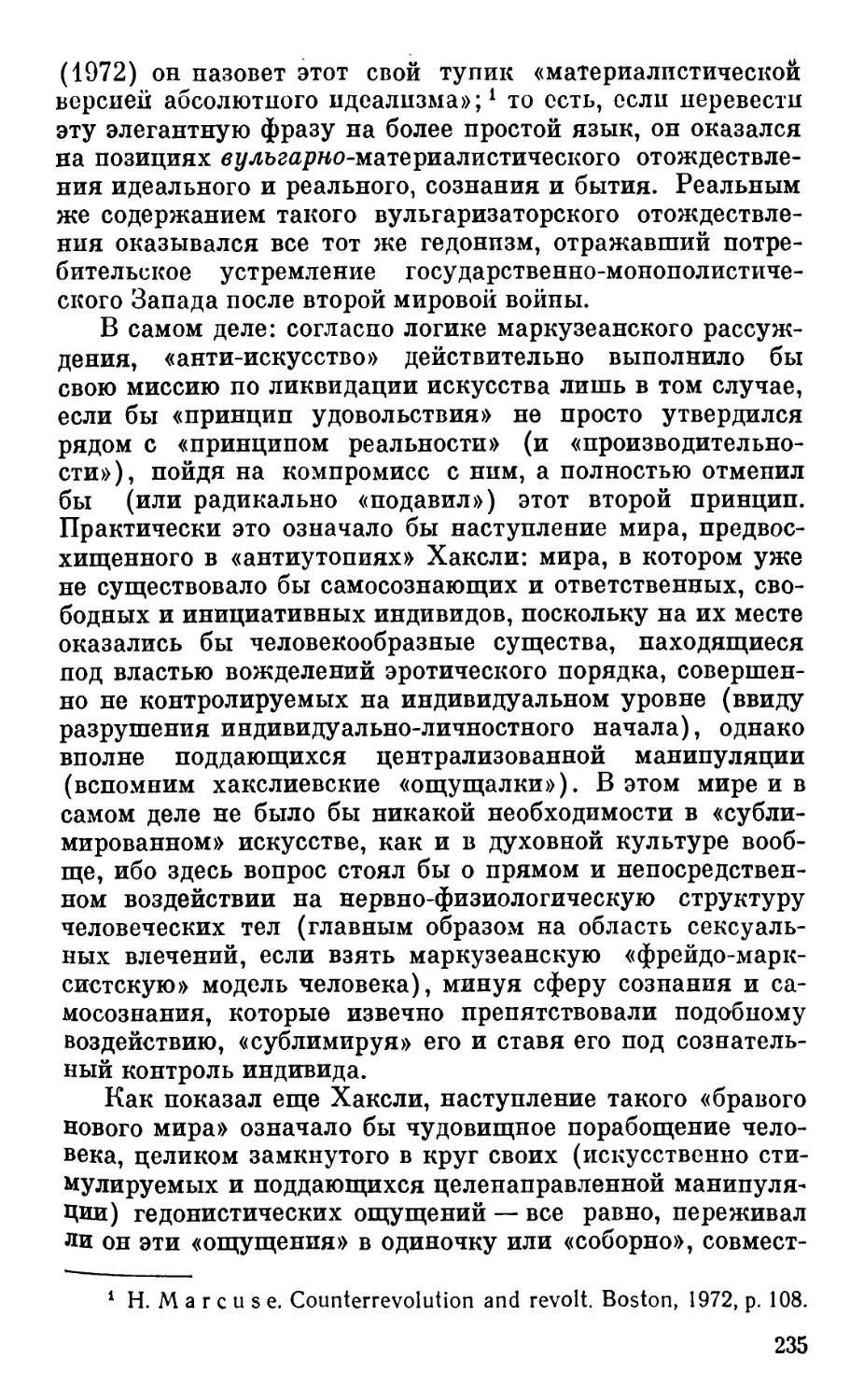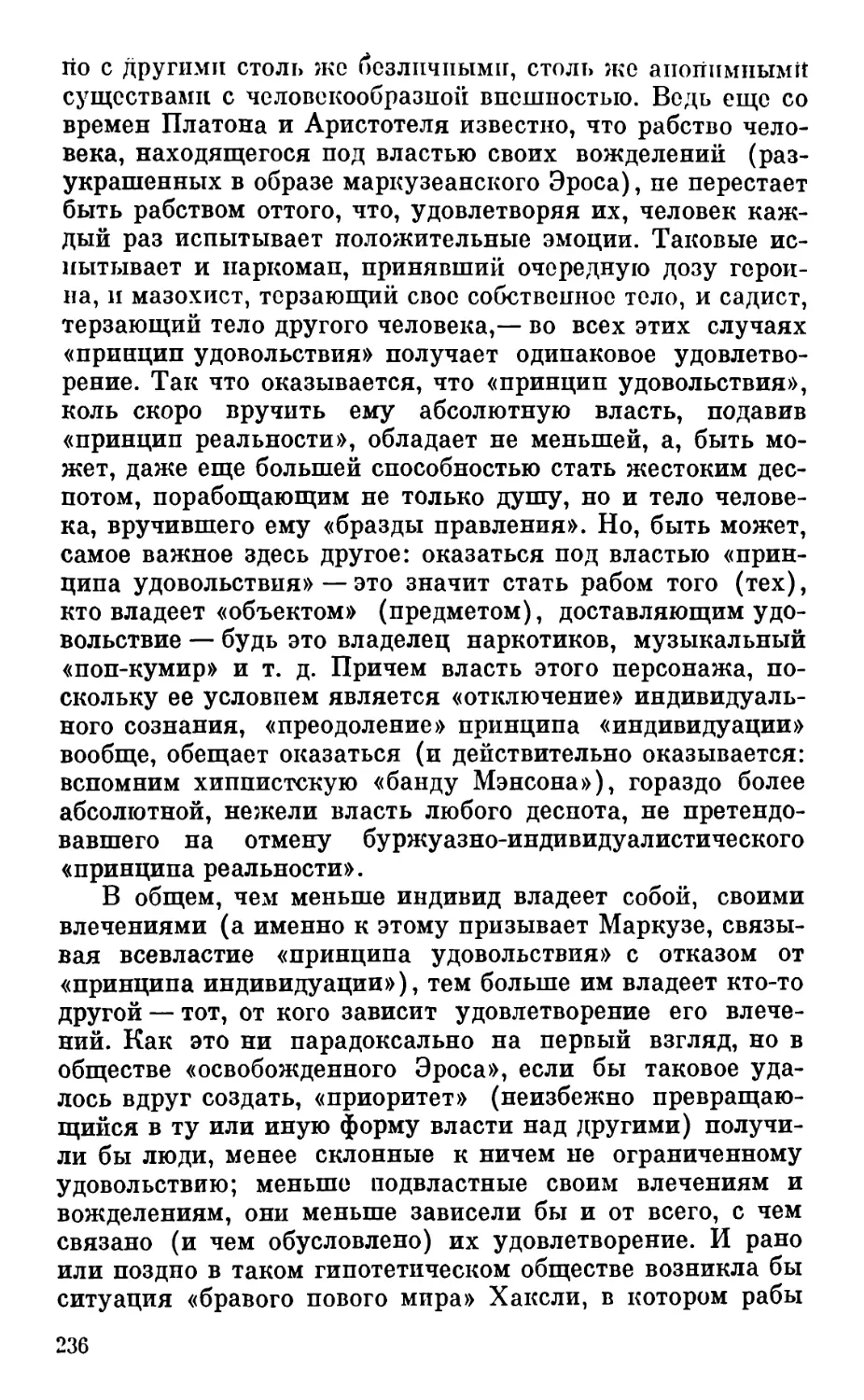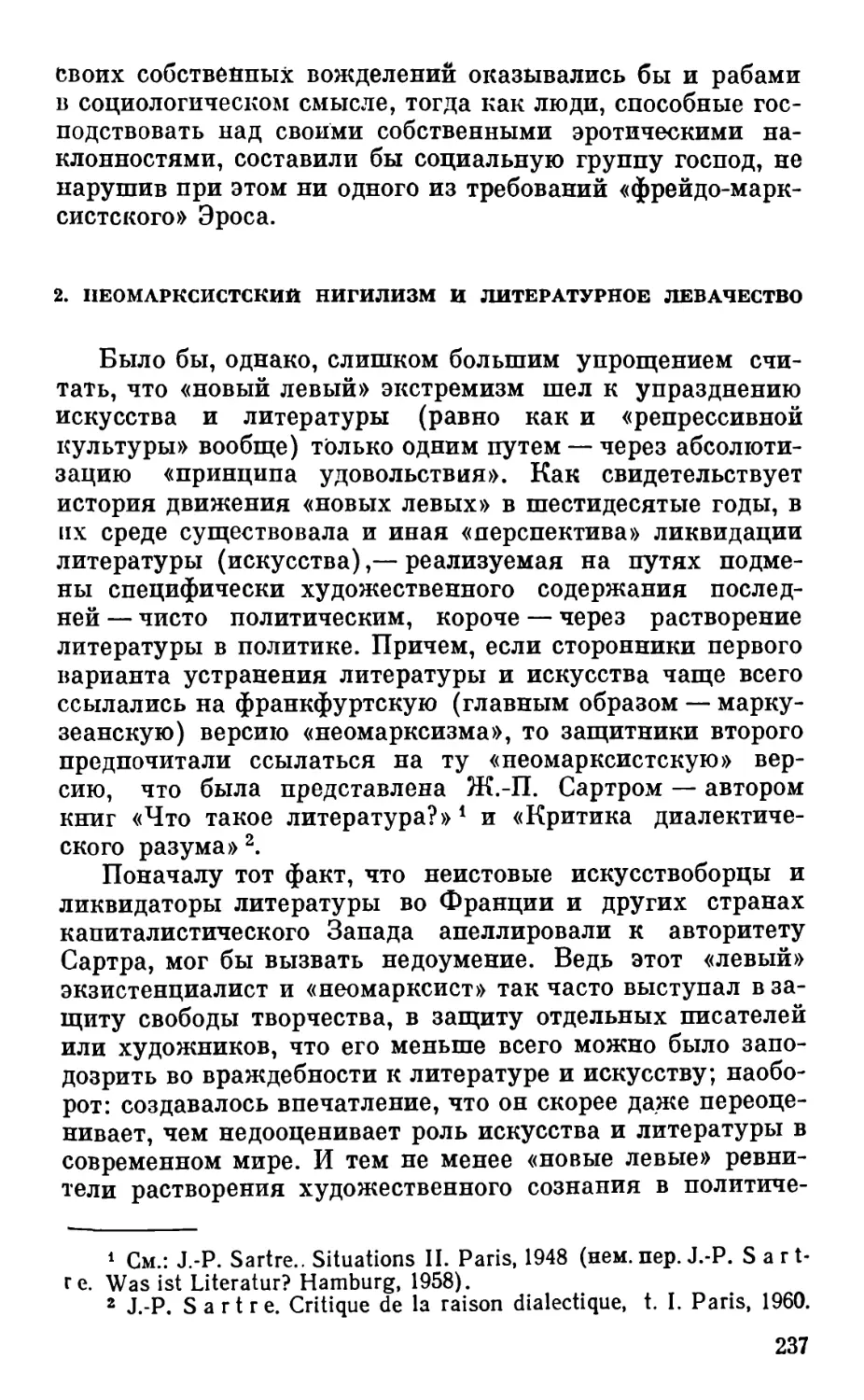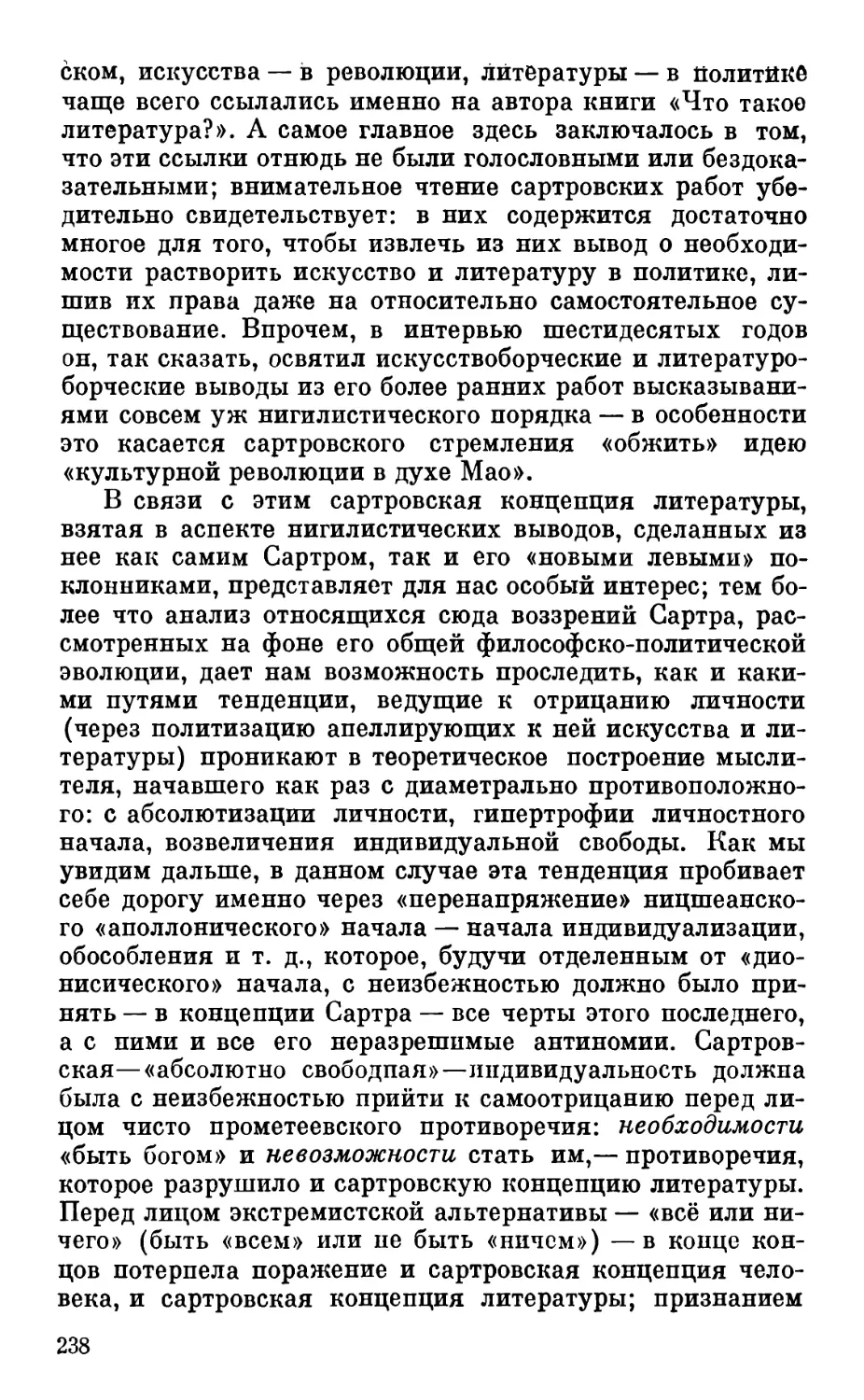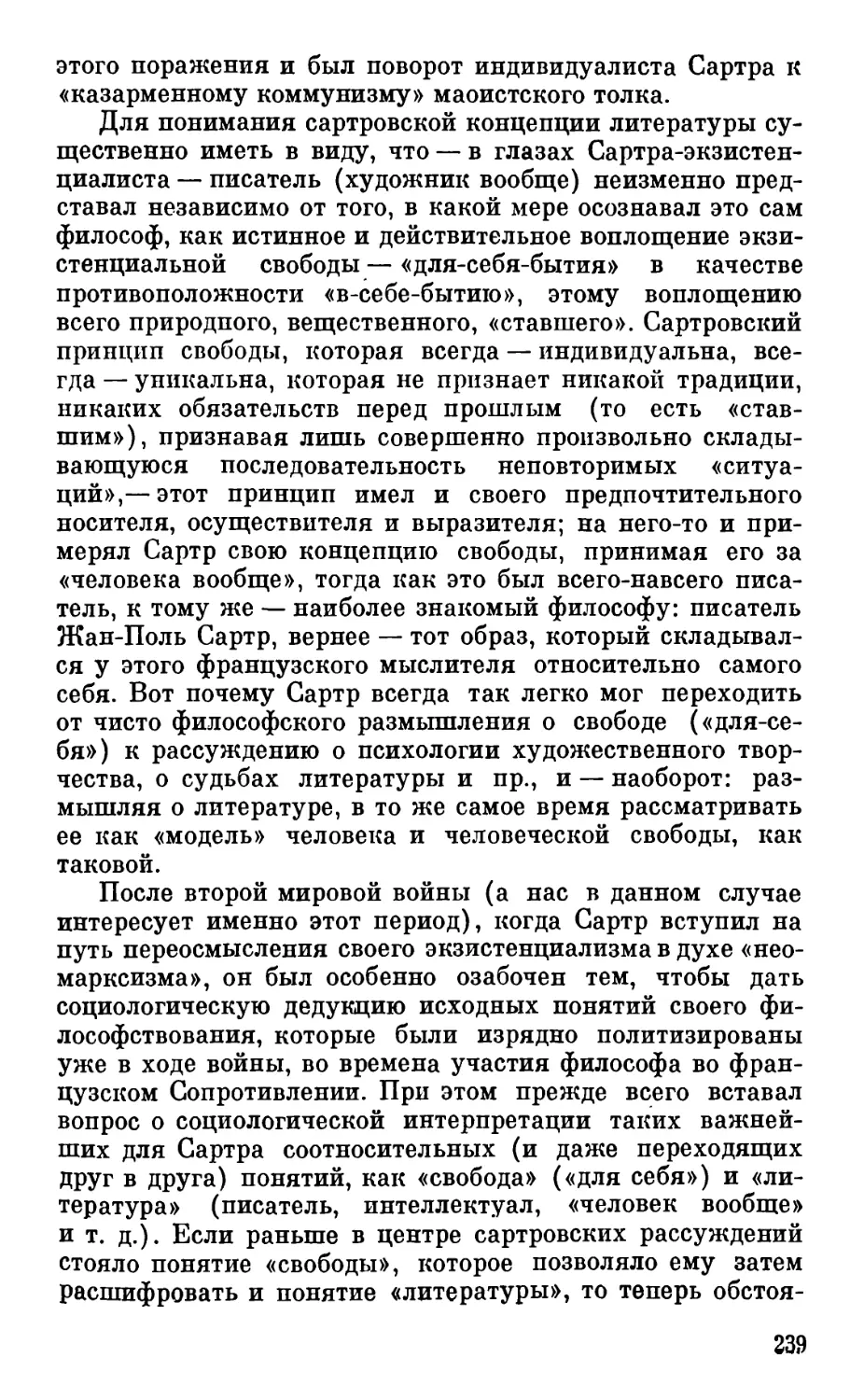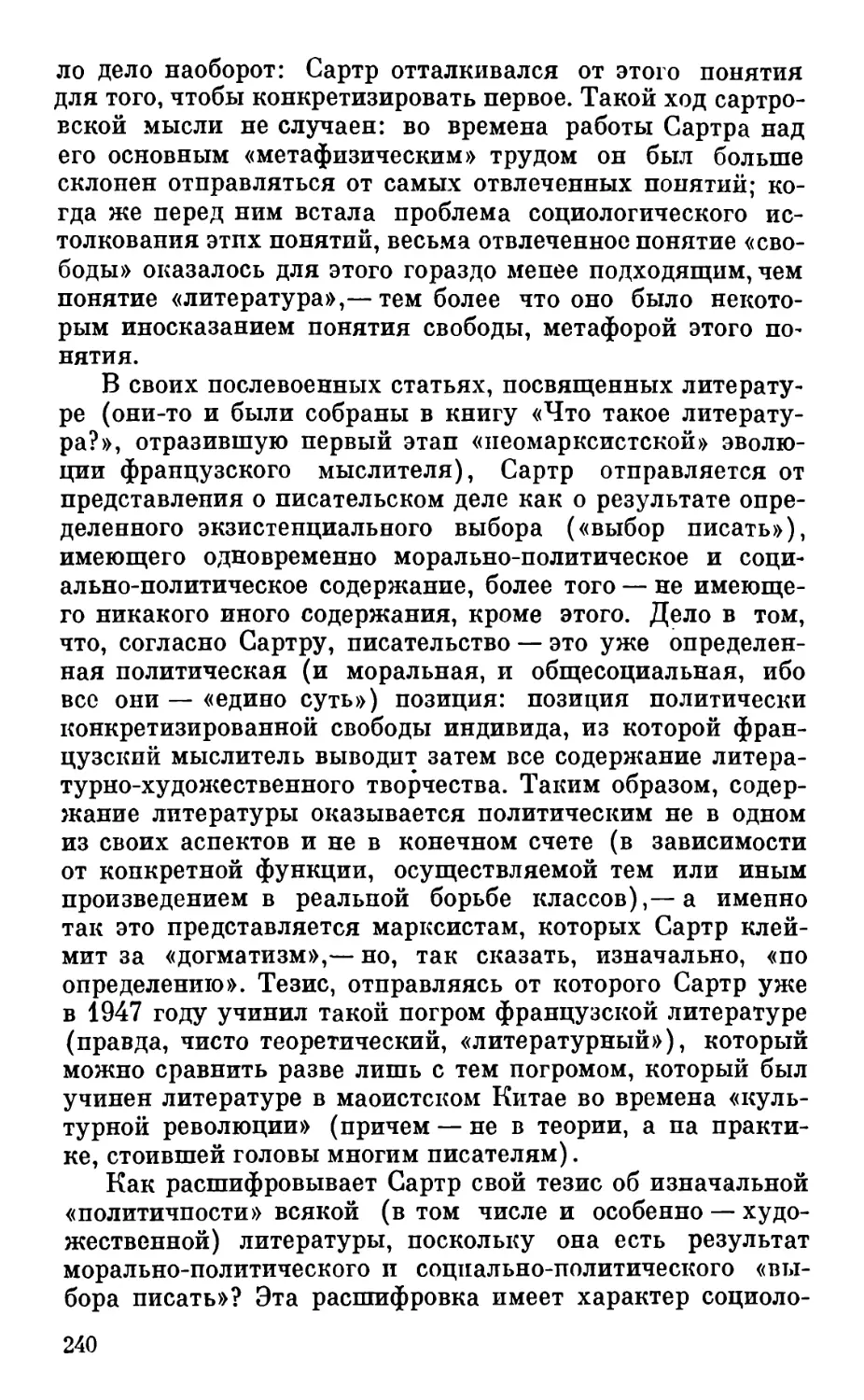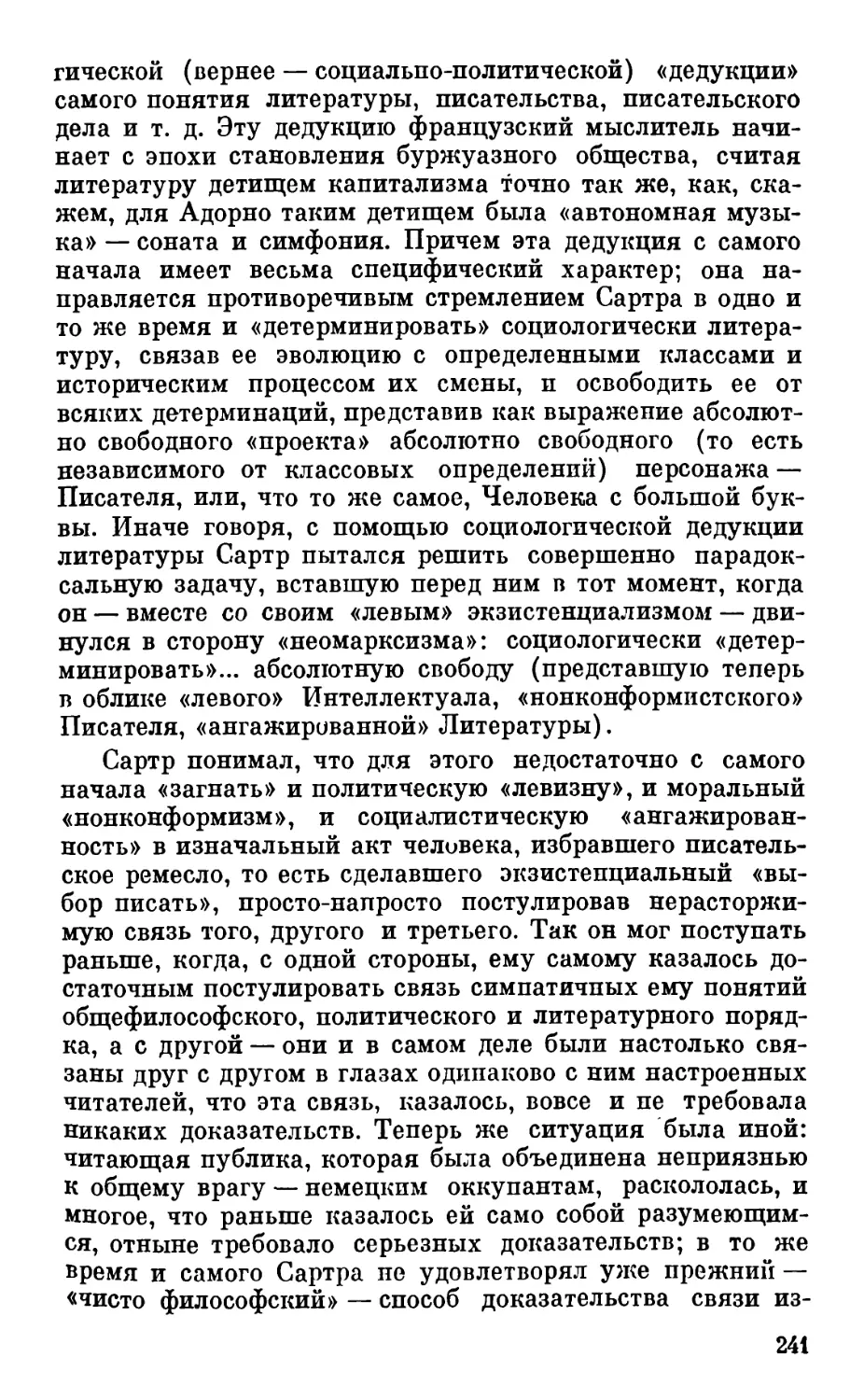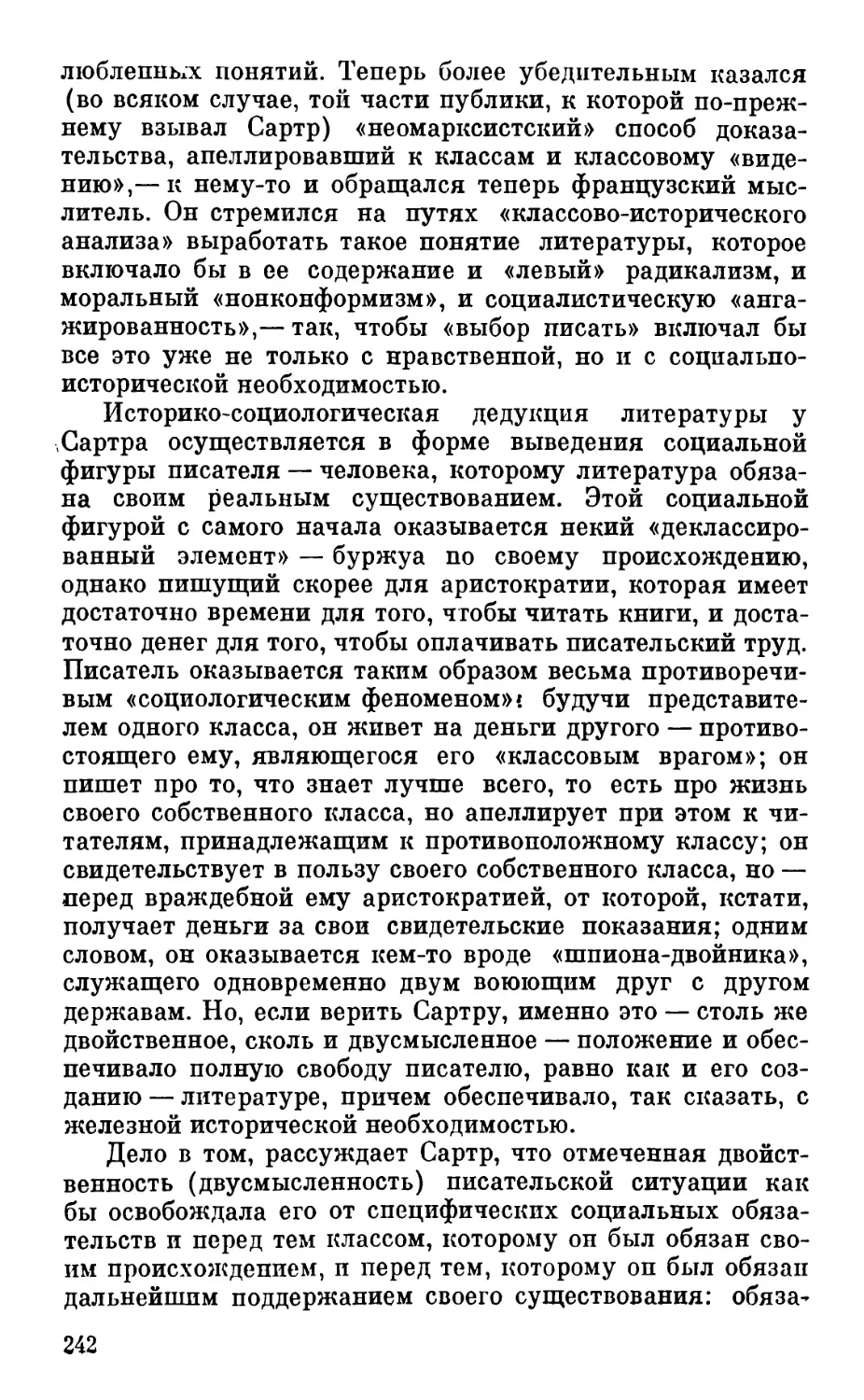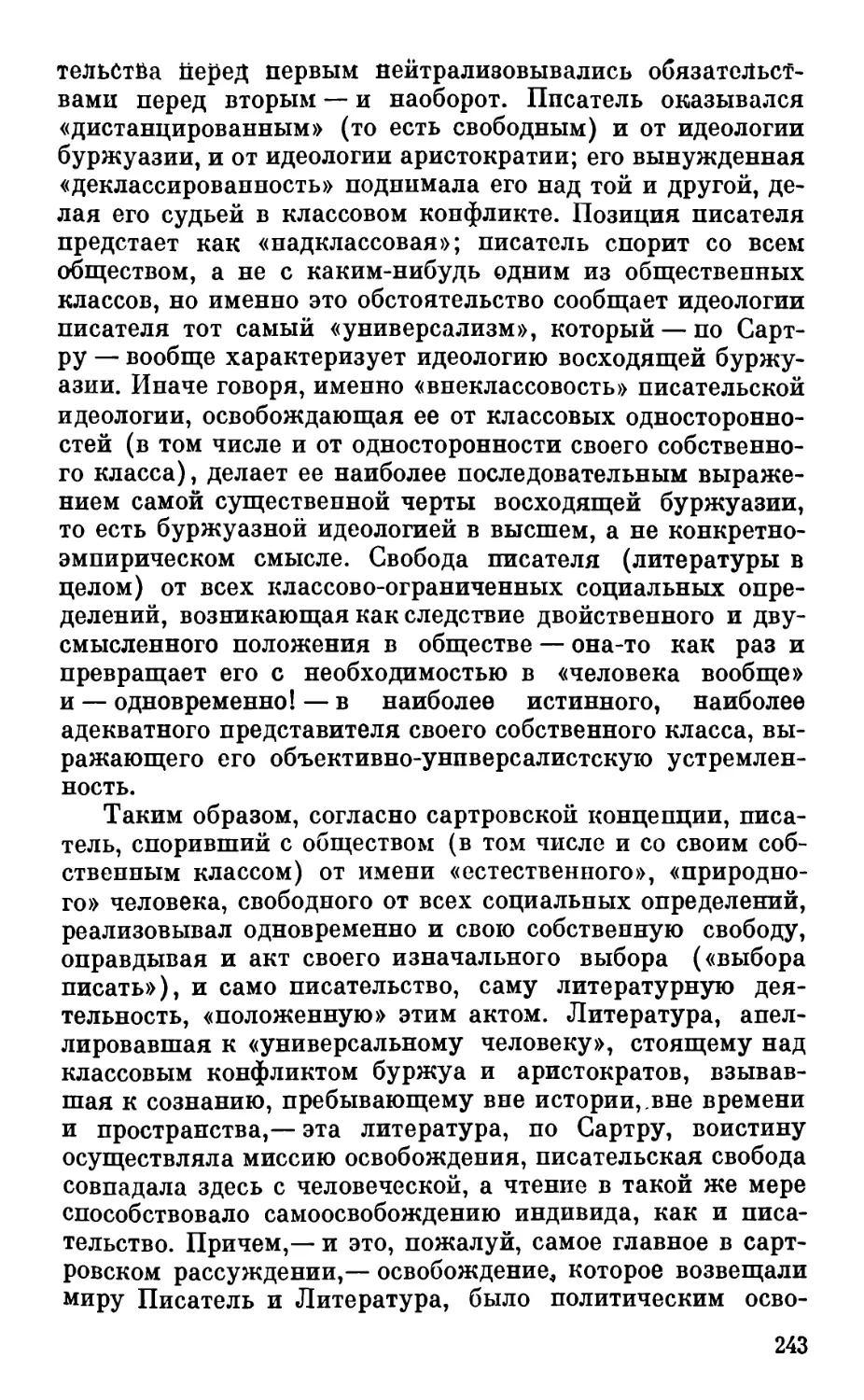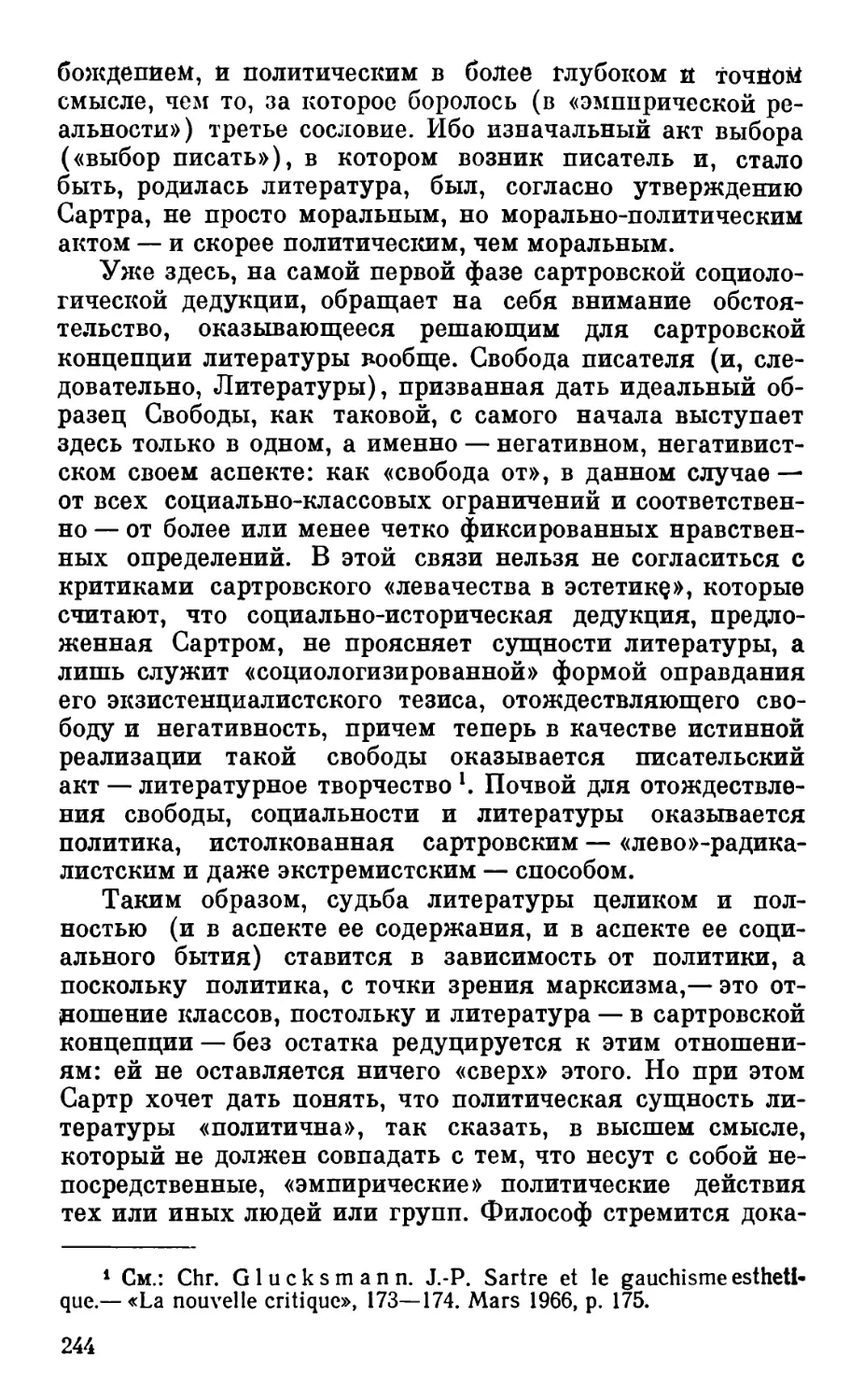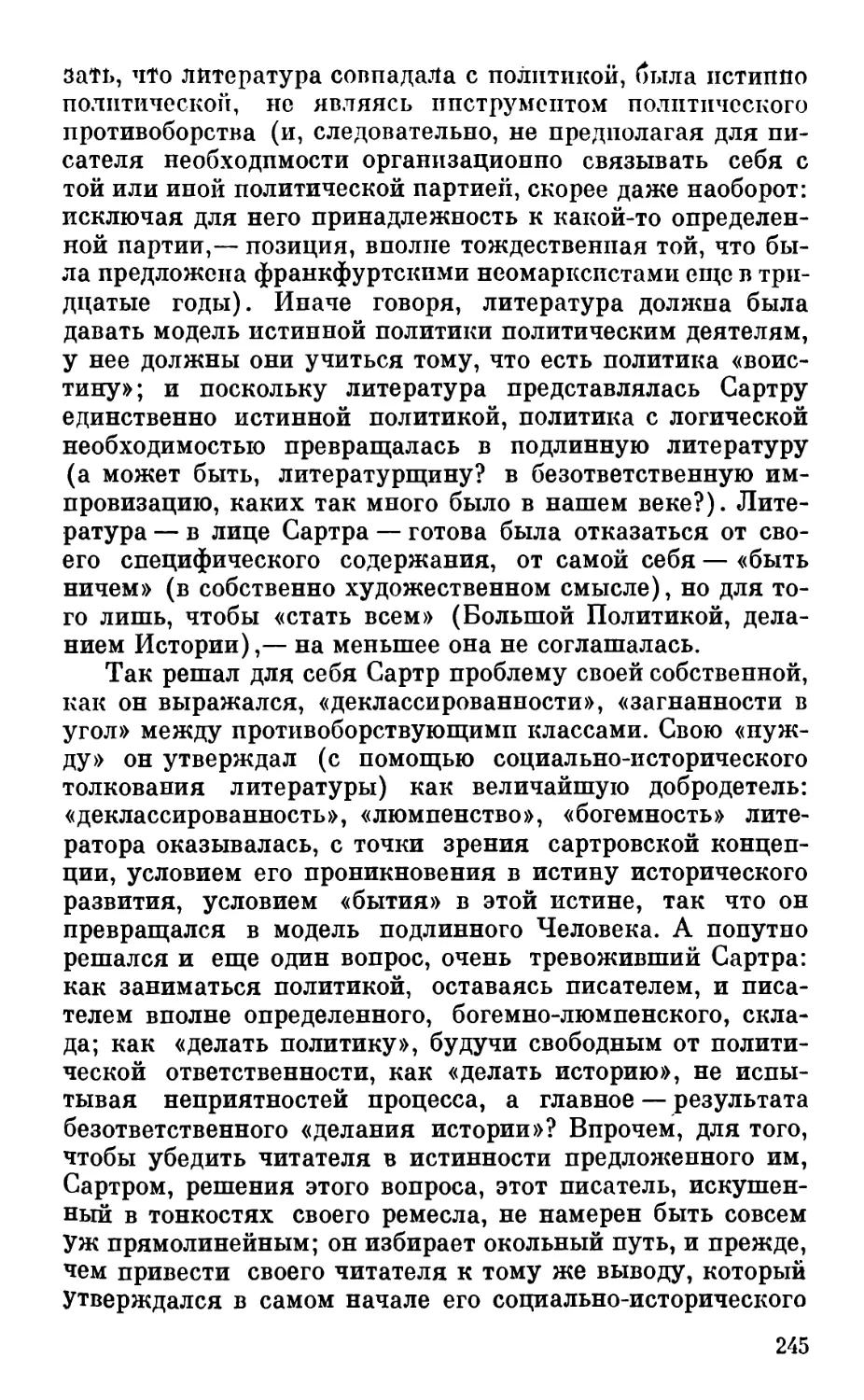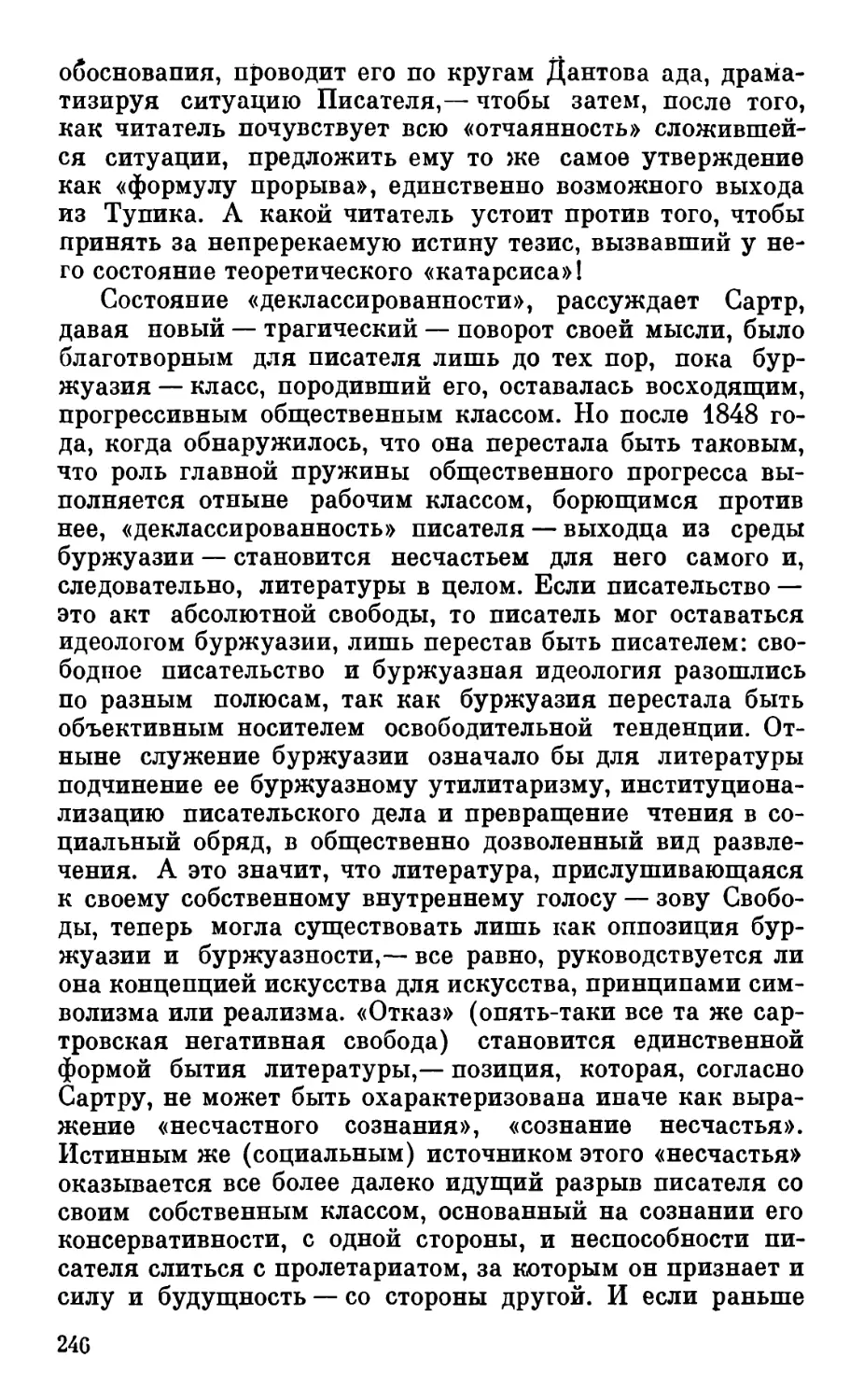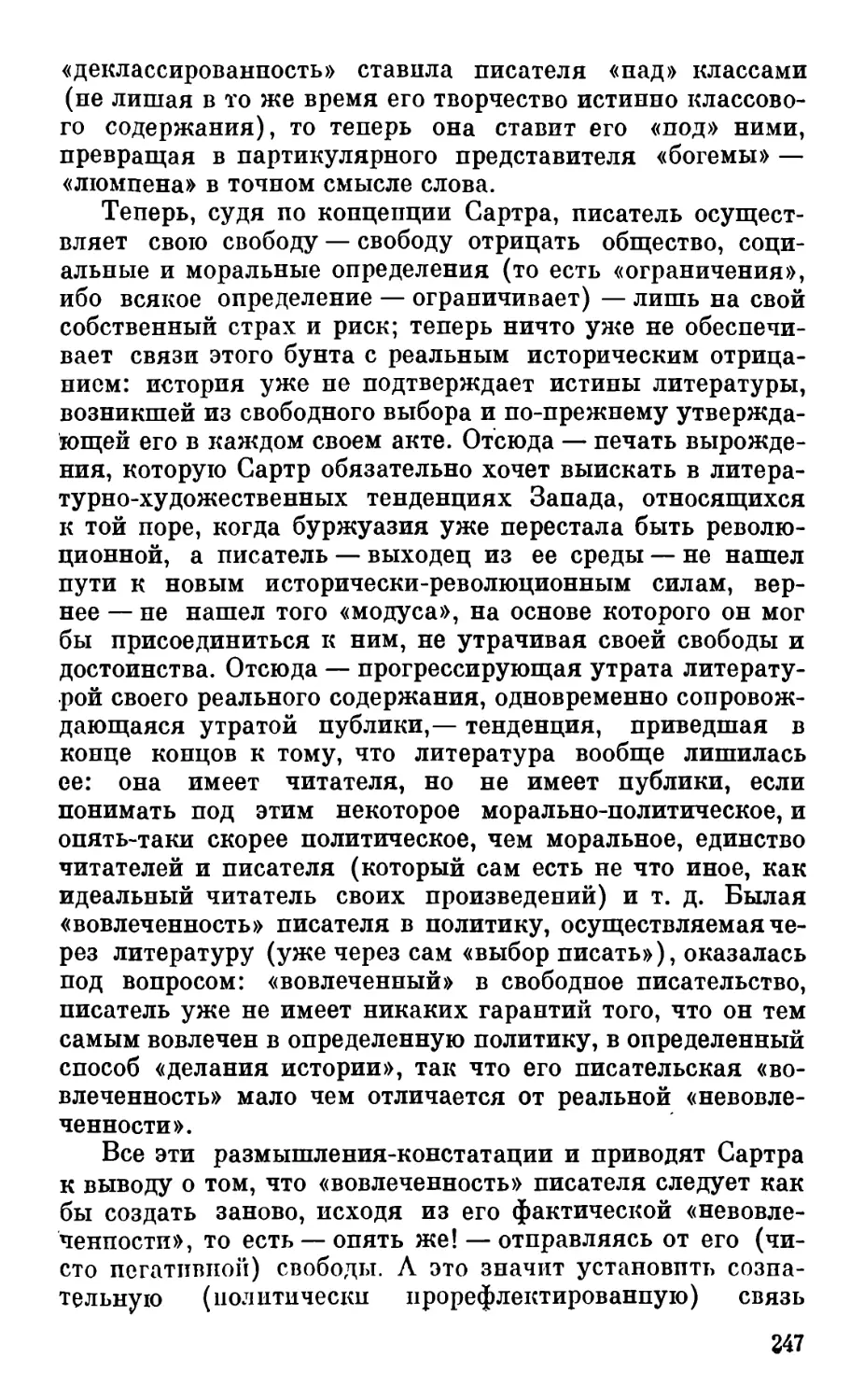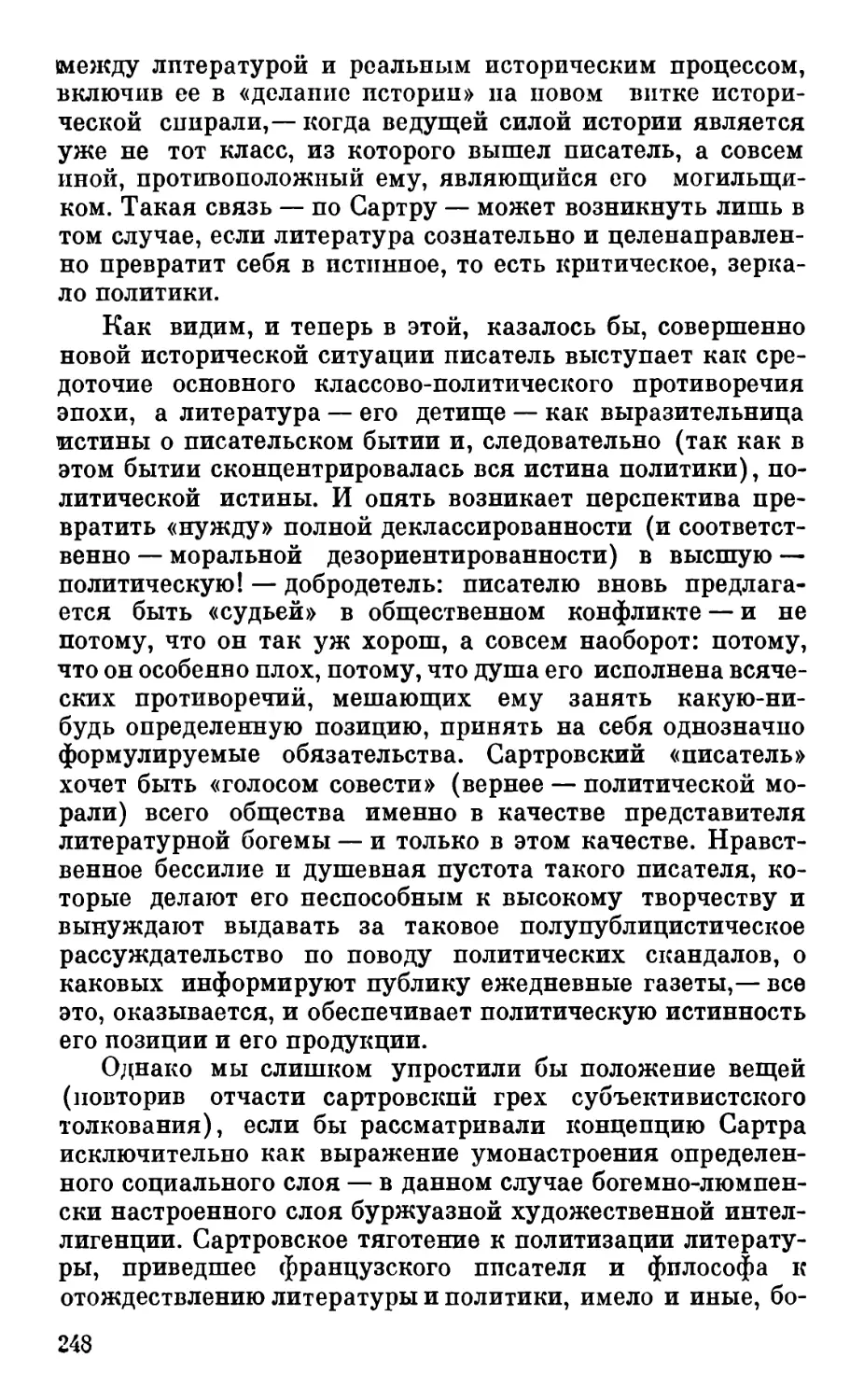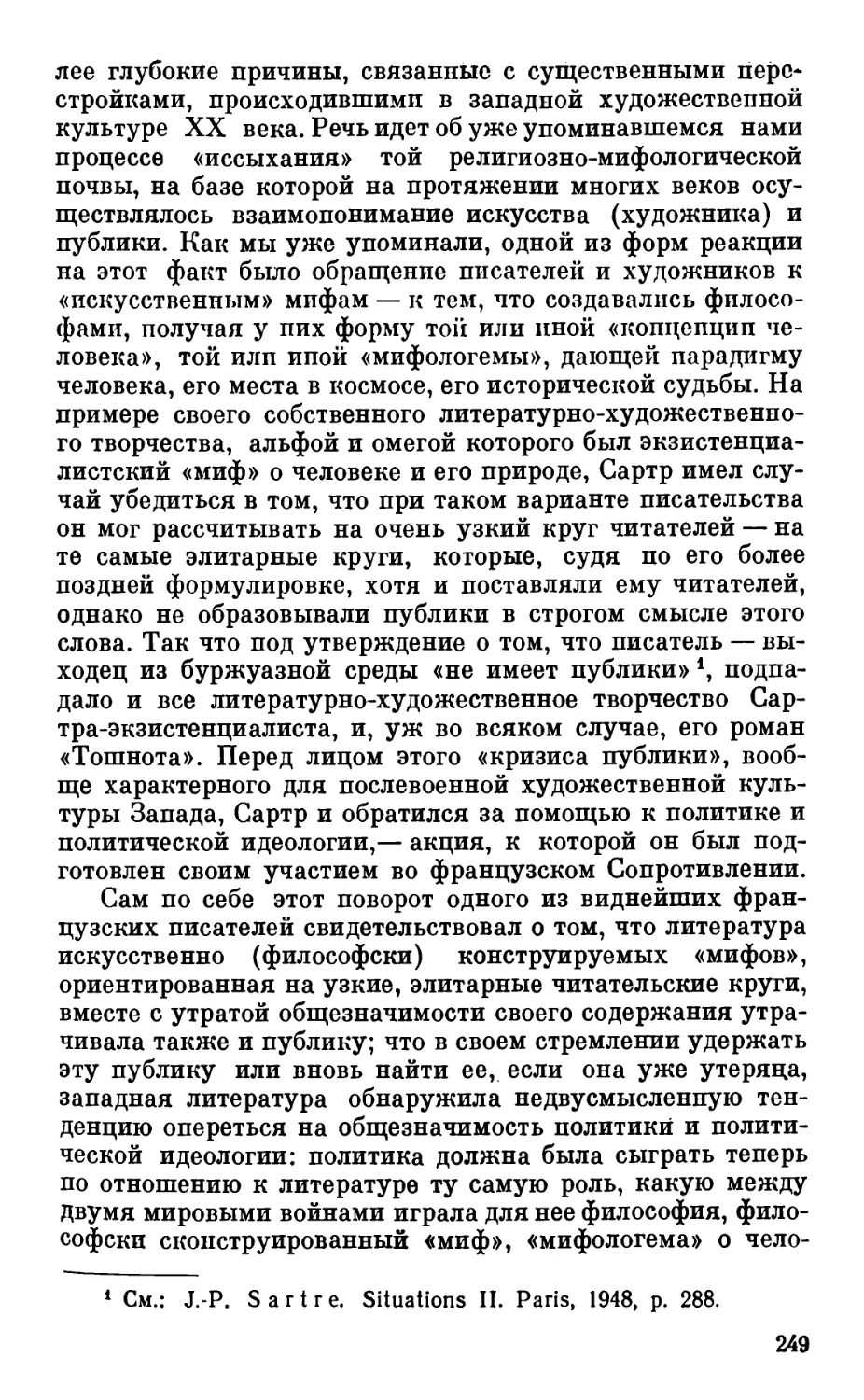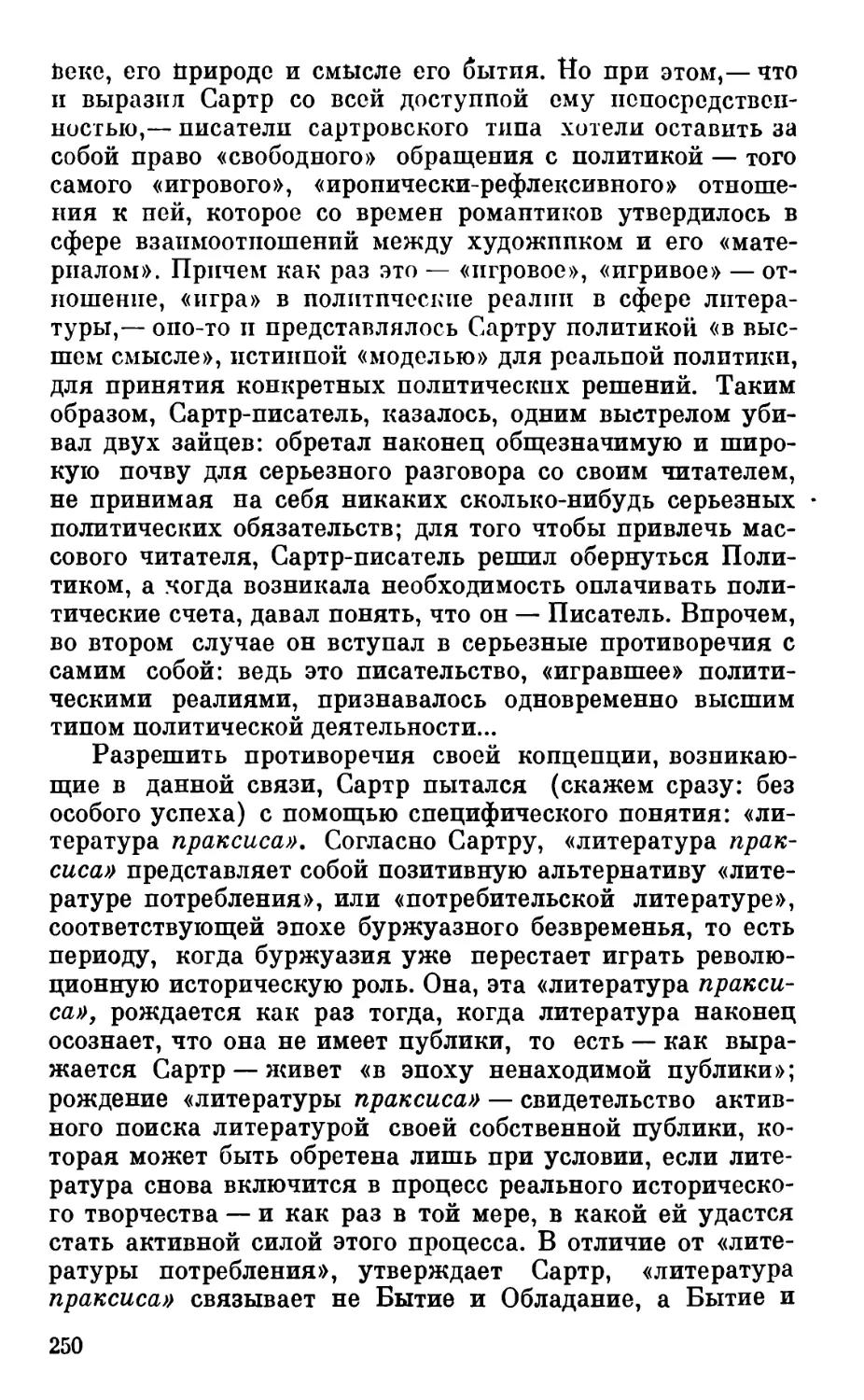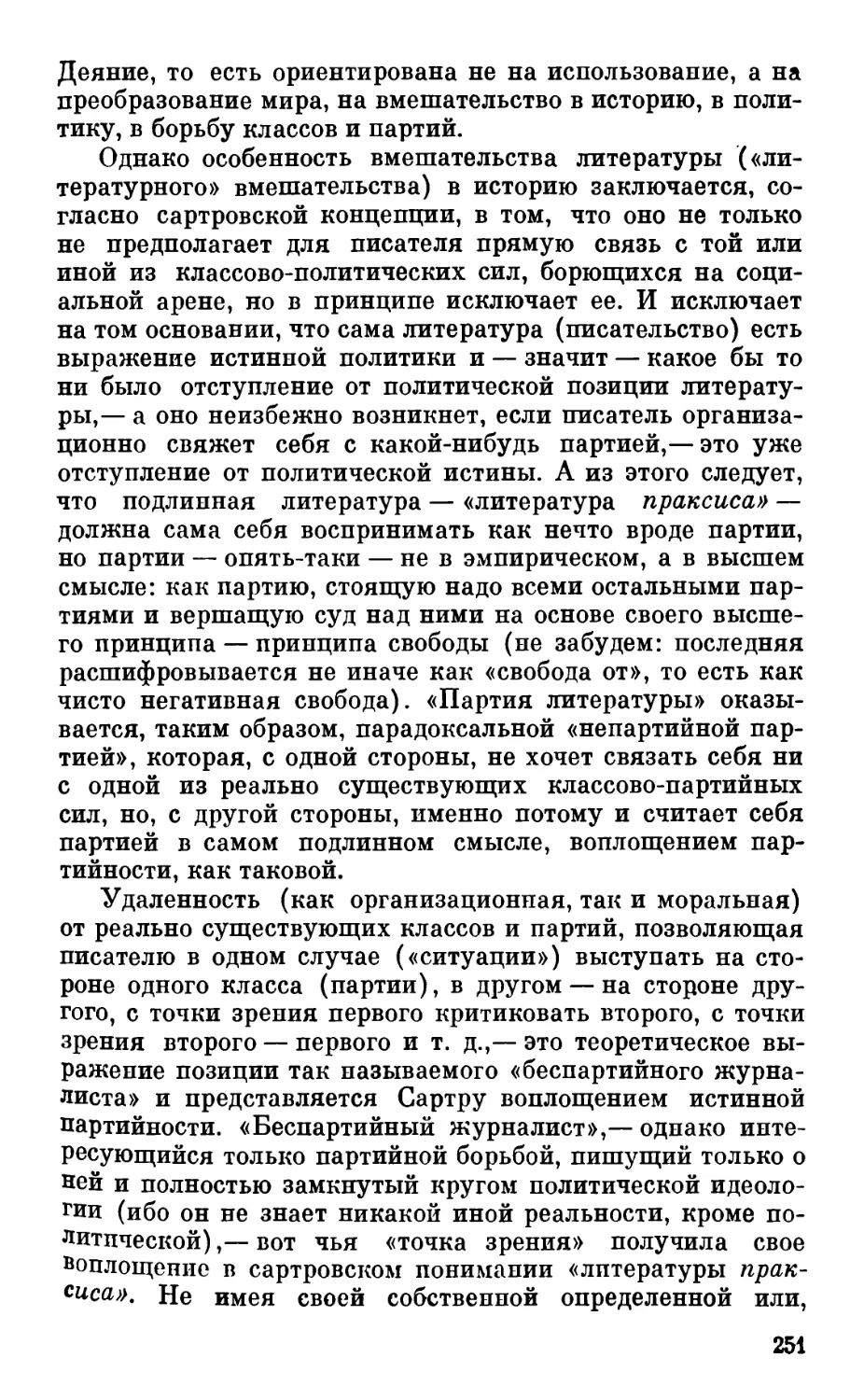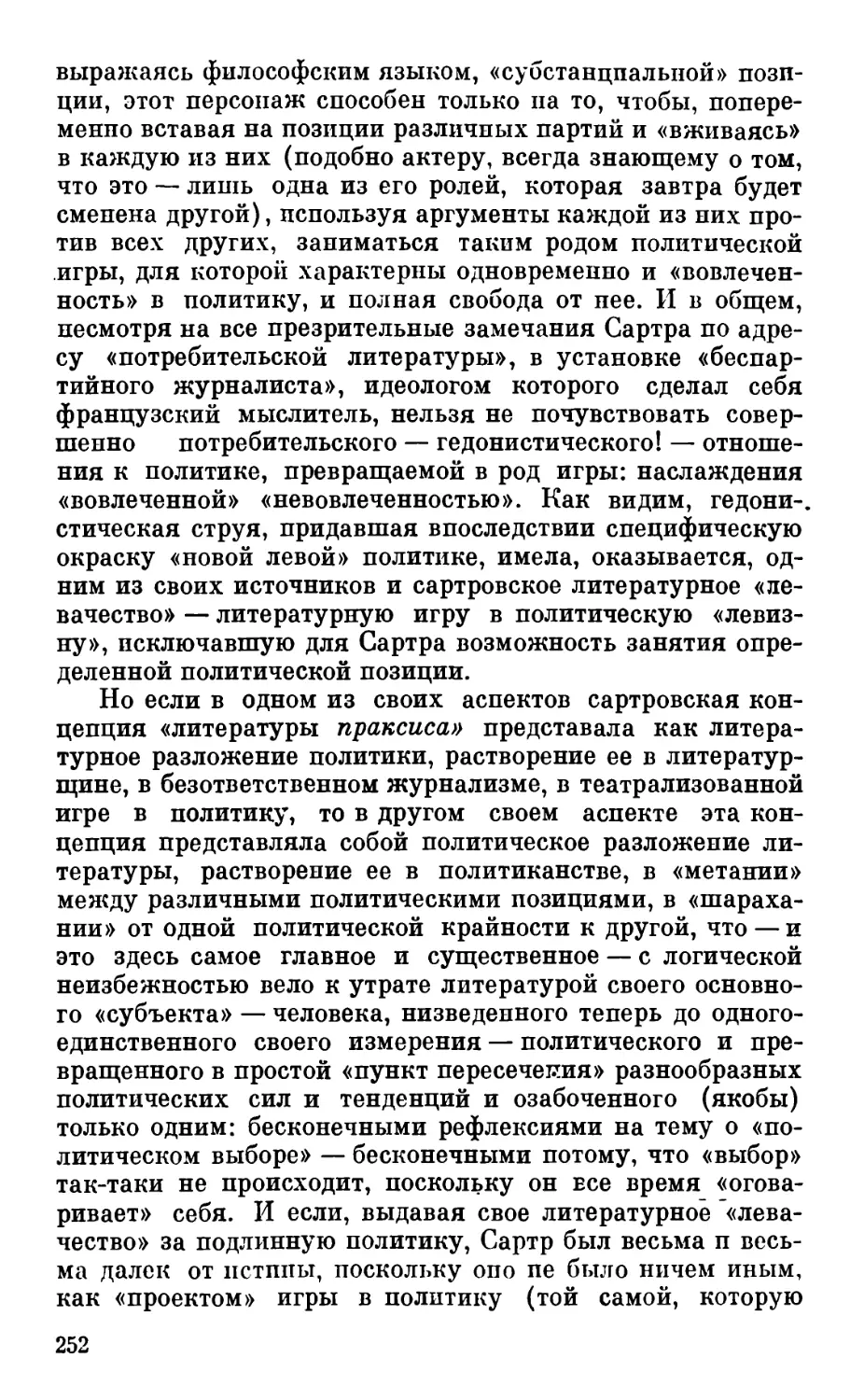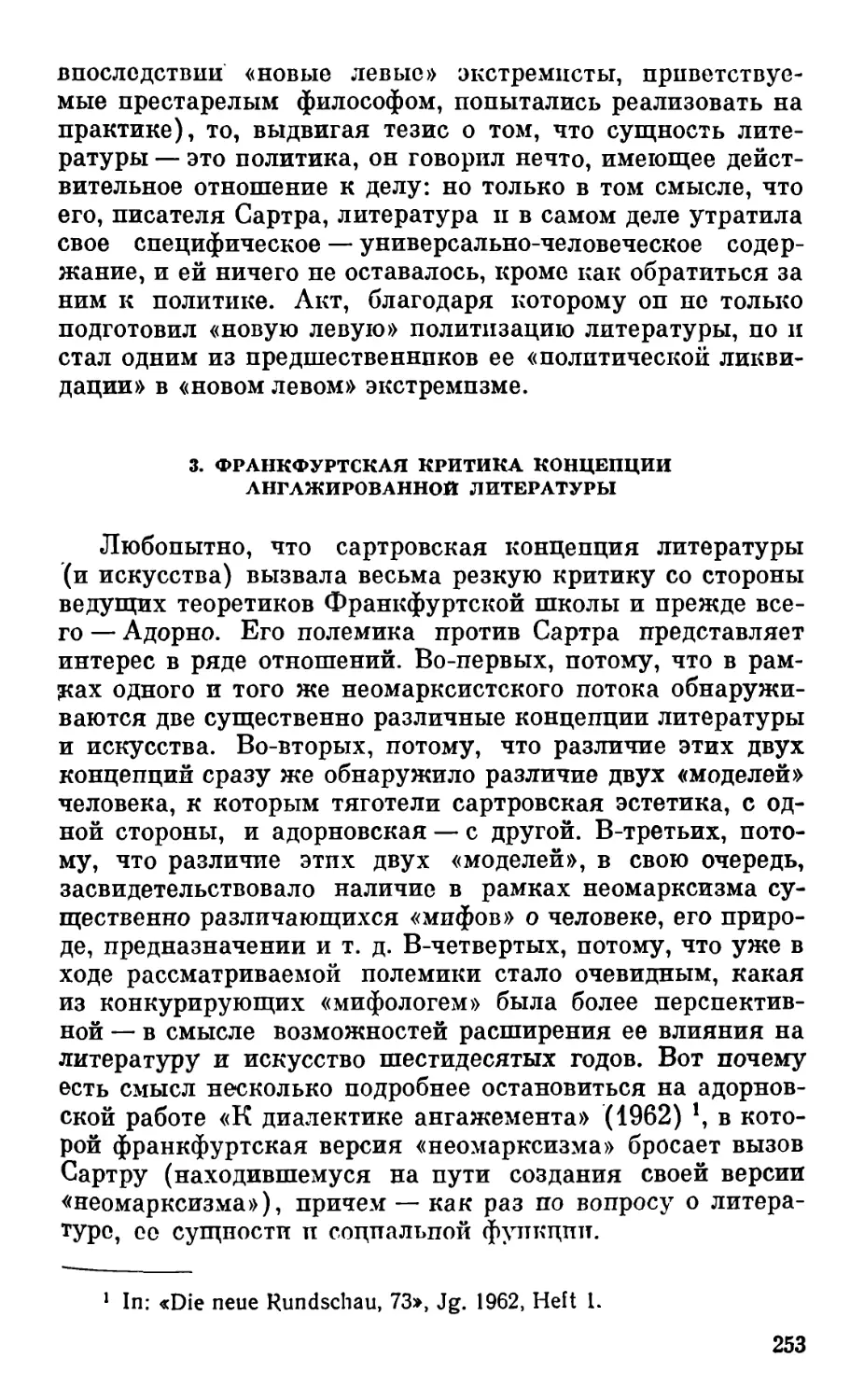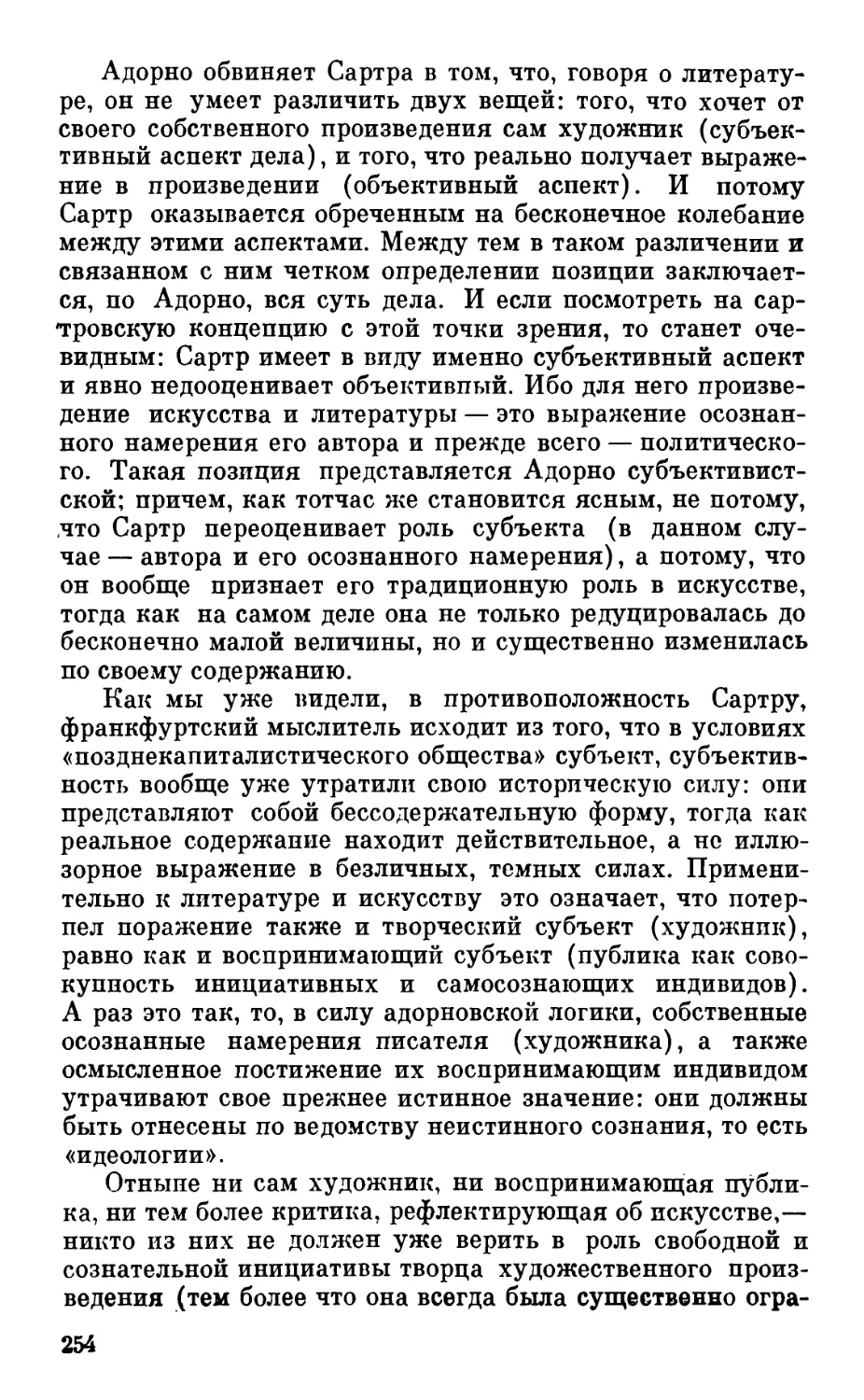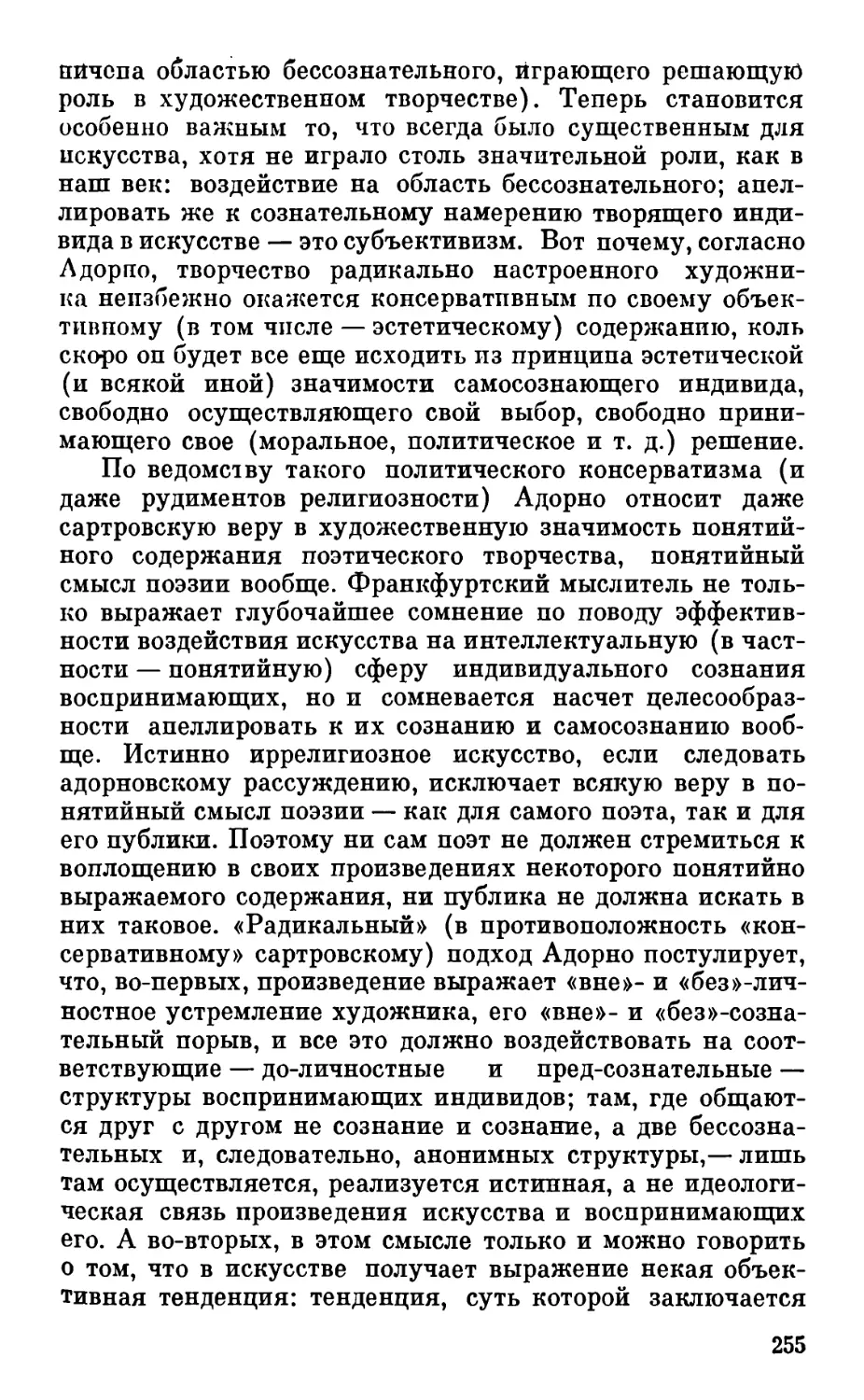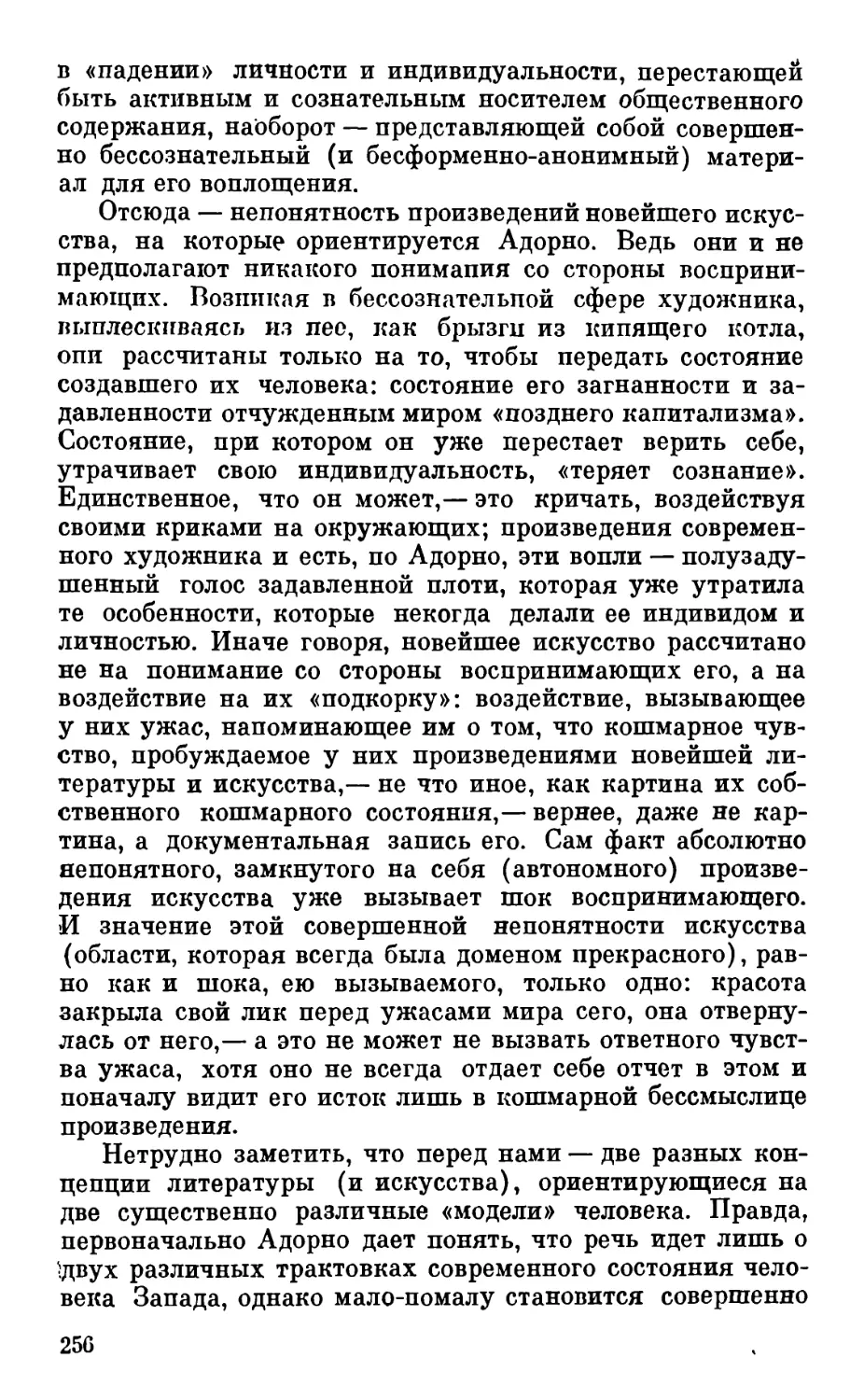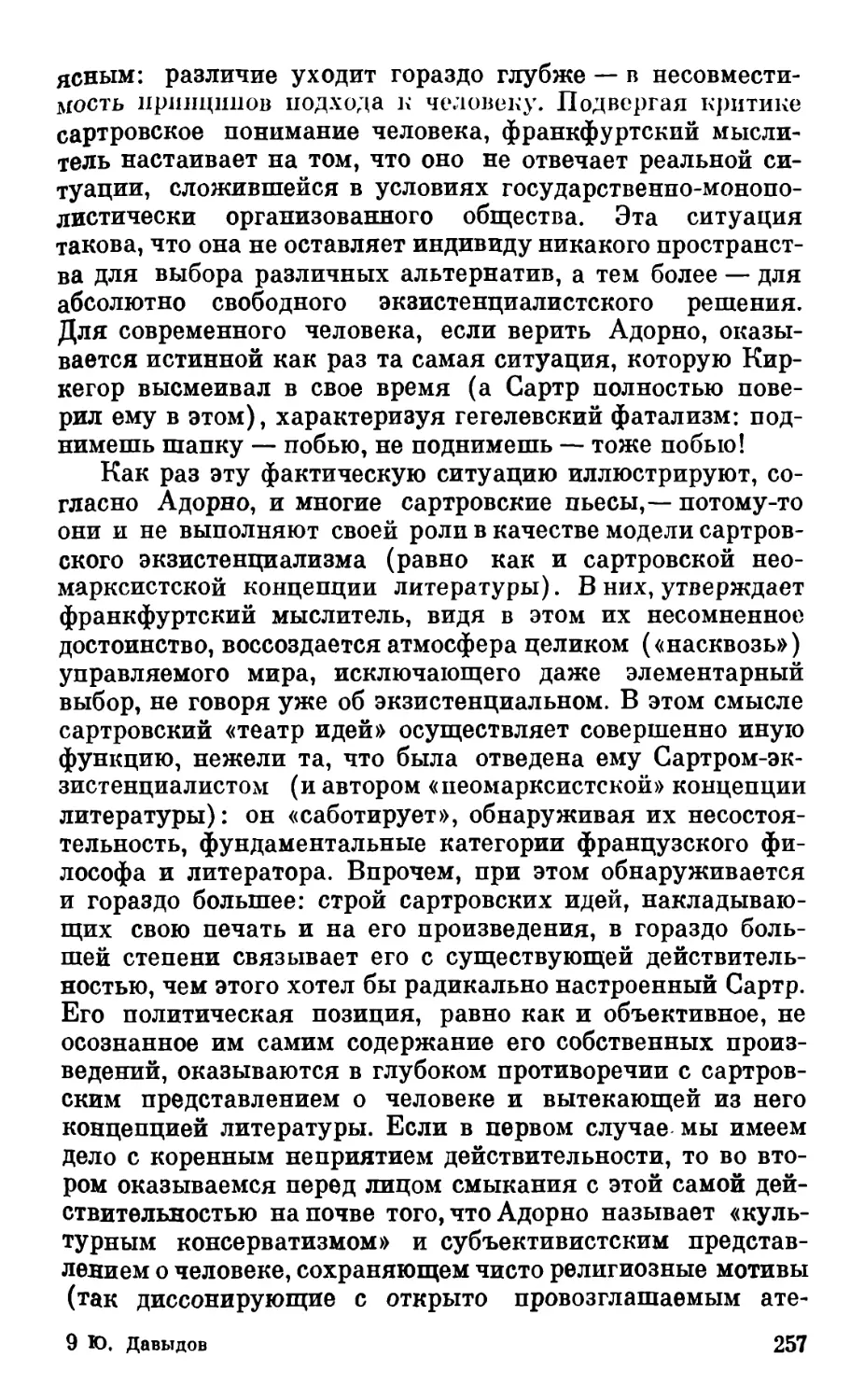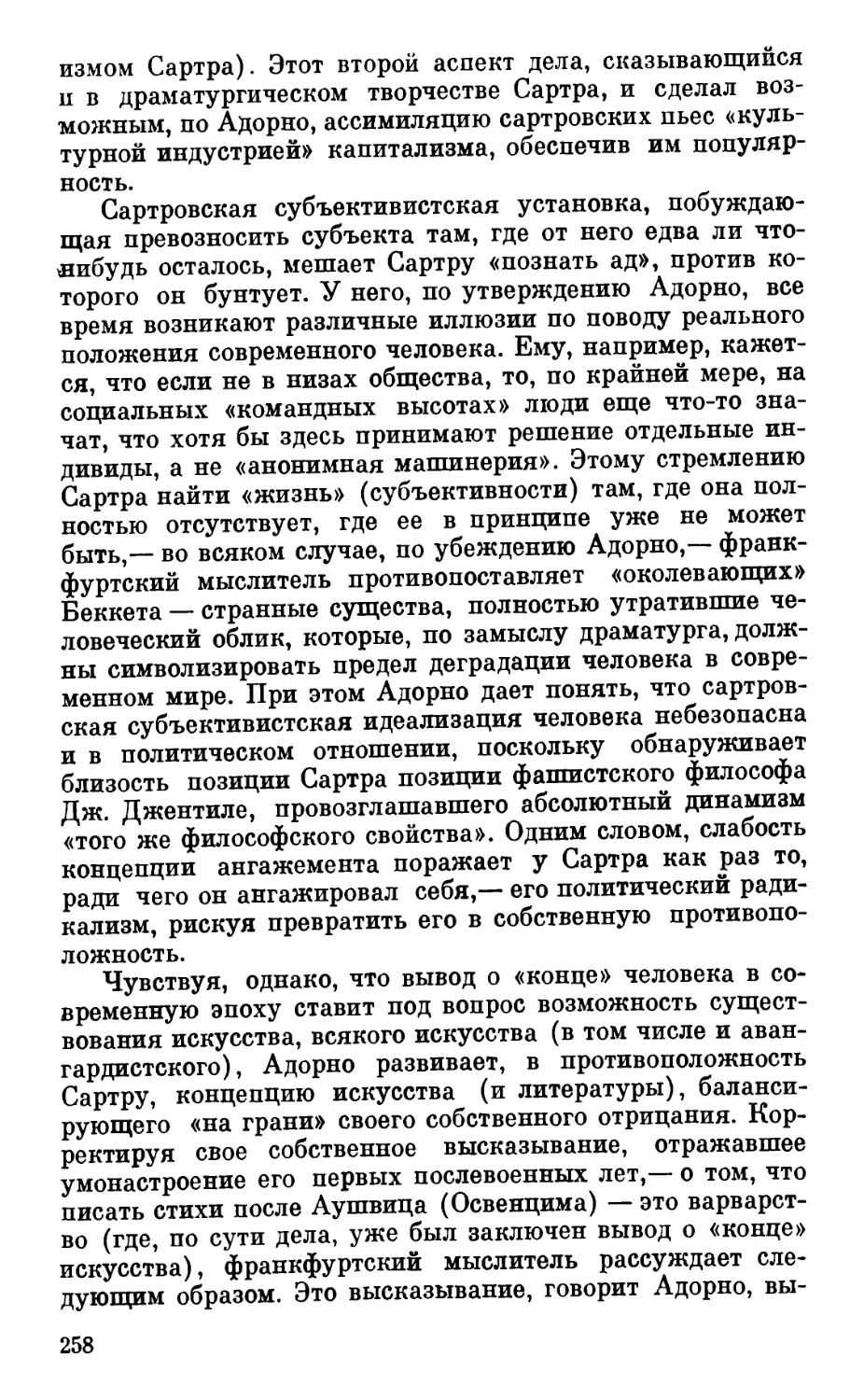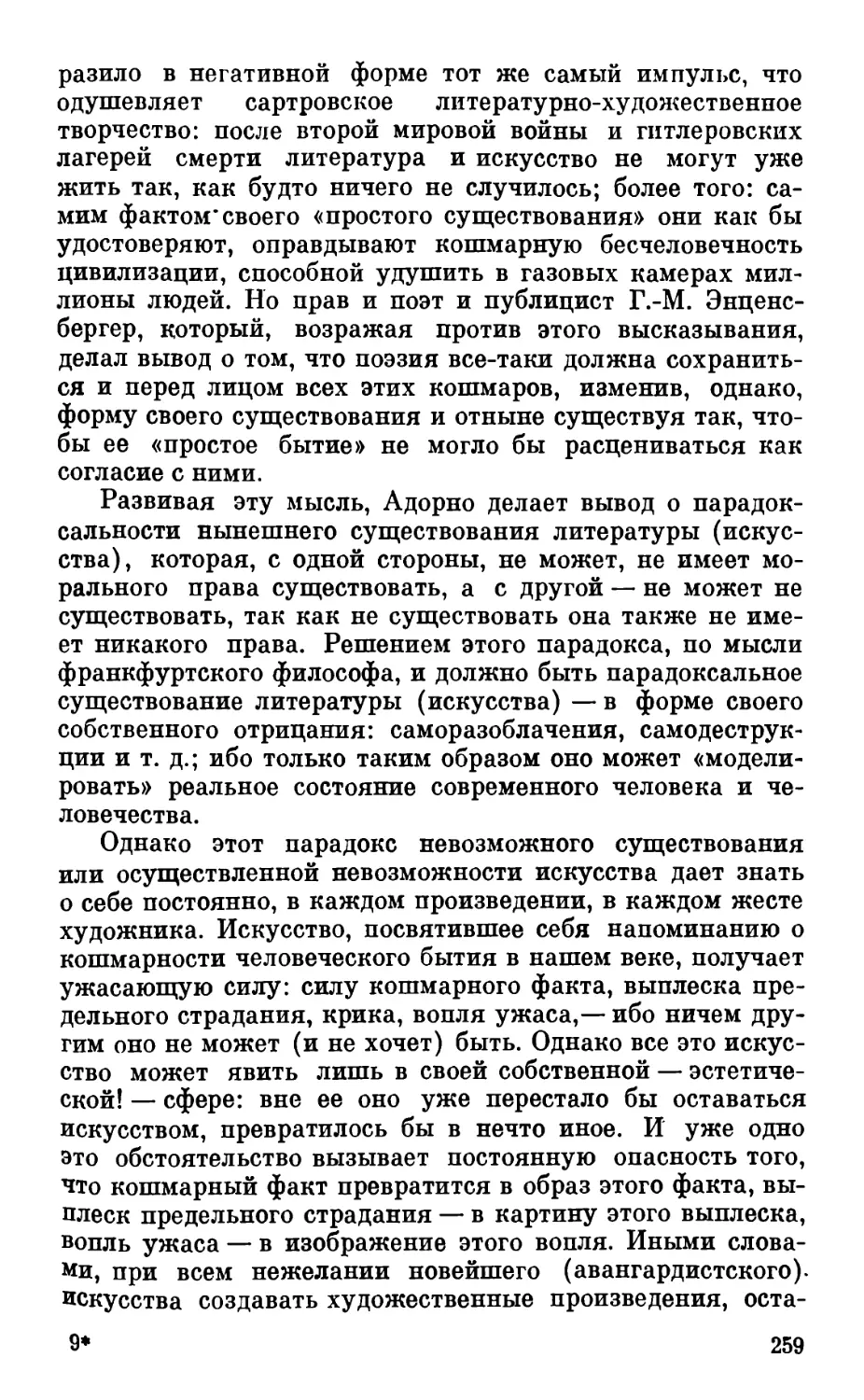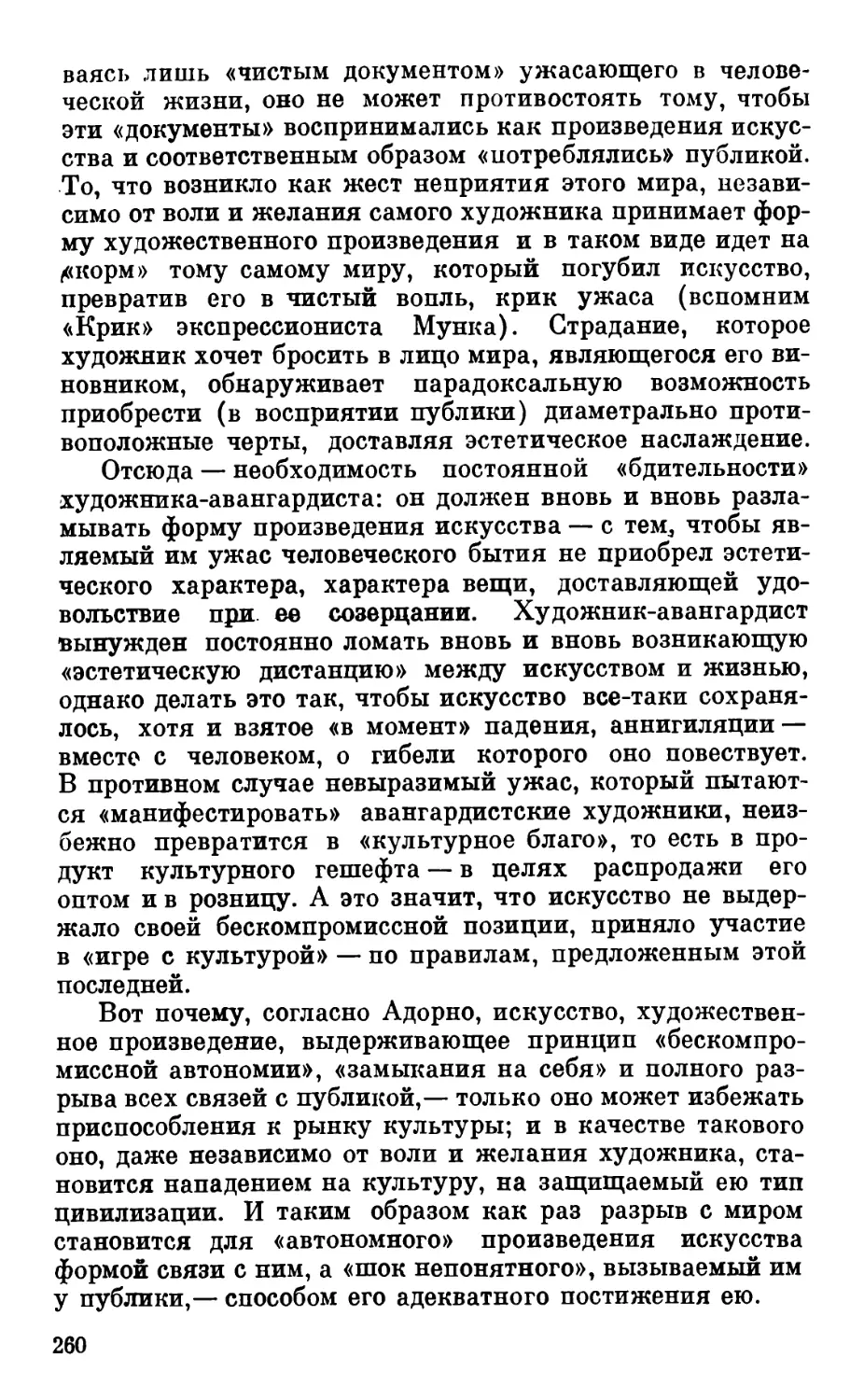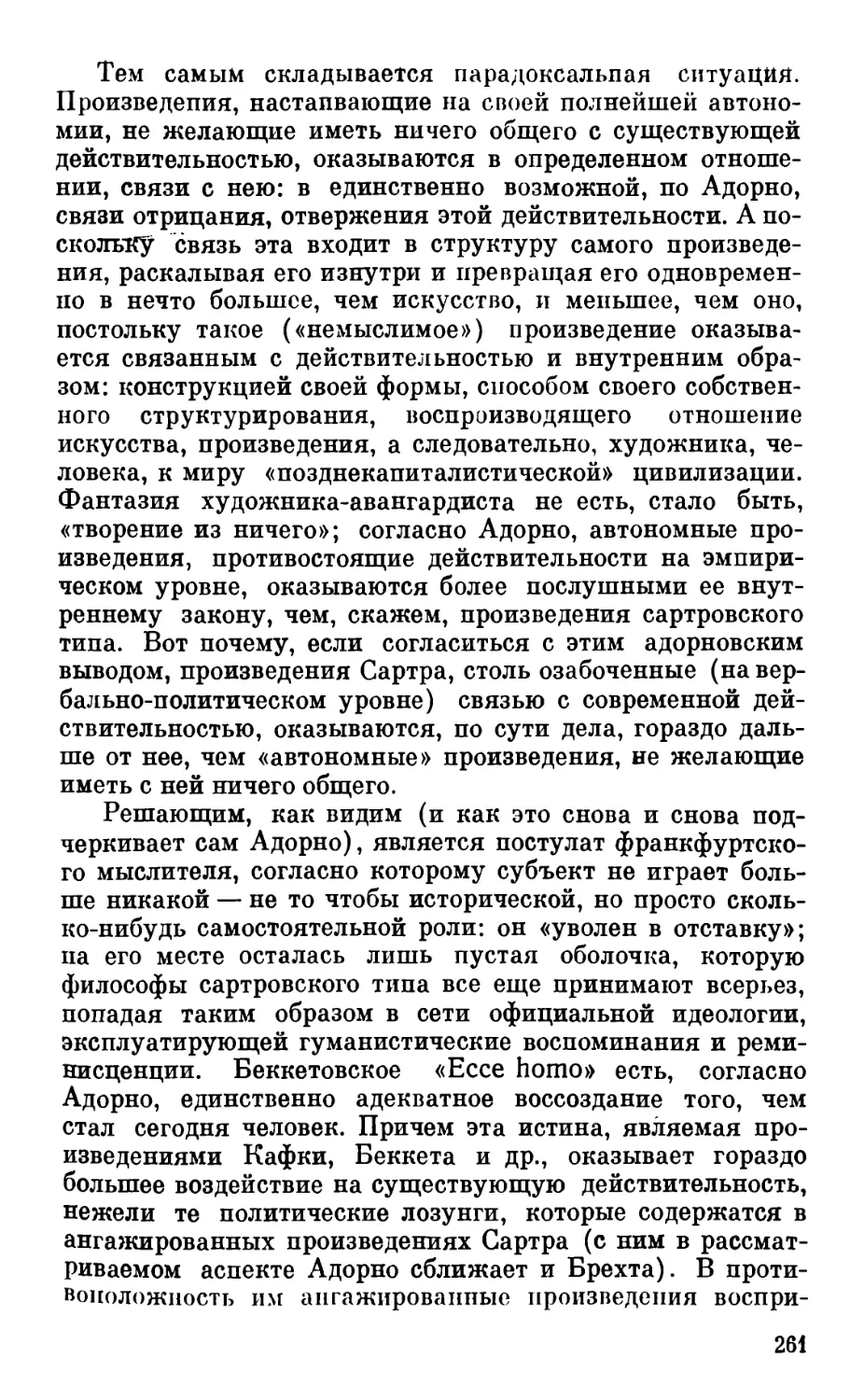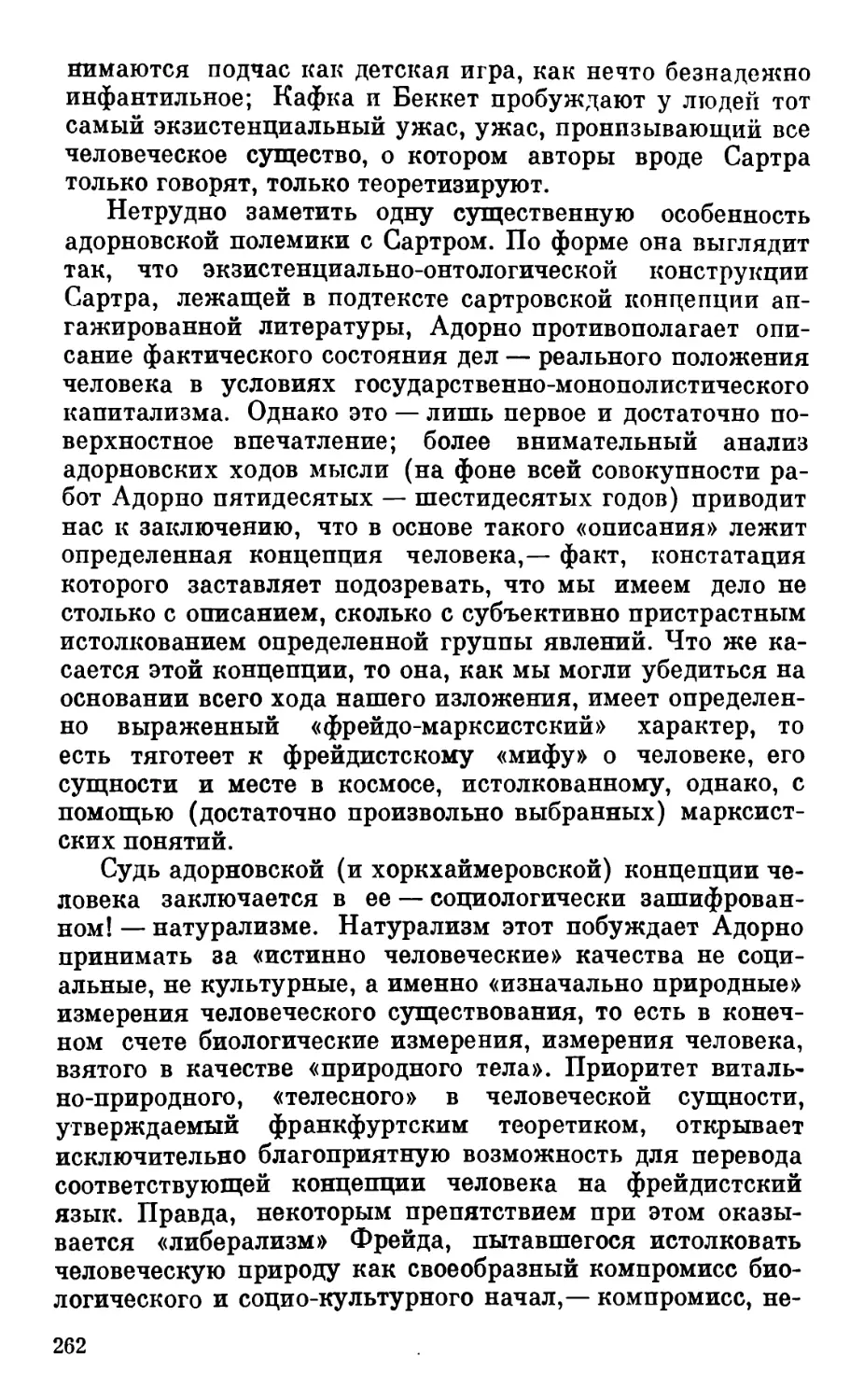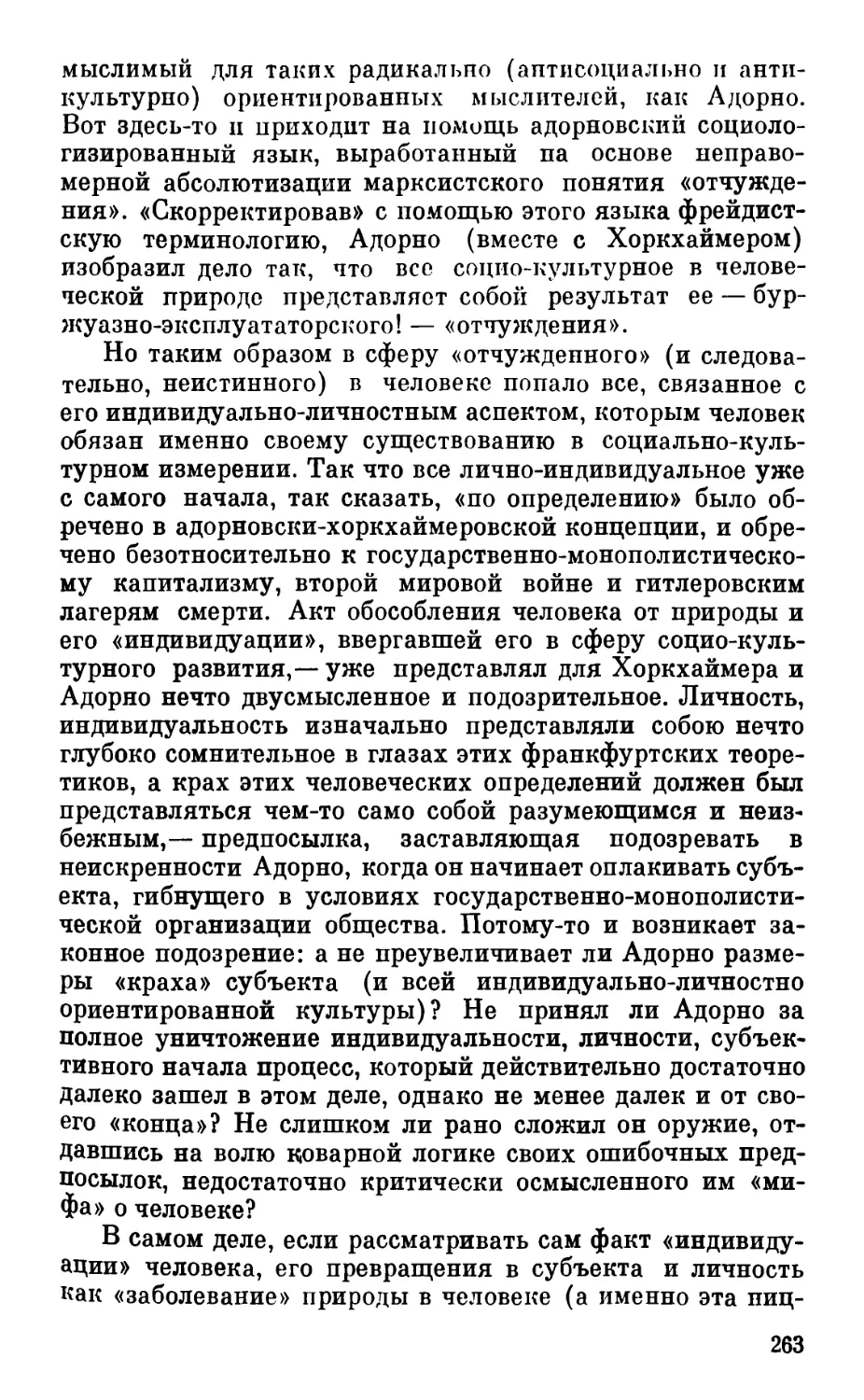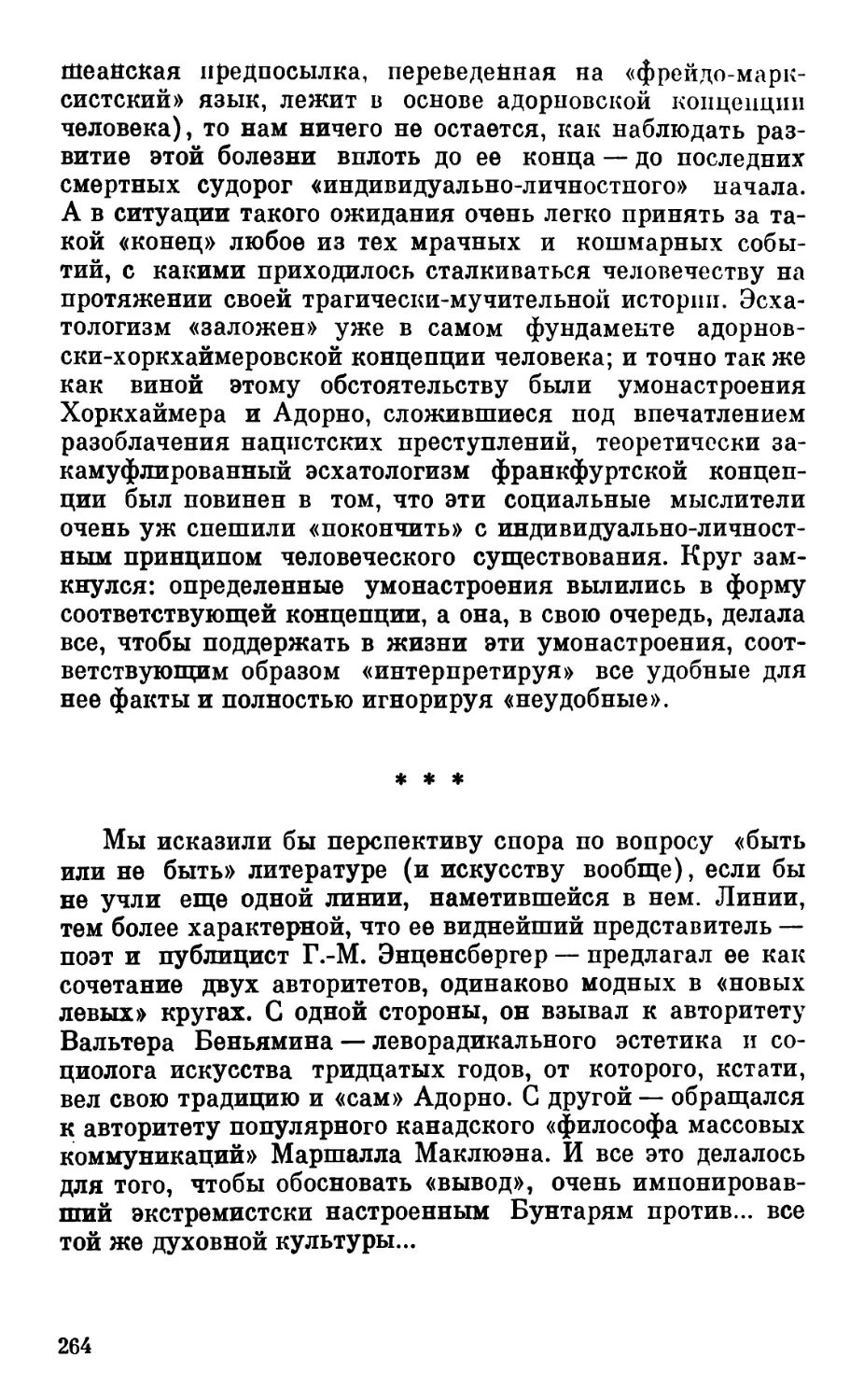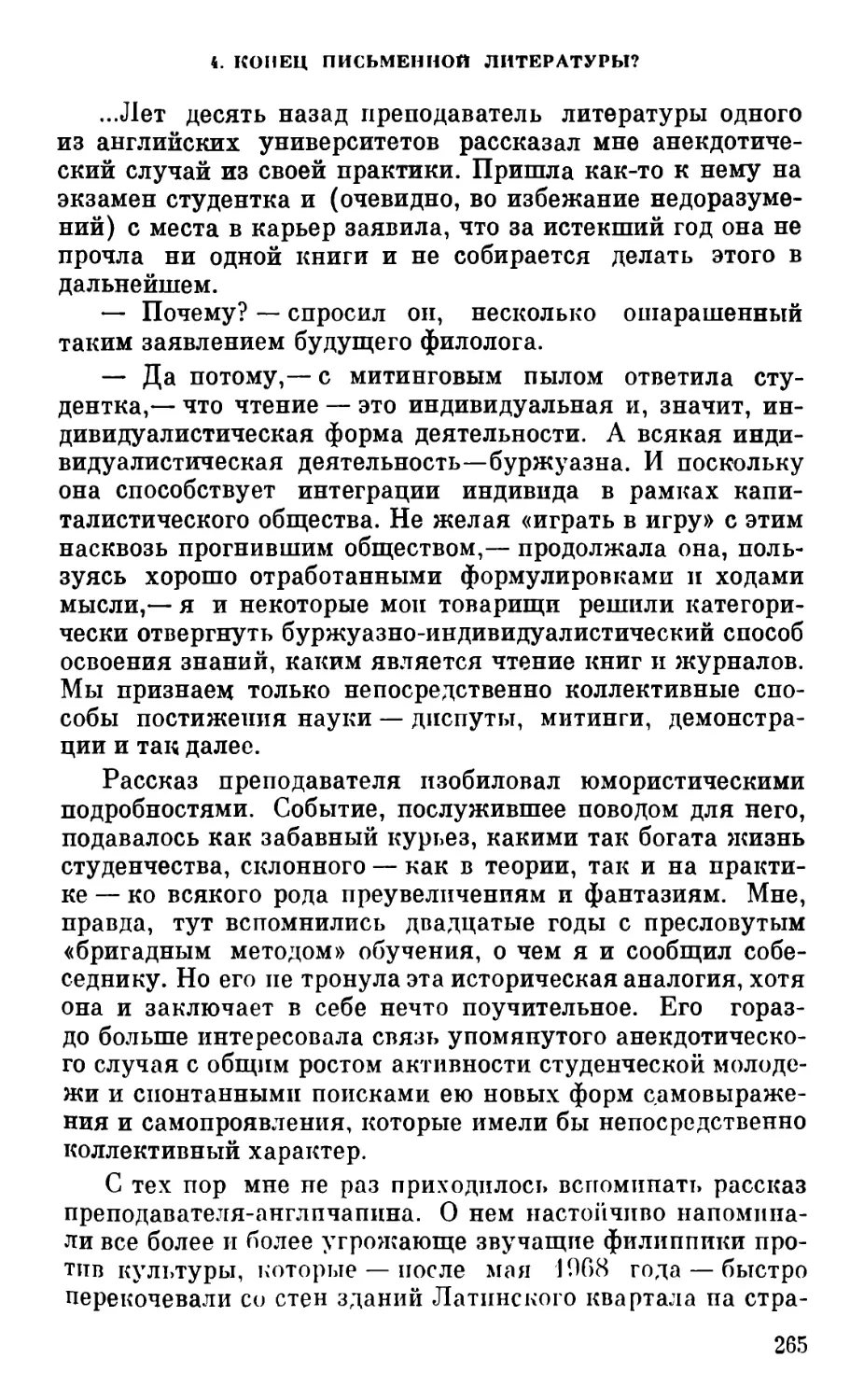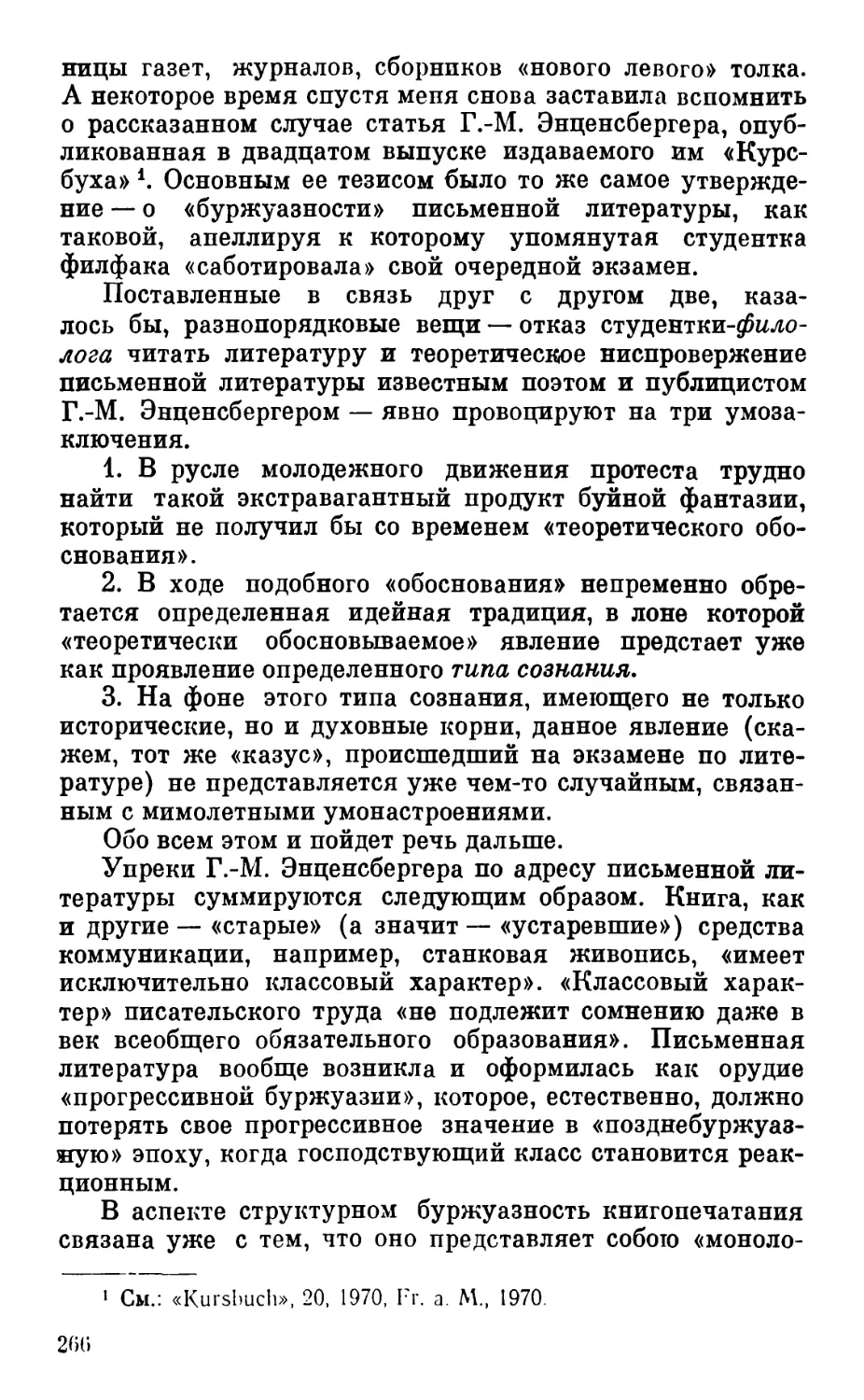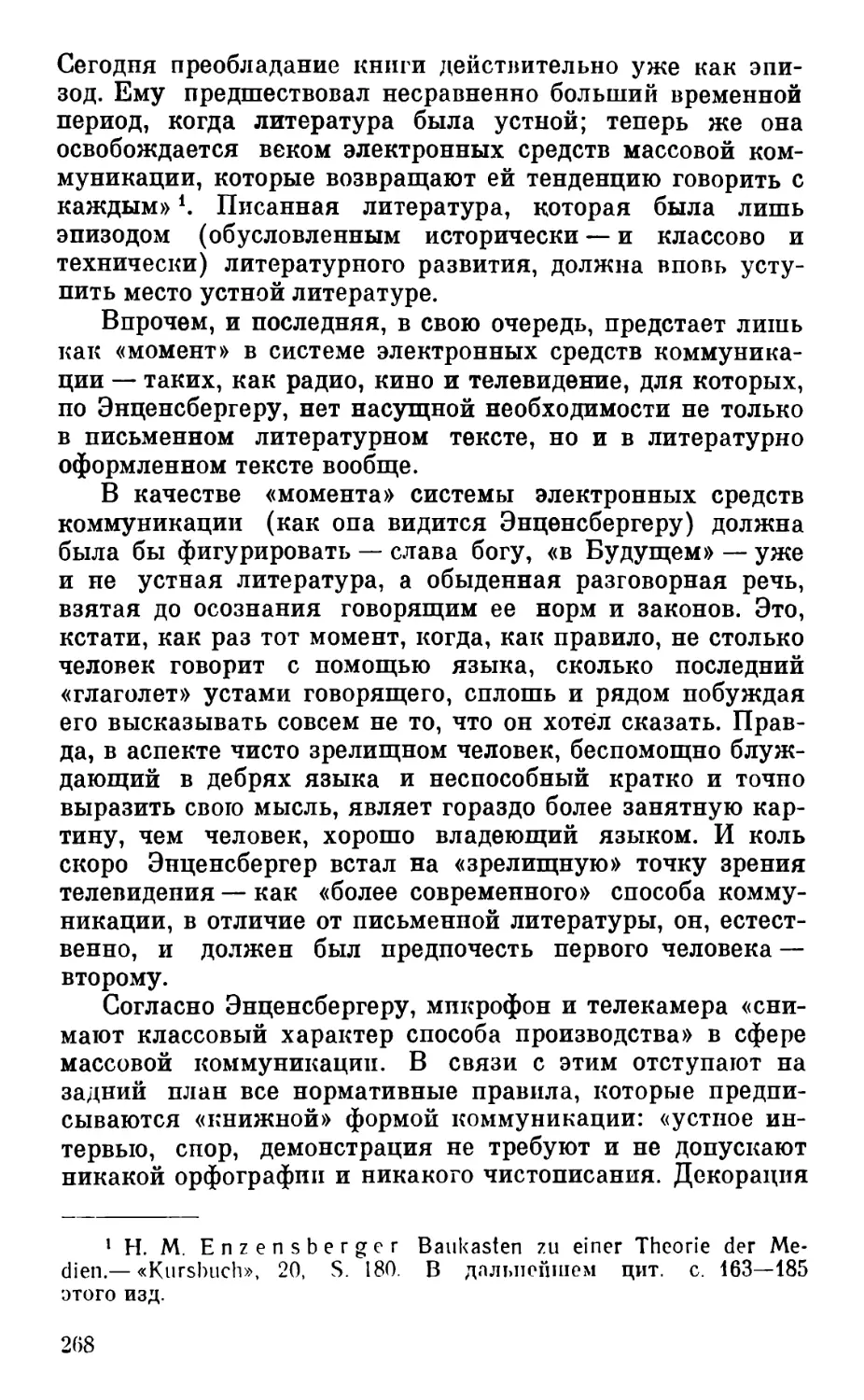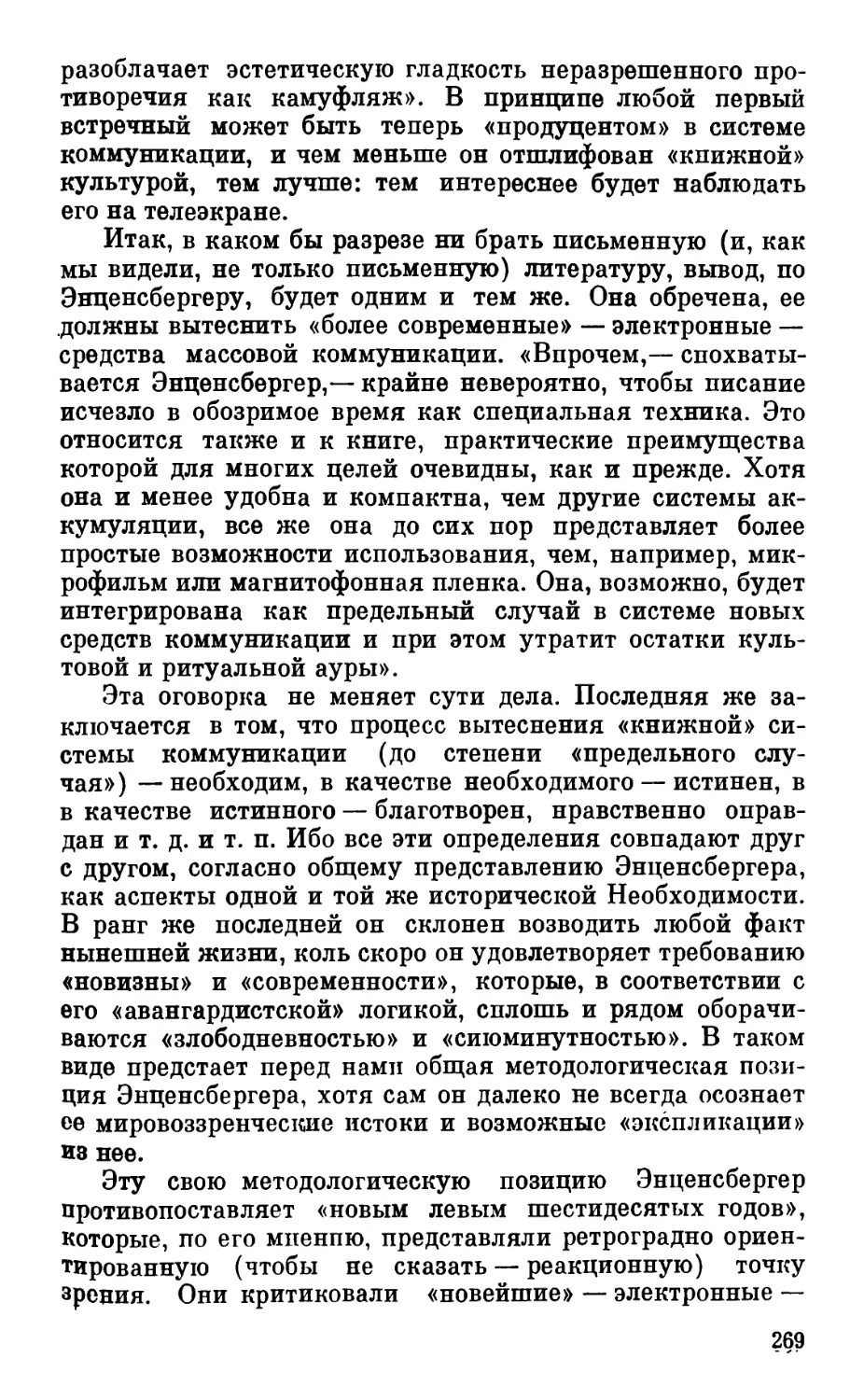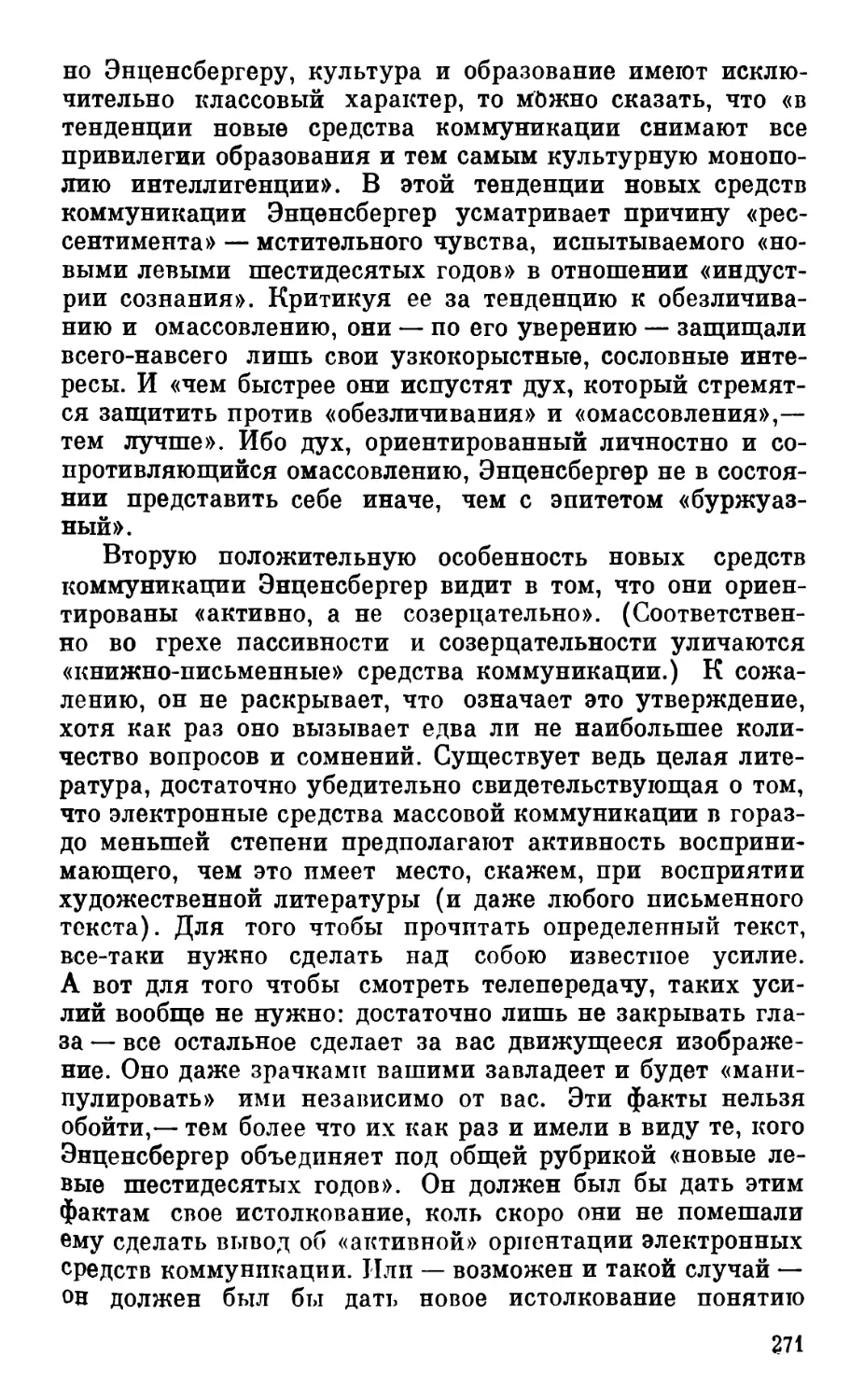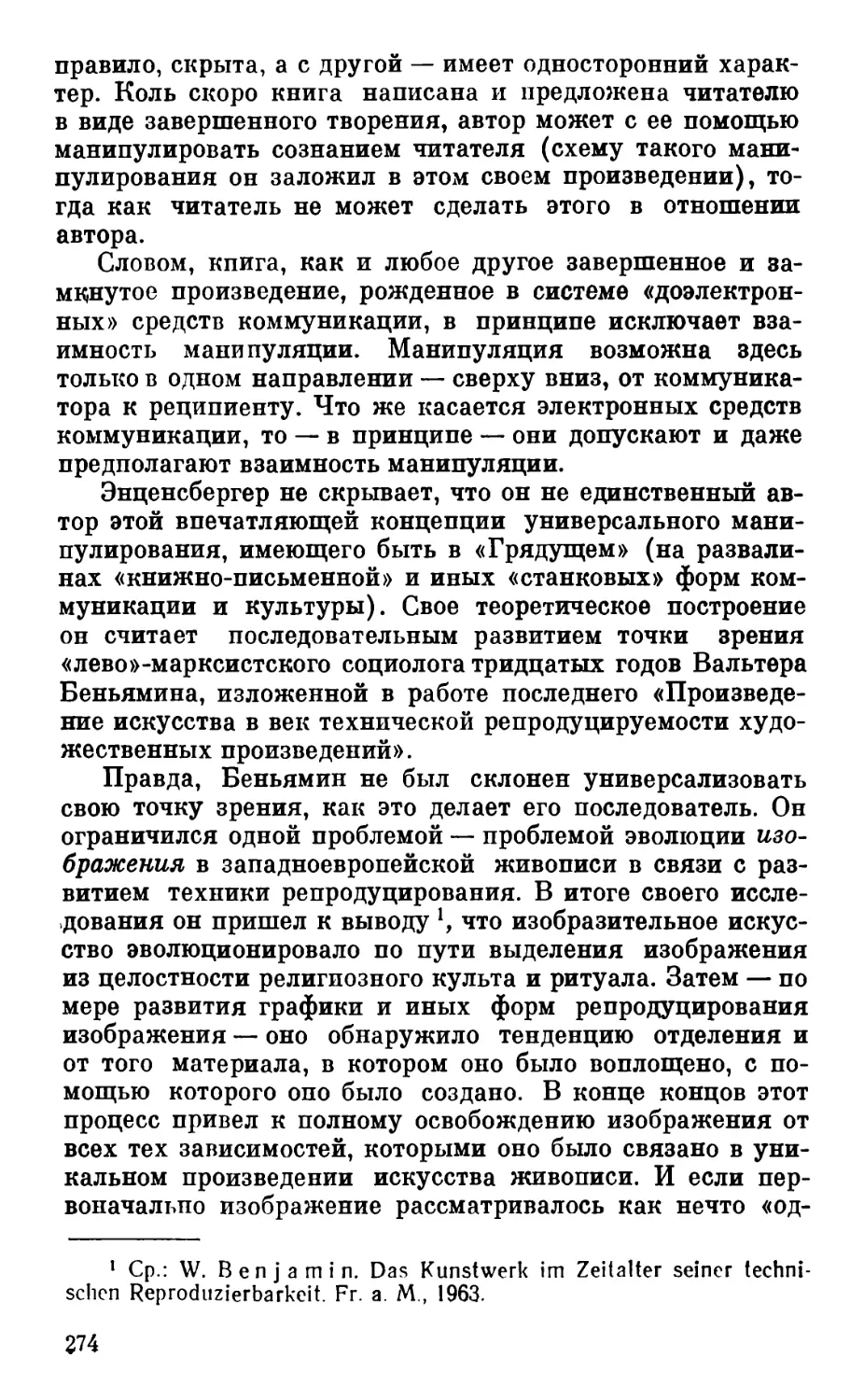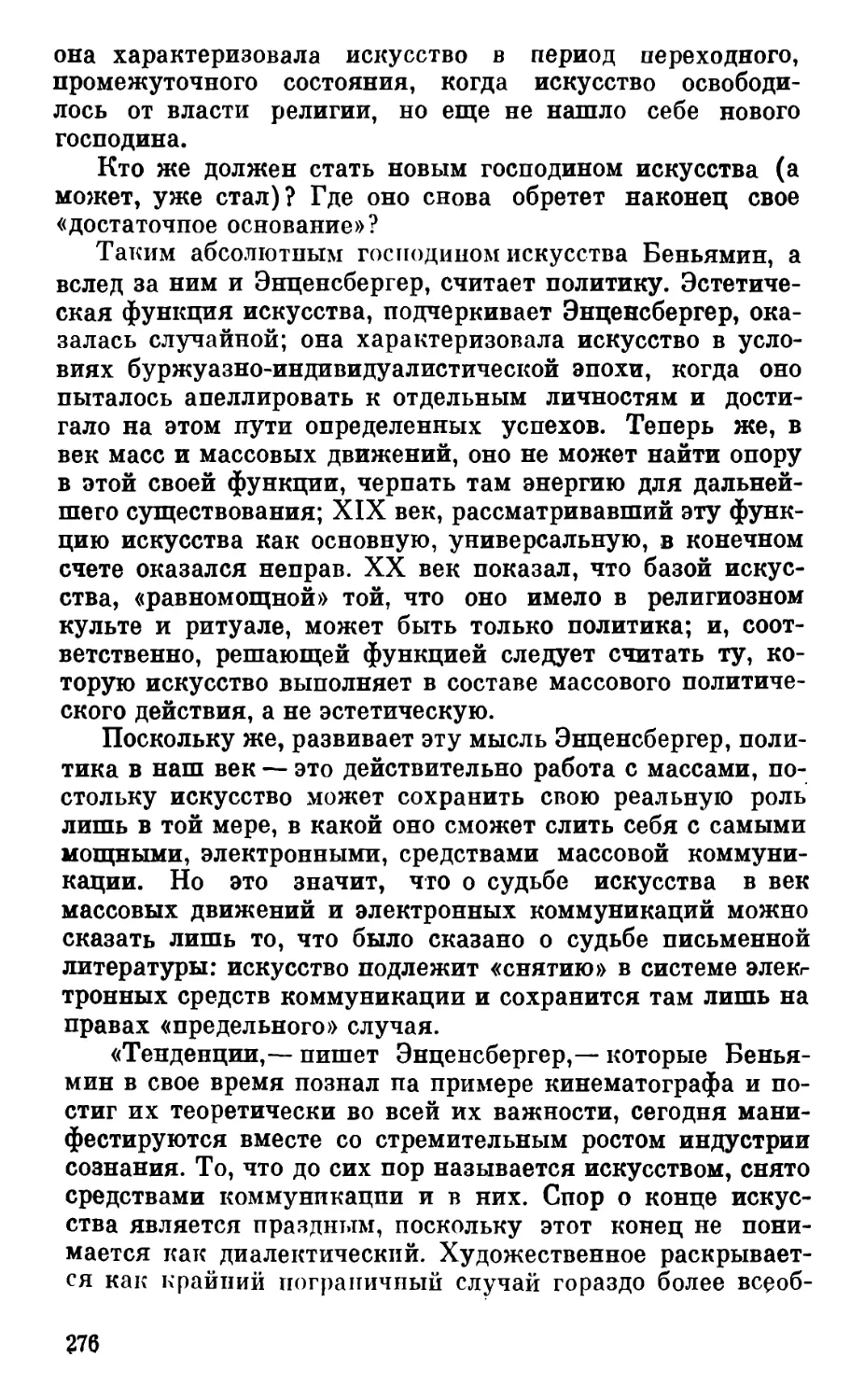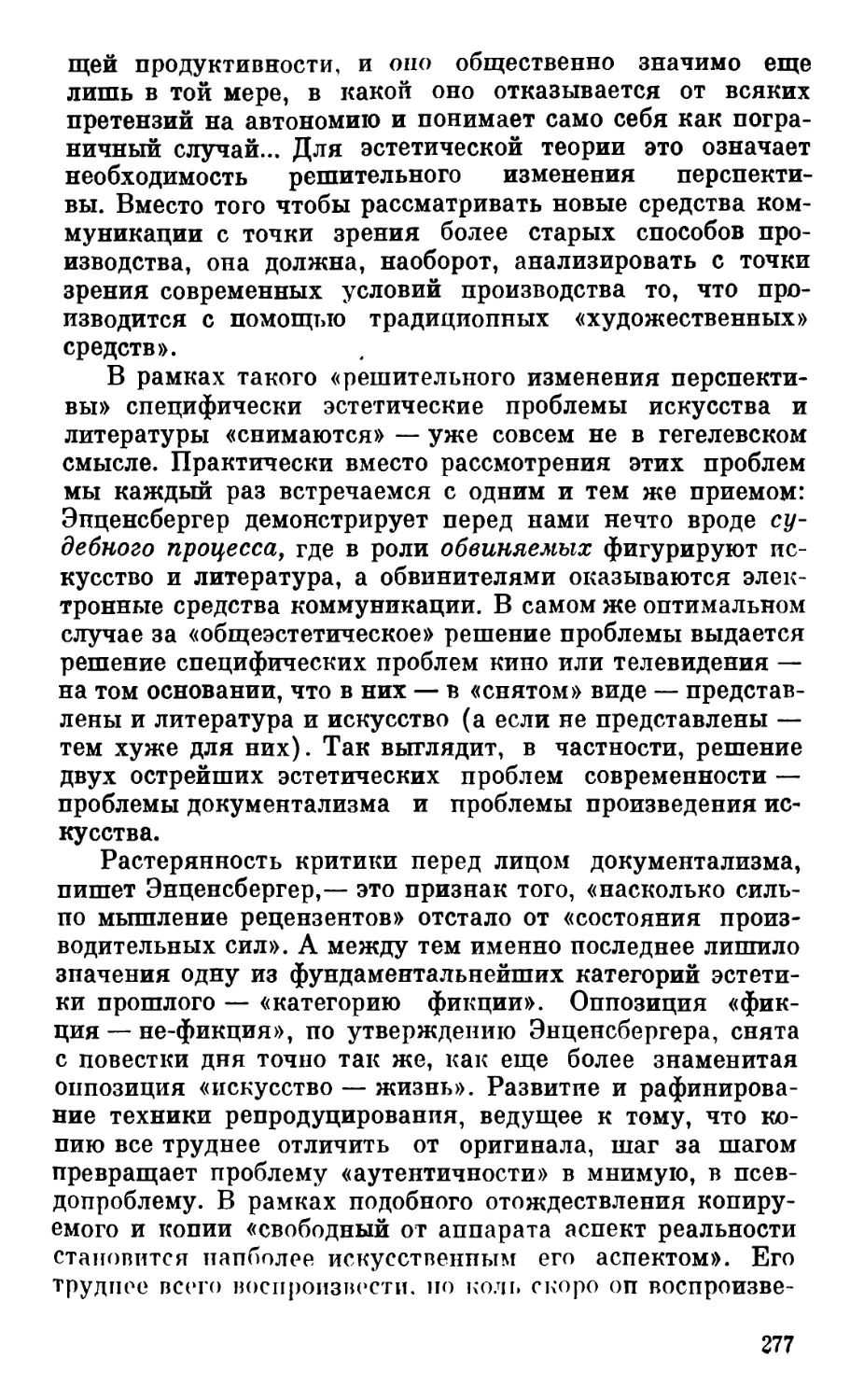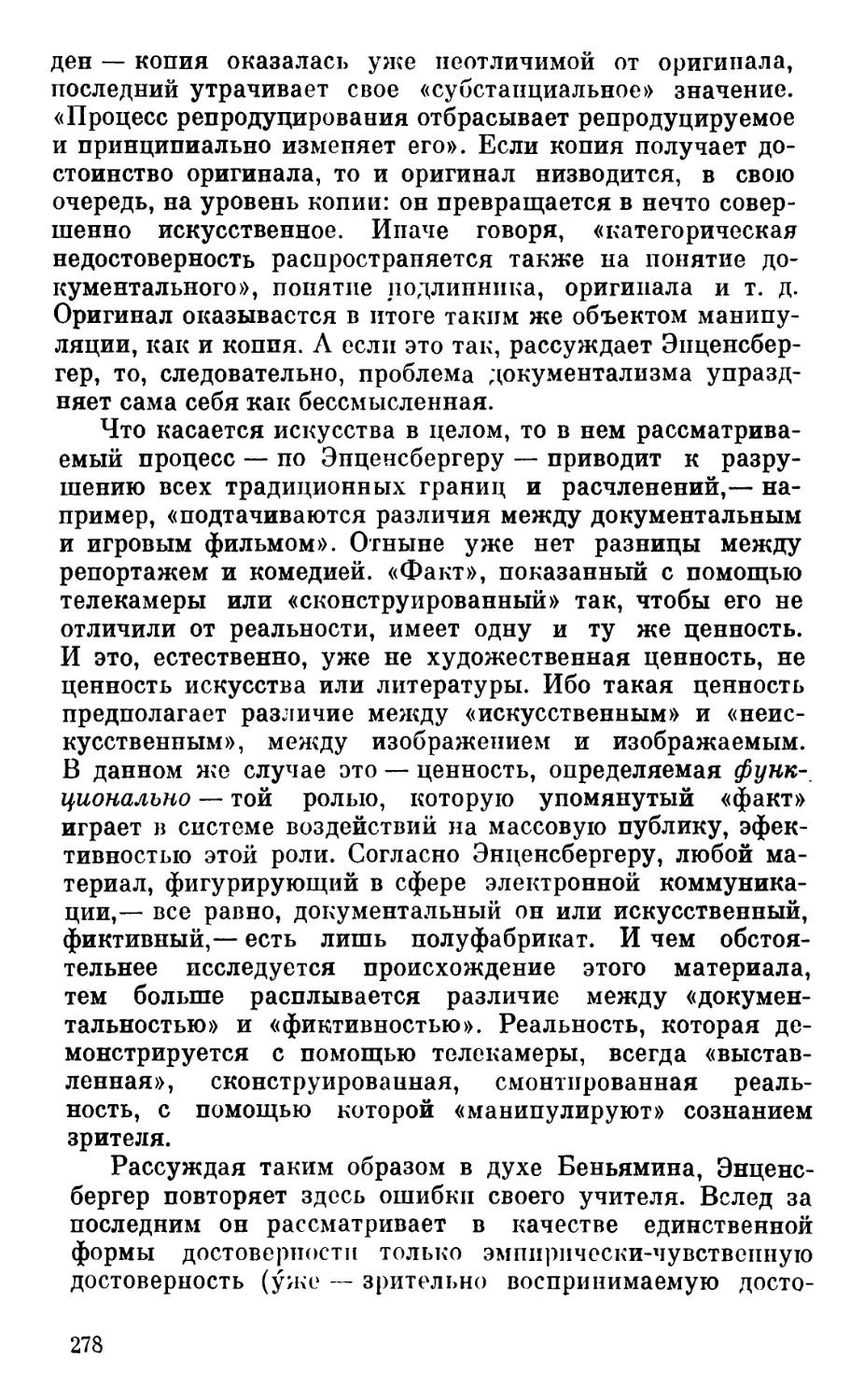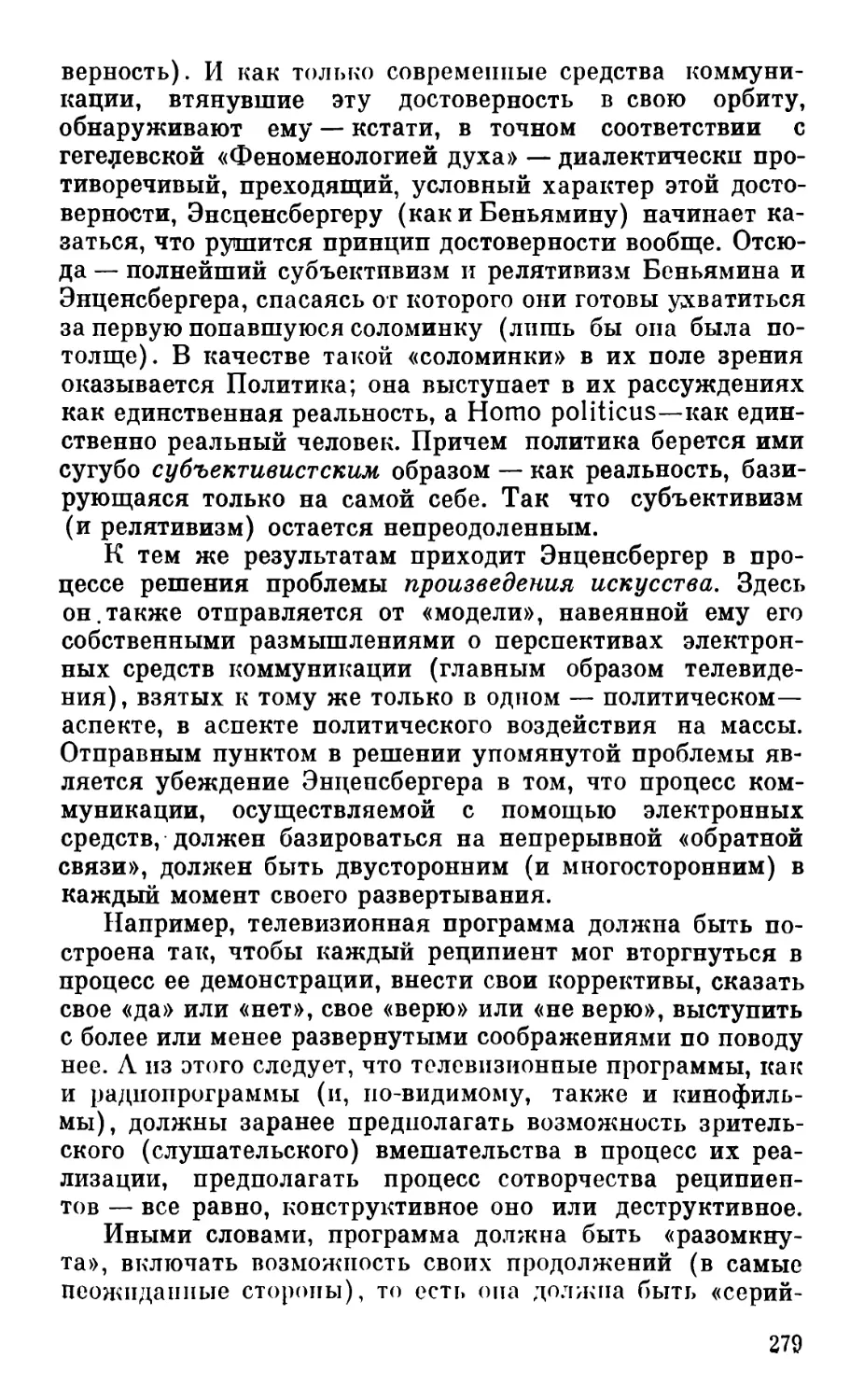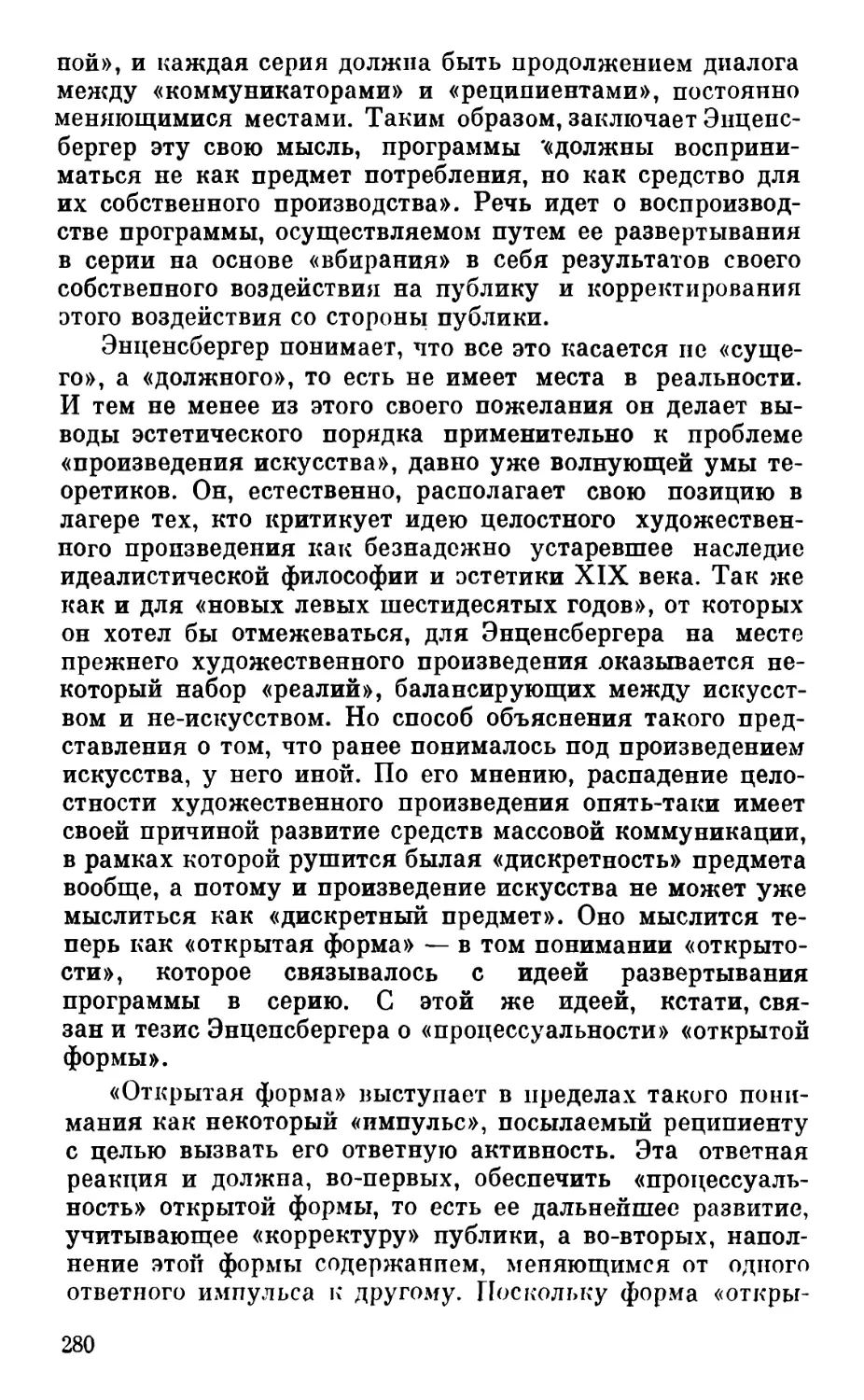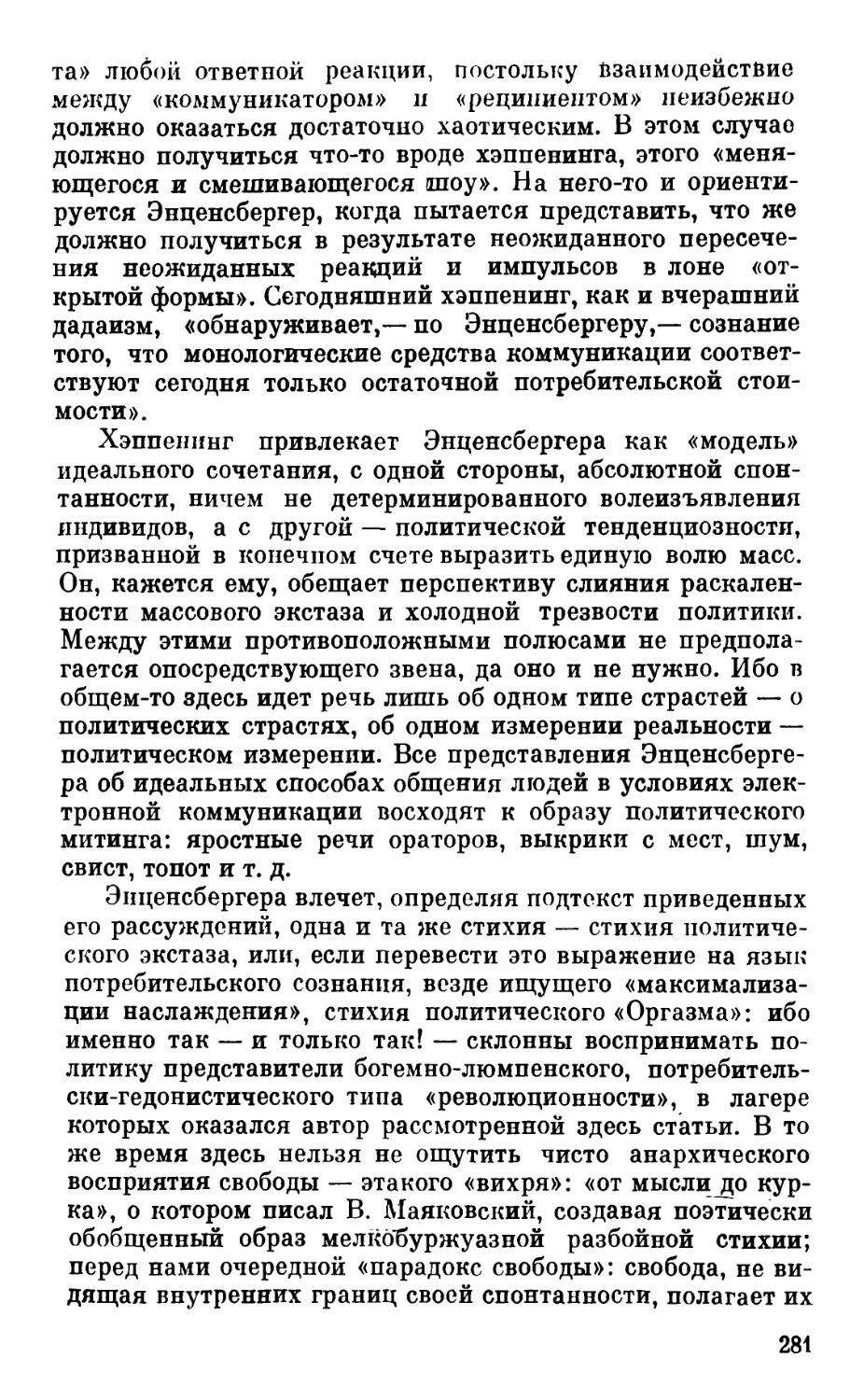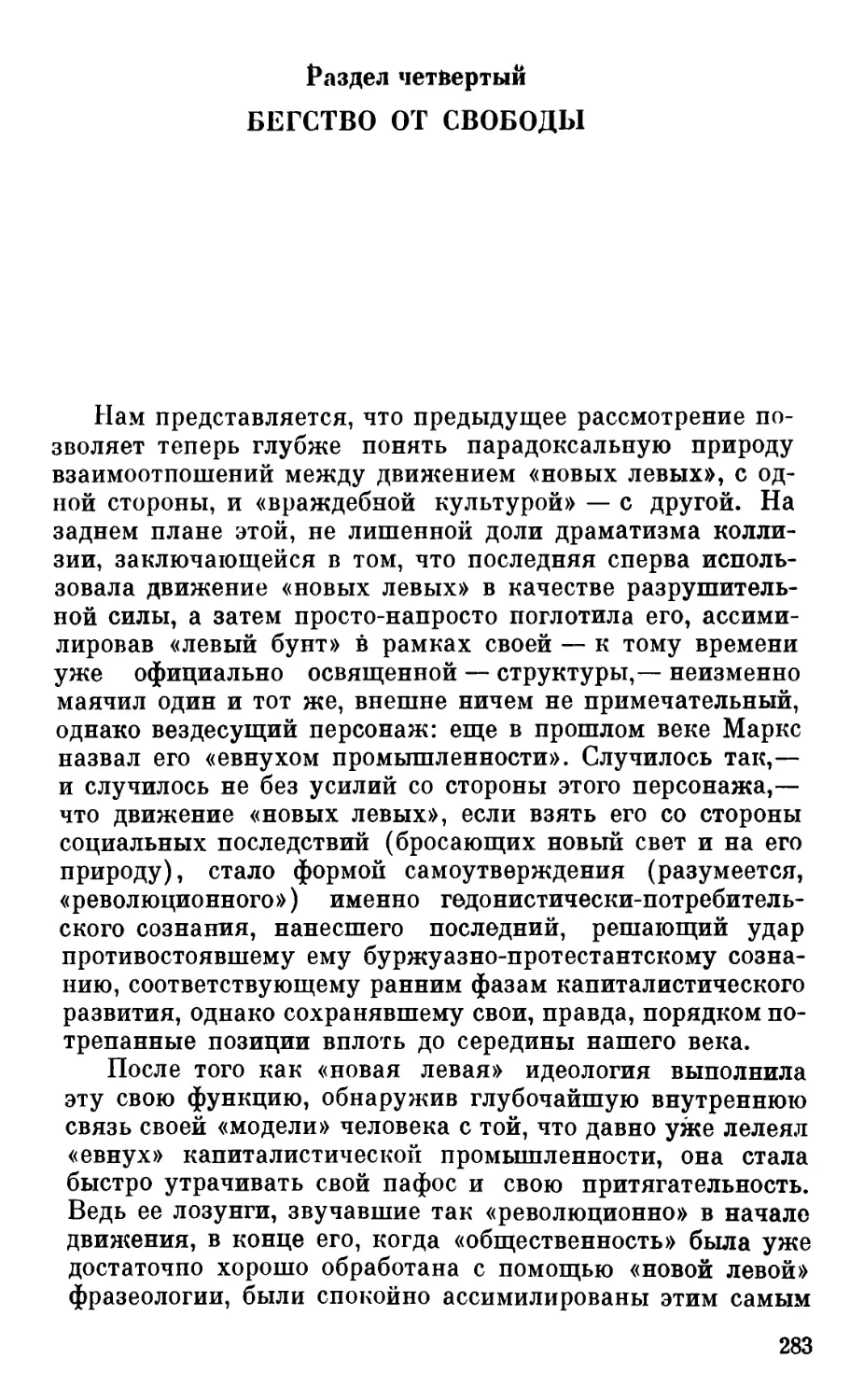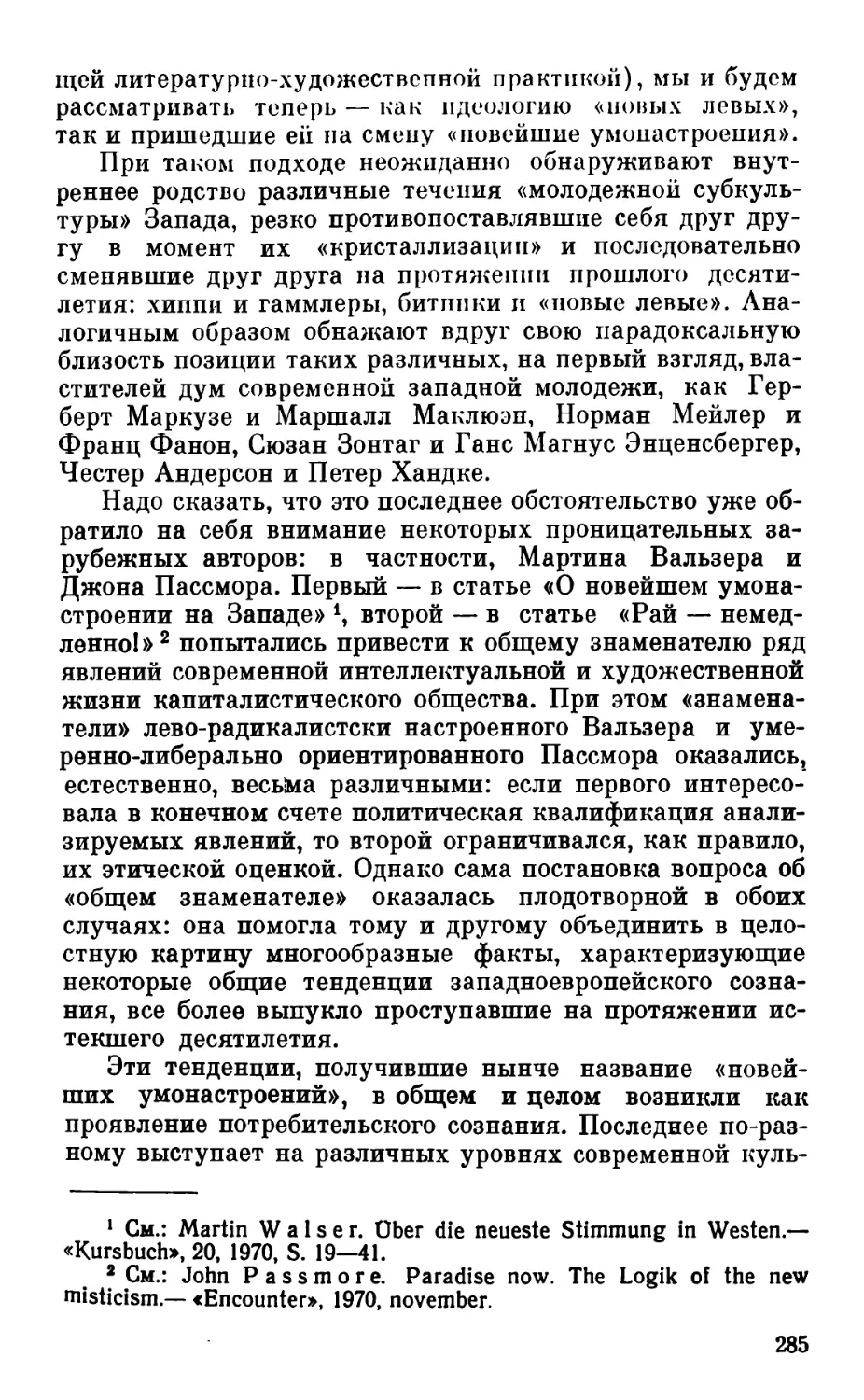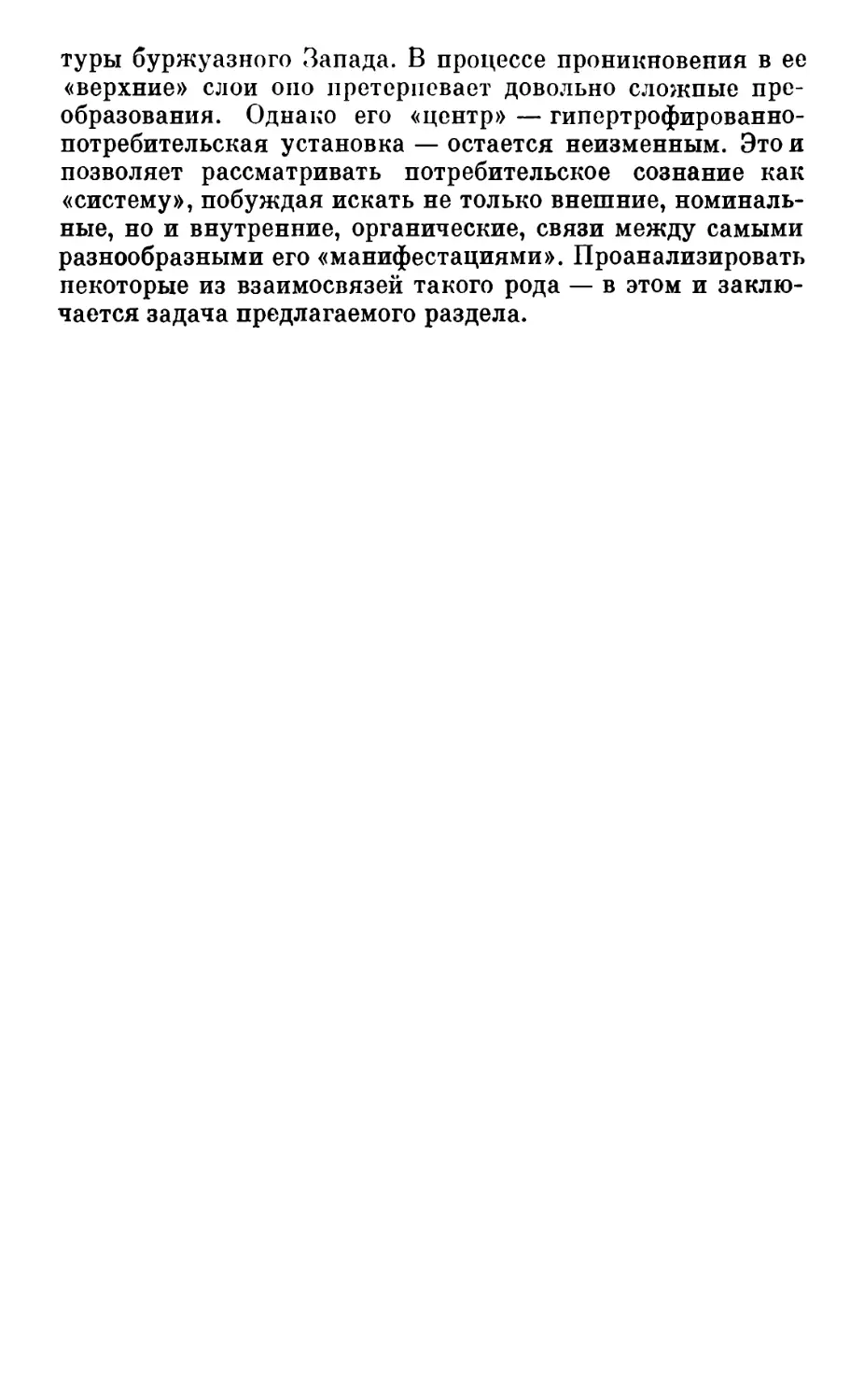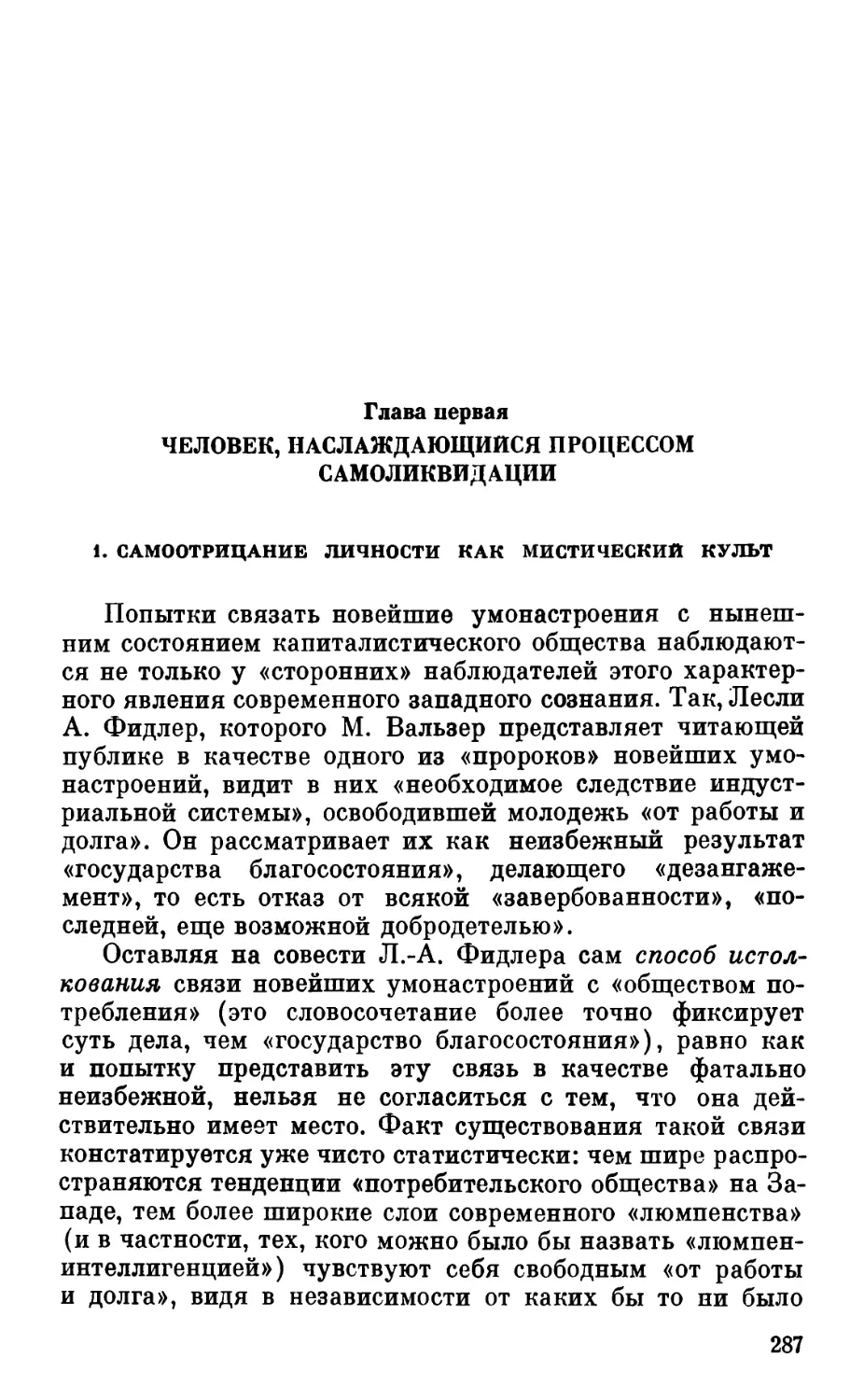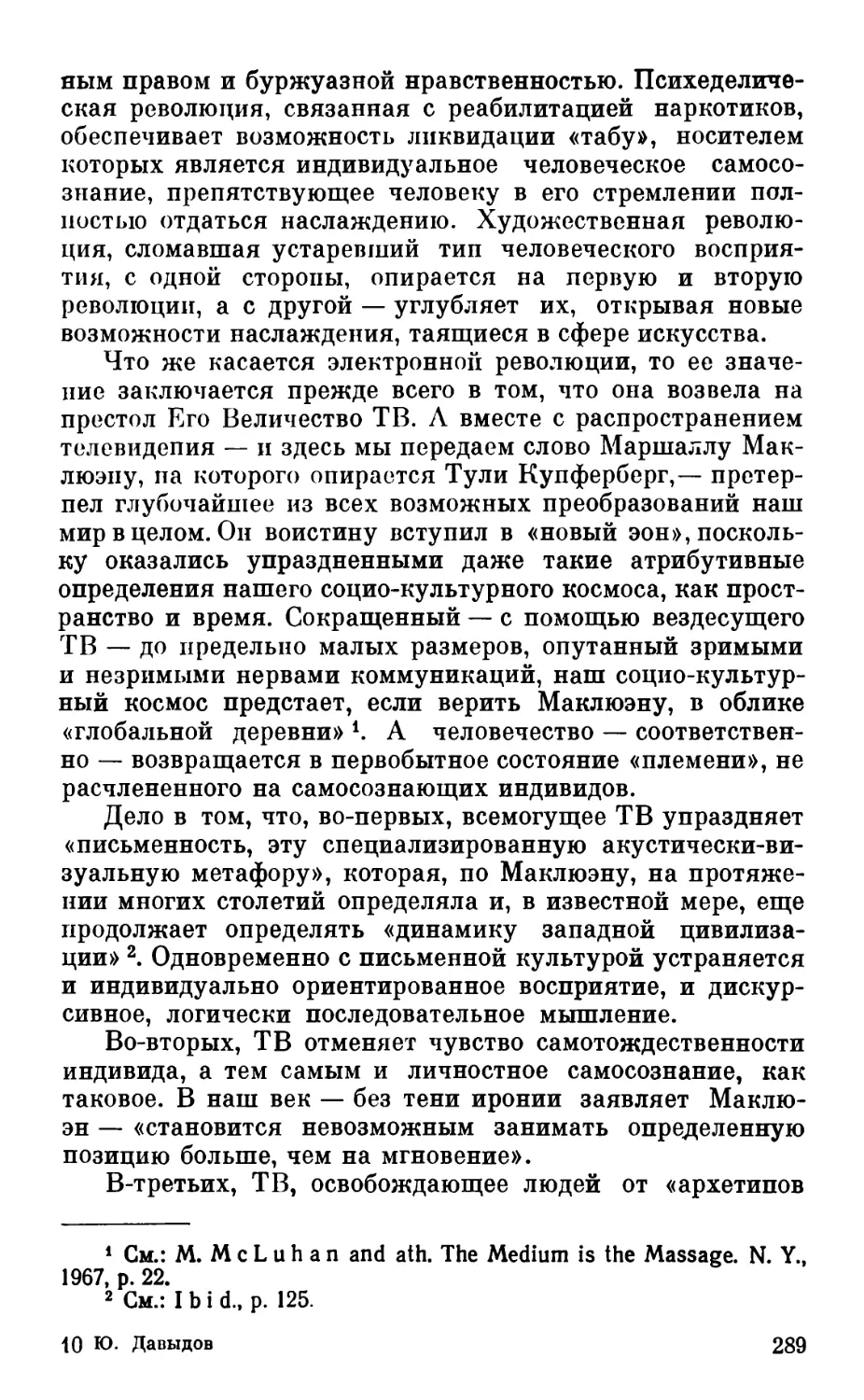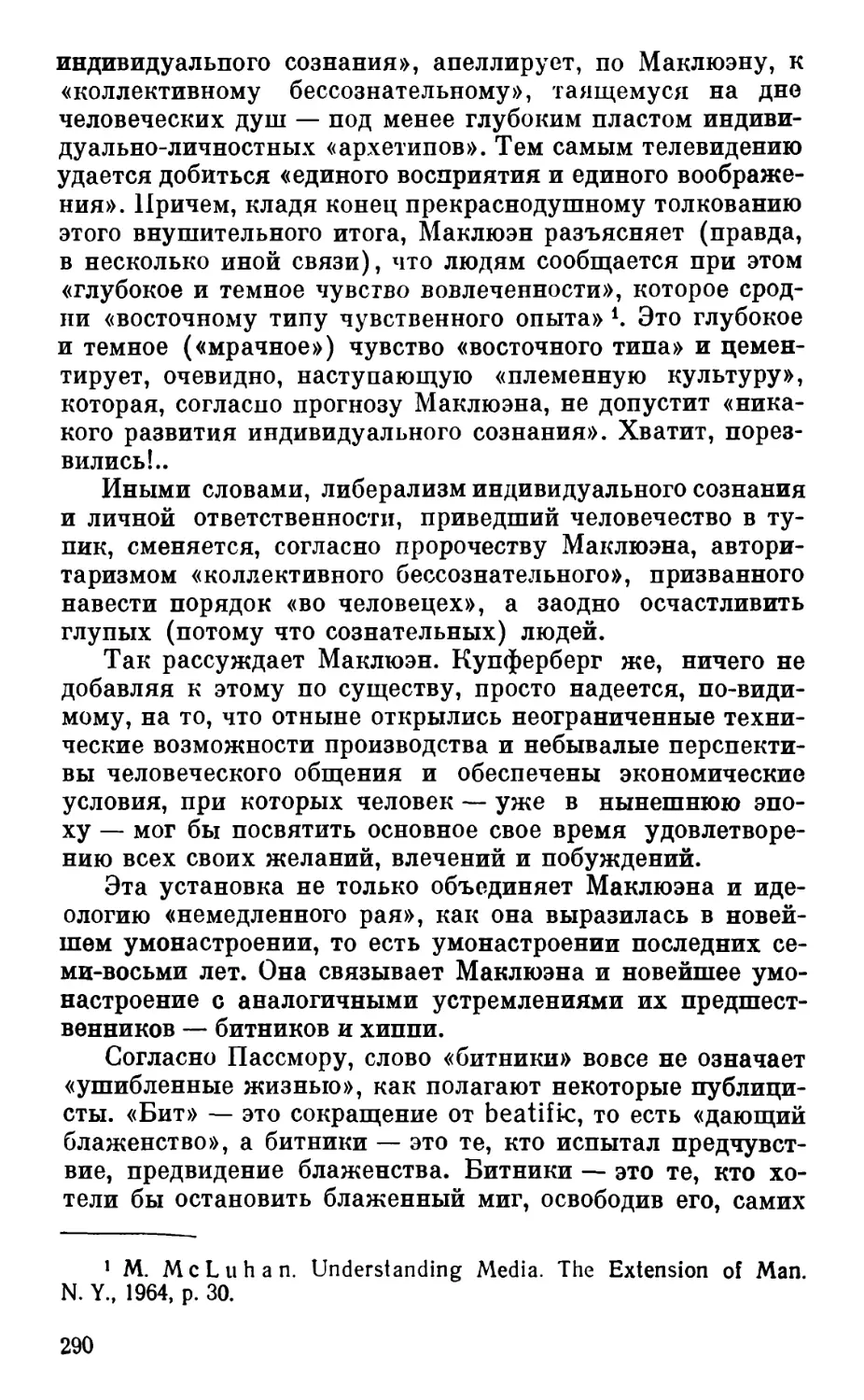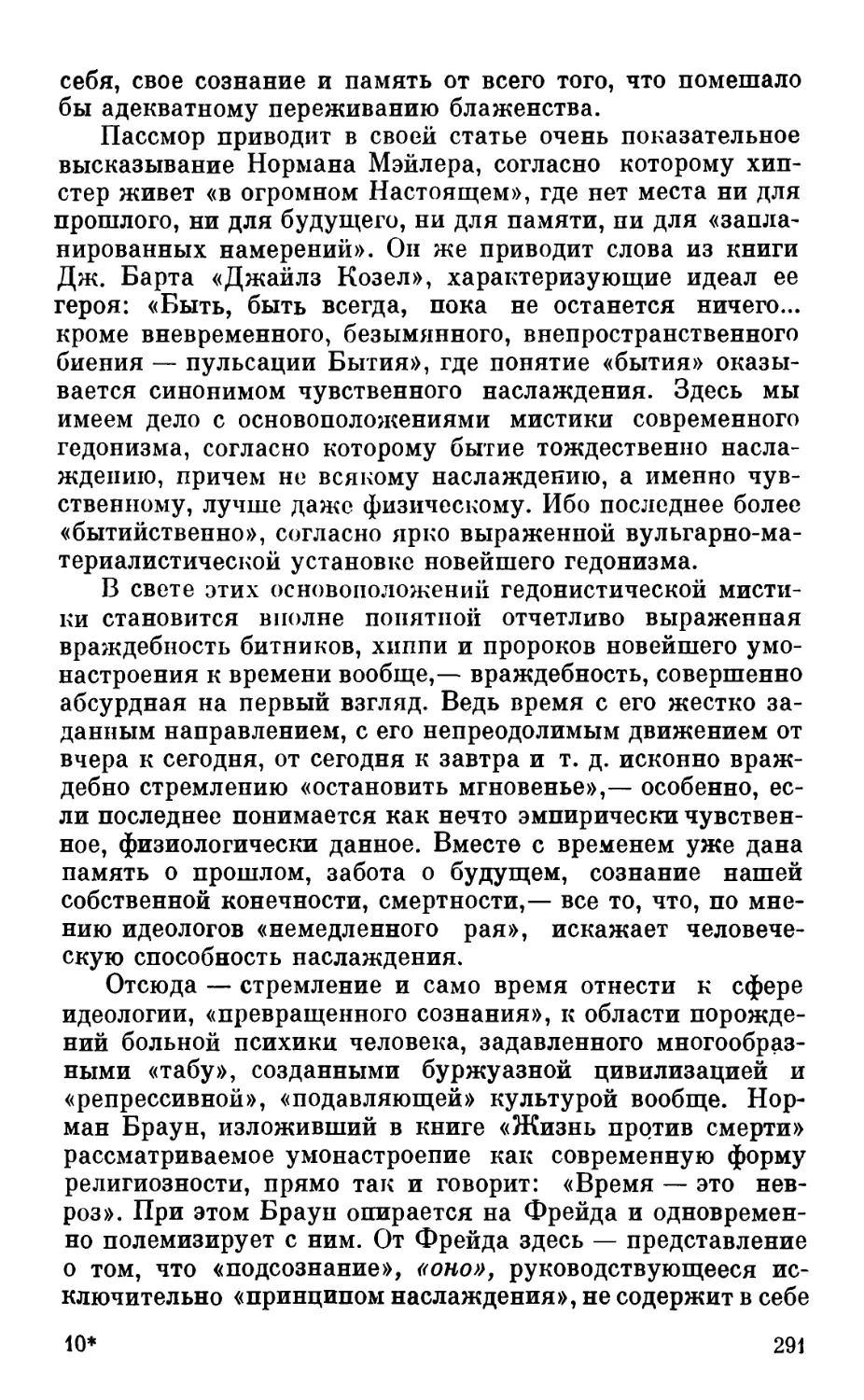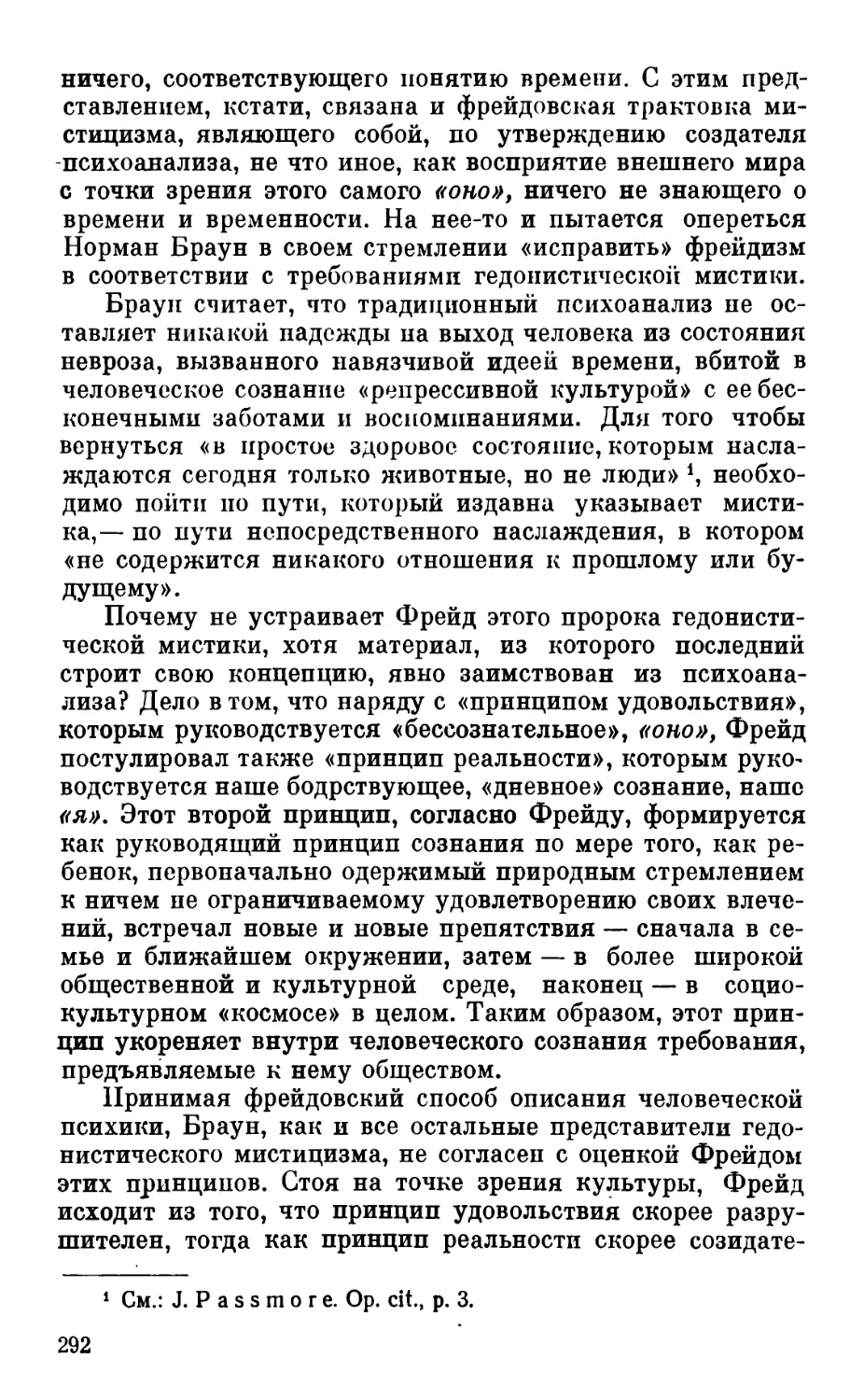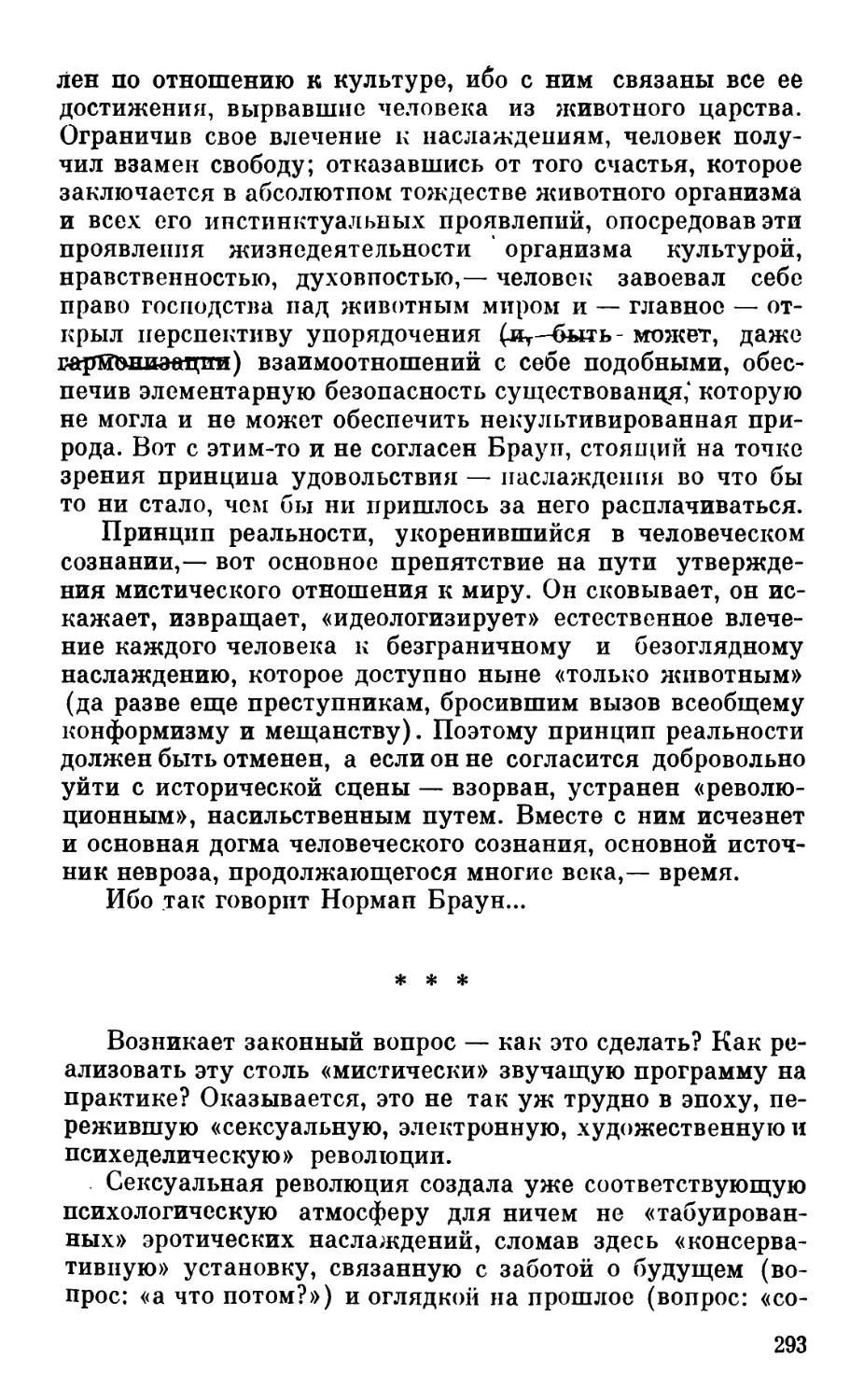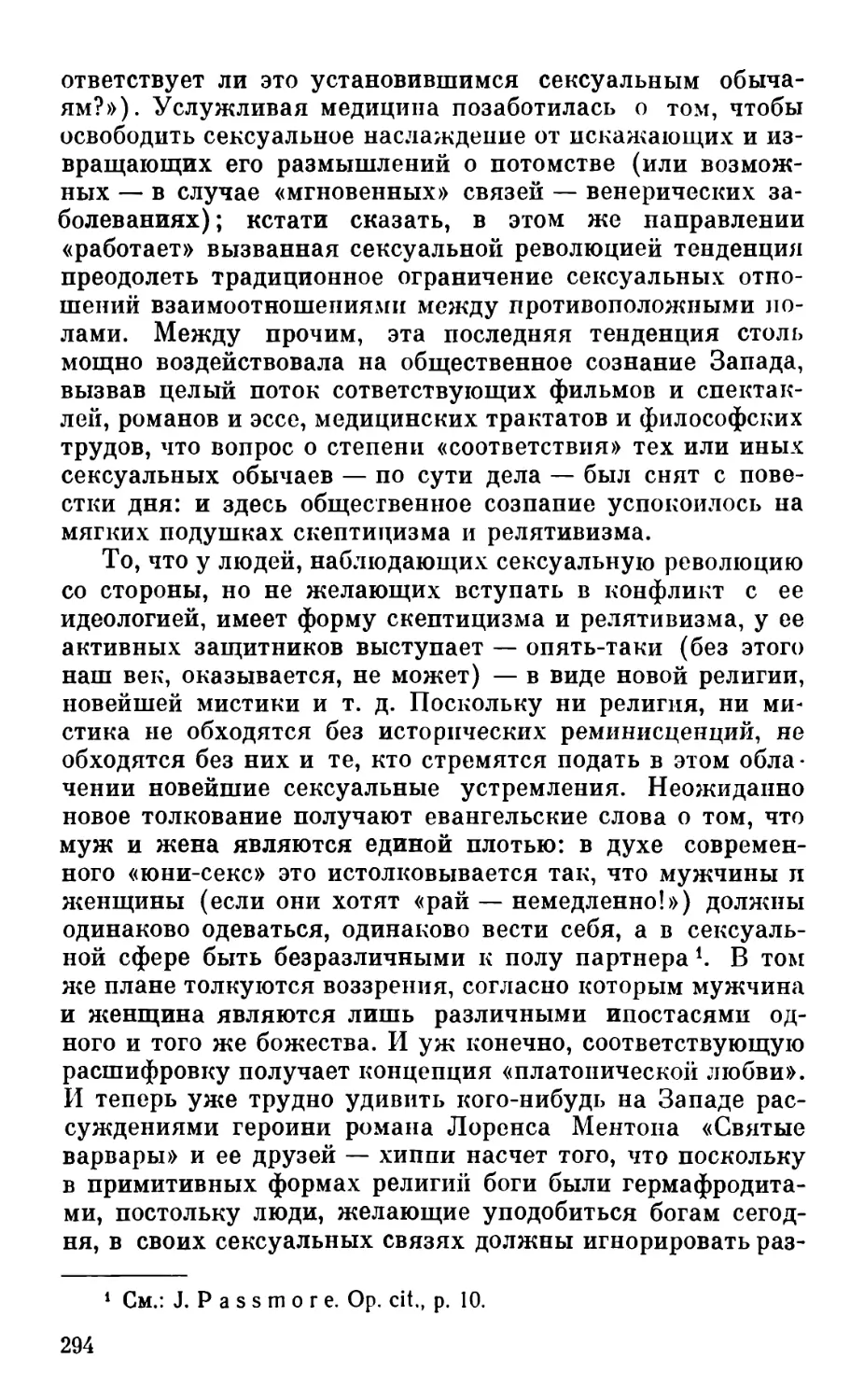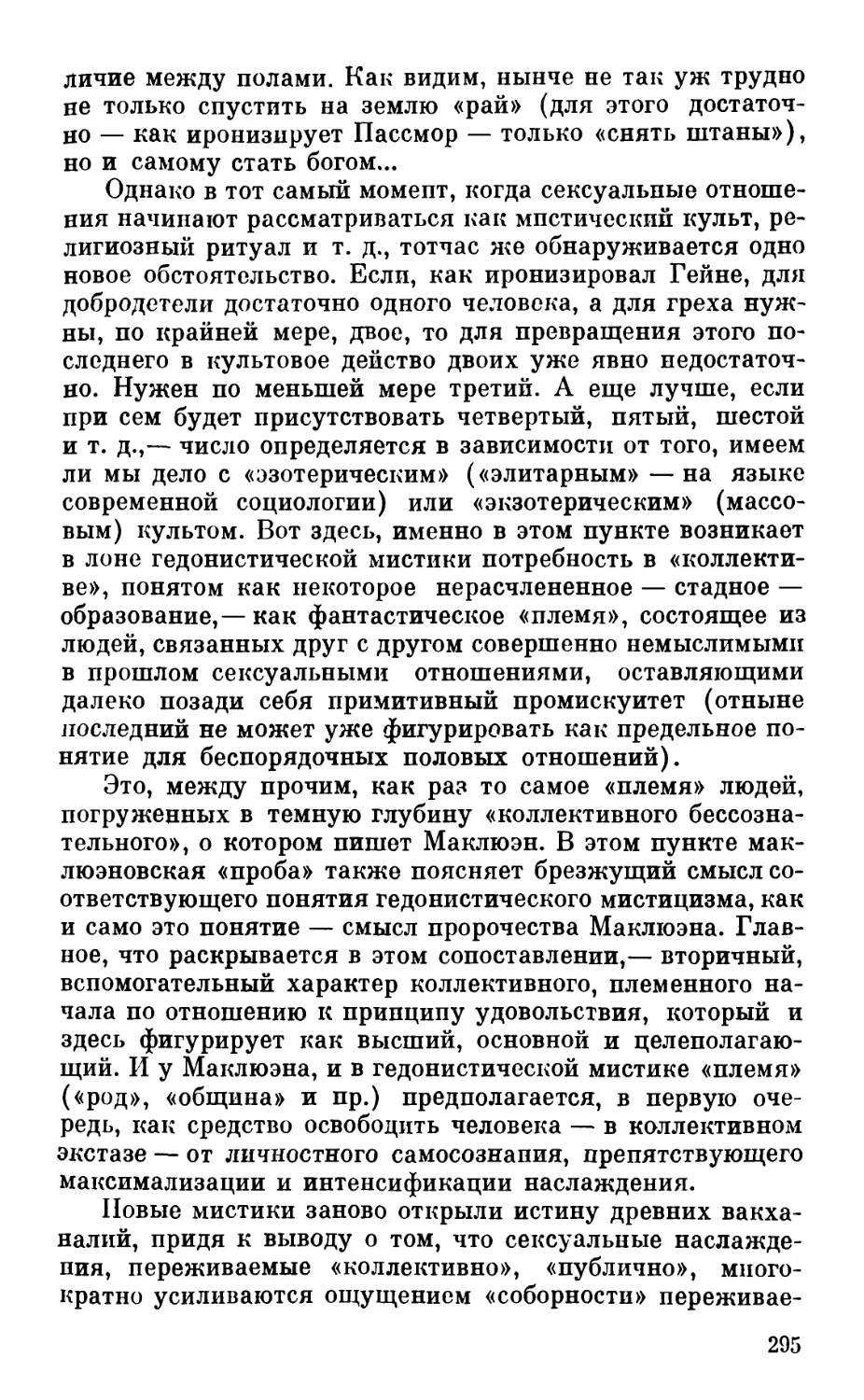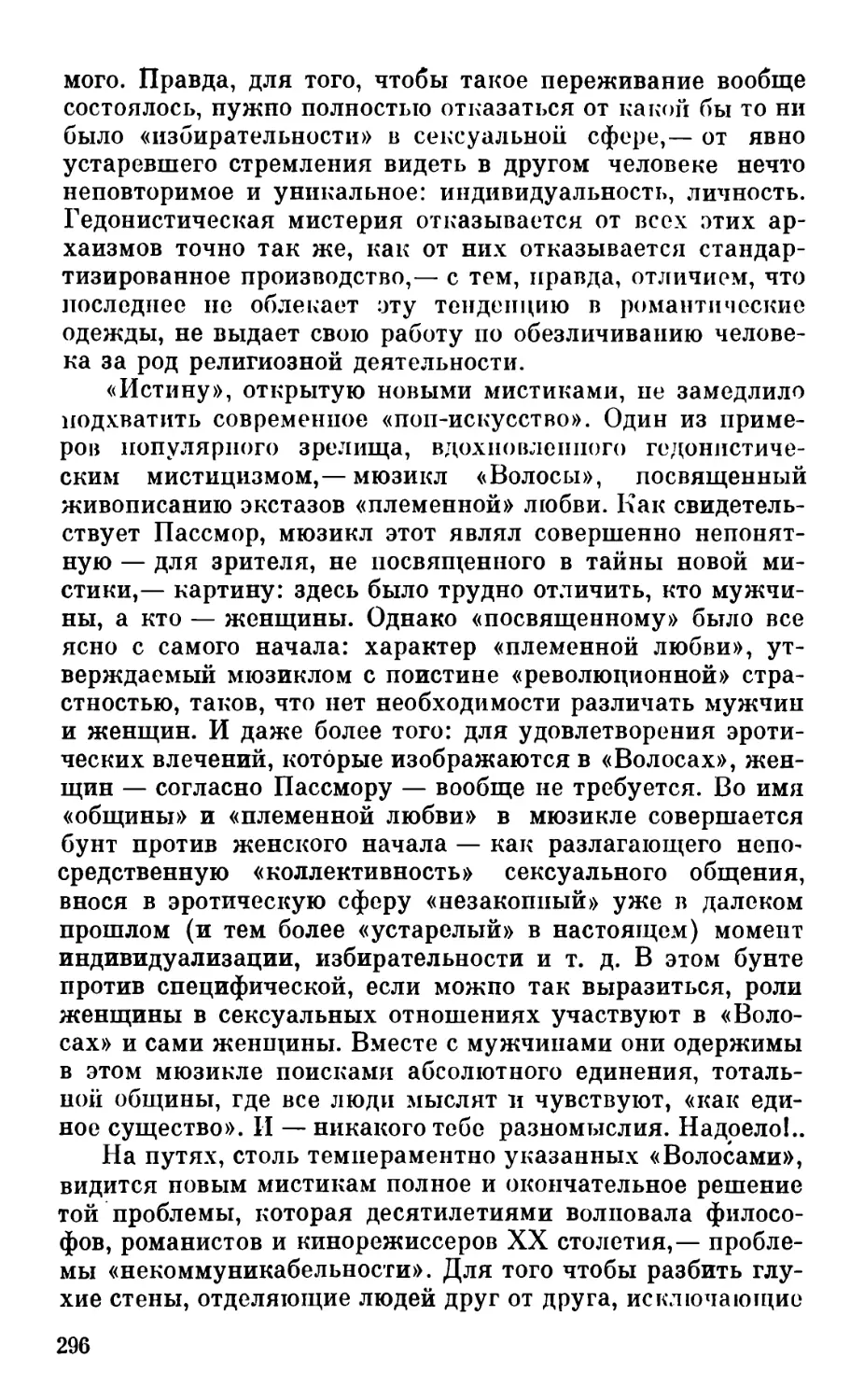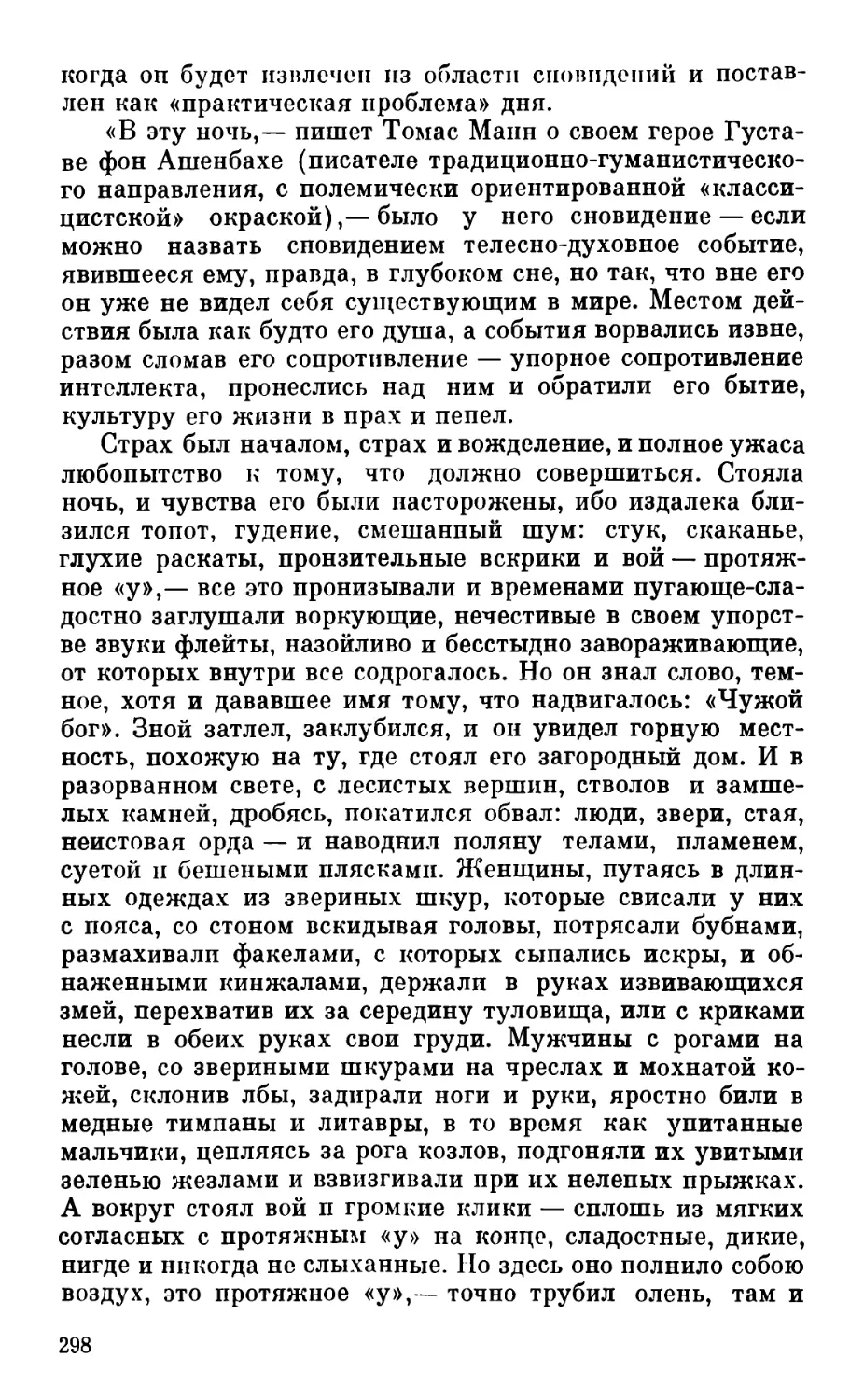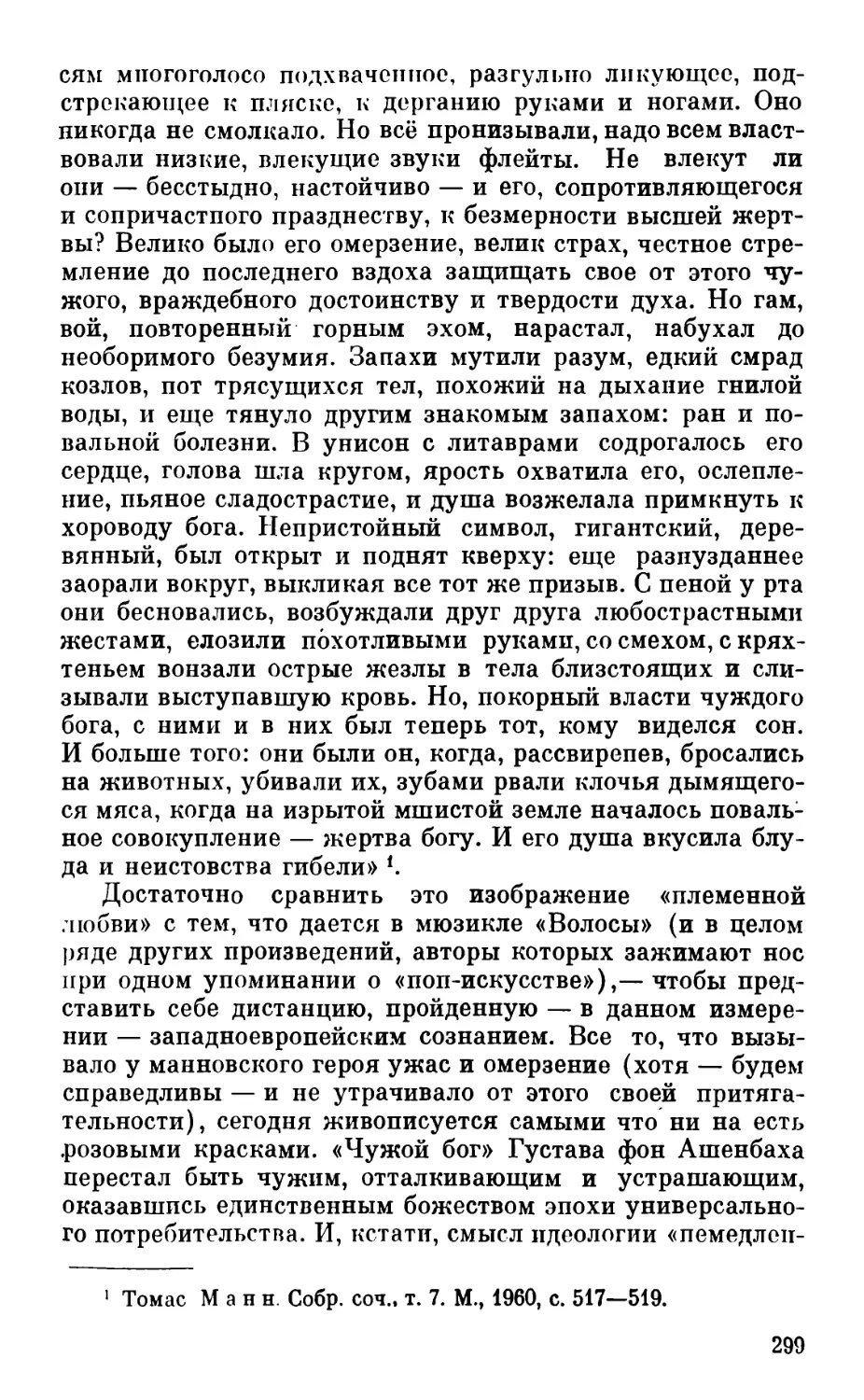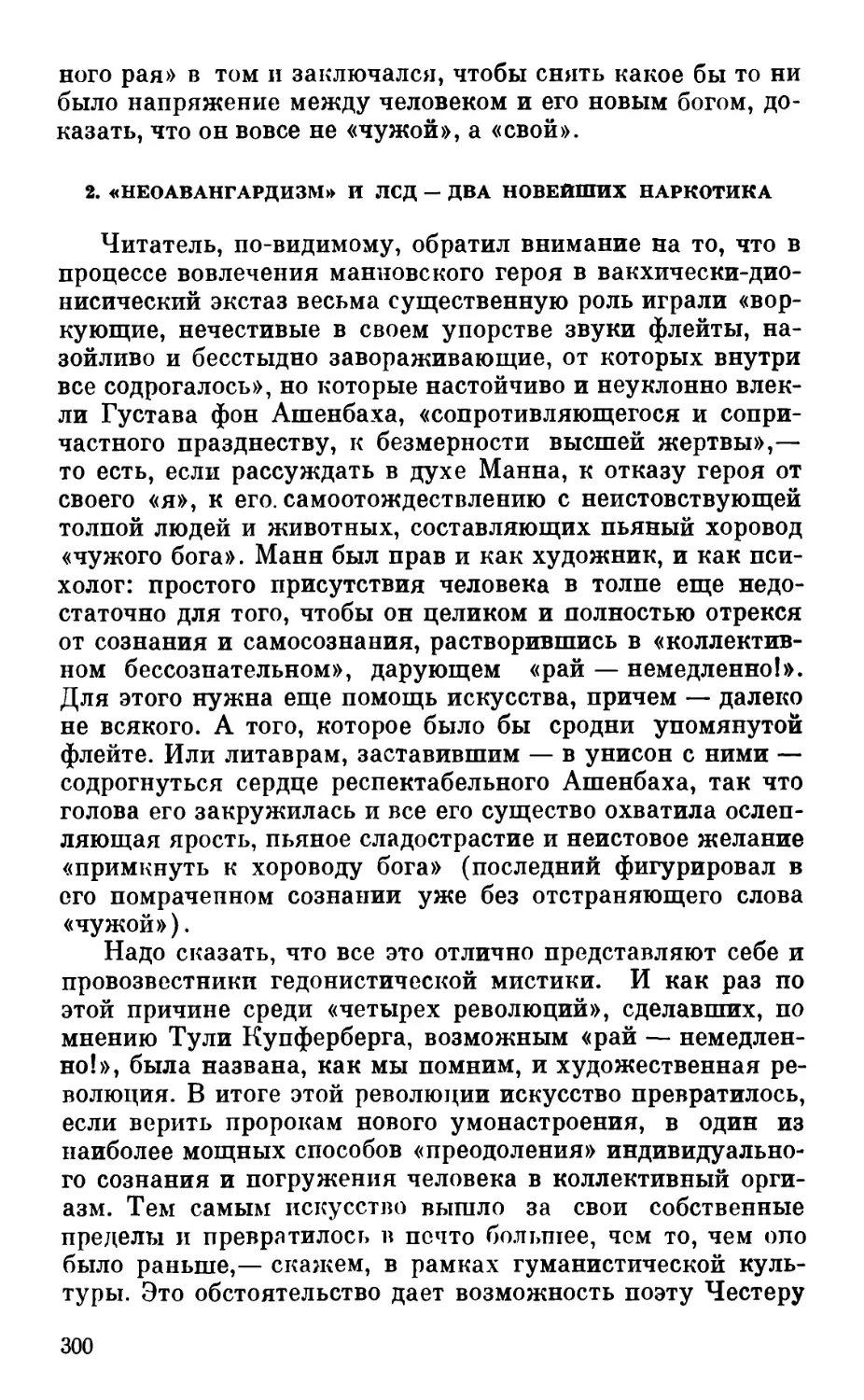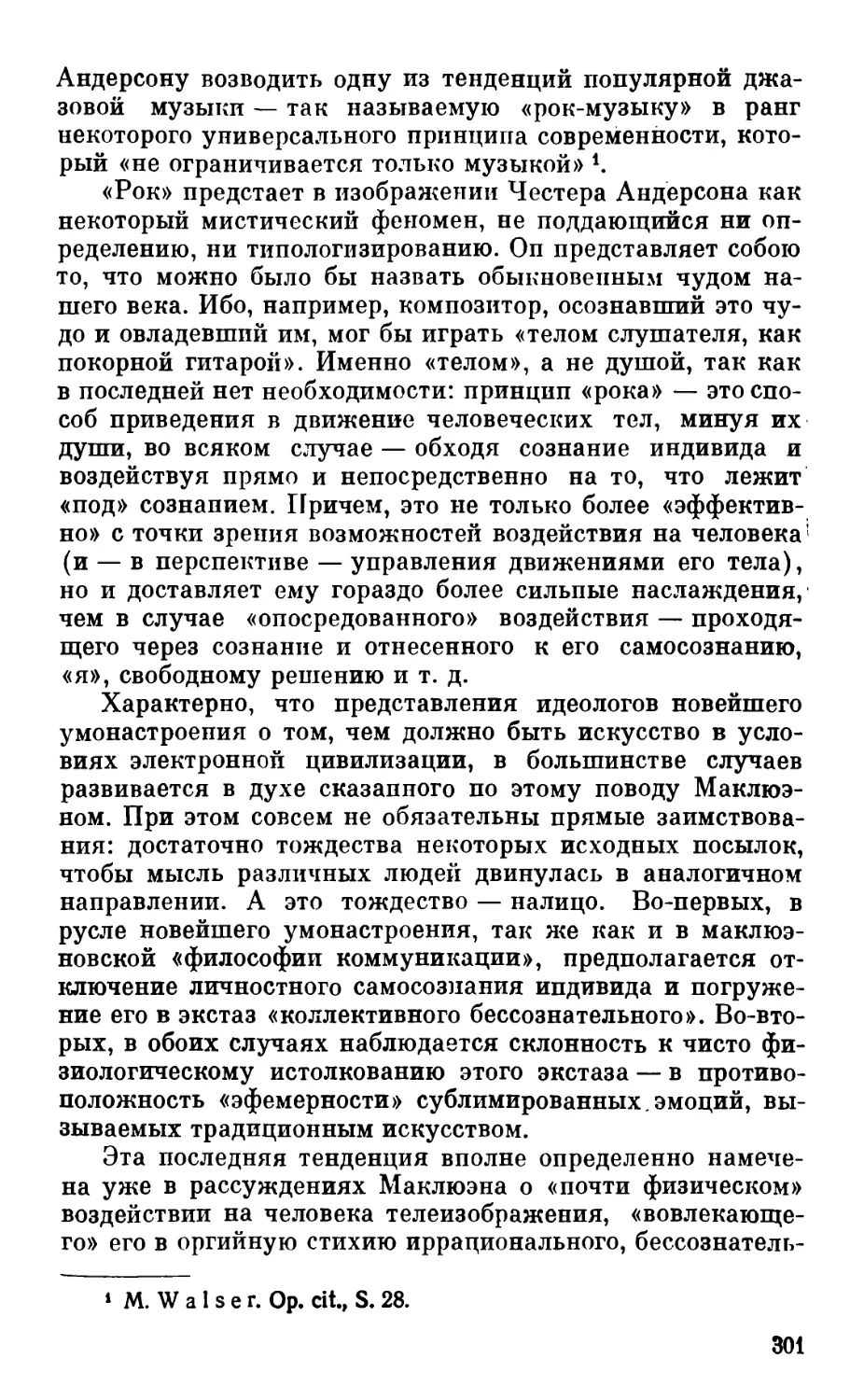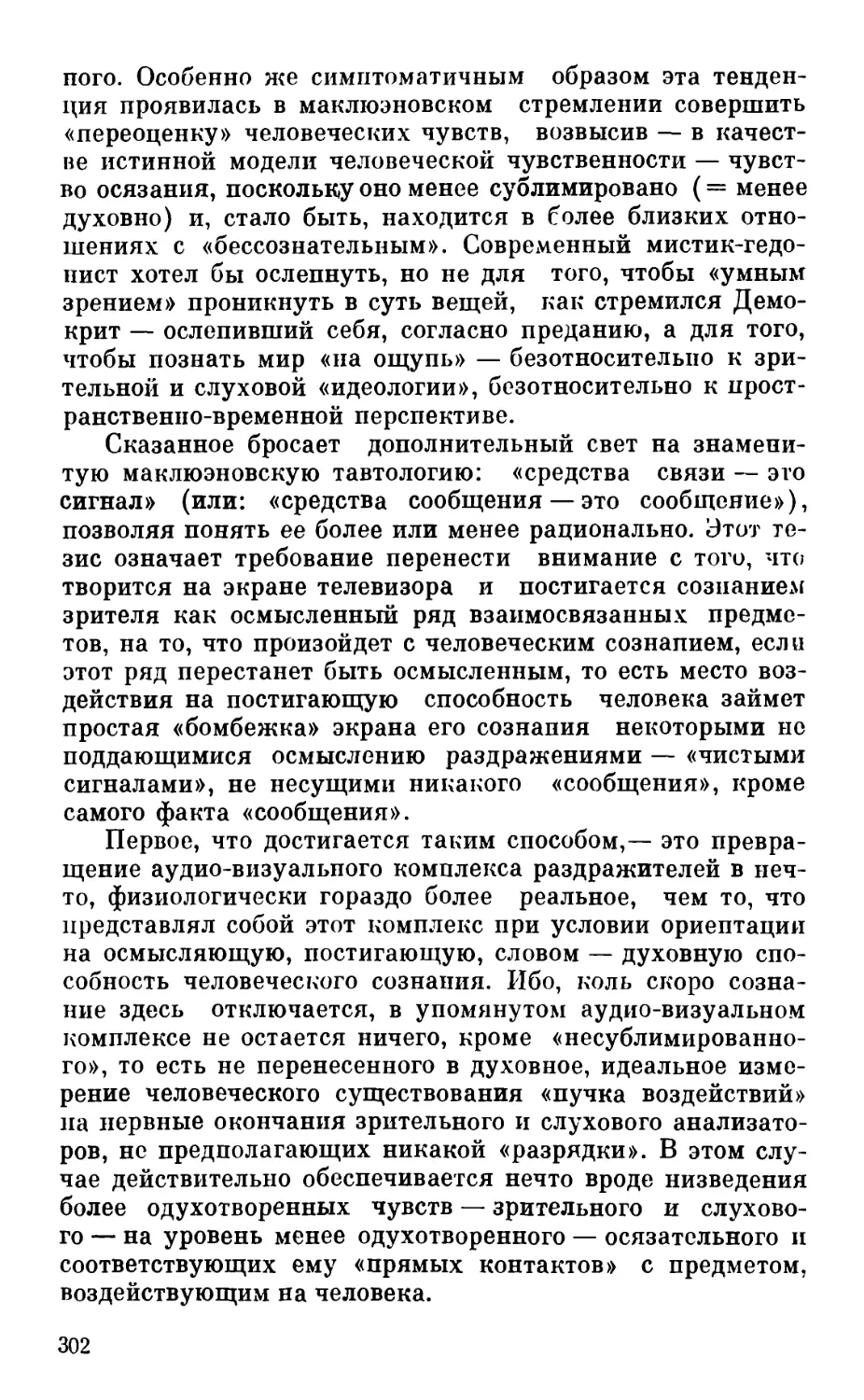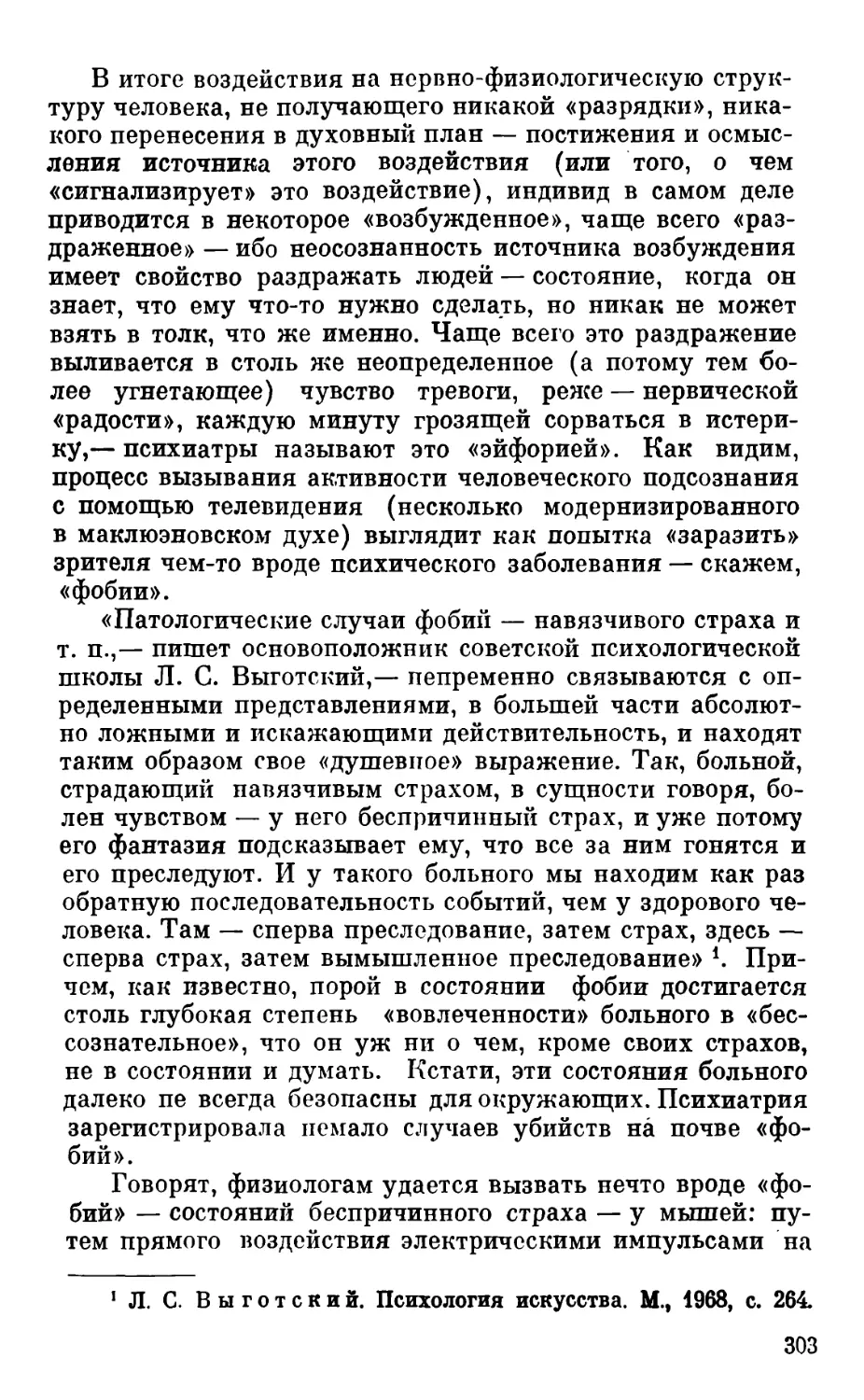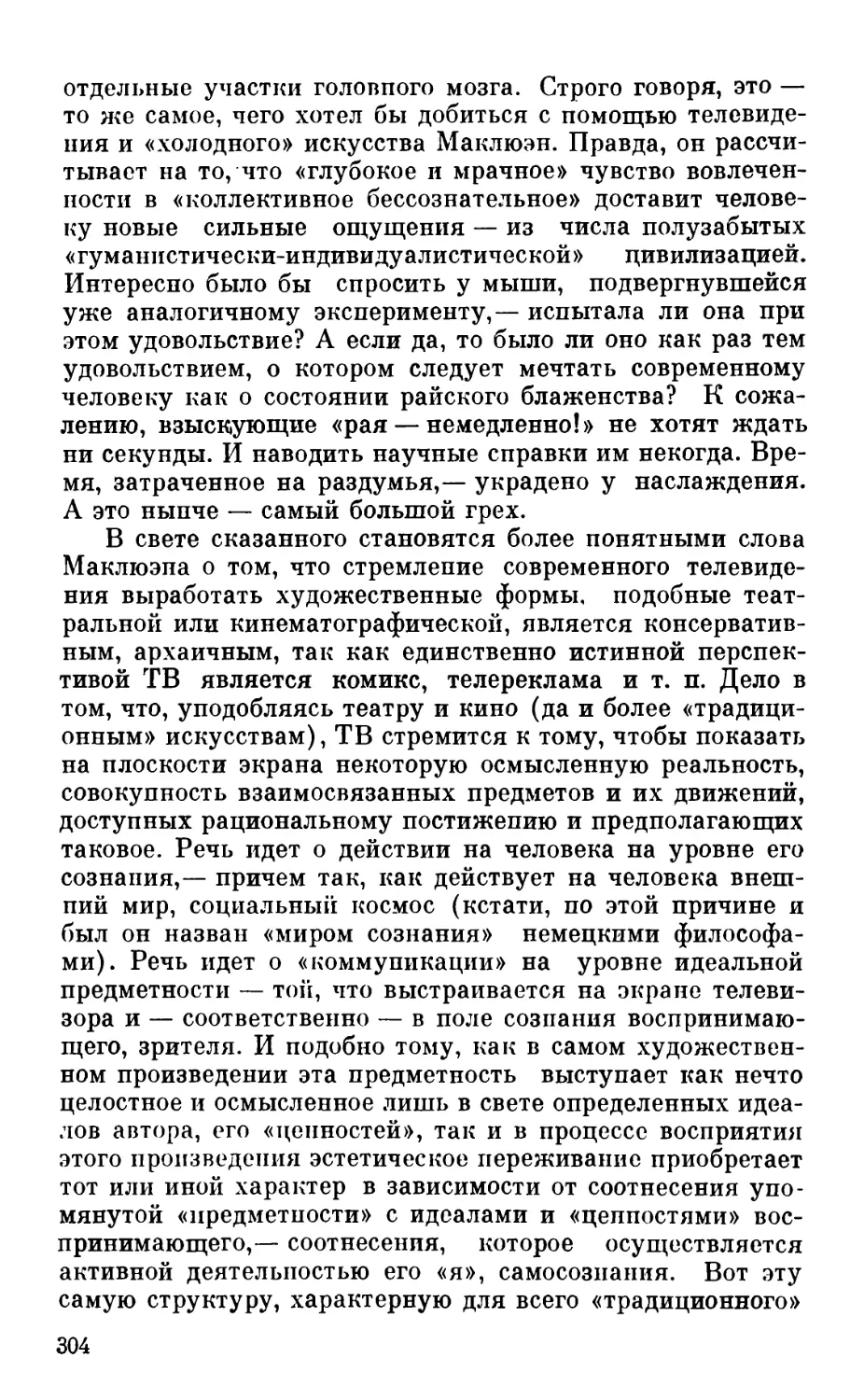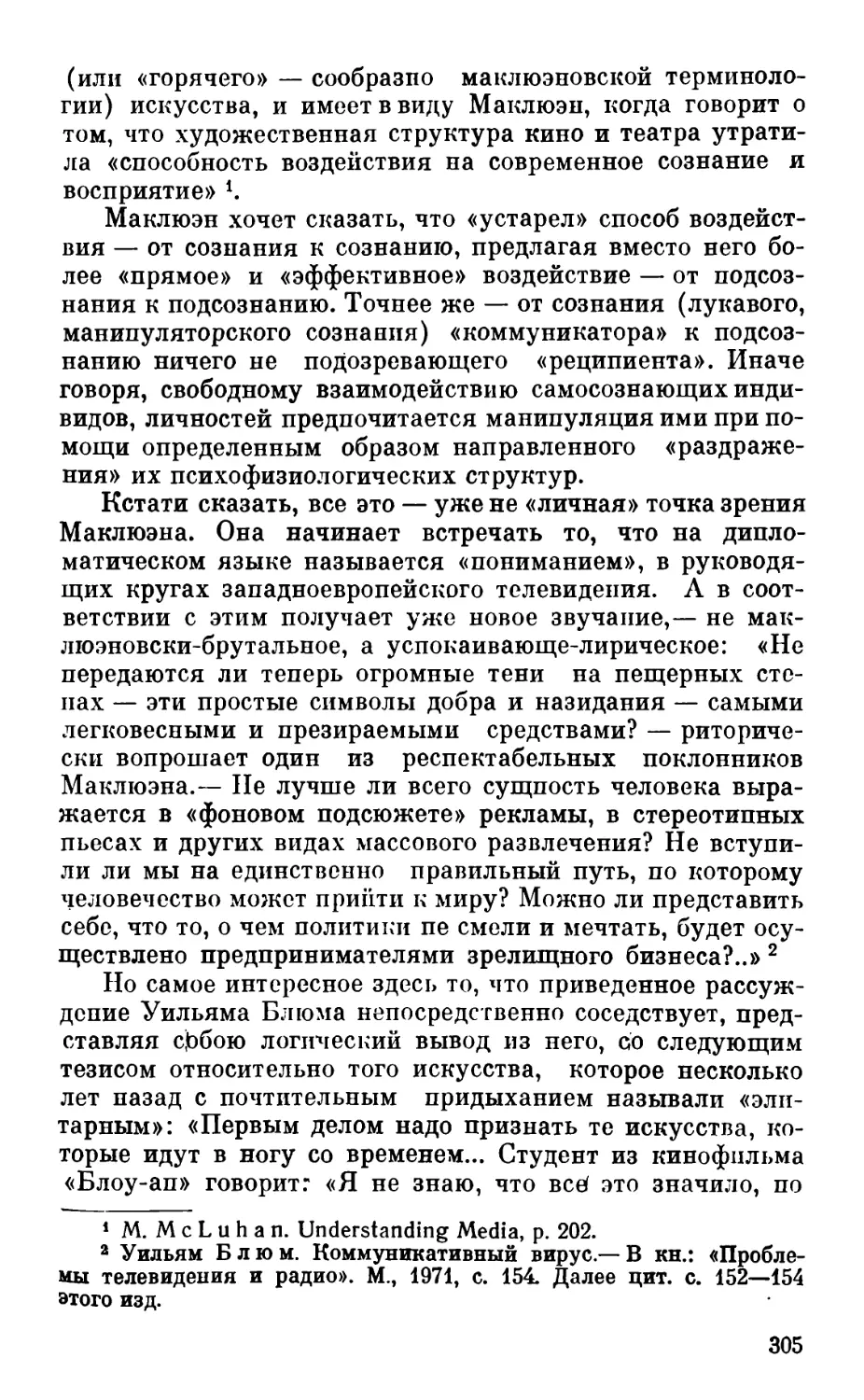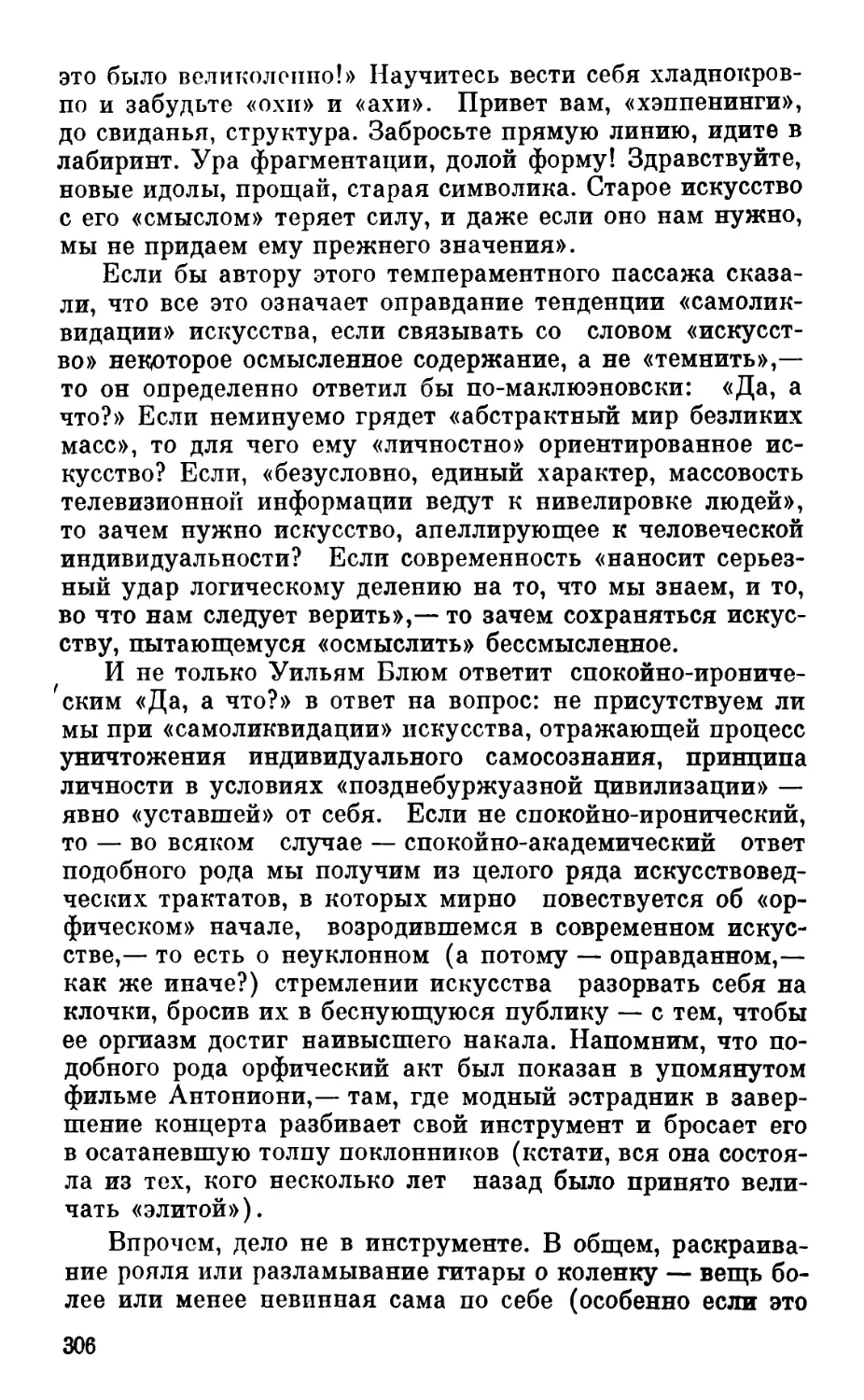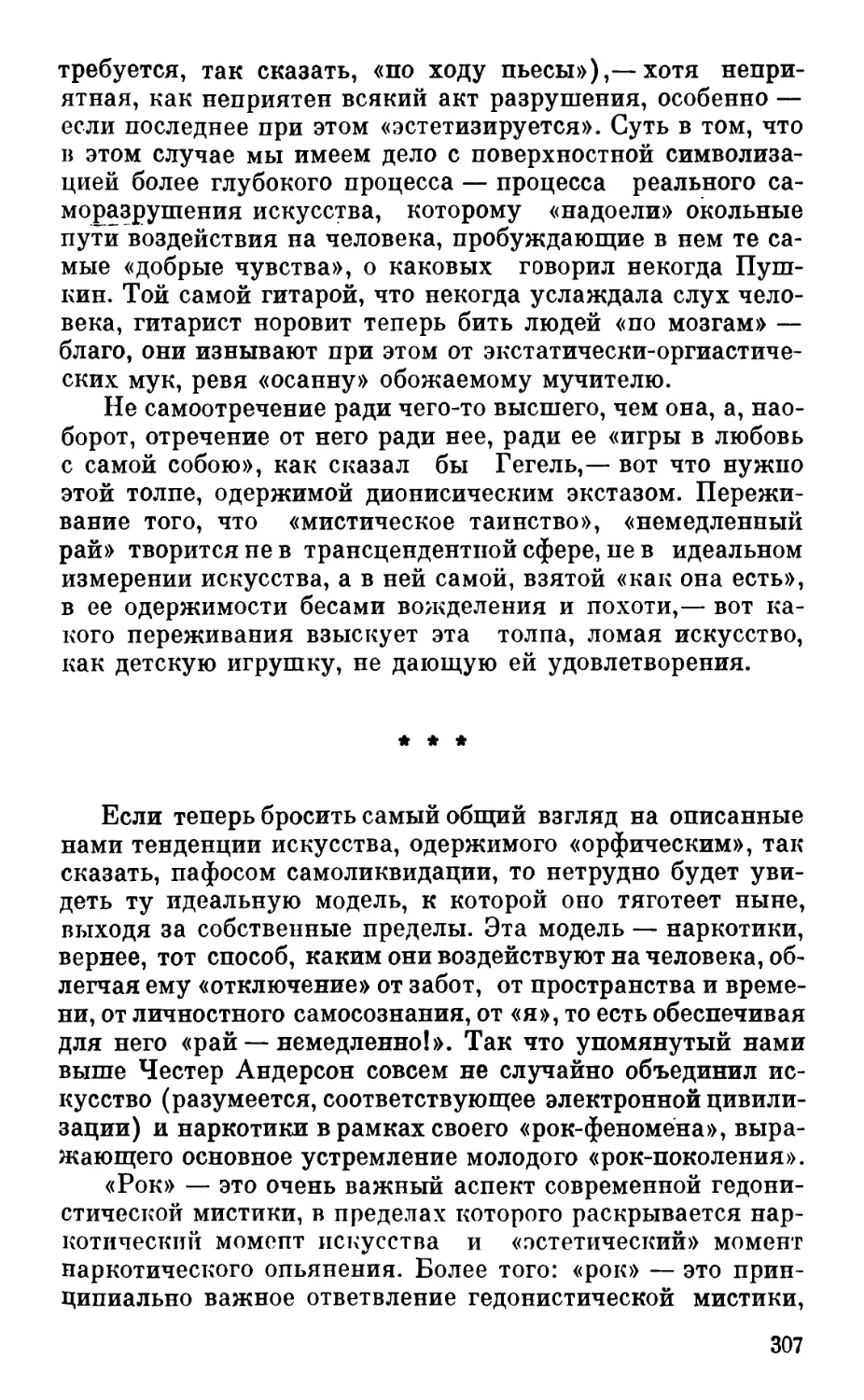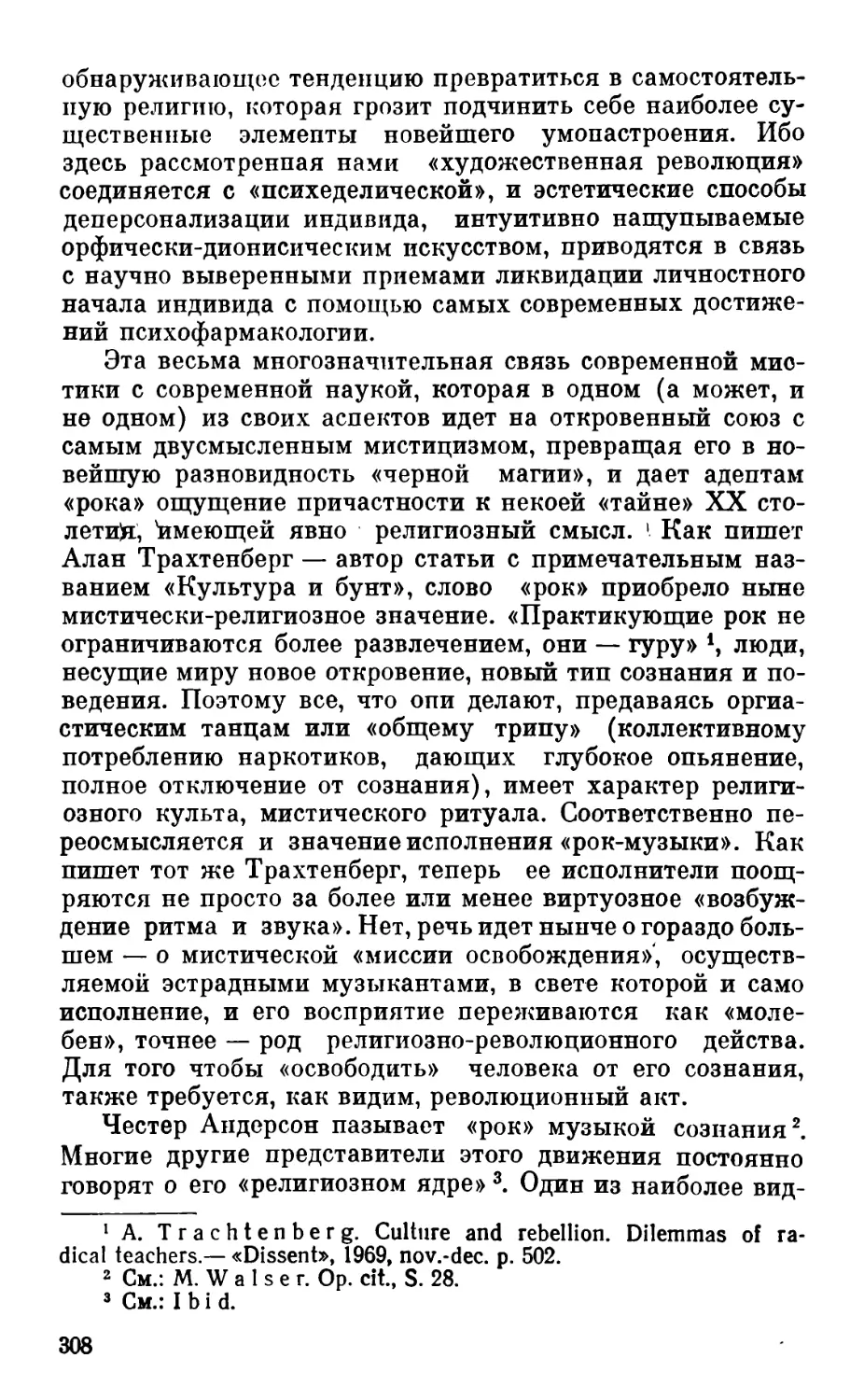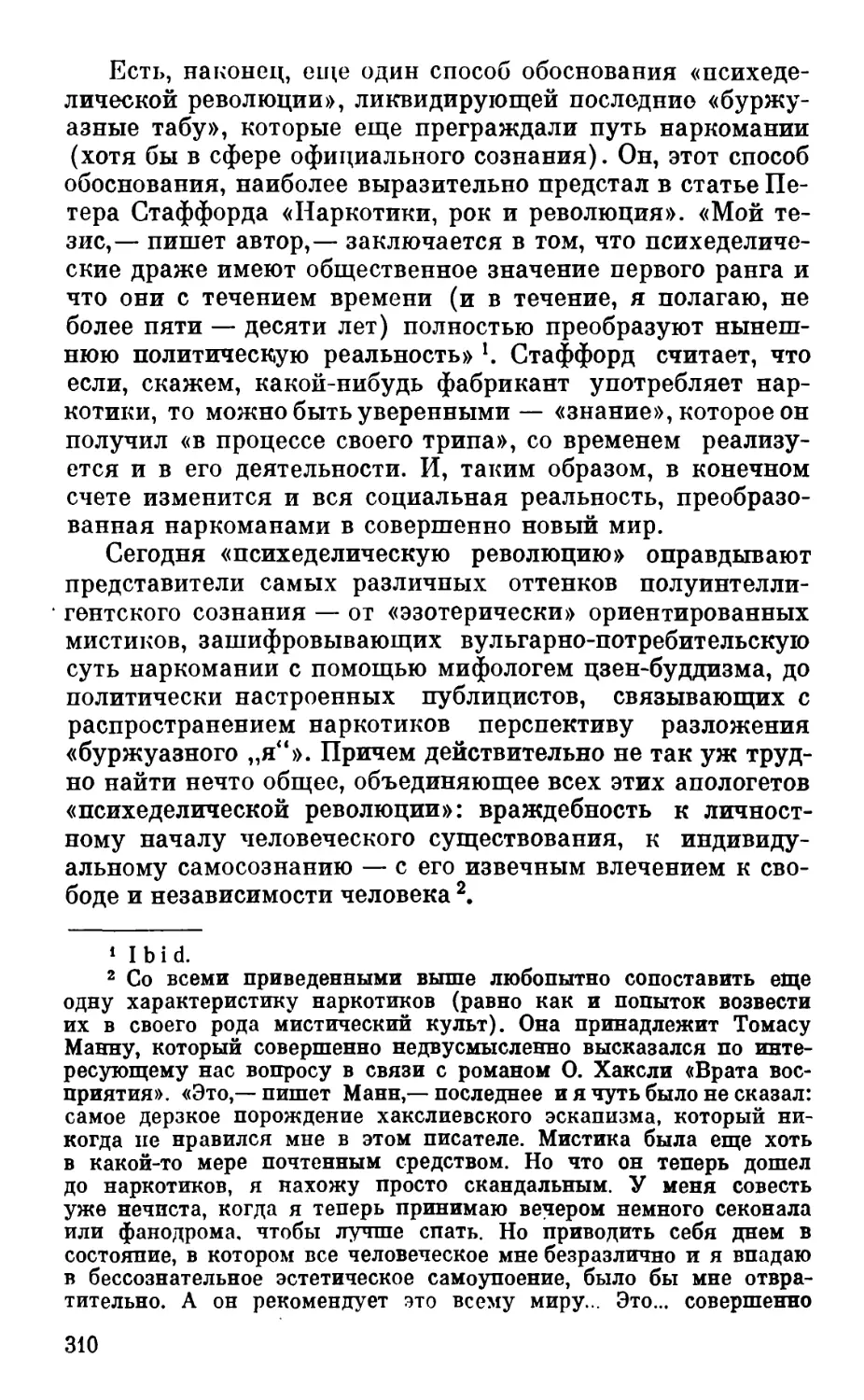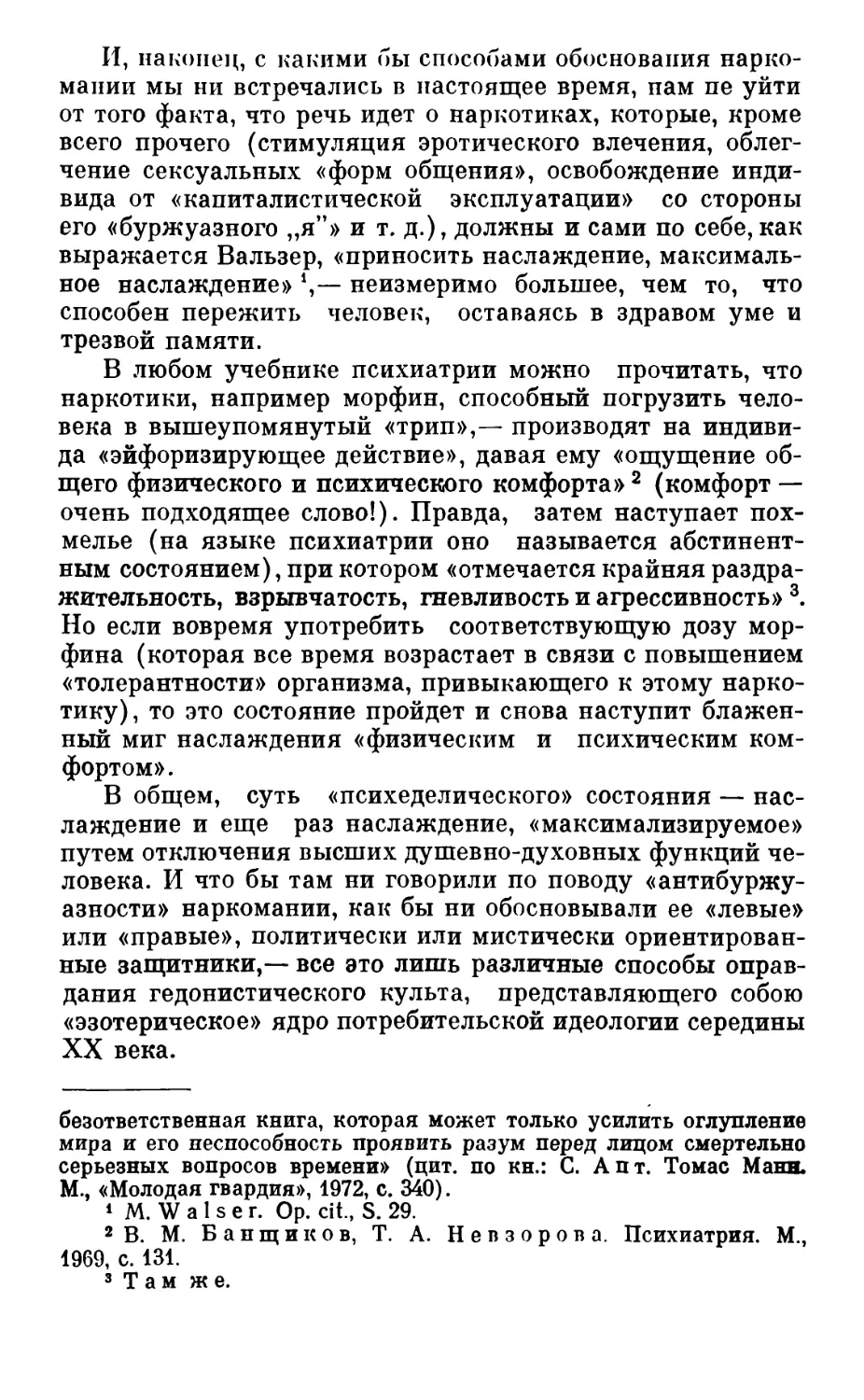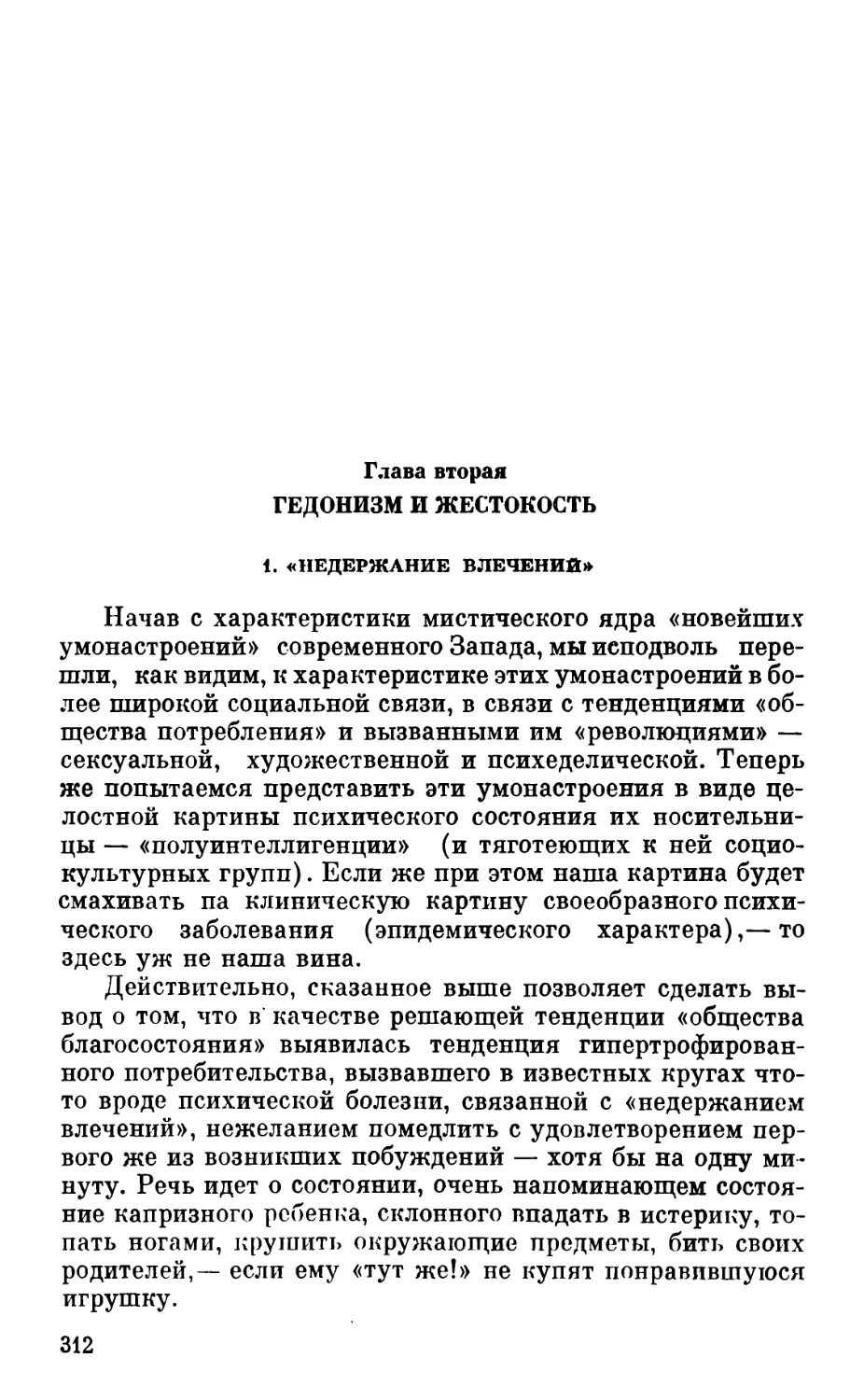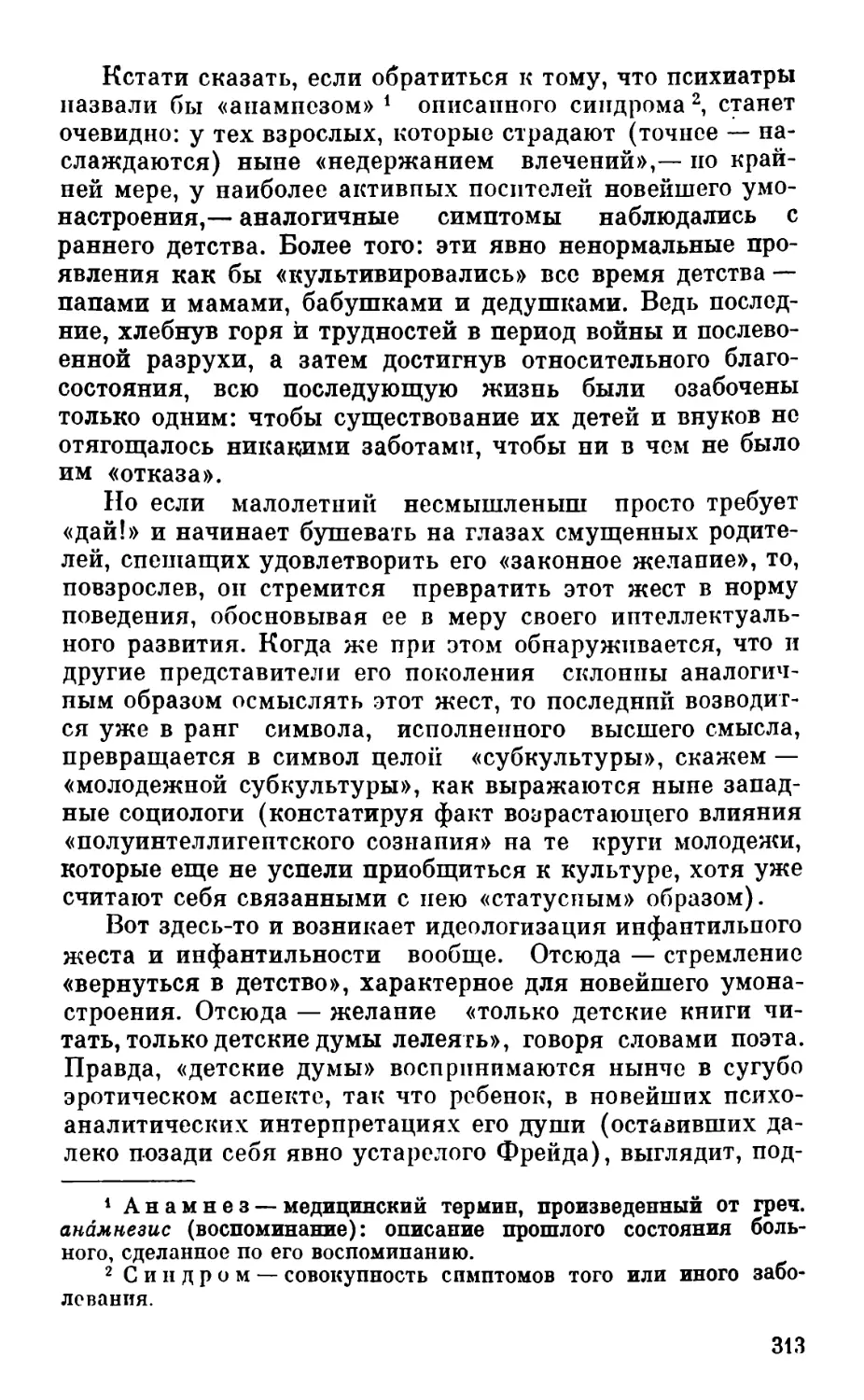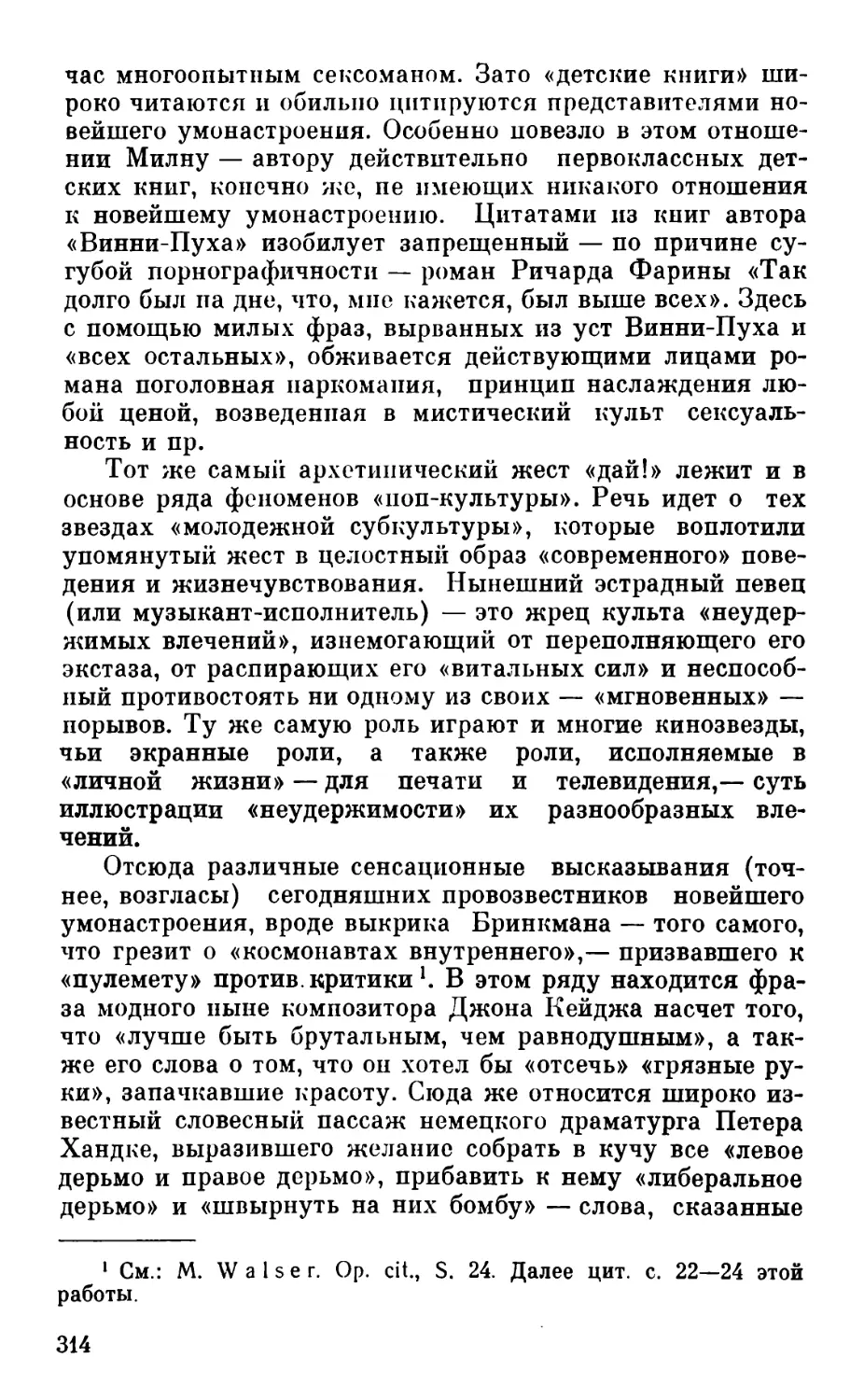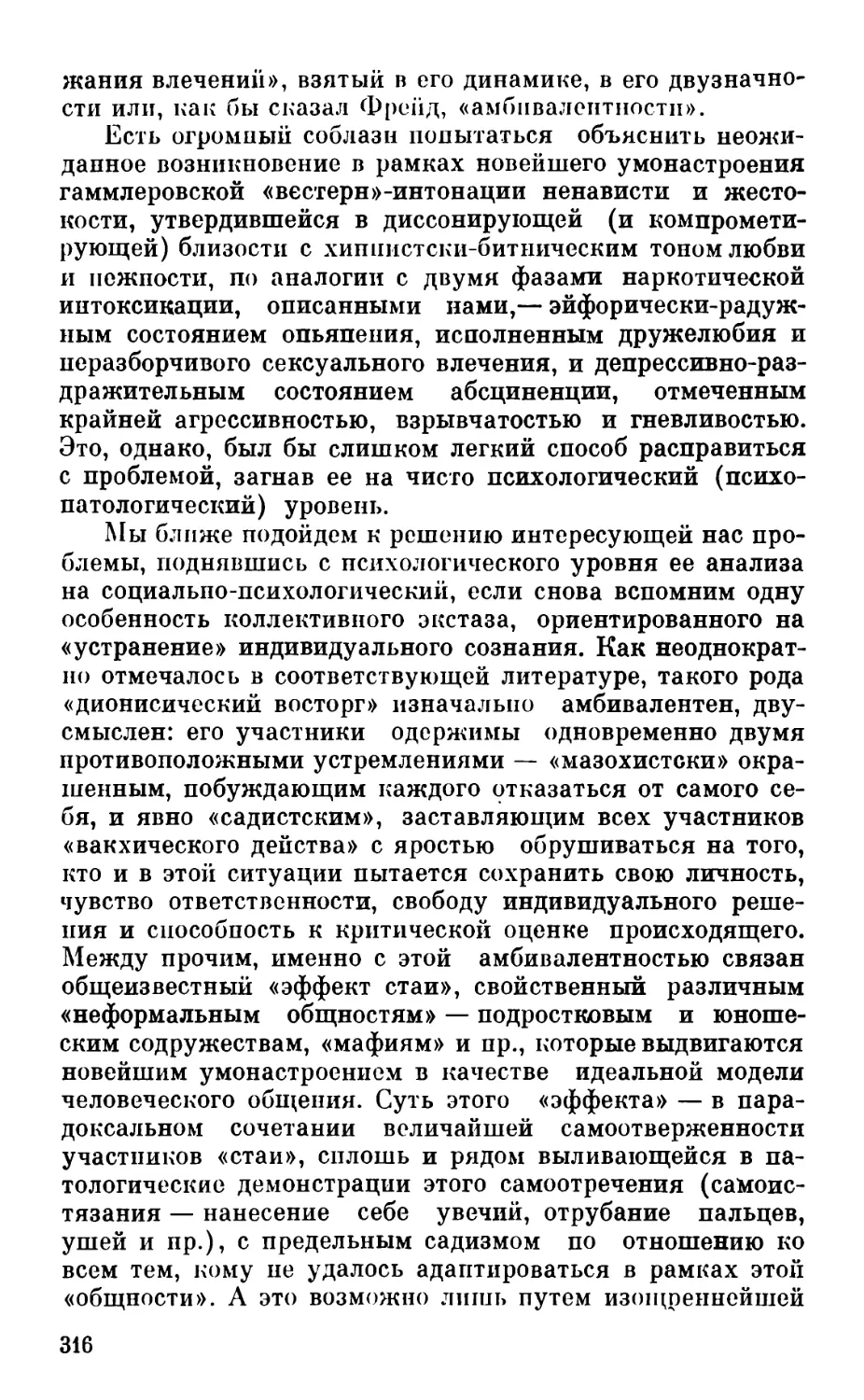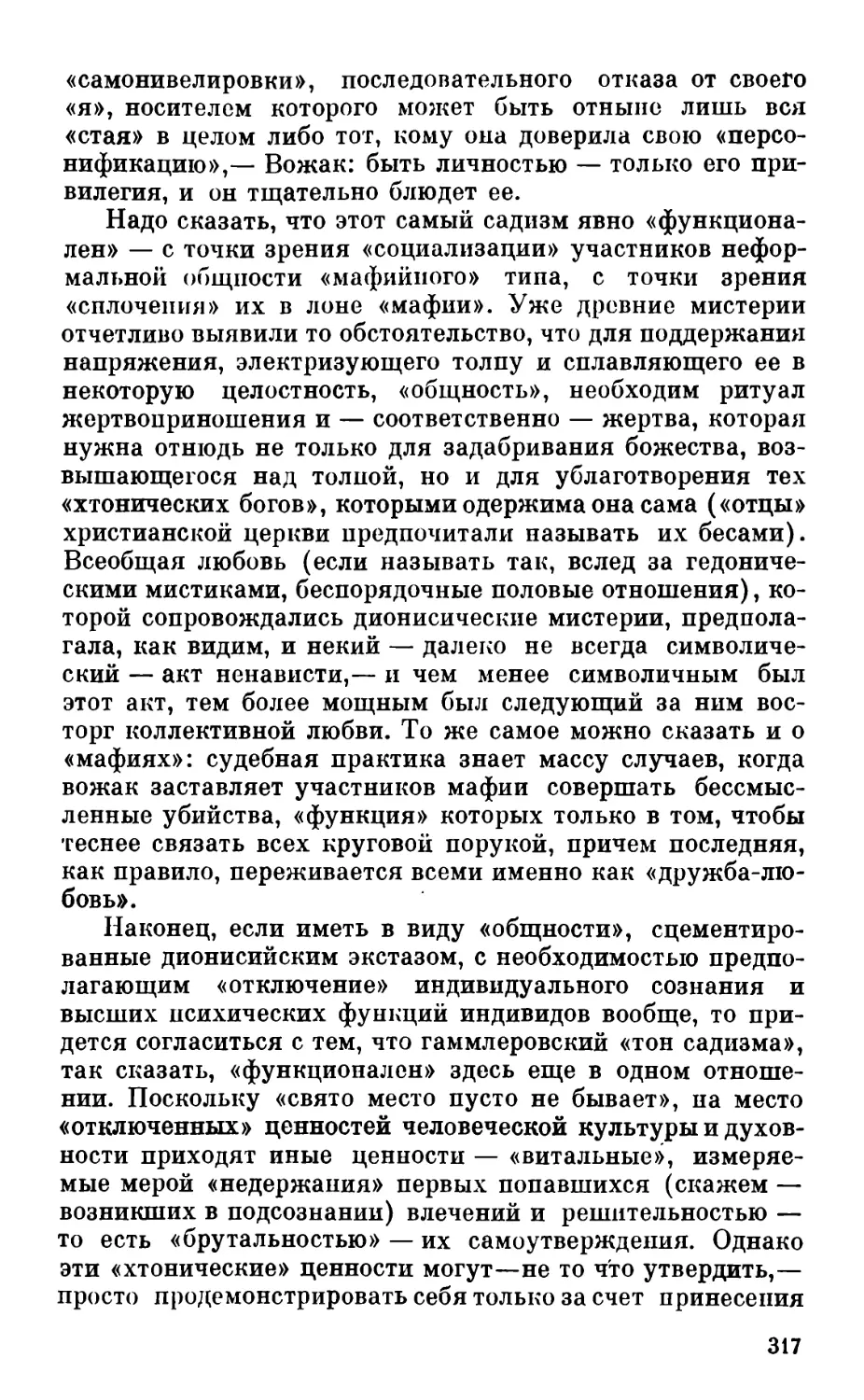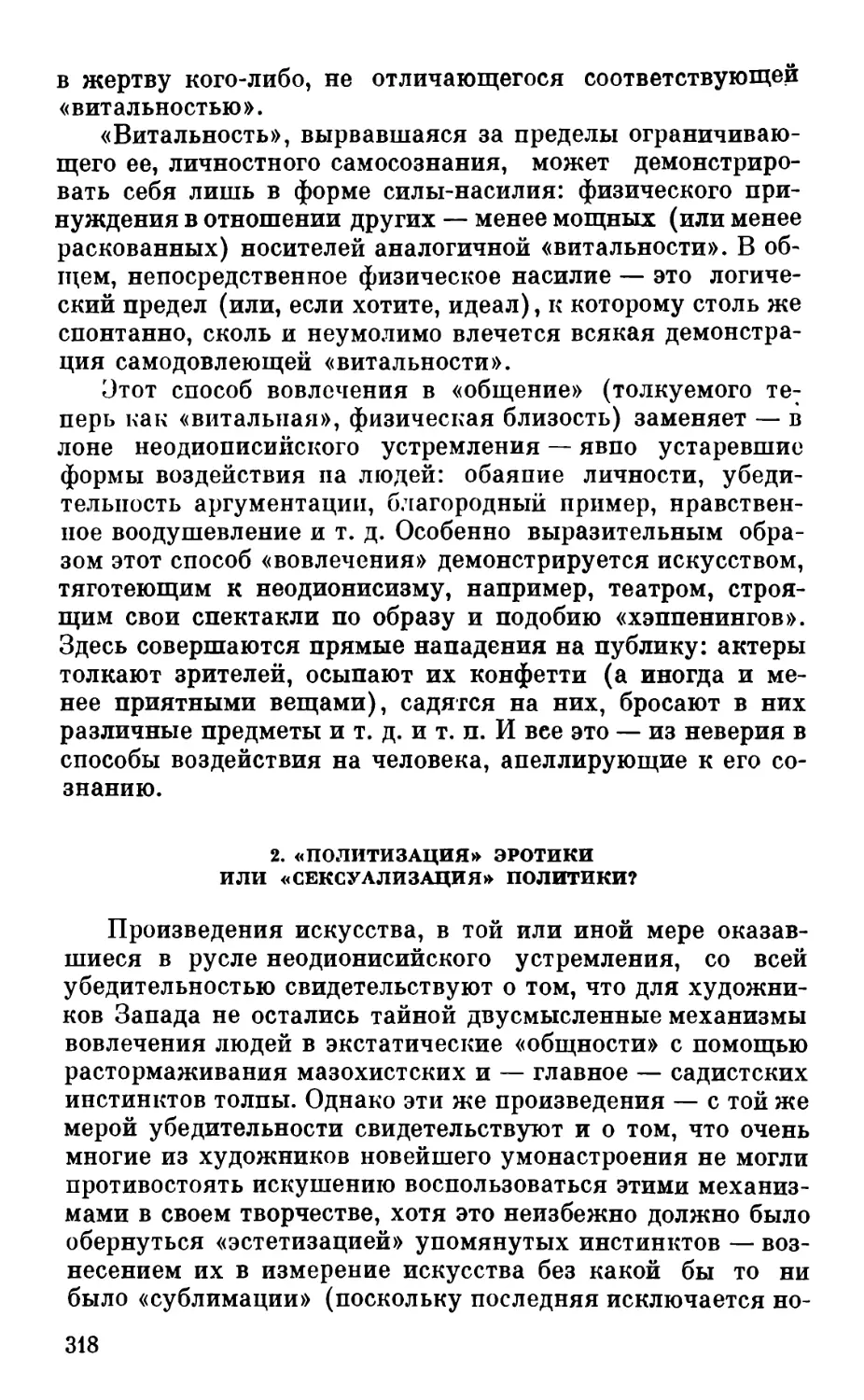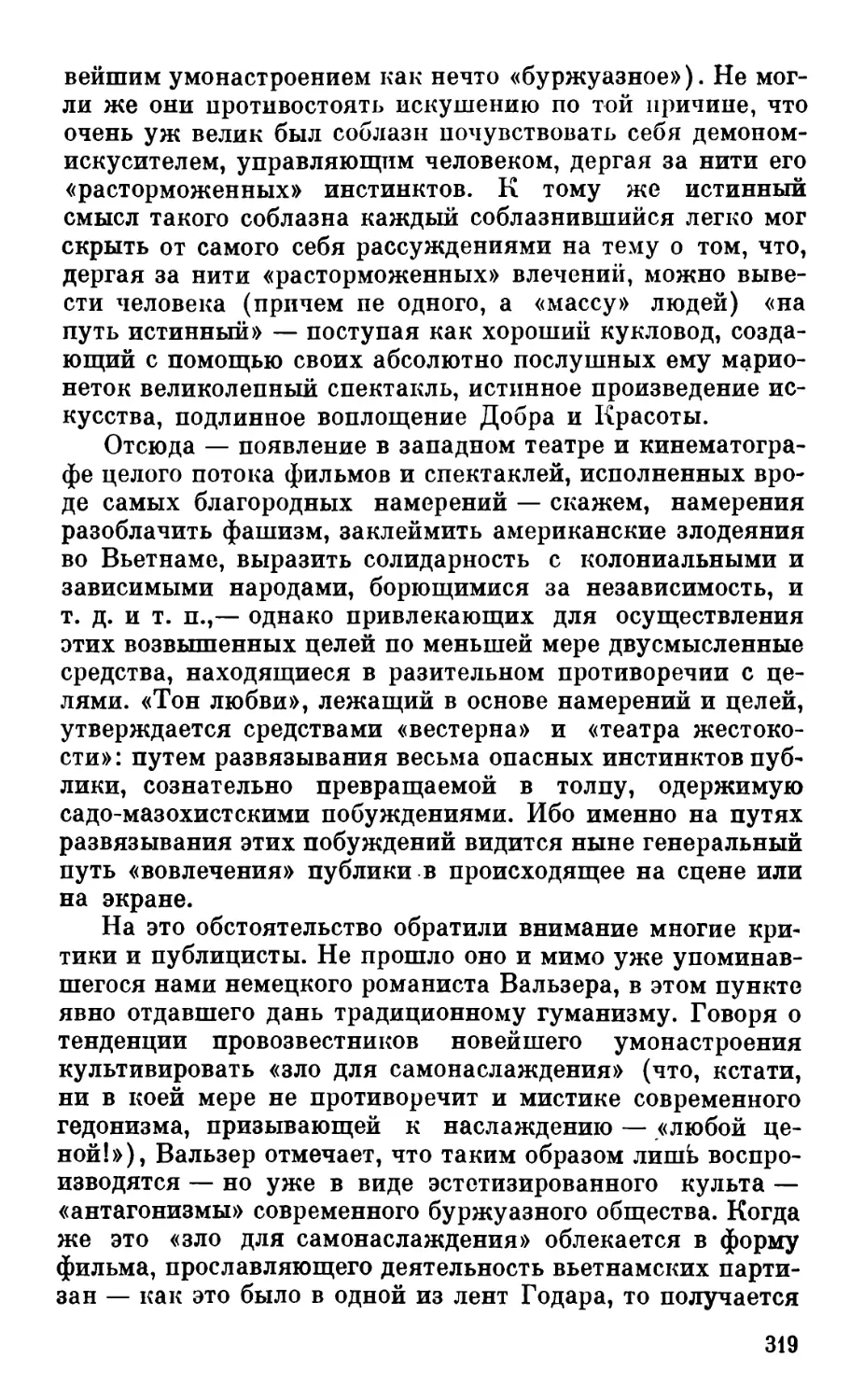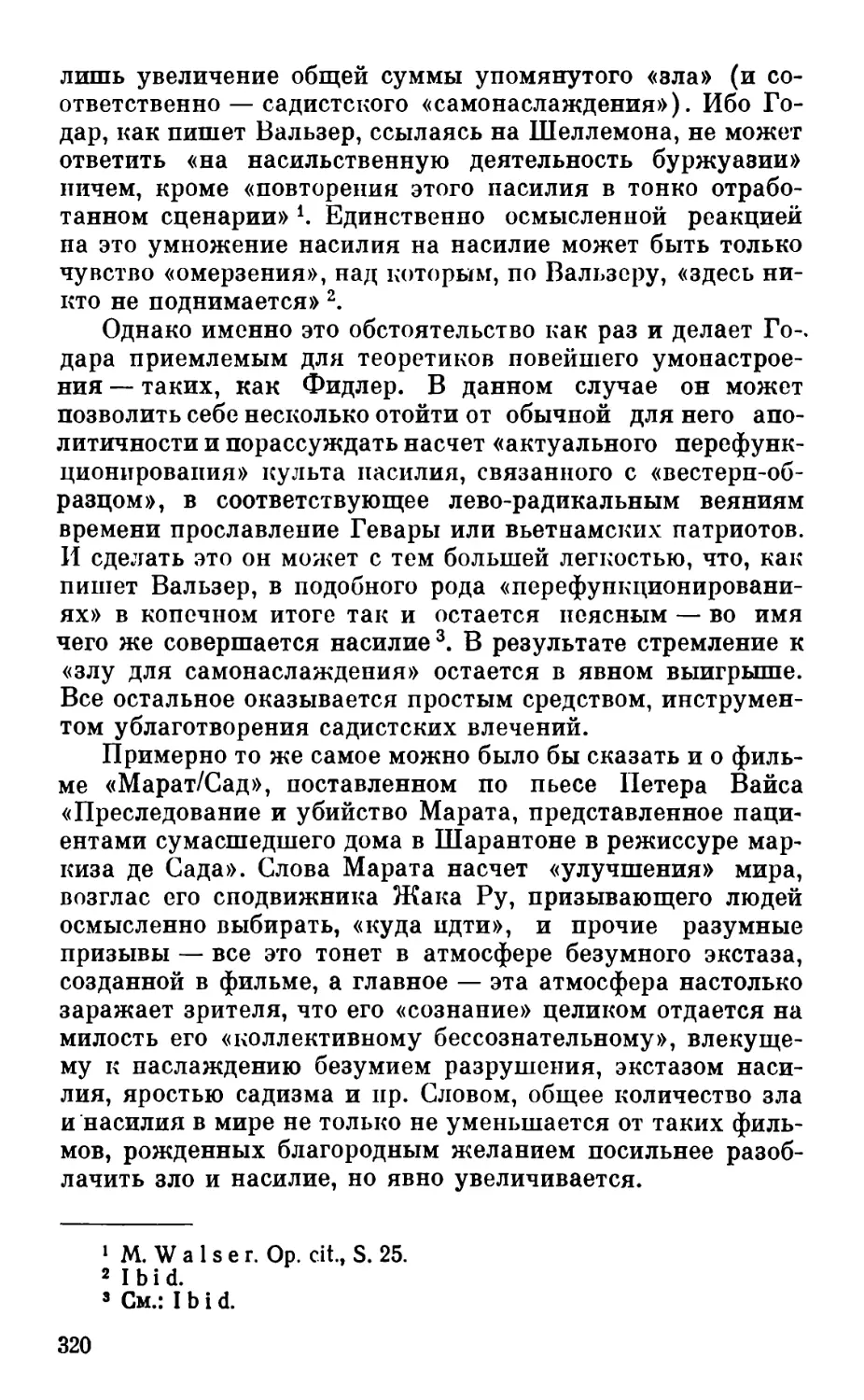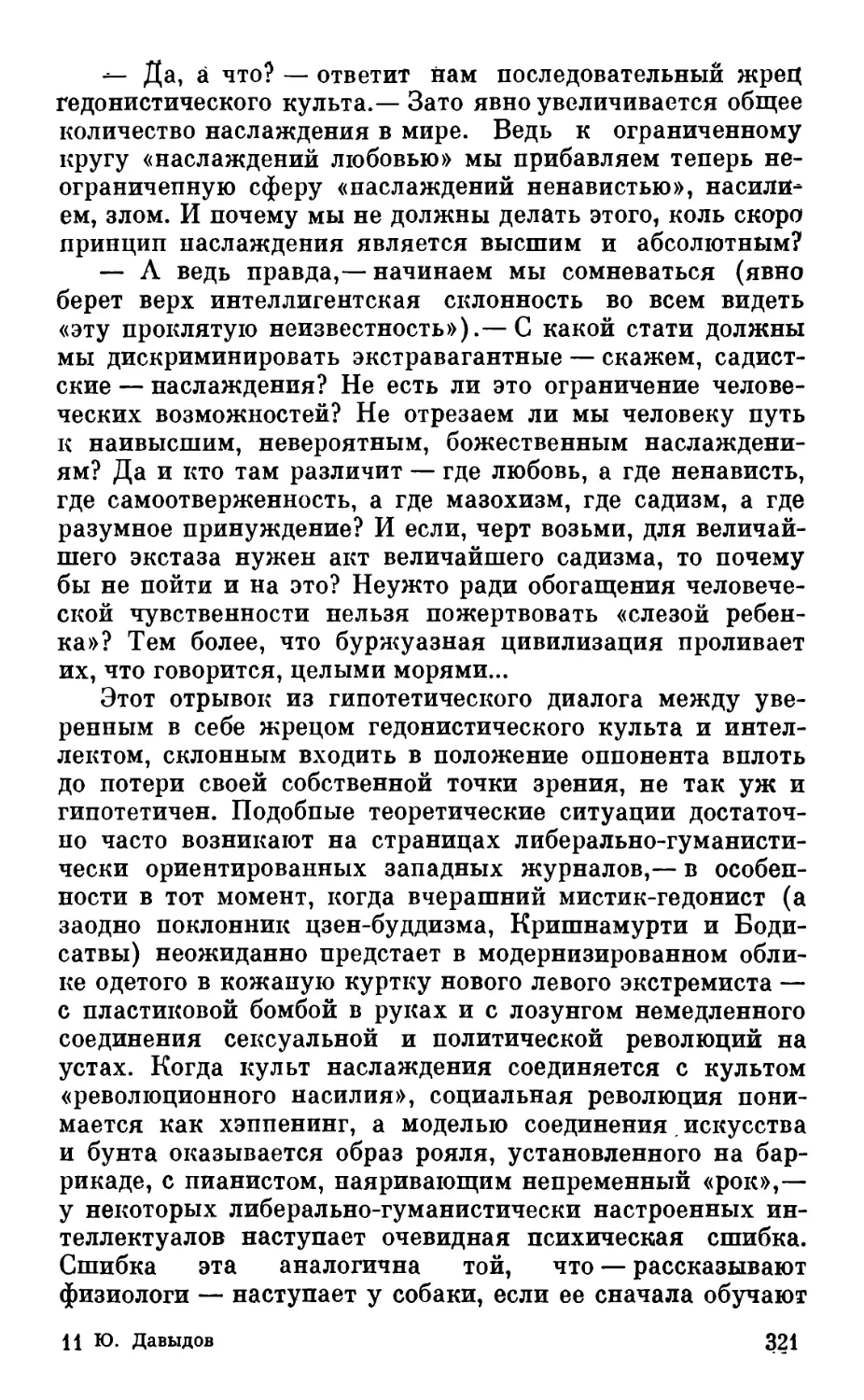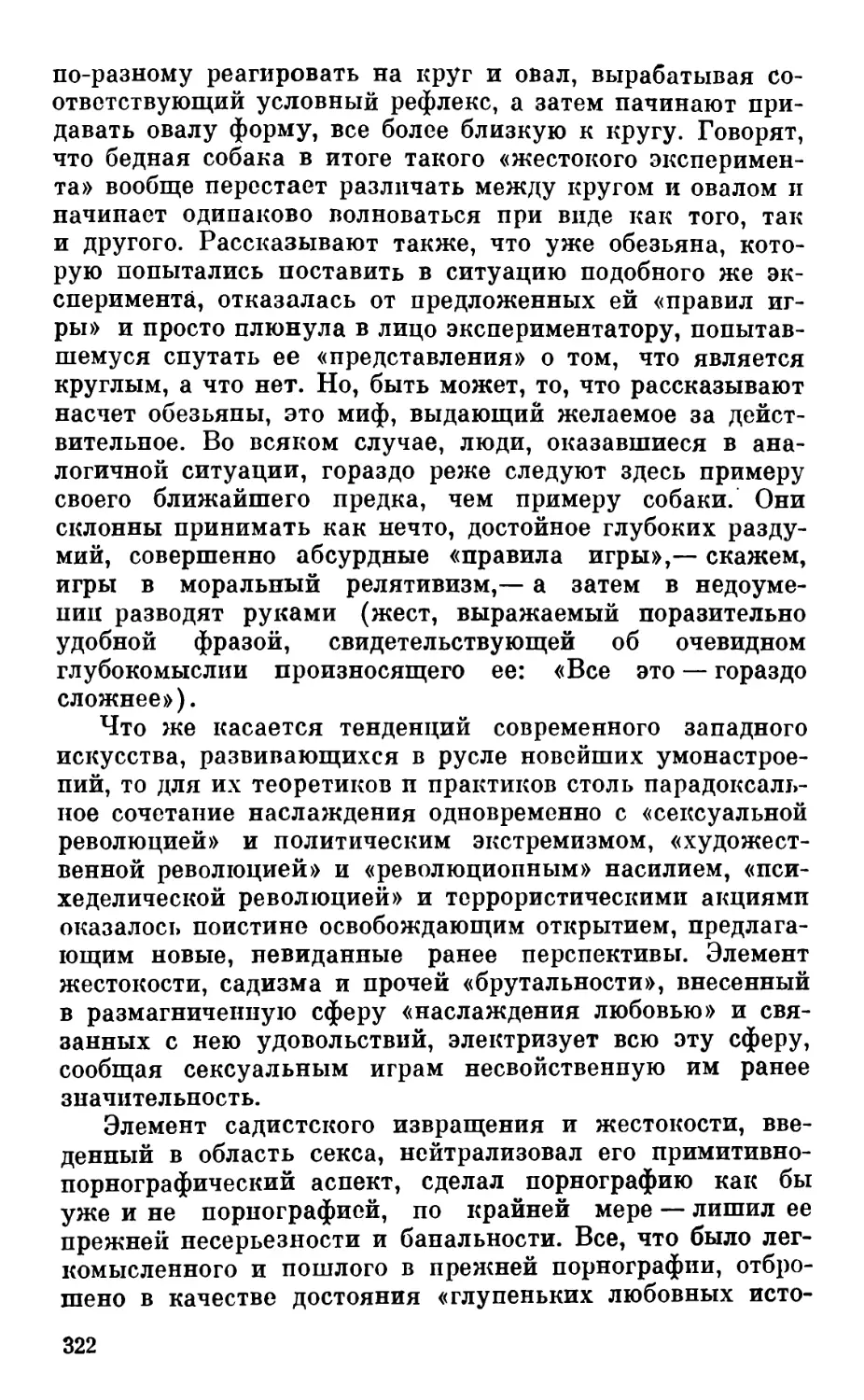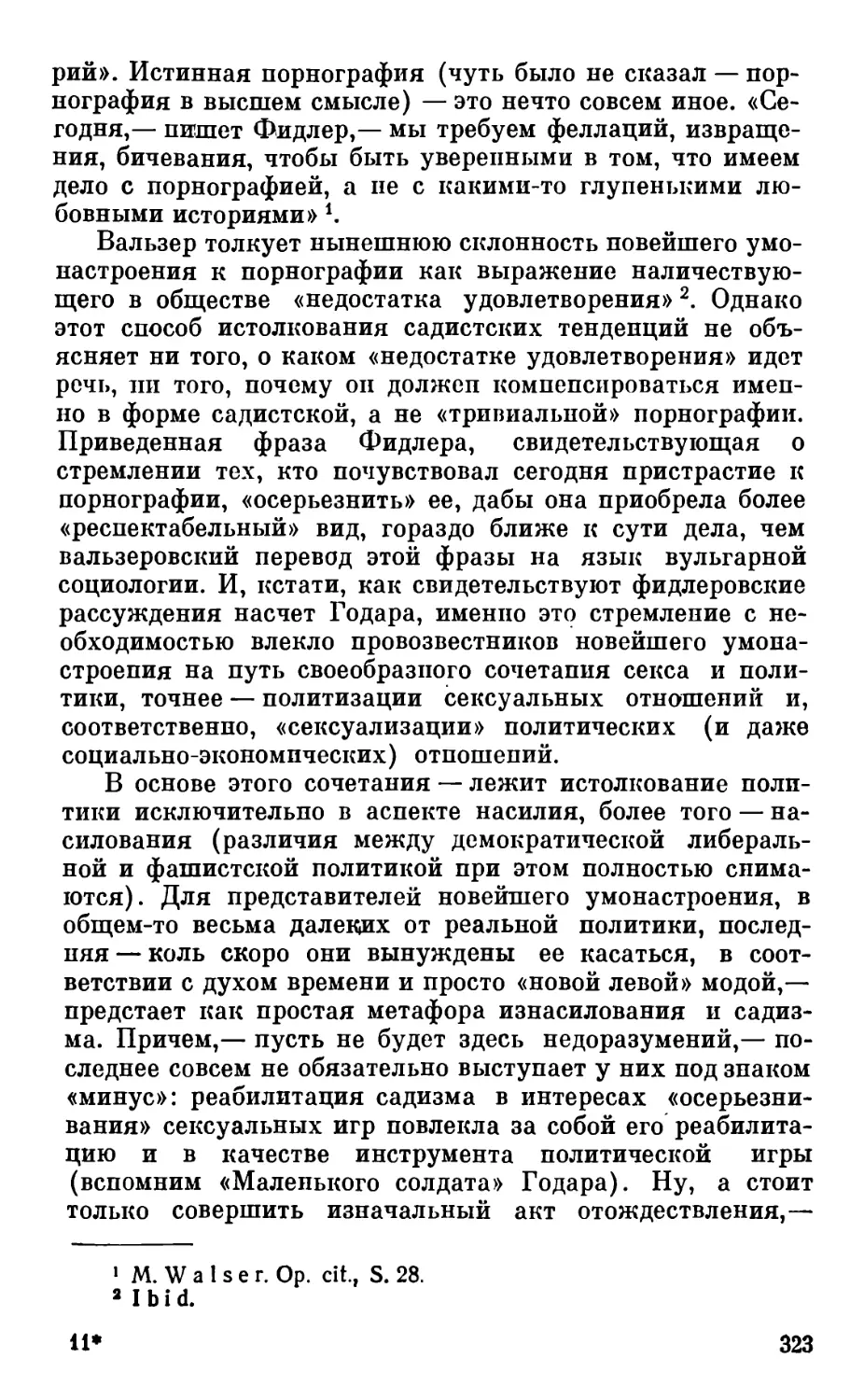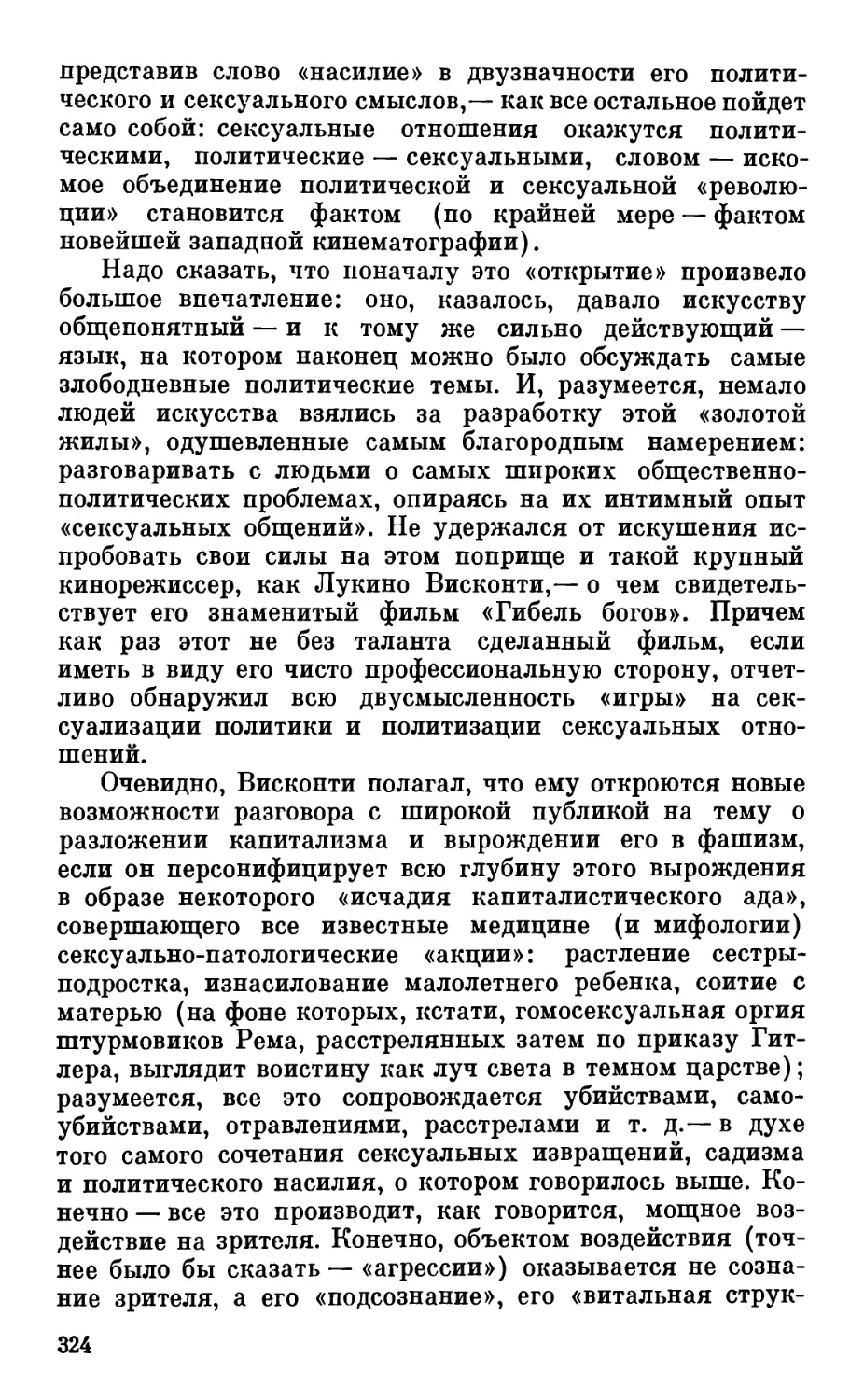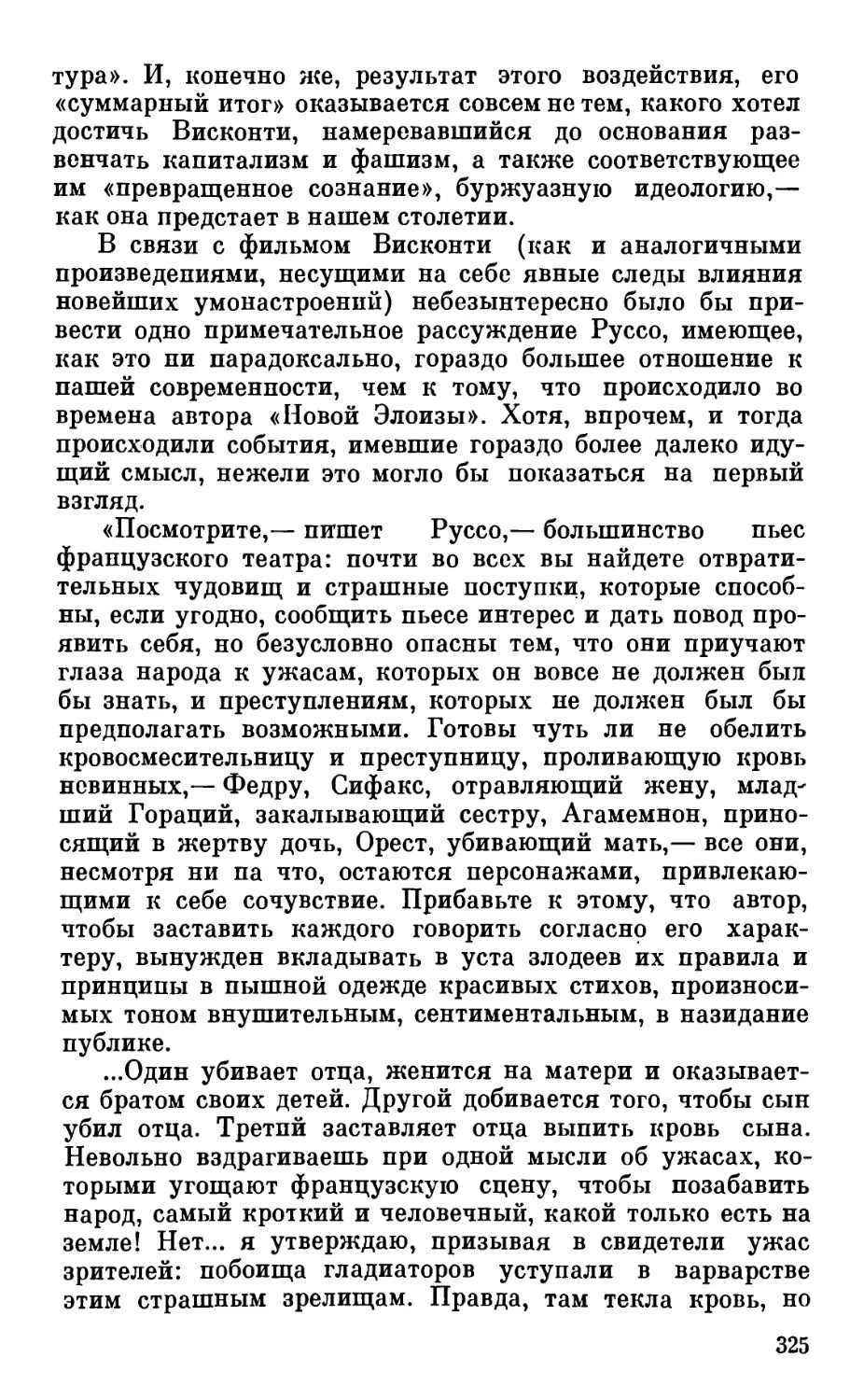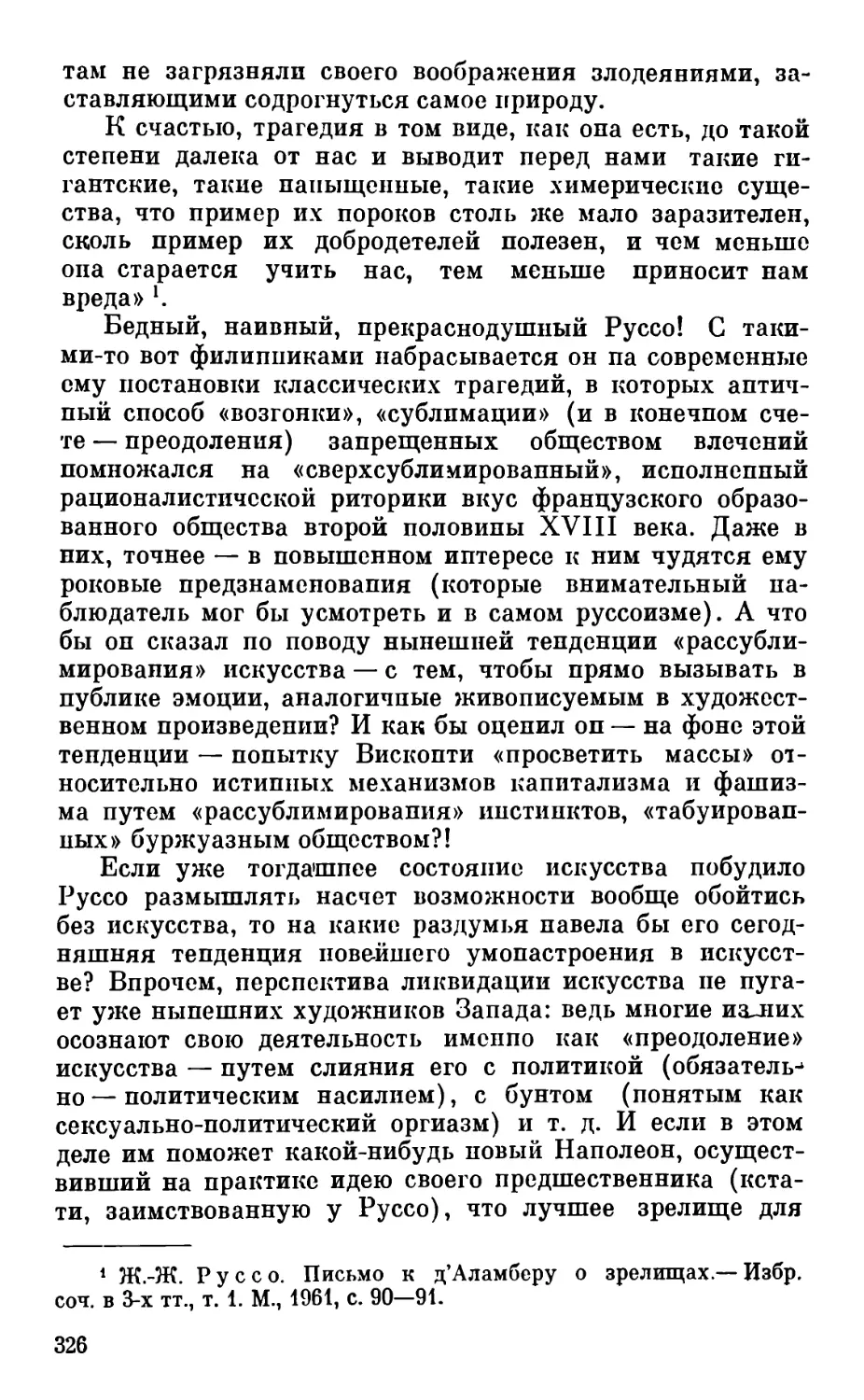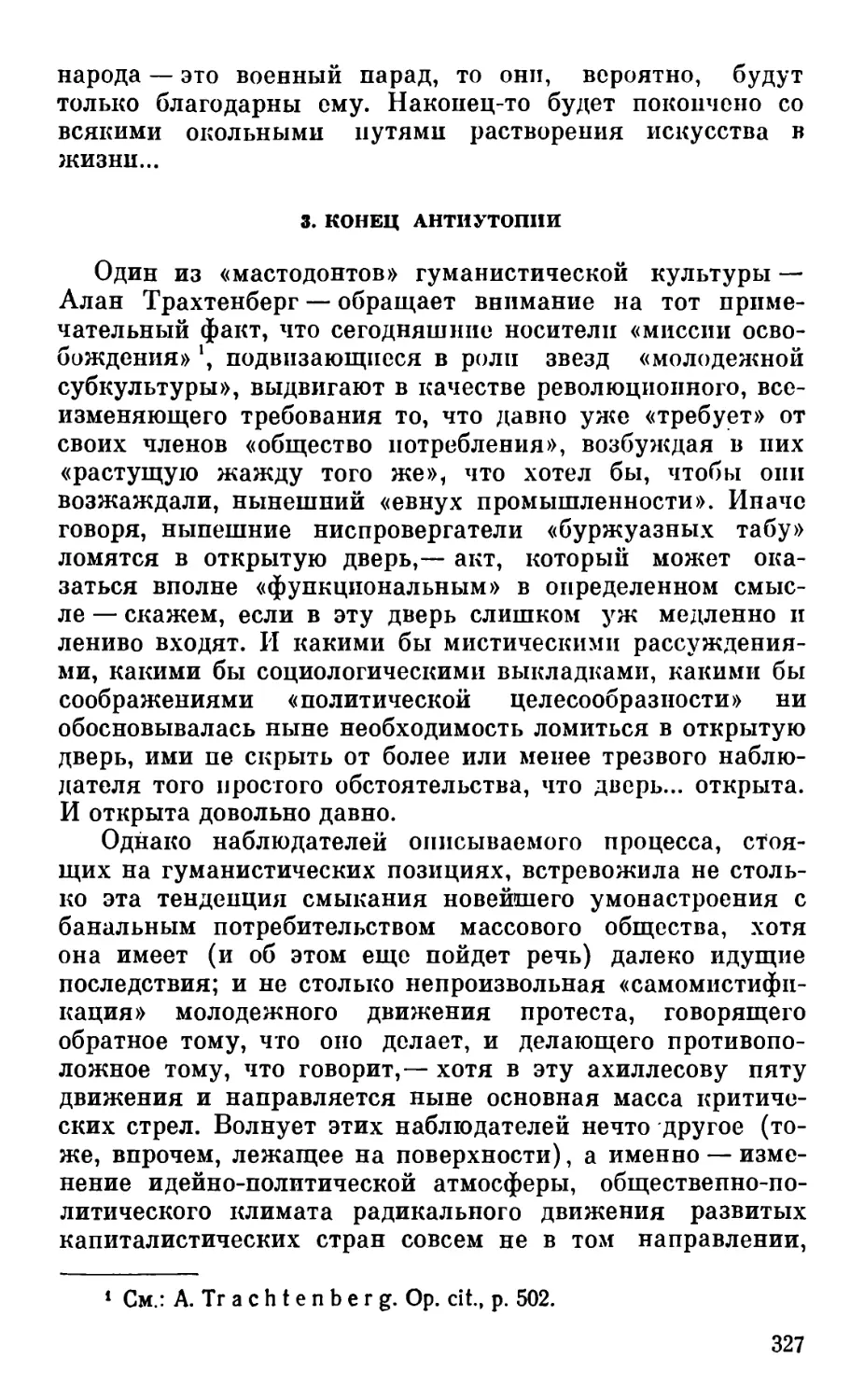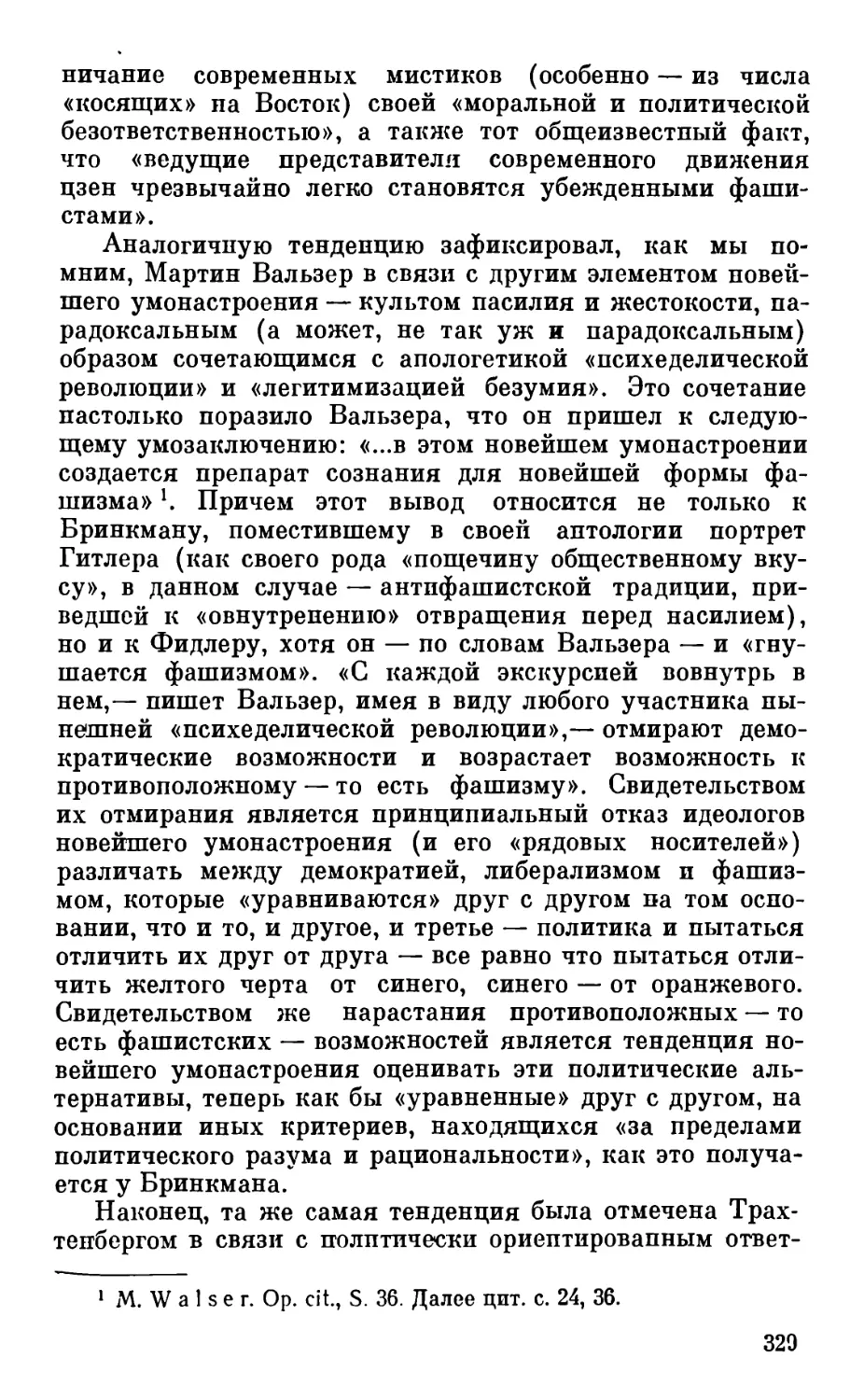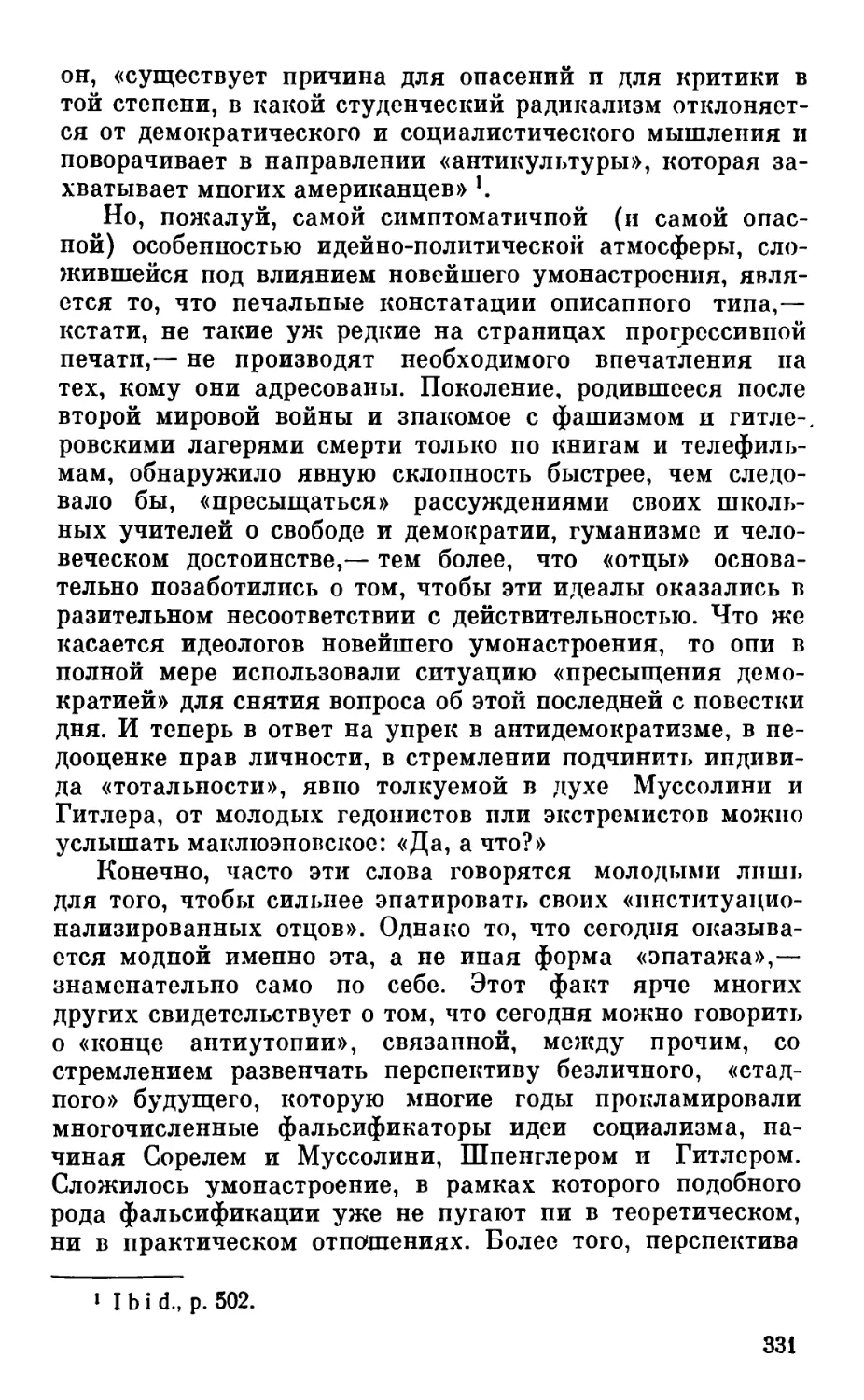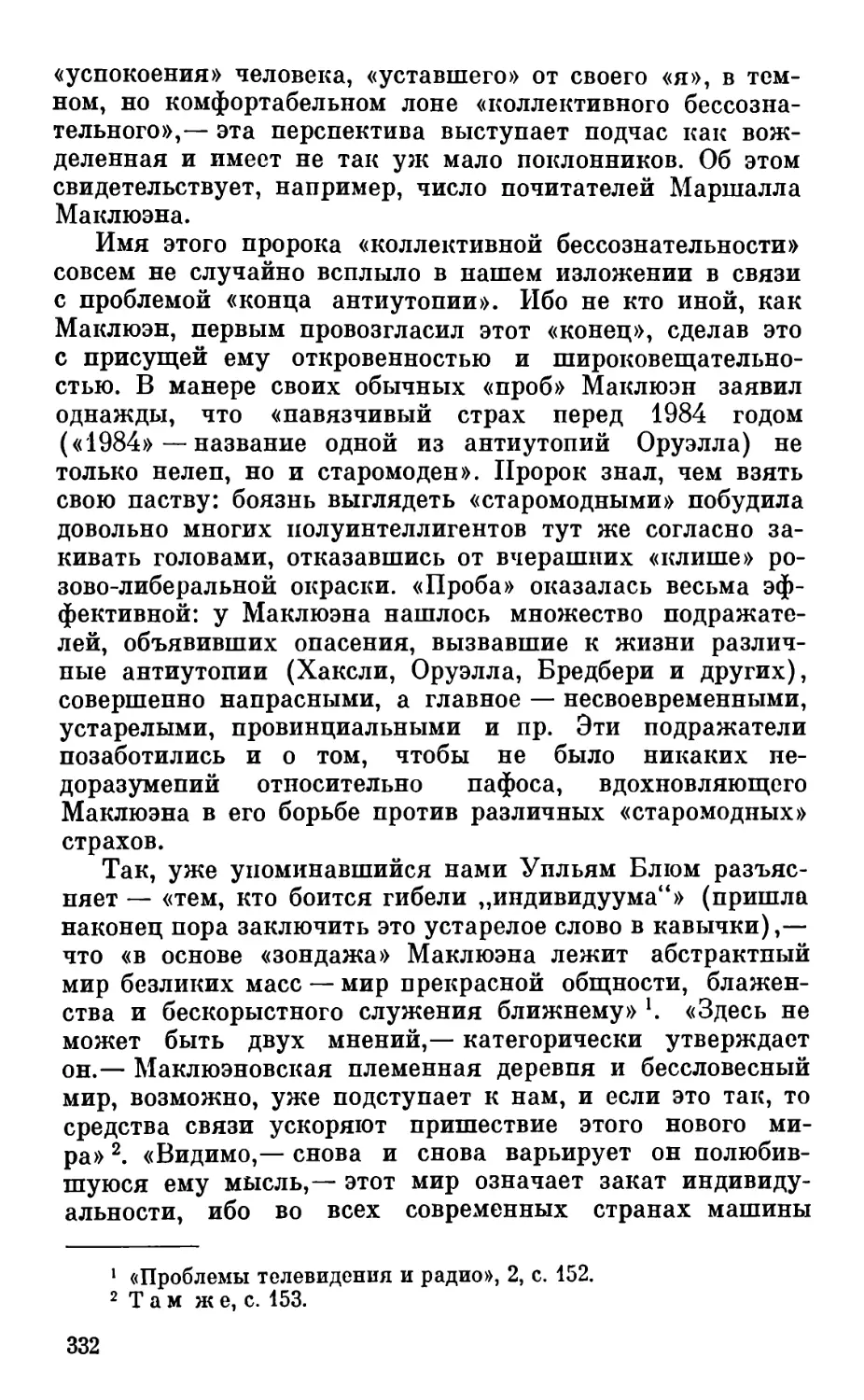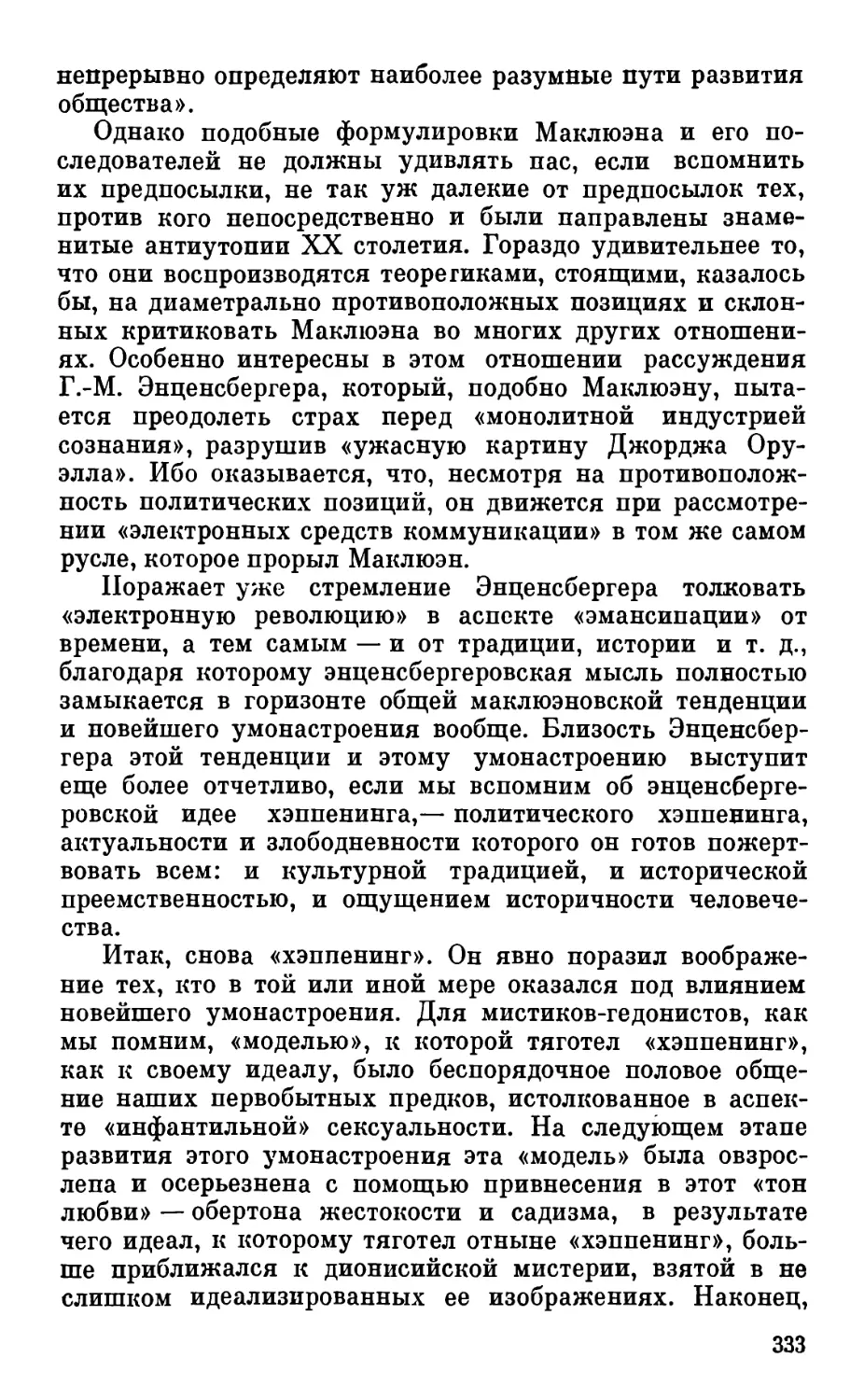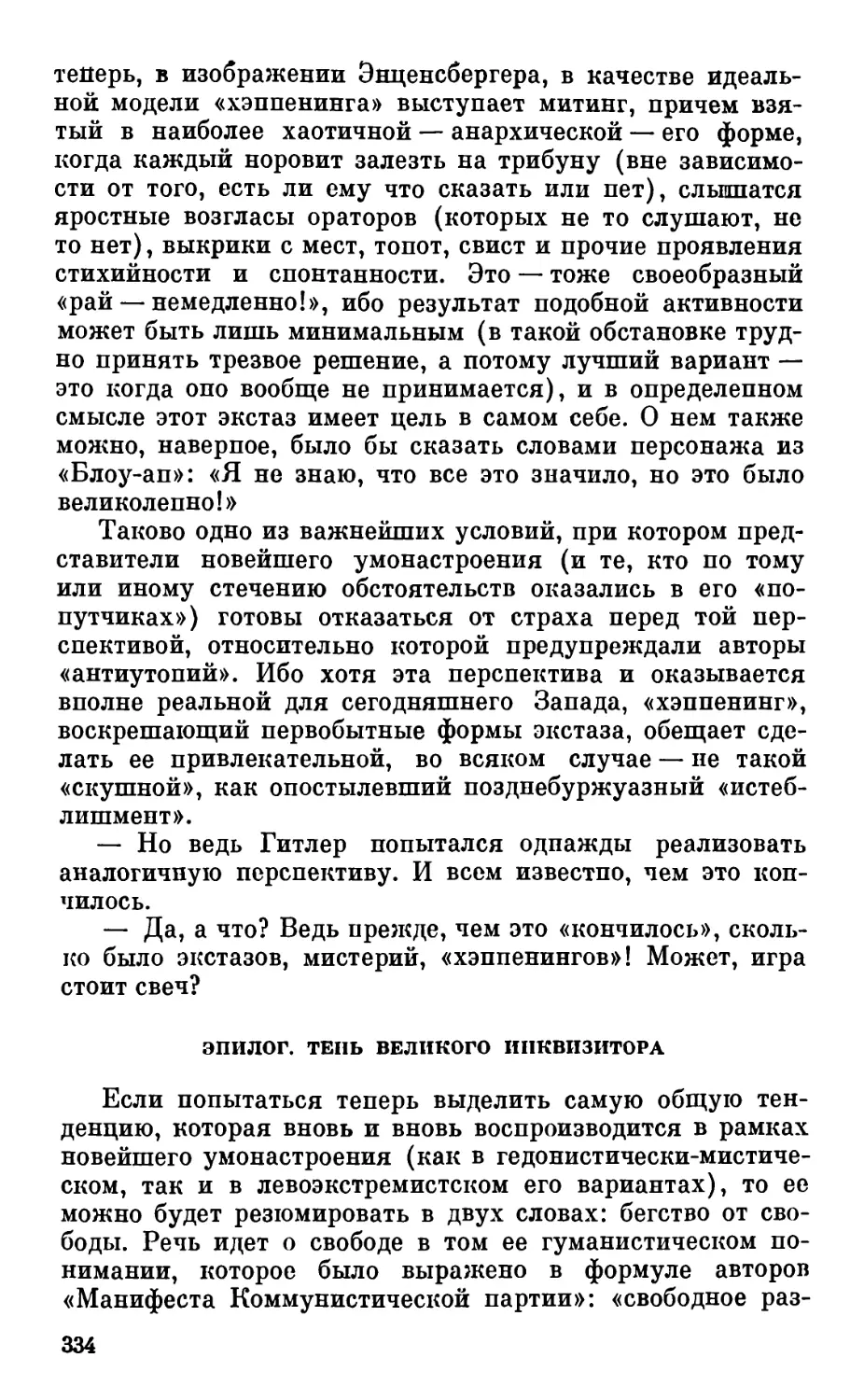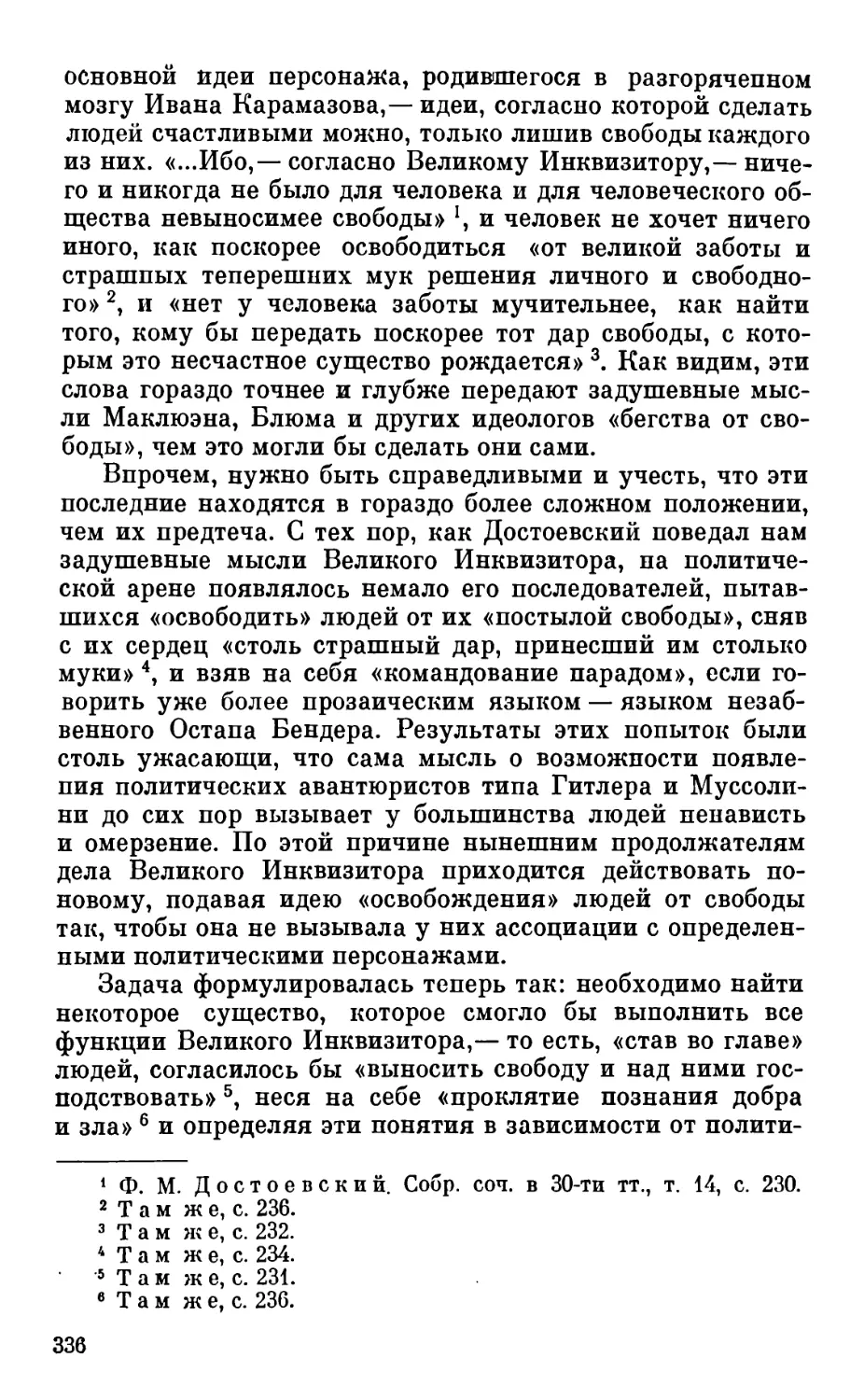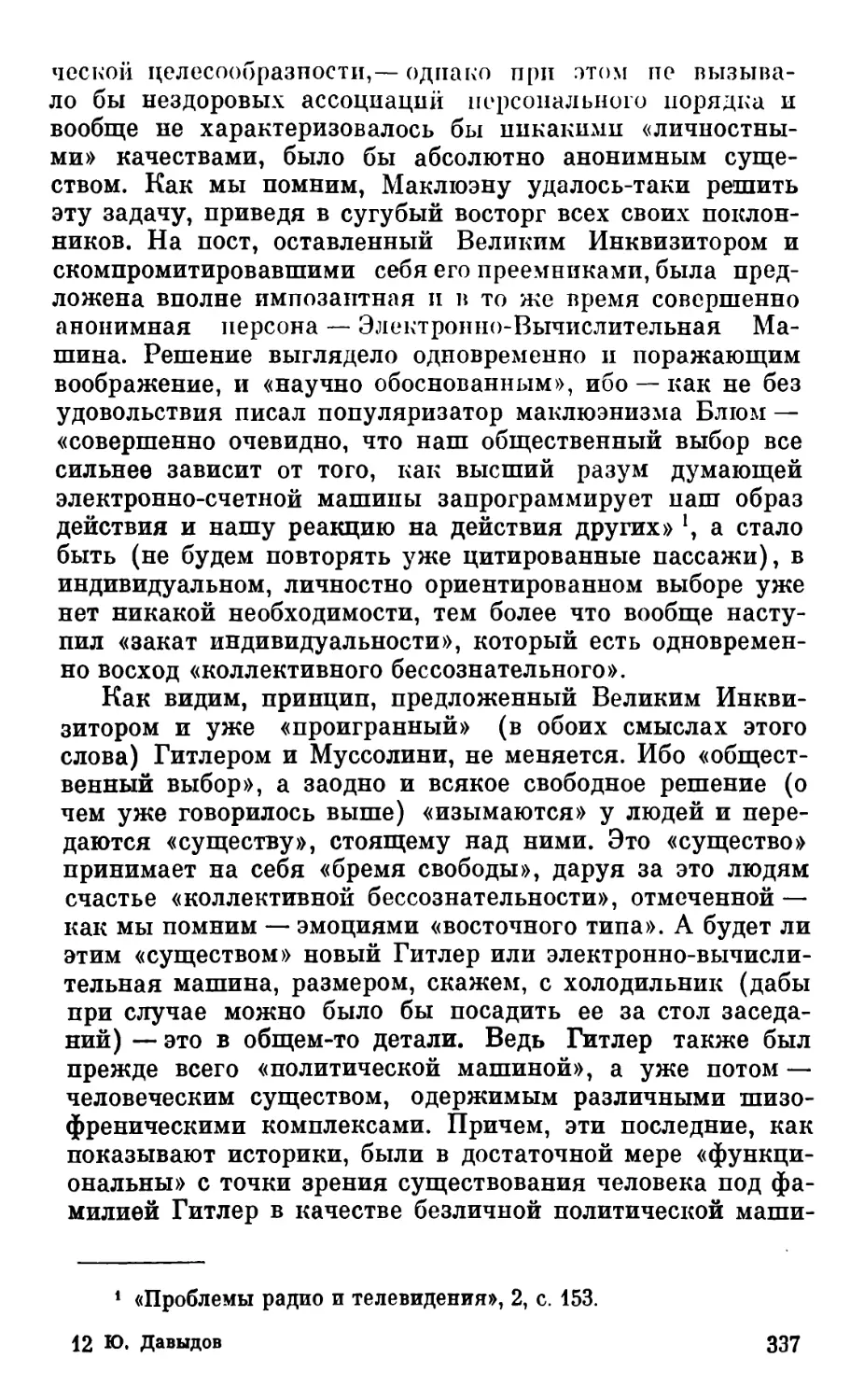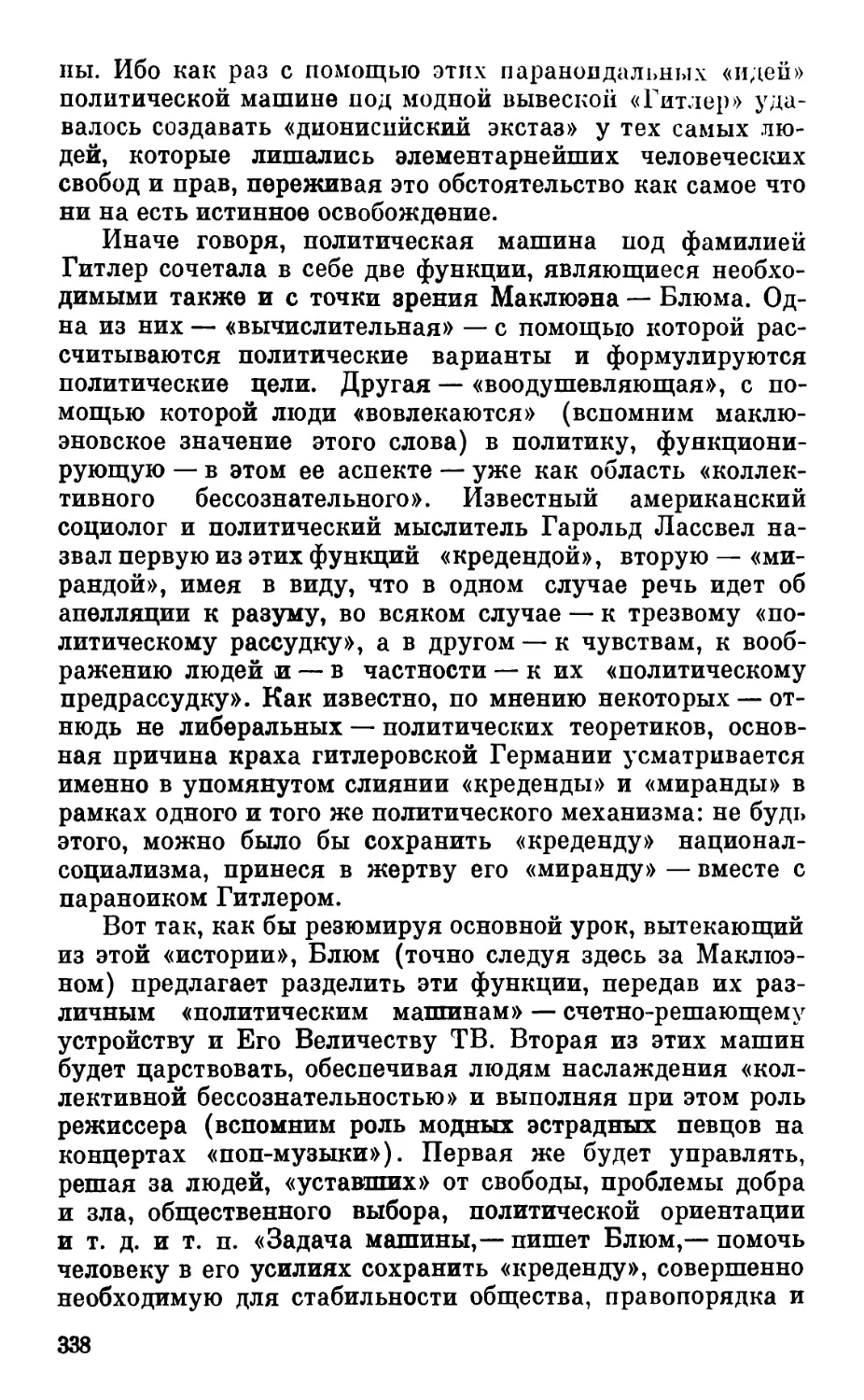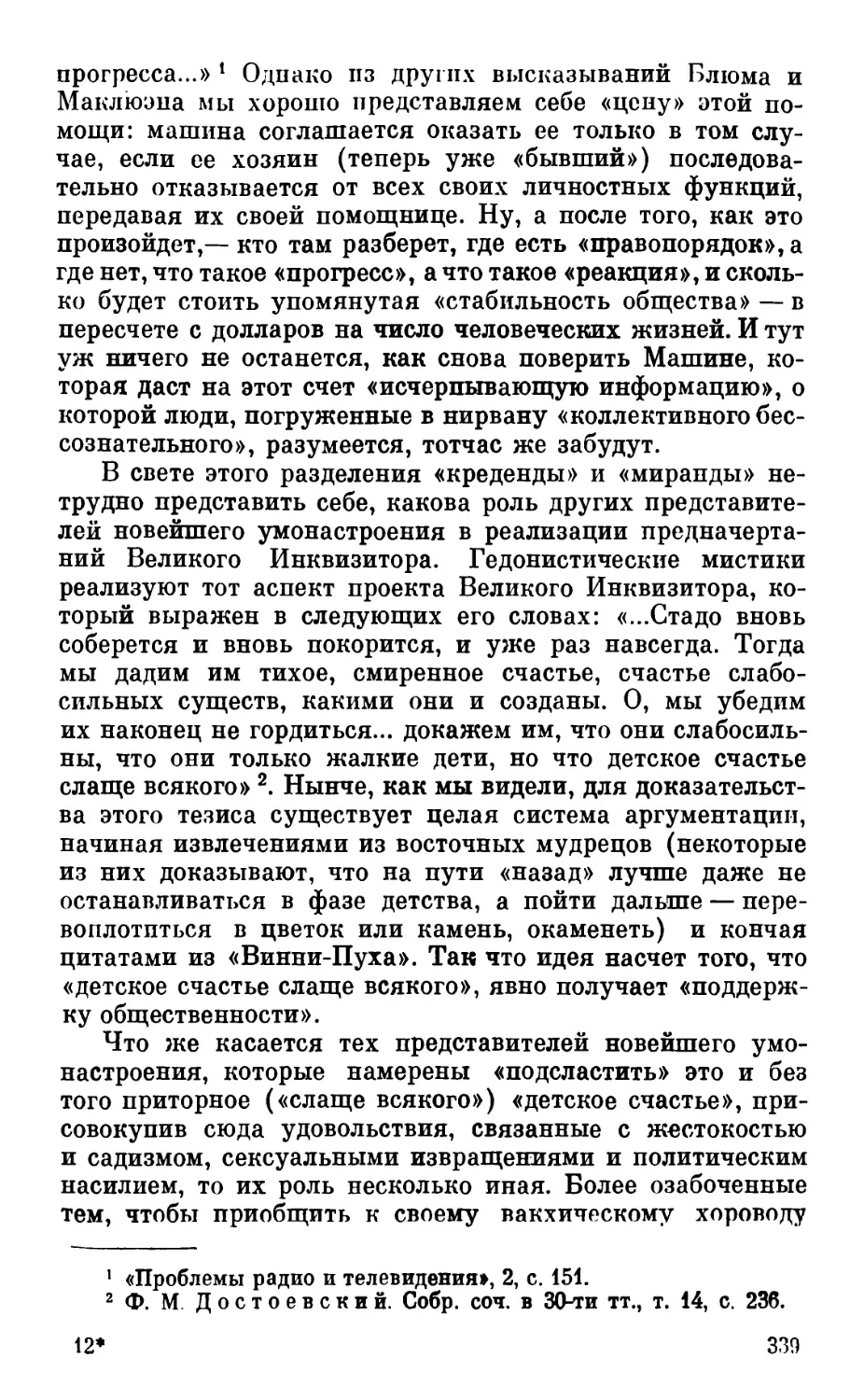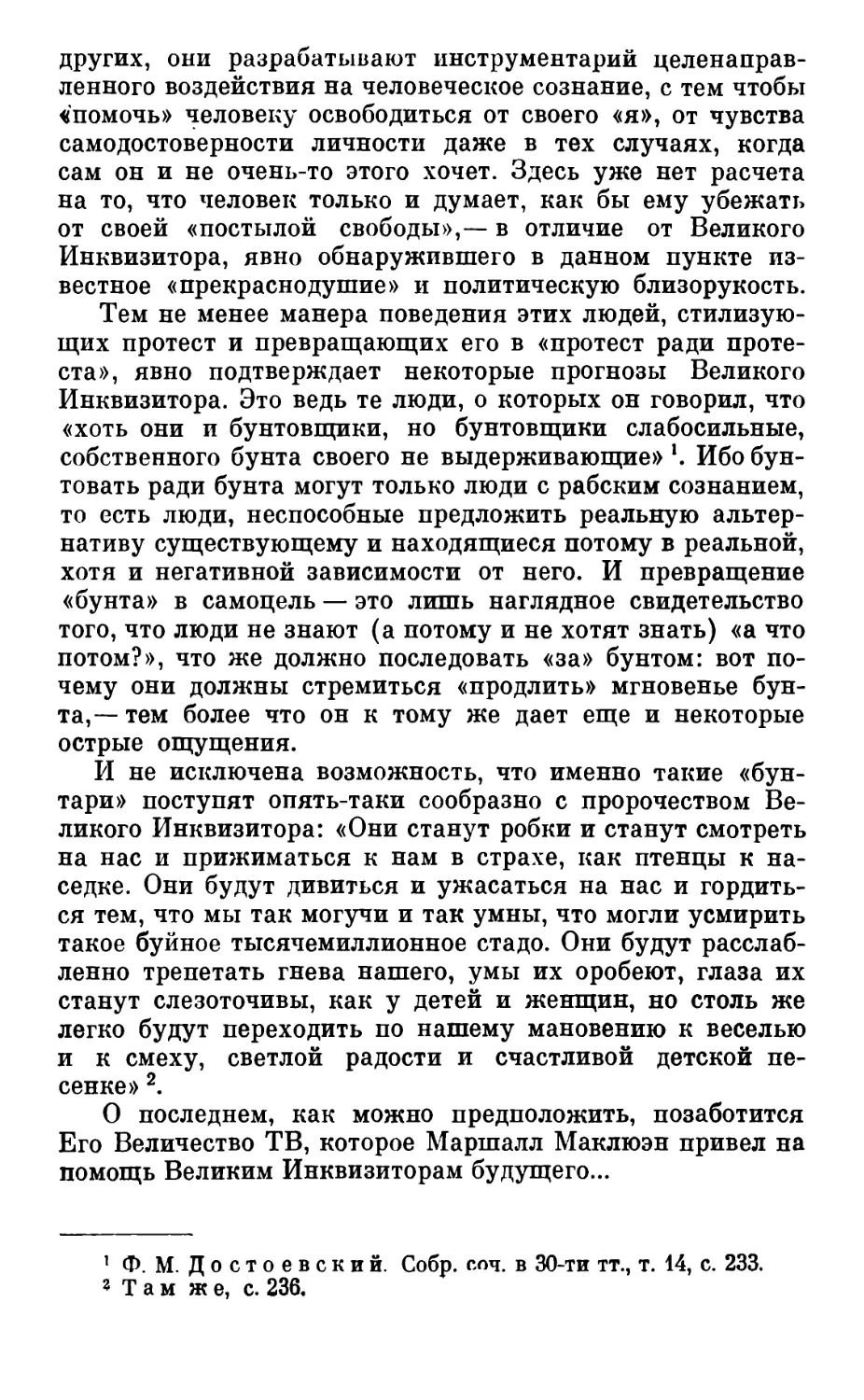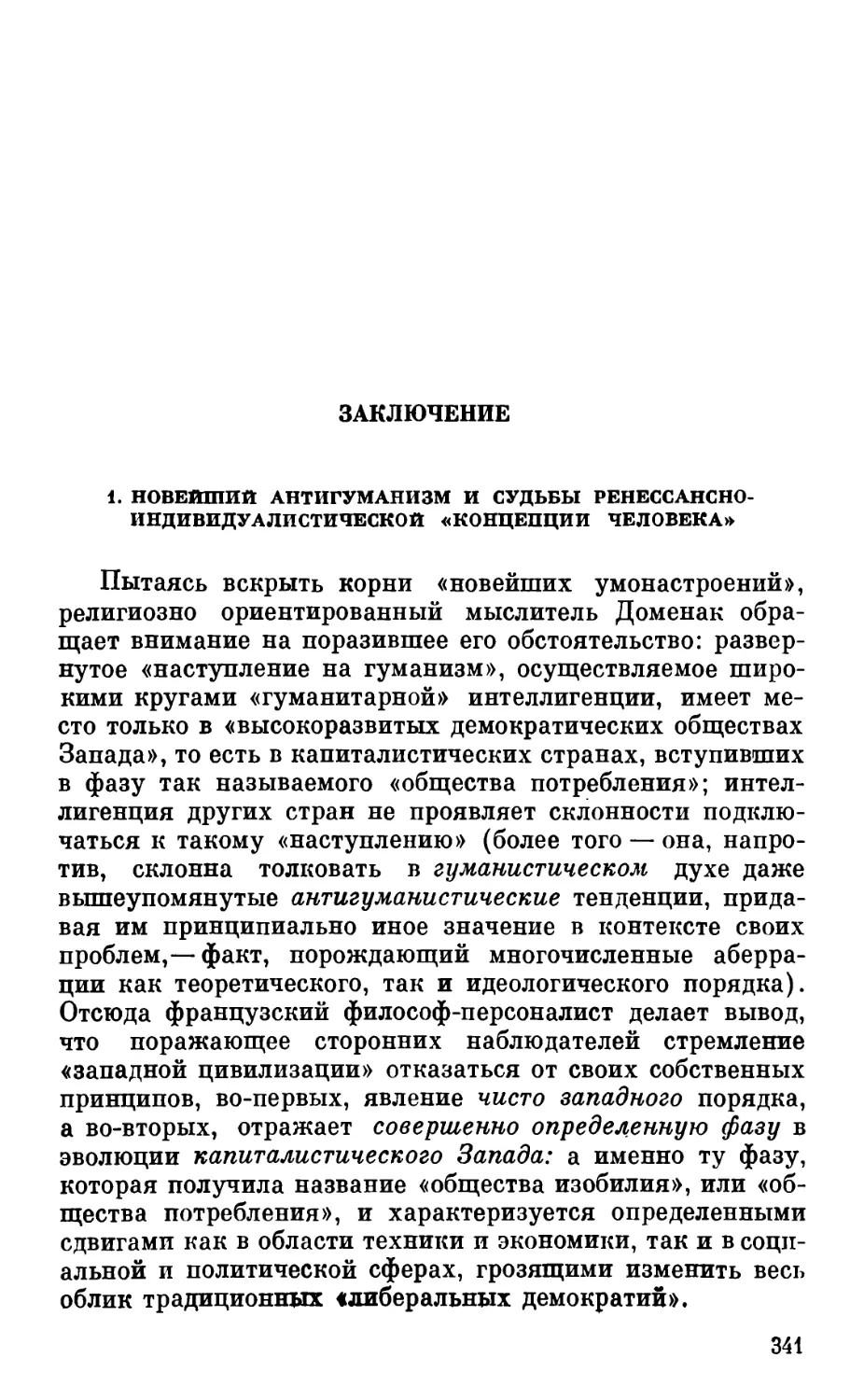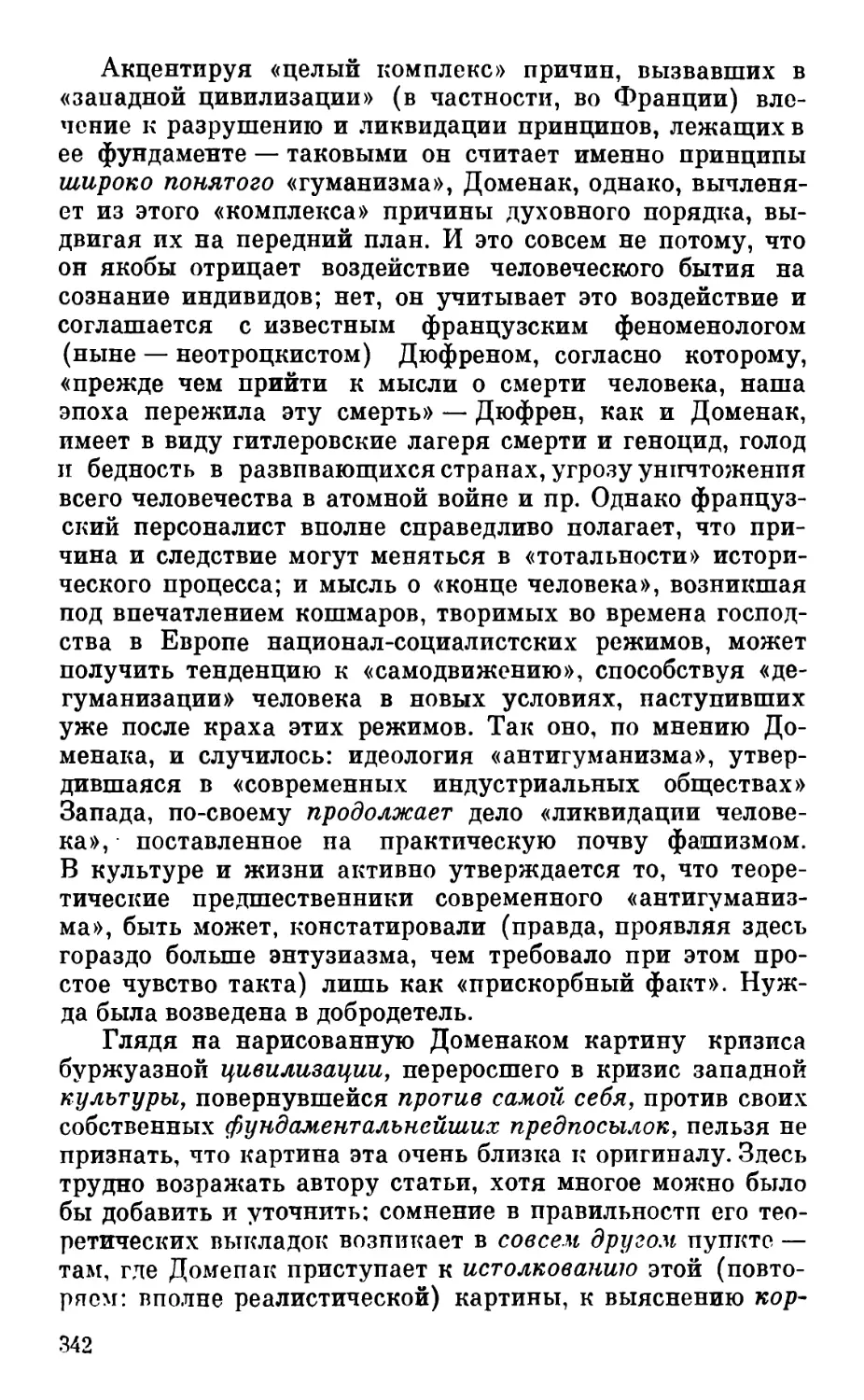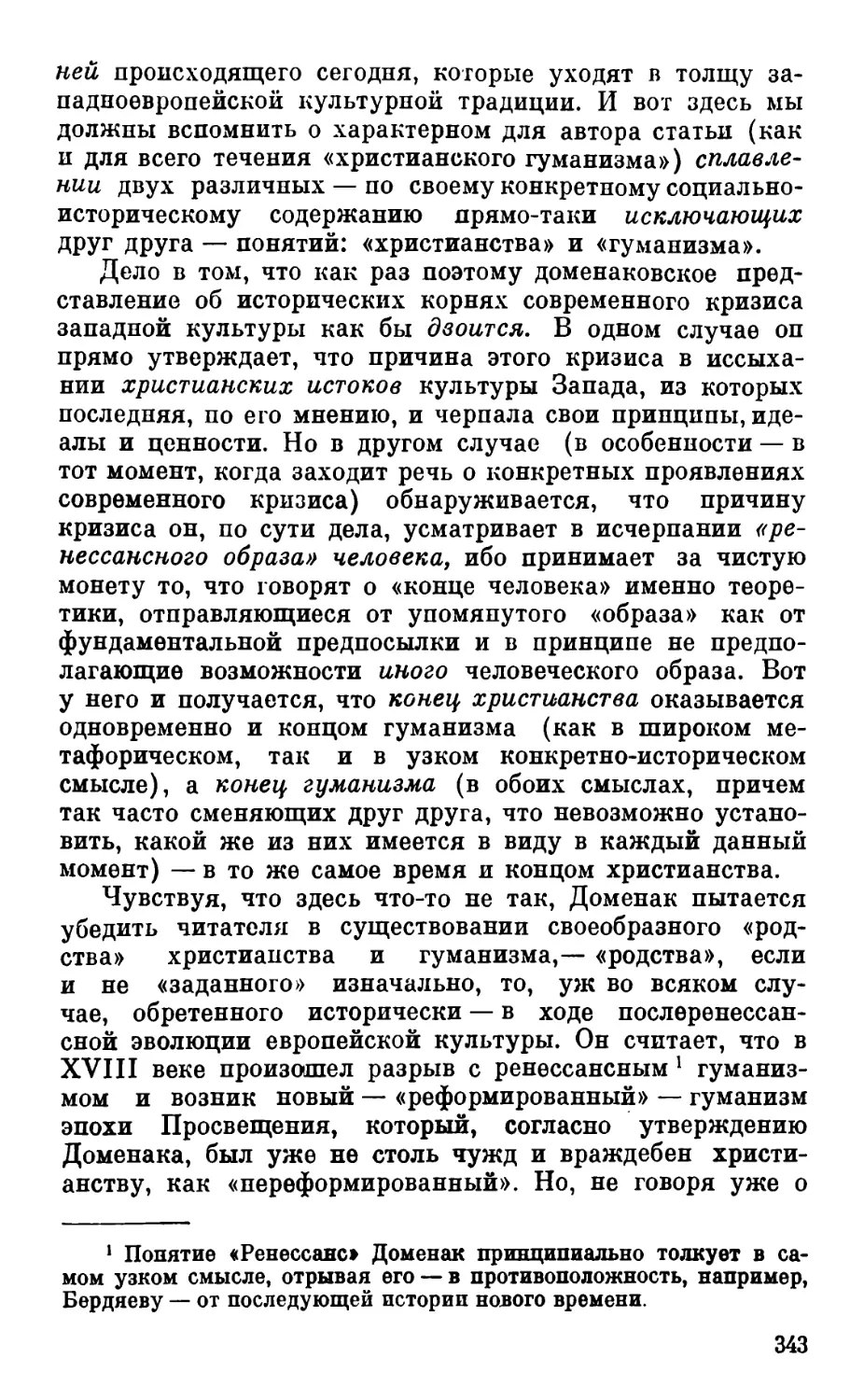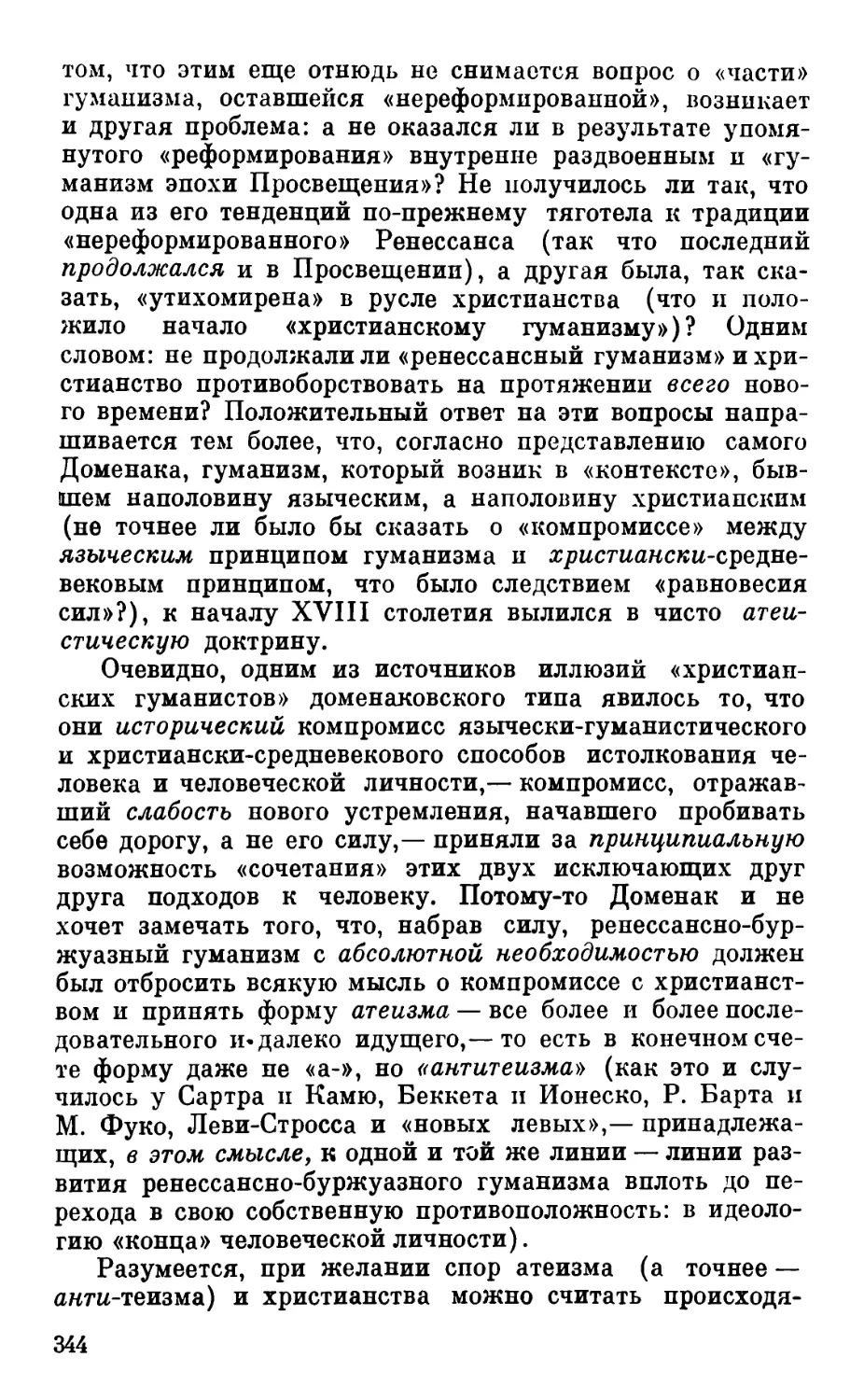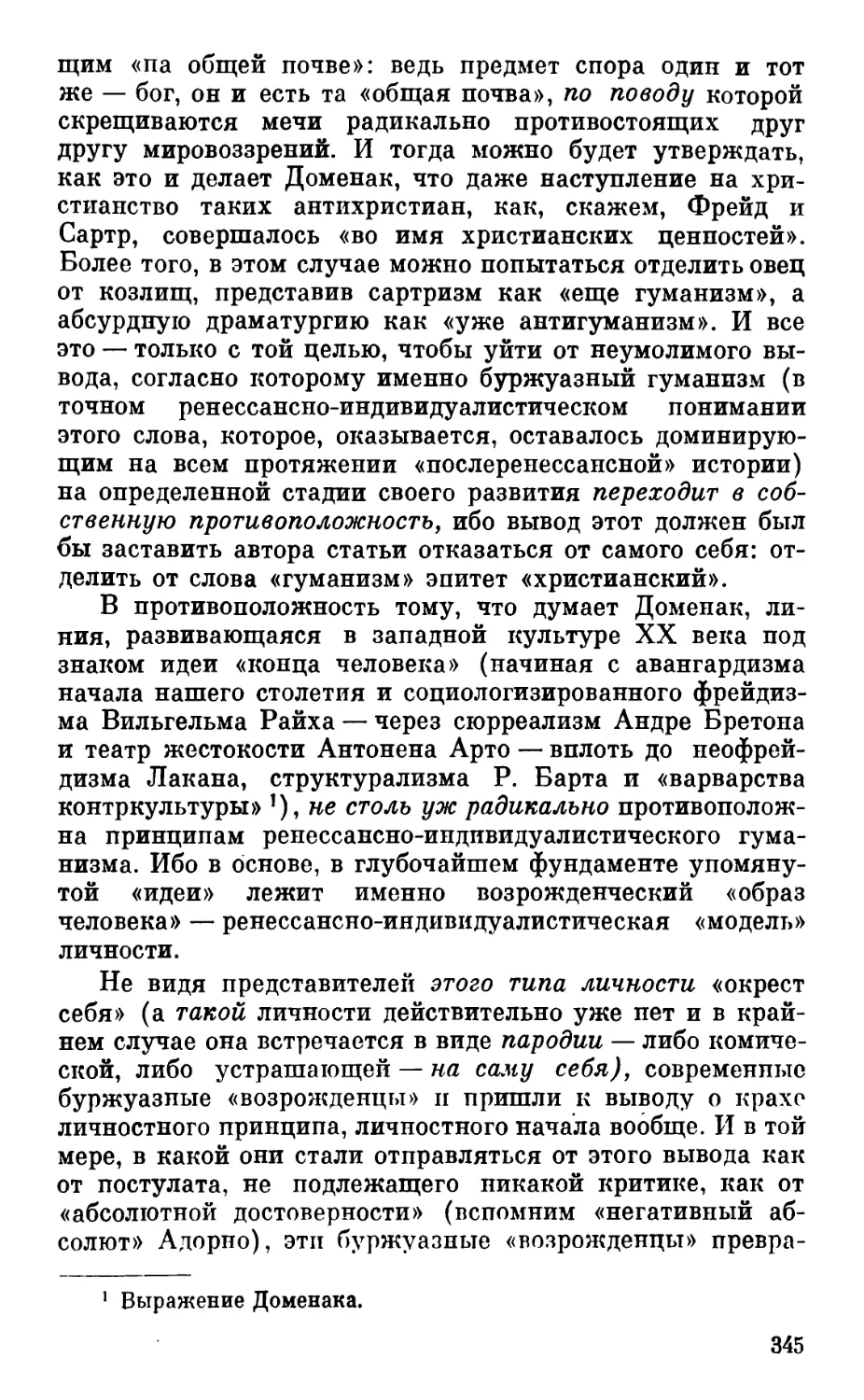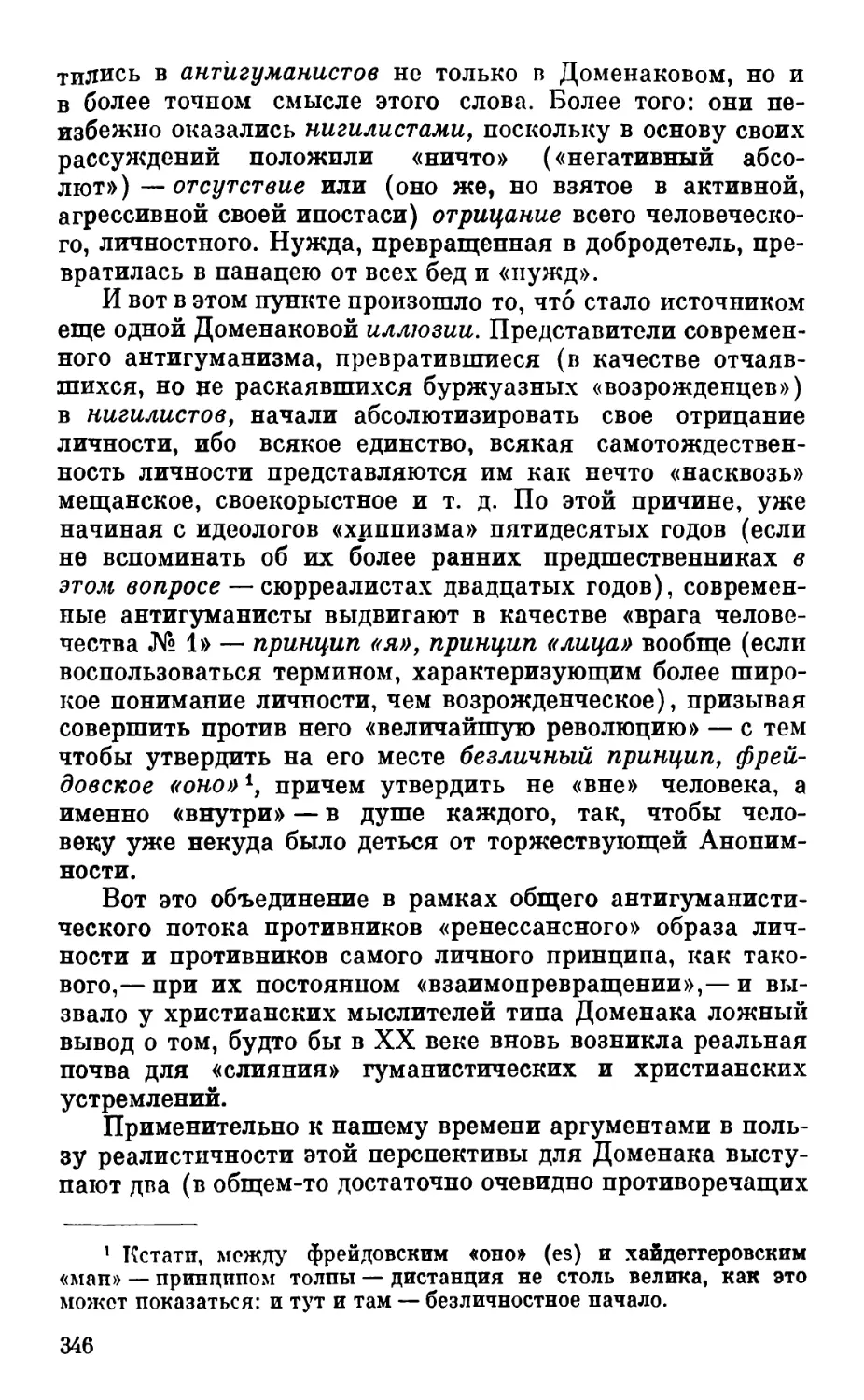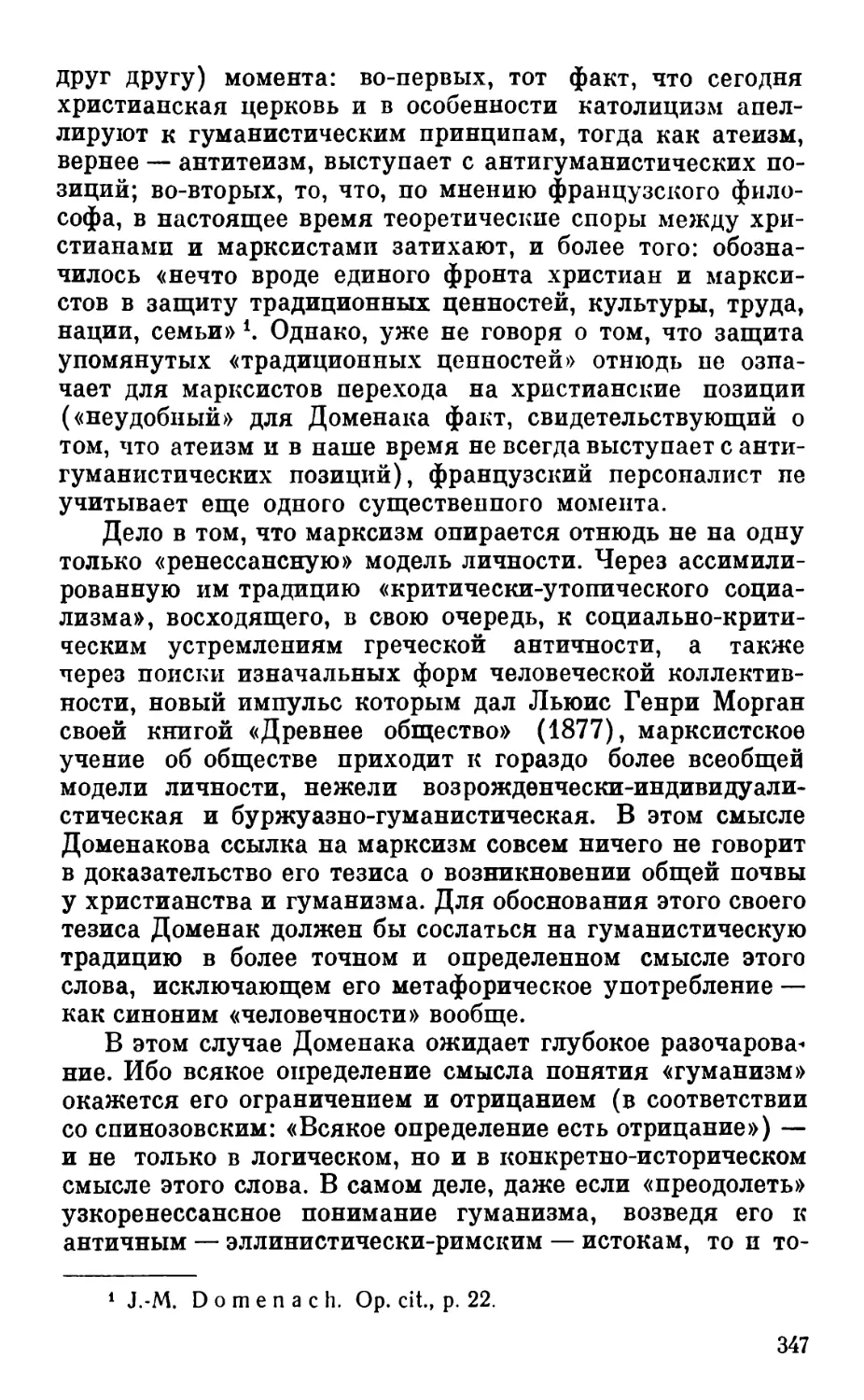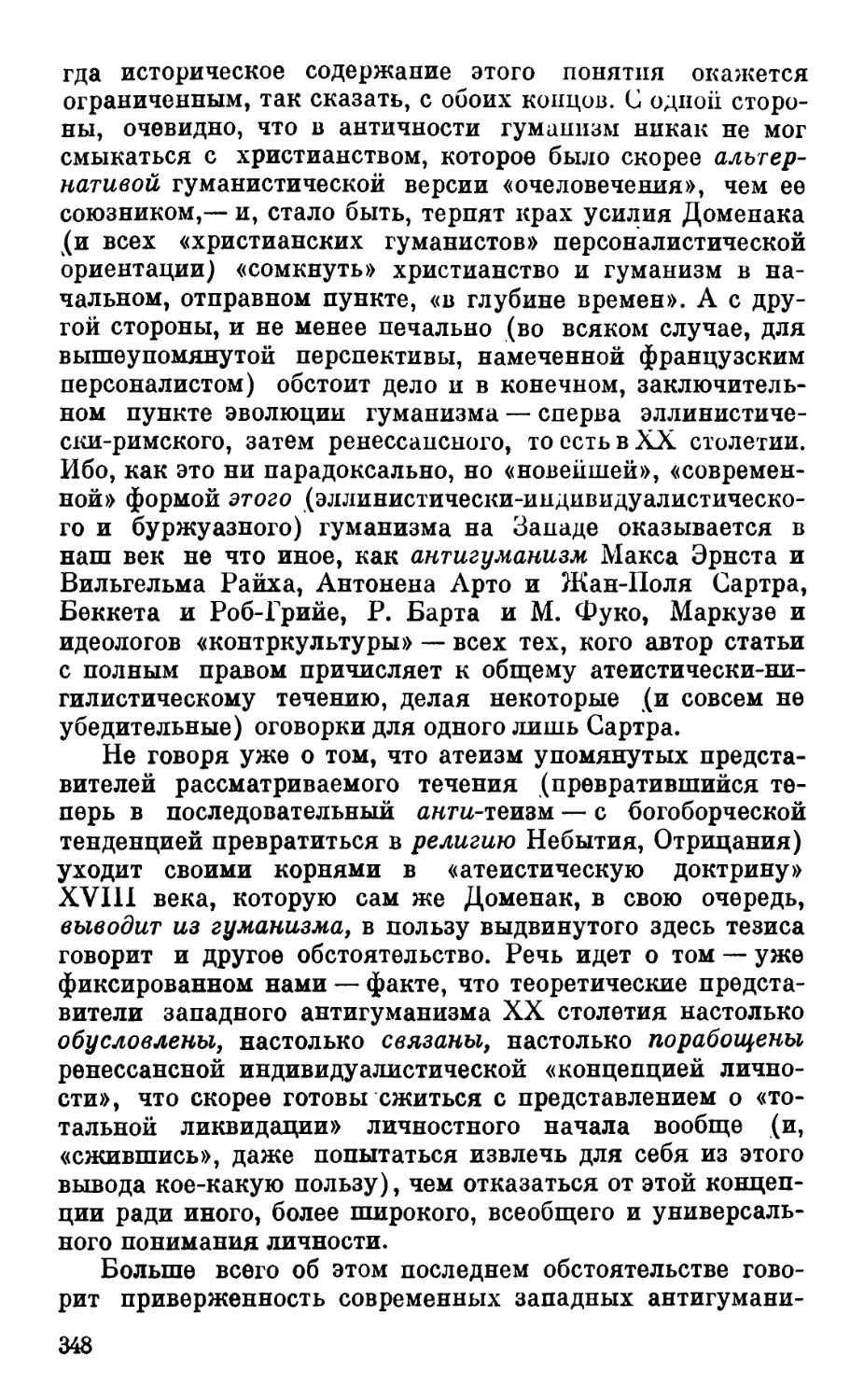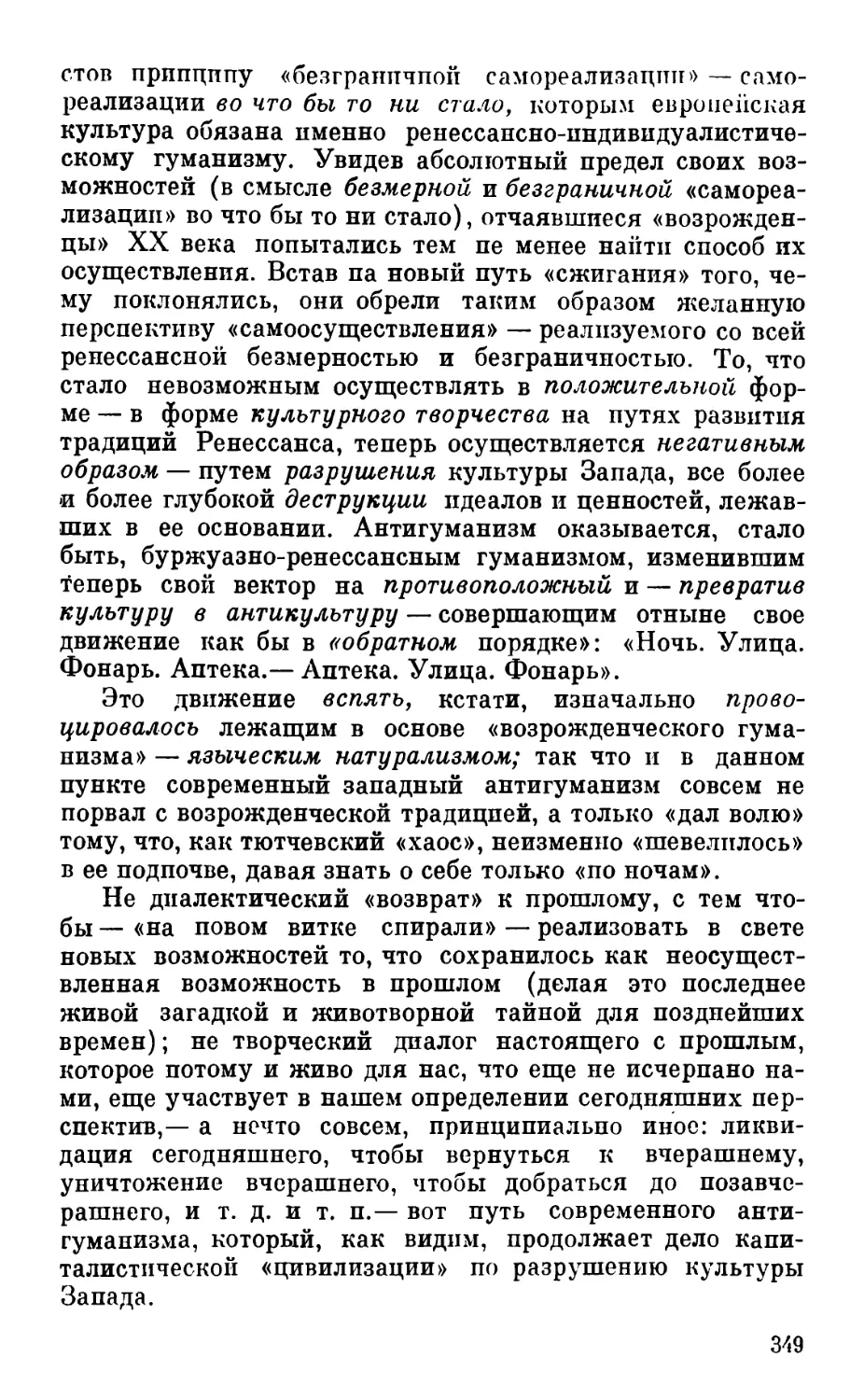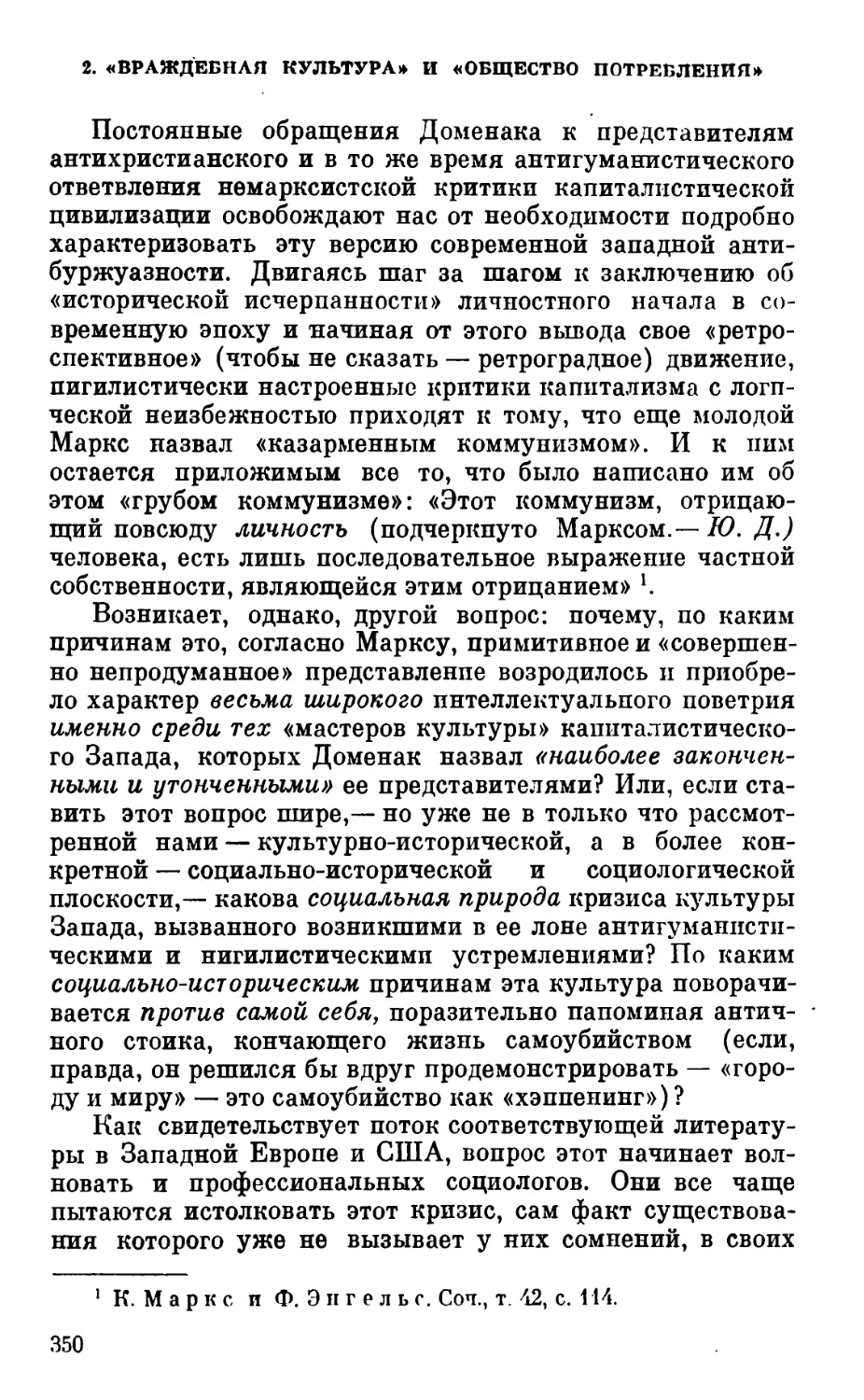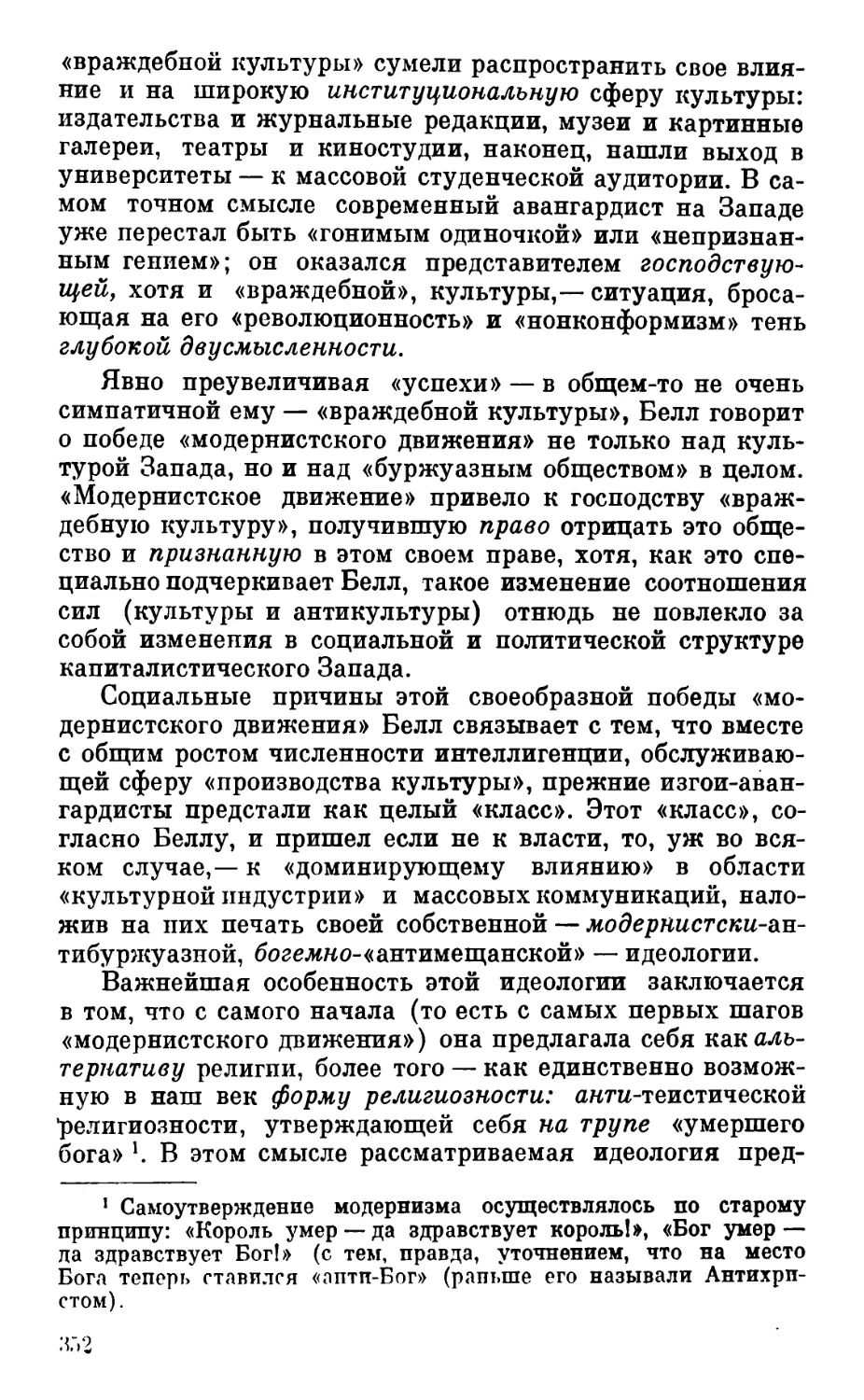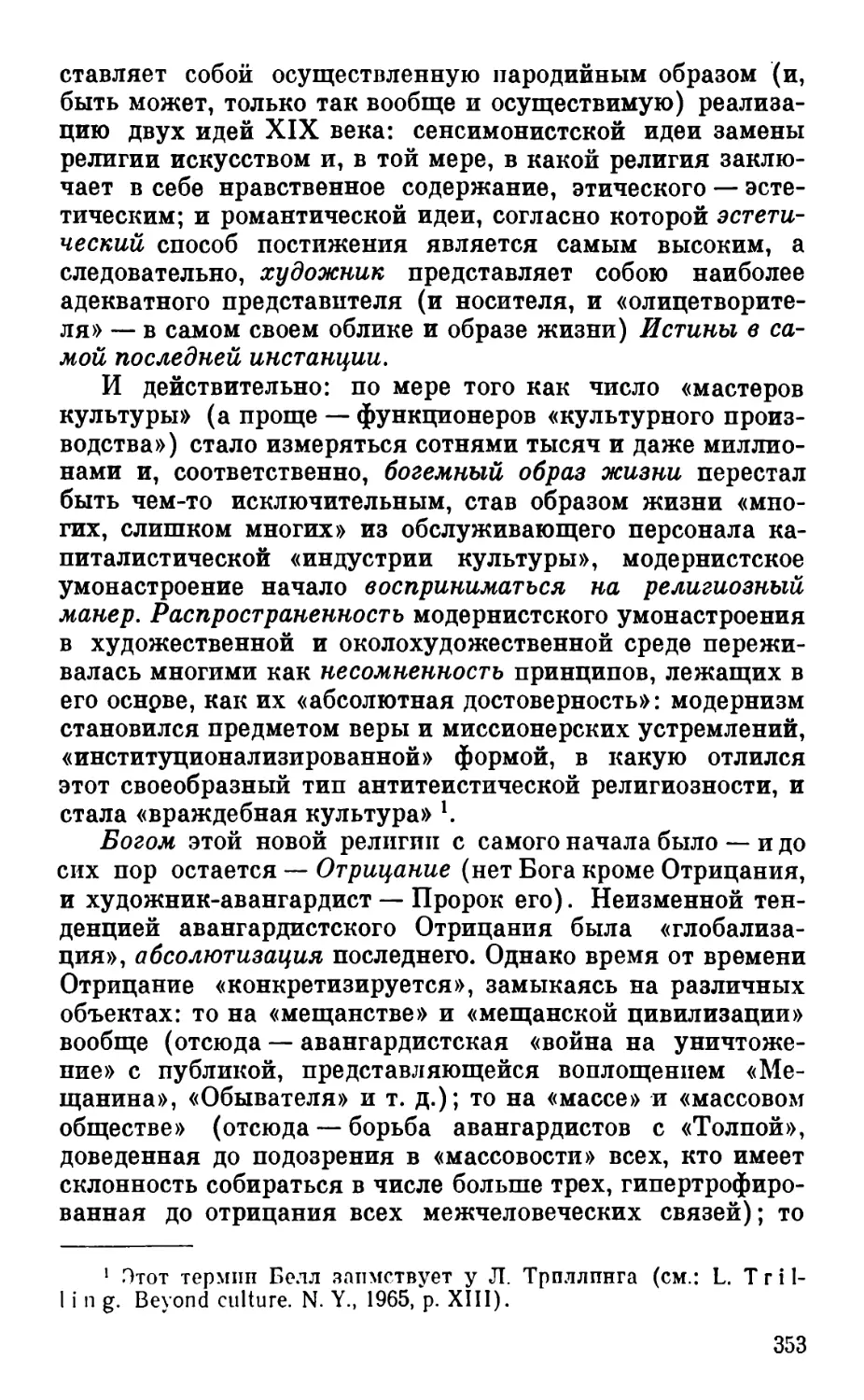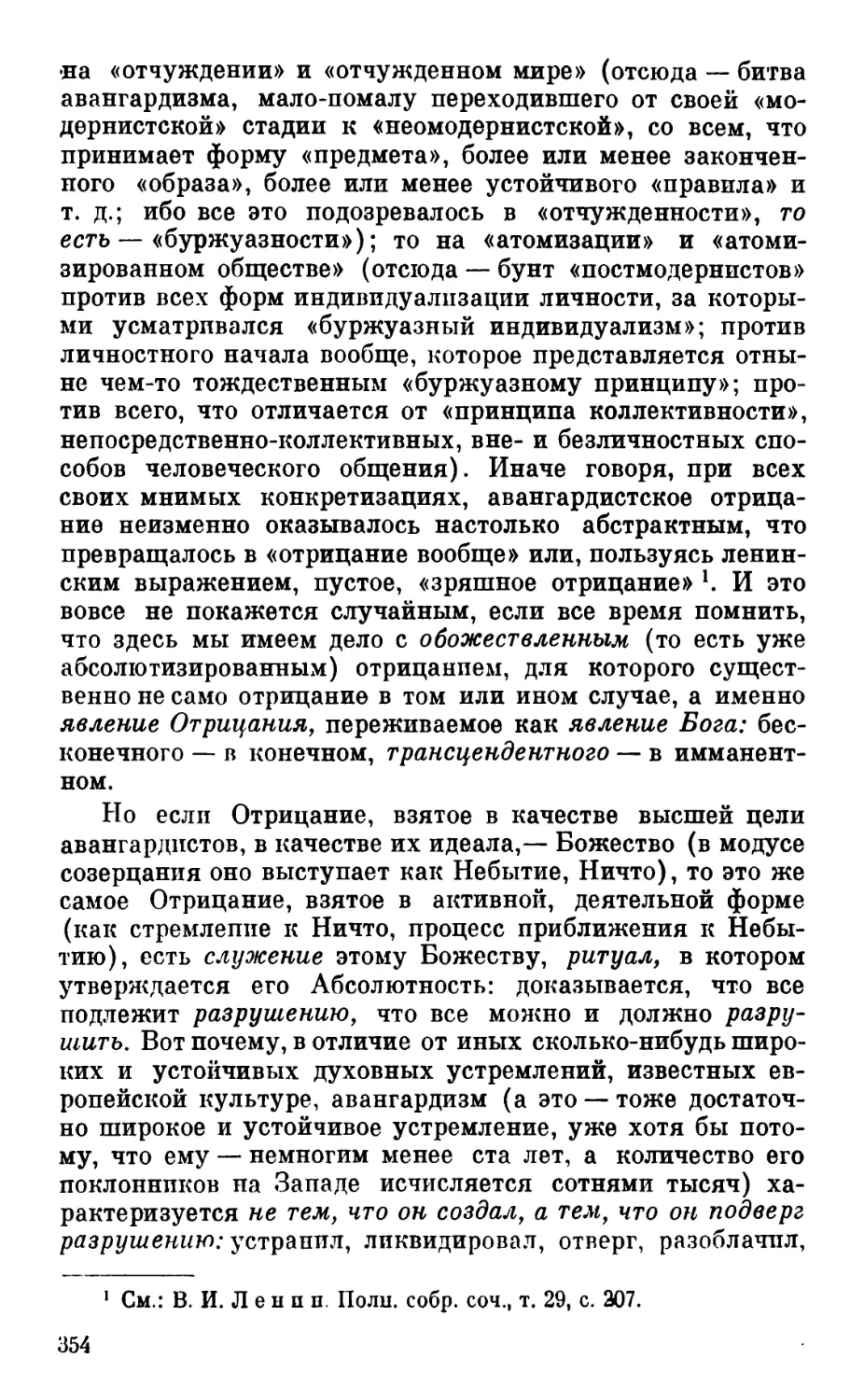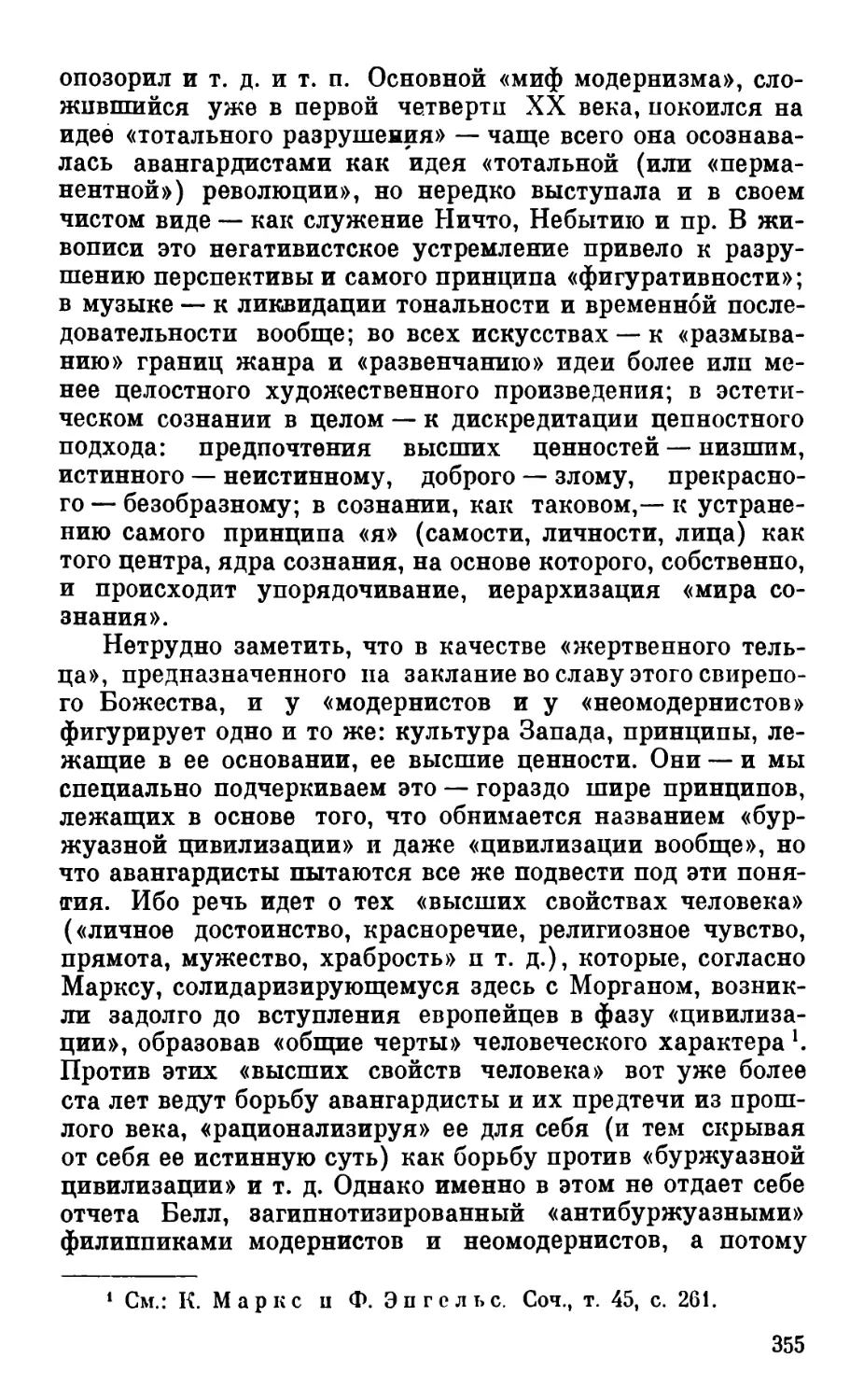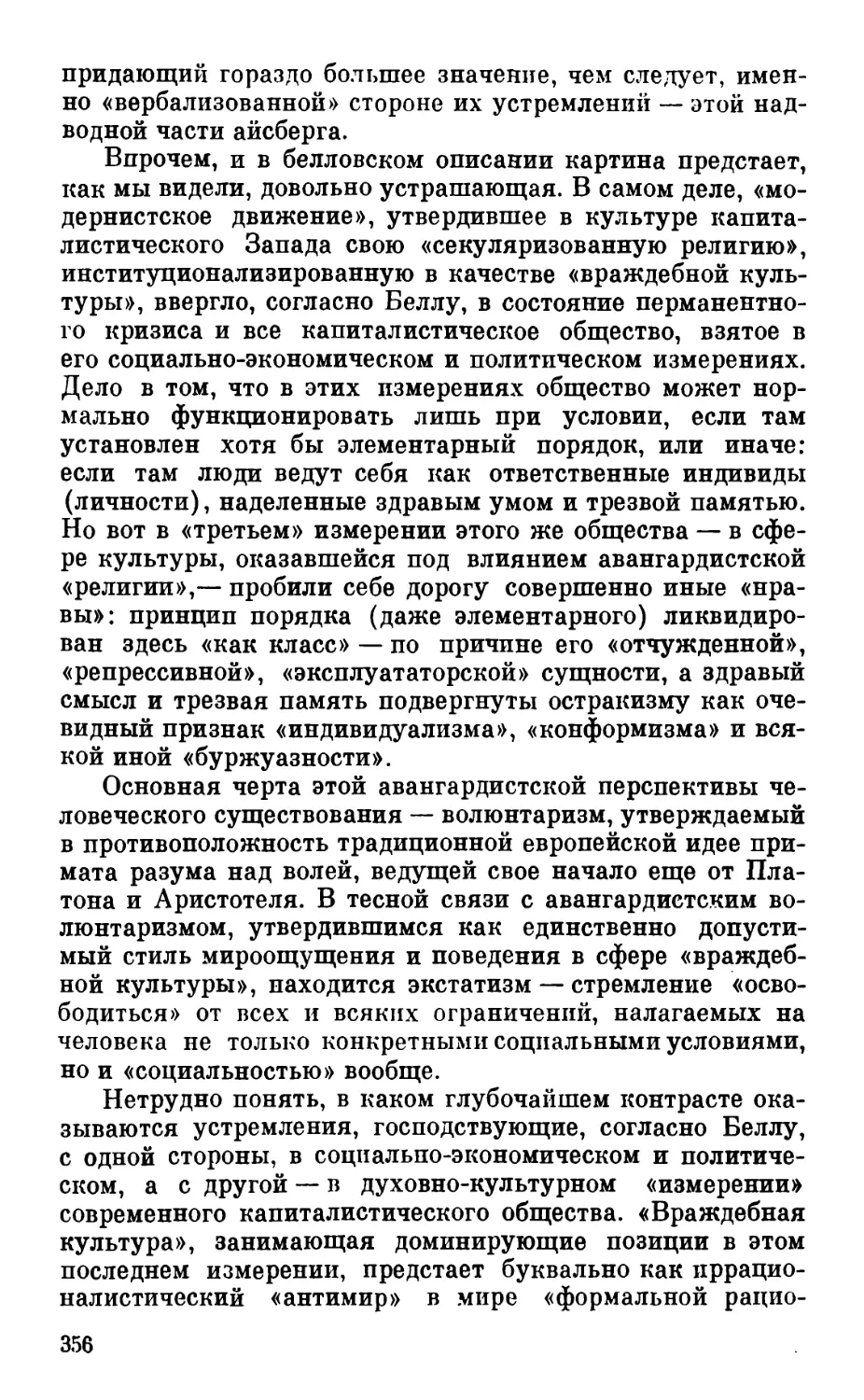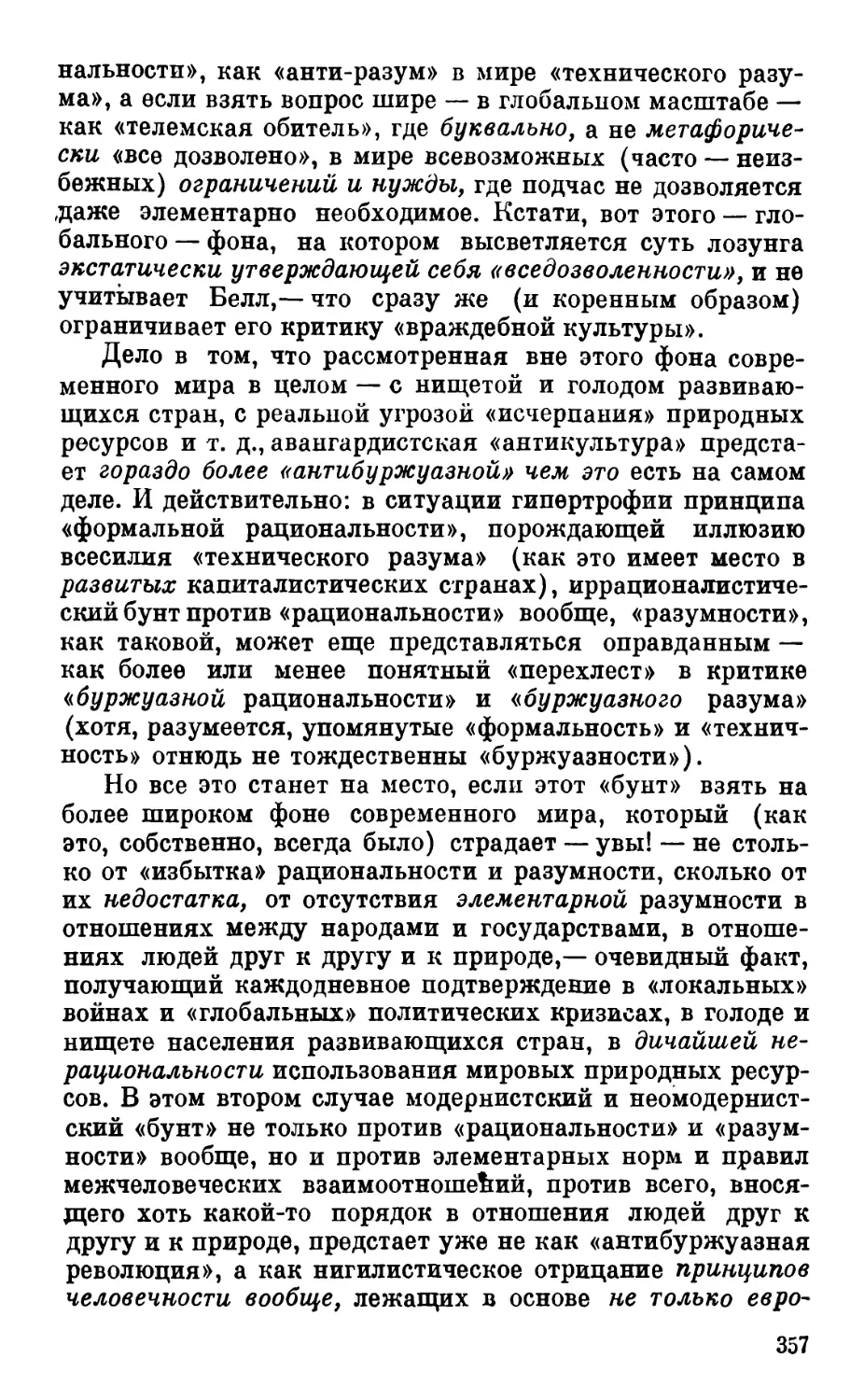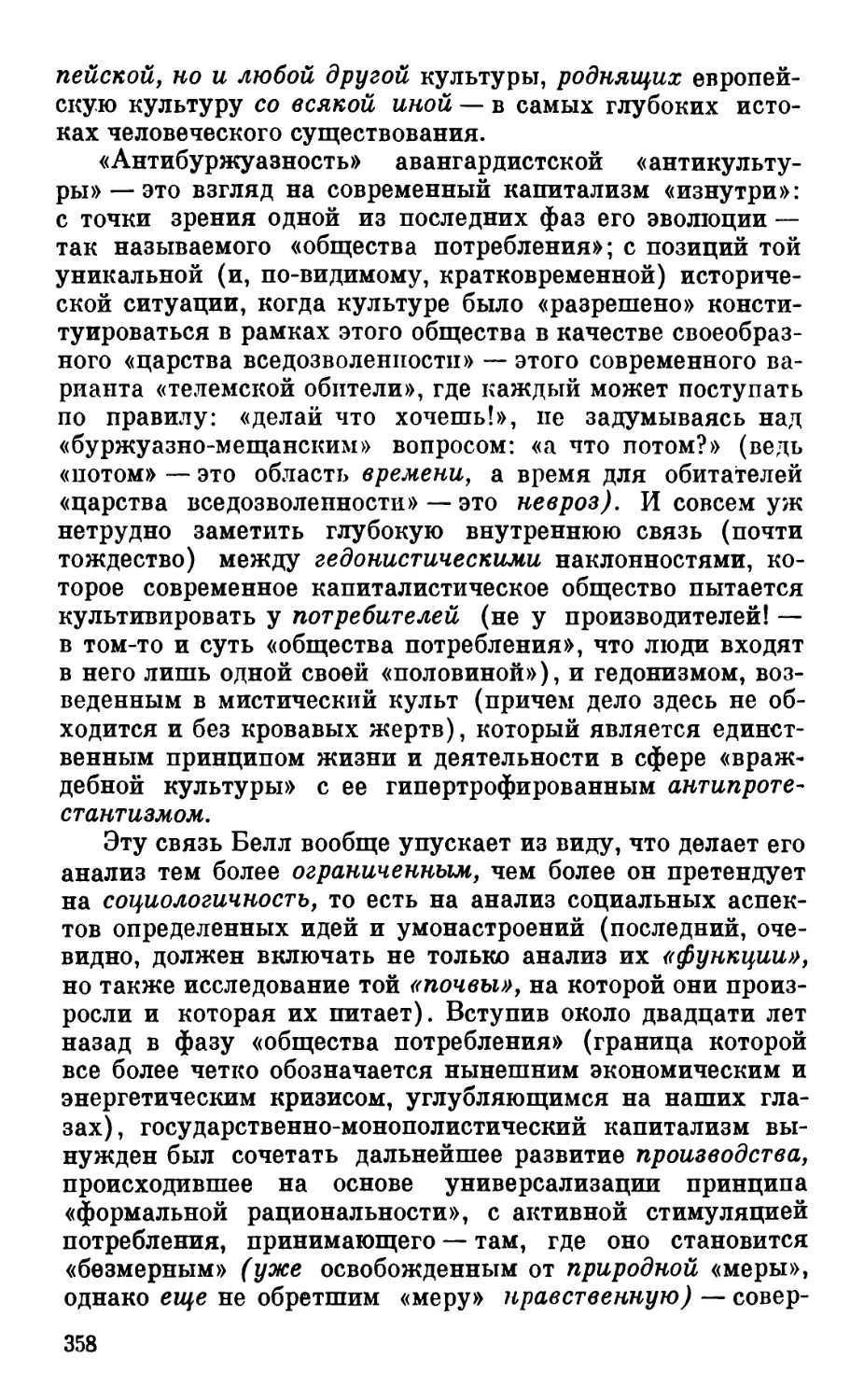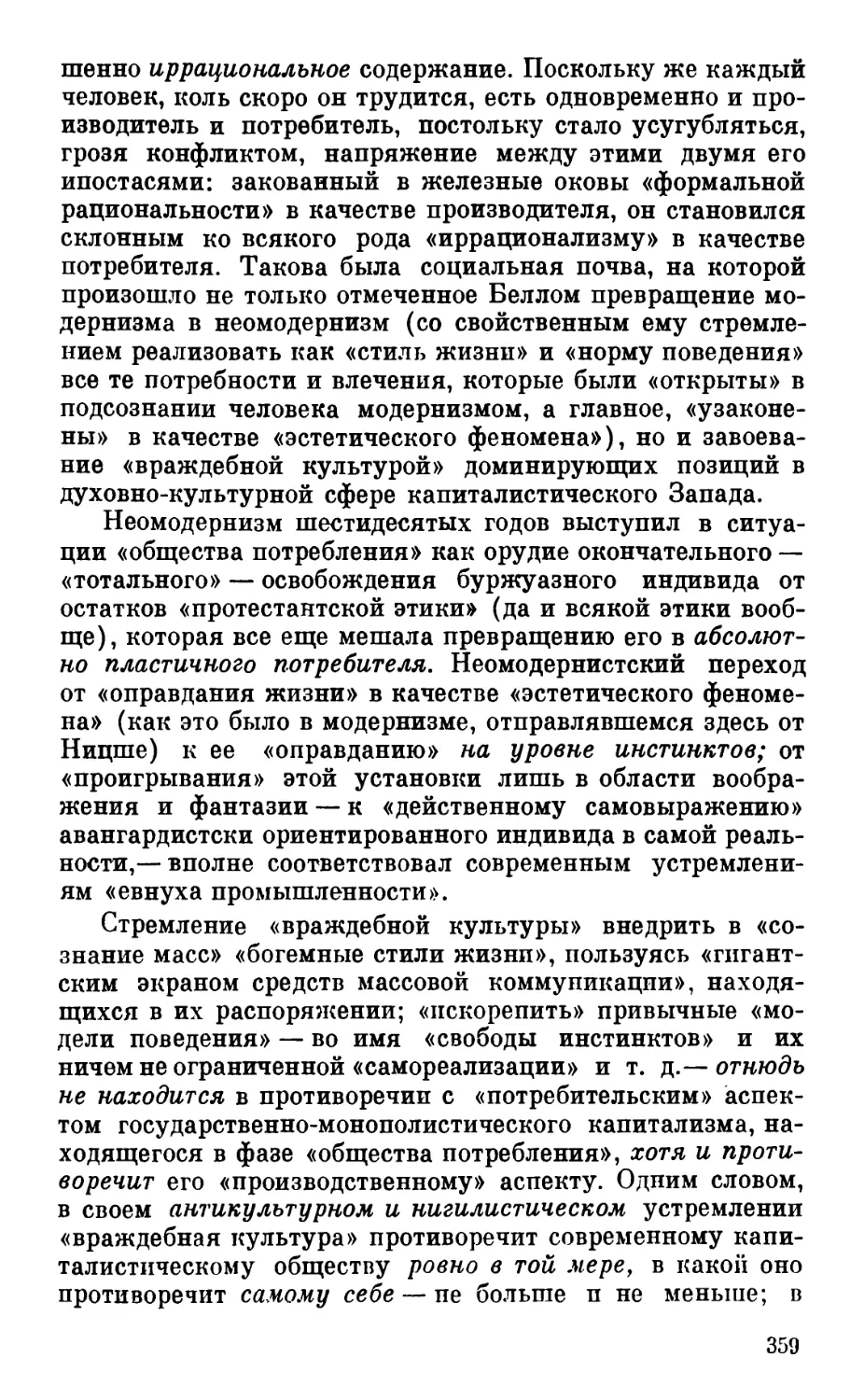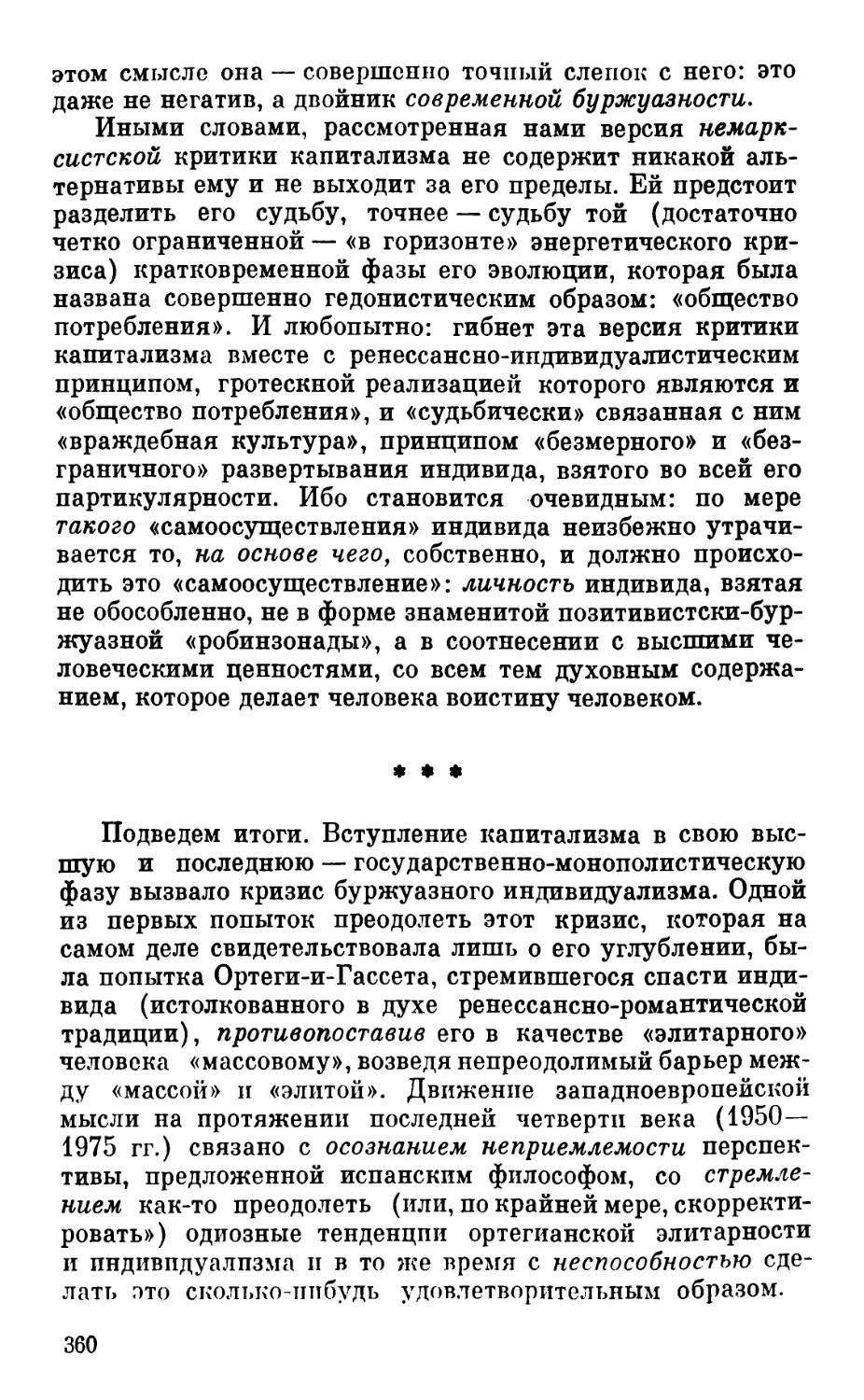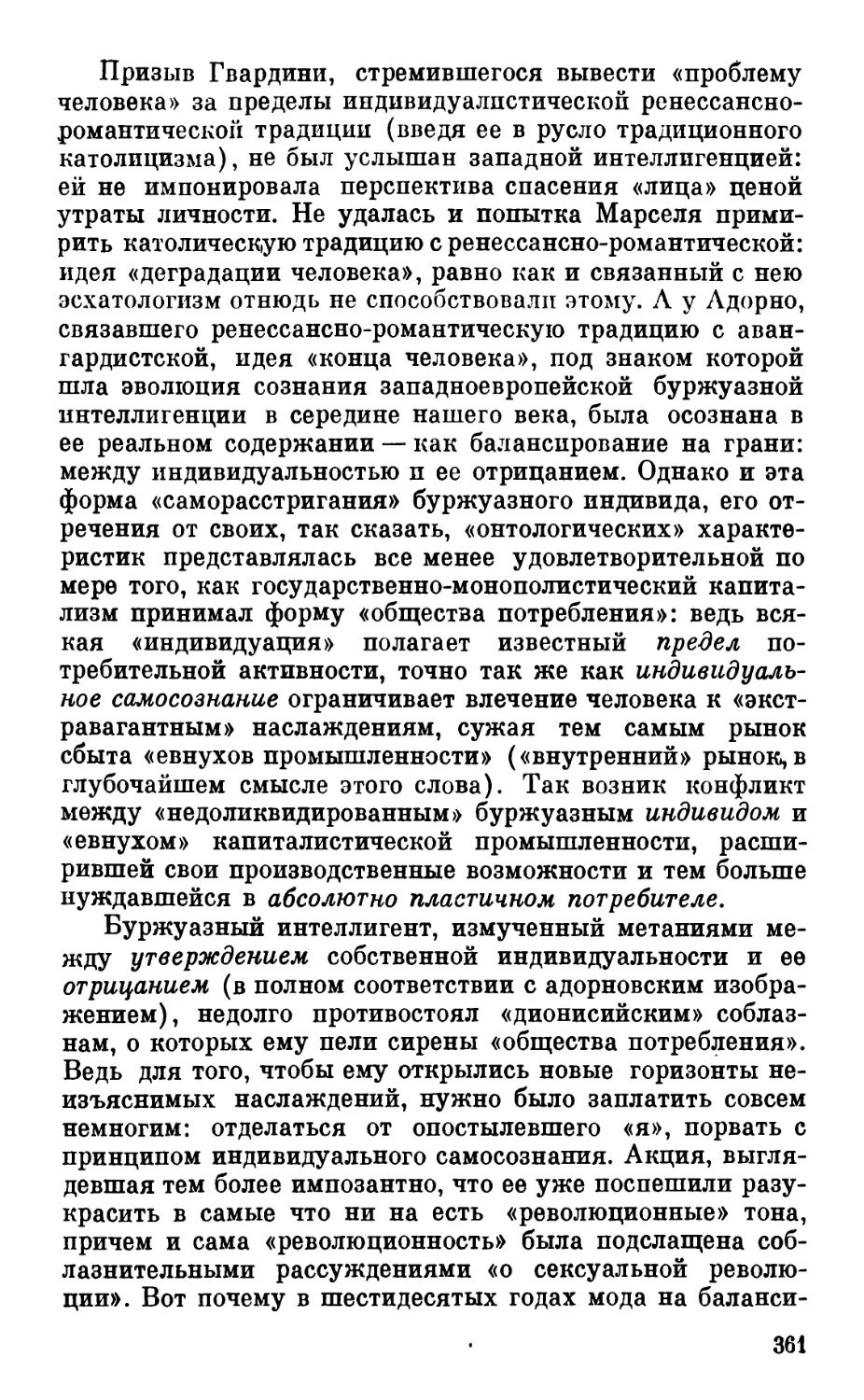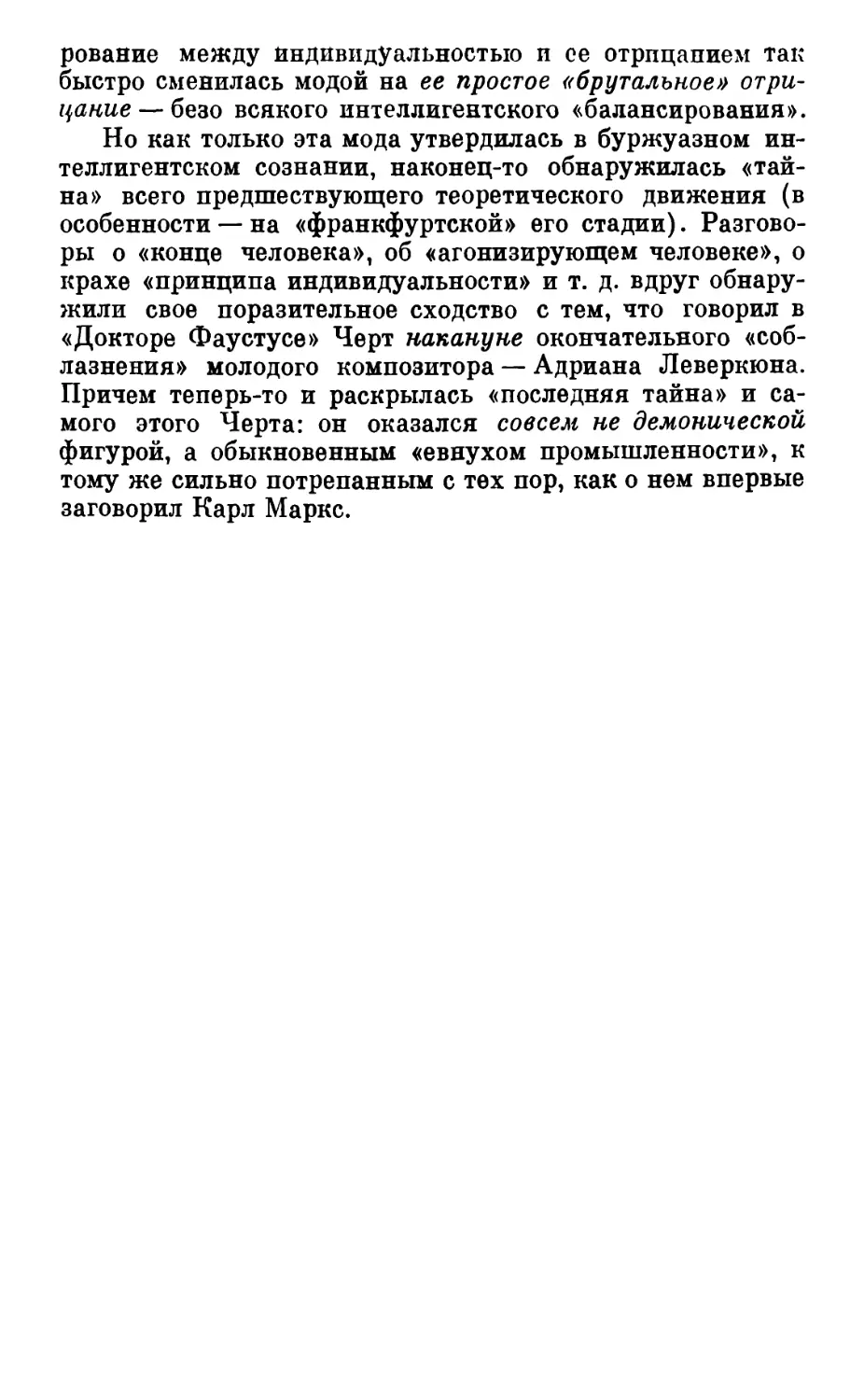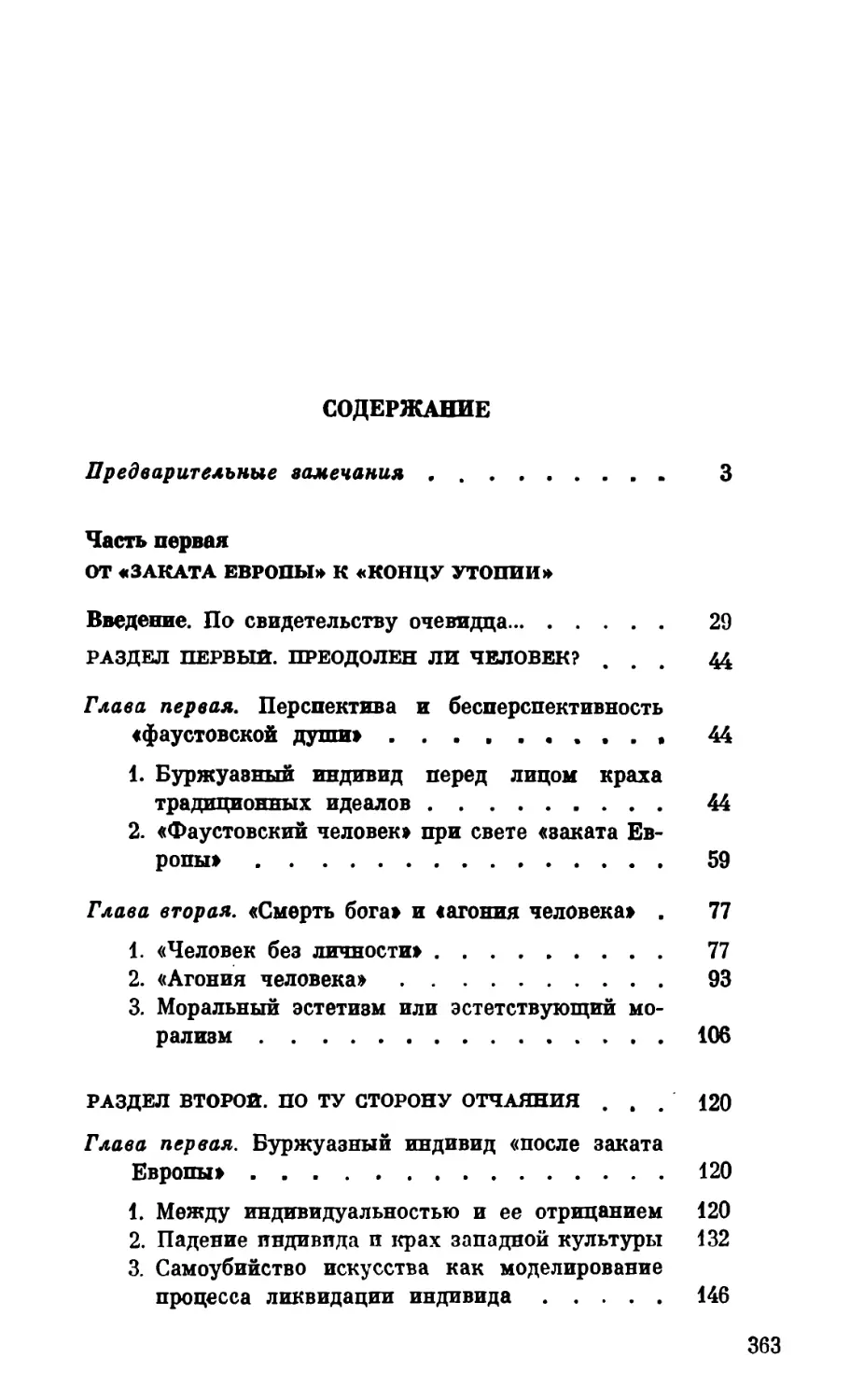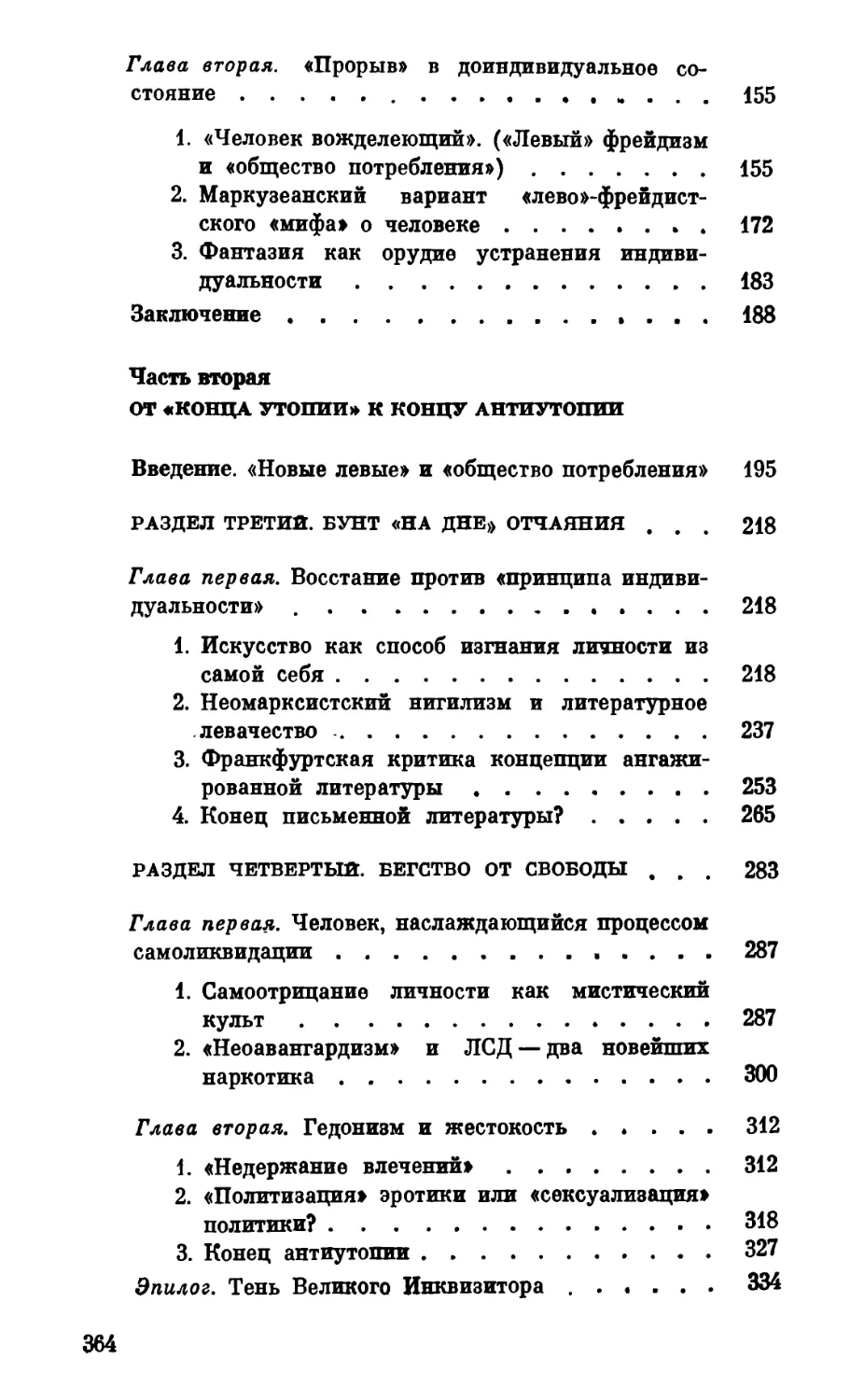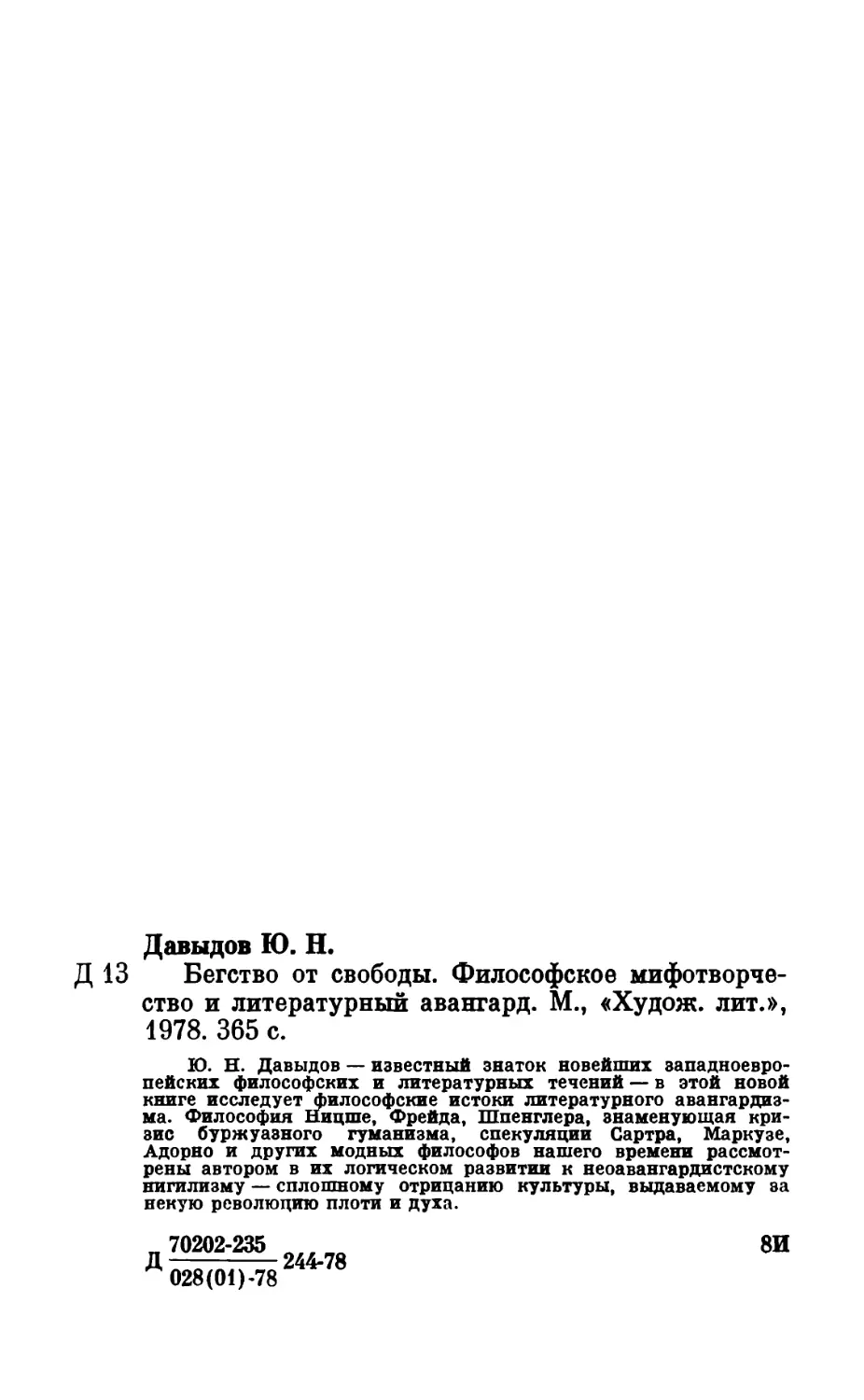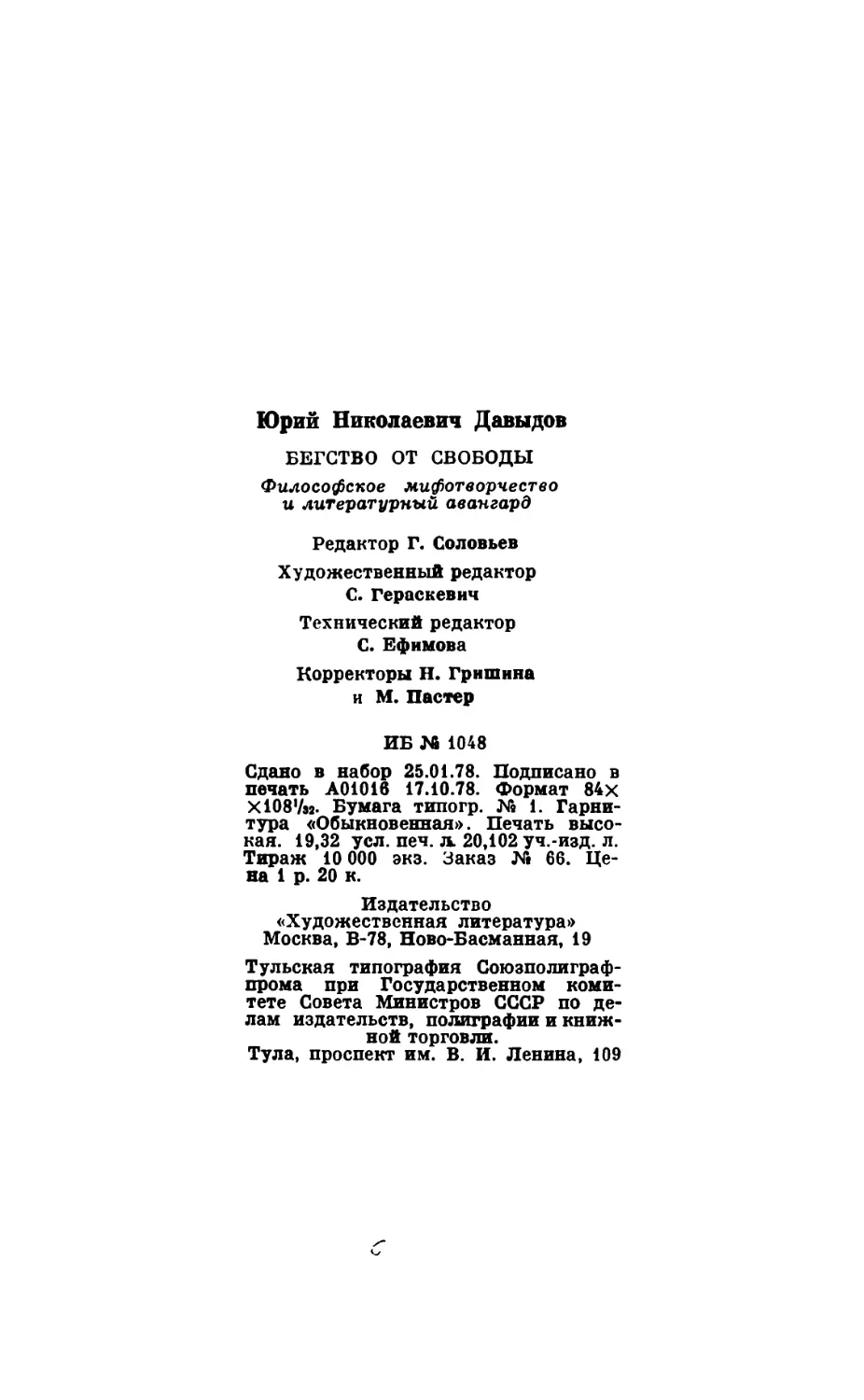Автор: Давыдов Ю.Н.
Теги: философия мифотворчество издательство художественная литература авангард философское мифотворчество
Год: 1978
Текст
Давыдов
Философское мифотворчество и
литературный авангард
МОСКВА
«ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ЛИТЕРАТУРА»
1978
Оформление художника
р. вейлерта
п 244-78 © Издательство «Художественная
A 028 (01 ) -78 литература», 1978 г.
ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ ЗАМЕЧАНИЙ
Сегодня вряд ли можно кого-нибудь удивить, обратив
внимание на факт интеллектуализации западной
литературы XX века, то есть ее тесной и подчас весьма далеко
заходящей связи с философией (а затем также и с
теоретической психологией, культурологией, социологией и
т. д.). Сетования по поводу того, что значительное, если не
подавляющее, число произведений серьезной литературы (а
за нею поспешает и массовая литературная продукция)
вообще невозможно понять, если не разгадан ключ к их
тайным шифрам, к их метафизическому или «глубинно-
психологическому» подтексту,— давно уже стали общим
местом на Западе. Дело дошло до того, что нынешний
критик или литературовед вообще не рискует приступить к
рассмотрению новейшего произведения, даже самого
пустякового, если он не убежден (или не убедил себя) в том,
что ему посчастливилось разгадать «философему»,
лежащую в его основе. А если бы он, паче чаяния, и пошел на
такой риск, то его анализ непременно был бы отвергнут
как совершенно наивный и неквалифицированный. В свою
очередь, и писатель не часто решается нынче вступить на
опасную стезю художественного творчества, не 3apy4HBi
шись предварительно каким-нибудь модным философским
авторитетом, апелляция к которому будет ему надежной
защитой.
Но если даже оставить в стороне необходимую дань
модному поветрию — различные курьезы и «перехлесты»,
нам все же не уйти от признания того, что, по-видимому,
и впрямь уже невозможно представить себе серьезное и
аргументированное исследование о Джойсе без обращения
3
к «глубинной психологии» Фрейда и Юнга, о Хемингуэе
и Камю — без рассмотрения состава идей
ассимилированного ими ницшеанства, Лоуренса и Фолкнера — без
соотнесения их творчества со всей атмосферой «философии
жизни», Марселя, Сартра или Симоны де Бовуар — без
учета глубокой связи их воззрений с экзистенц-философи-
ей Ясперса и Хайдеггера и даже с феноменологией
Гуссерля. Мы не говорим уже о Томасе Манне, стоящем у истоков
«интеллектуального романа» XX века: едва ли не каждое
из его творений — это перевод на «язык образов», перенос
в область межчеловеческих взаимоотношений тех
многообразных коллизий, какими была исполнена умственная
жизнь Европы XIX — первой половины XX столетий.
Кстати, Томас Манн был также одним из первых, кто
осознал этот процесс «конвергенции» художественной
литературы и философии, причем обратил внимание на его
двухсторонний характер — на импульсы, ведущие не
только от первой ко второй, но и от второй — к первой. «Для
широкой публики,— констатировал он,— «беллетристика»
в узком смысле явно отступает на задний план перед кри-
тическо-философской литературой, перед
интеллектуальной эссеистикой. Точнее говоря, осуществилось то слияние
критической и поэтической сферы, которое начали еще
наши романтики и мощно стимулировала философская
лирика Ницше; процесс этот стирает границы между наукой и
искусством, вливает живую, пульсирующую кровь в
отвлеченную мысль, одухотворяет пластический образ и создает
тот тип книги, который, если не ошибаюсь, занял теперь
главенствующее положение и может быть назван
«интеллектуальным романом». К этому типу относятся такие
произведения, как «Путевой дневник философа» графа
Германа Кайзерлинга, превосходная книга Эрнста Бертрама
«Ницше» и монументальный «Гете», созданный Гундоль-
фом, пророком Стефана Георге. К ним безусловно можно
причислить и шпенглеровский «Закат» (Европы.—Ю. Д.),
благодаря уже таким его свойствам, как блеск
литературного изложения и интуитивно-рапсодический стиль
культурно-исторических характеристик» *.
Тенденция, зафиксированная Томасом Манном еще в
двадцатых годах нашего века, выражала глубинные
процессы, происходившие в культуре Запада, а потому ее
ожидало большое будущее. Мы имеем в виду далеко зашед-
1 Томас Мапн. Собр. соч., т. 9. М., I960, с. 611—612.
4
гний па почве капитализма процесс превращения
«стихийных», «естественно сложившихся» (характеристики
Маркса) отношений людей друг к другу и к природе в
отношения «искусственные», опосредованные товарно-денежной
системой и всем тем, что социологи называют «буржуазной
рационализацией» мира. Ярче всего этот процесс описан
в «Манифесте Коммунистической партии», наложившем
глубокий отпечаток на все культурное сознание Запада —
не только на пролетарское и революционное.
«Буржуазия,— пишут авторы «Манифеста»,—
повсюду, где опа достигла господства, разрушила все
феодальные, патриархальные, идиллические отношения.
Безжалостно разорвала она пестрые феодальные путы,
привязывавшие человека к его «естественным повелителям», и не
оставила между людьми никакой другой связи, кроме
голого интереса, бессердечного «чистогана». В ледяной воде
эгоистического расчета потопила она священный трепет
религиозного экстаза, рыцарского энтузиазма, мещанской
сентиментальности. Она превратила личное достоинство
человека в меновую стоимость и поставила на место
бесчисленных пожалованных и благоприобретенных свобод
одну бессовестную свободу торговли...
Буржуазия лишила священного ореола все роды
деятельности, которые до сих пор считались почетными и на
которые смотрели с благоговейным трепетом. Врача,
юриста, священника, поэта, человека науки она превратила в
своих платных наемных работников» 1.
«...Производство, основанное на капитале,— развивает
К. Маркс ту же мысль в иной связи,— ...создает систему
всеобщей эксплуатации природных и человеческих свойств,
систему всеобщей полезности; даже наука, точно так же
как и все физические и духовные свойства человека,
выступает лишь в качестве носителя этой системы всеобщей
полезности, и нет ничего такого, что вне этого круга
общественного производства и обмена выступило бы как
нечто само по себе более высокое, как правомерное само по
себе» 2.
Речь идет о том, все более углубляющемся и
универсализирующемся процессе, который называют
«расколдовыванием» и «демифологизацией» самой действительности,
то есть межчеловеческих взаимоотношений и отношений
1 К. Маркс и Ф. Энгельс. Соч., т. 4, с. 426—427.
2 Т а м ж е, т. 46, ч. I, с. 386—387.
5
людей к природе (как «впешней», так и «внутренней» —
природе самого человека). Этот процесс, естественно,
не мог не иметь далеко идущих последствий также и в
сфере общественного сознания: духовной и, в частности,
художественной культуры — искусства, литературы и т. д. Во
всех этих областях также происходила радикальная
«демифологизация» — «демистификация» самих
познавательных структур, способа теоретического и
практически-художественного освоения мира. Из-под искусства и
литературы шаг за шагом выбивались последние камни того некогда
мощного и незыблемого фундамента —
традиционно-мифологического сознания, на котором они покоились в
условиях добуржуазных способов человеческого бытия (их-то
Маркс и связывает с «естественно сложившимися», или
«традиционными», формами отношений людей друг к
ДРУГУ) *.
Процесс размывания и разрушения глубинных
традиционно-мифологических структур в условиях буржуазной
рационализации мира и межчеловеческих отношений был
долгим, трудным и далеко не однозначным. В иных
случаях он приводил к результатам, на первый взгляд
диаметрально противоположным ожидаемым: скажем, к
углублению интереса художников и публики к мифологии,
мифологическим сюжетам, приемам мифологического освоения
действительности и т. д. Впрочем, более глубокое
рассмотрение неизбежно обнаруживало в такого рода обращении
к традиционно-мифологическим формам сознания именно
ту «заданность» и целеустремленность, ту
«рациональность» и рефлектированпость, которая превращала такой
возврат к мифу лишь в один из видов «расколдовывания»
и демифологизации человеческого сознания. Тем не менее
сам факт подобного обращения к мифу был весьма
симптоматичен: он свидетельствовал о том, что художественное
сознание связано с мифологическим какими-то очень
глубокими связями. Как раз по мере «демифологизации»
искусства становилось очевидным, что миф, который, согласно
проницательному замечанию Маркса, касающемуся
древнегреческой мифологии, составлял «не только арсенал»
искусства, «но и его почву» 2, выполняет по отношению к
нему еще одну функцию, образующую основание двух
первых. Традиционно-мифологическое сознание образовывало
1 К. МарксиФ. Эпгельс. Соч., т. 46, ч. I, с. 473, 475, 480,481.
2 См.: там же, с. 47.
6
некую устойчивую систему координат (нравственного,
Шире — «ценностного» порядка), па основе которой только и
возможно было взаимопонимание между художником и
публикой, искусством и обществом, более того: в рамках
которой «предмет», созданный творческой фантазией
художника, впервые выступал как нечто «эстетически
значимое», да и «значимое» вообще.
Эту систему «ценностных координат» в какой-то
степени можно было бы сравпить с пространственно-временной
координатной сеткой (Кант говорил в этой связи об
априорных формах чувственности), вне которой для человека
вообще невозможно пред-ставление какого бы то ни было
предмета, то есть вступление его (как чего-то
пред-стоящего индивиду) в поле сознания последнего. Точно так же
вне системы нравственных, эстетических и т. д. координат,
заранее дающих возможность индивиду сориентироваться
относительно того, что в его социо-культуре есть «добро»,
а что «зло», что здесь «прекрасно», а что «безобразно»,
где здесь «право», а где «лево» и т. д., невозможно приятие
некоторого объекта, созданного художником, не только за
«эстетический предмет», но и за «значимый предмет»
вообще. В добуржуазных обществах (Маркс называл их
также «традиционными») эта система «ценностных
координат» задавалась мифом; вместе с ним индивид с самых
ранних лет усваивал более или менее целостную
совокупность ориентиров («абсолютов»), под углом зрения
которых весь окружающий его мир — мир человеческих
взаимоотношений и «значимых» предметов — представал как
упорядоченный «космос», где всему отводилось свое вполне
определенное (и потому однозначно оцениваемое) место.
В рамках этой традиционно-мифологической системы
координат развивалось и искусство, которое должно было
особенно болезненно переживать катастрофические
последствия углублявшегося — по мере развития капитализма —
процесса «модернизации» и «демифологизации»
социокультурного мира. И чем дальше прогрессировал этот
всеохватывающий процесс, провоцировавший, в свою
очередь, все более и более частые и далекие отступления
искусства и литературы к своим мифологическим истокам, тем
более очевидным становилось то, что художественное
сознание (нас интересует в данном случае только оно) —
одновременно! — и не могло развиваться дальше, не
опираясь на систему «ценностных координат», которая до сих
пор была неразрывно связана с традиционпо-мифологиче-
7
скими структурами, и уже не обладало таковыми,
поскольку все мифы были «демистифицированы». Вот откуда
возникло тяготение искусства к философии, точнее — к тем
(новейшим) философским направлениям, которые
обещали возродить — или найти, или создать — миф.
Однако мы сразу же должны здесь подчеркнуть: перед
лицом краха традиционно-мифологического сознания
(включая то, что религиоведы называют «христианским
мифом») отнюдь не все искусство и не вся литература пошли
на поклон к философии в надежде, что она осенит
художественное творчество новым мифологическим сознанием.
Во-первых, не все писатели и художники полагали, что,
если пользоваться здесь нашим словоупотреблением,
система «ценностных координат» может иметь своим
фундаментом один только миф, то есть неразрывно связана
лишь с этой формой «освоения» действительности.
Во-вторых, даже те из них, кто верил, что упомянутая система и
в самом деле немыслима без чего-то близкого по своей
структуре к мифологическому типу сознания, не всегда
связывали перспективу возниковения нового мифа с
новейшими философскими эволюциями.
В целом же здесь были возможны три варианта (из
которых только последний выводил к философскому мифу и
«интеллектуальному роману» ) :
1. Можно было по-прежнему надеяться, что процесс
«рационализации» и «модернизации» мира (то есть
системы отношений людей друг к другу и к «внешней» природе)
все-таки не зайдет слишком далеко, не затронет самого
«элементарного» ив то же время наиболее глубокого
уровня межчеловеческого общения — того «клеточного»
уровня, с которым связана онтология общественного бытия и в
котором коренятся «простые законы нравственности»
(Маркс) ;4 что искусство, коль скоро ему удается
углубиться до этого уровня, сможет опереться на связанную с этими
«простыми законами нравственности» систему
«ценностных координат», одинаково значимую как для до-, так и
для после-буржуазной эпохи и предполагаемую не только
мифологическими структурами, но и более поздними —
расчлененными и артикулированными — структурами
общественного сознания; что, опираясь на «простые законы
нравственности» как на первичные ориентиры такой
системы координат, где они способствуют изначальному разли-
1 К. Маркс и Ф. Энгельс. Соч., т. 16, с. 11.
8
чению как «добра» и «зла», так и «плохого» и «хорошего»
в самом широком (не только этическом, но и эстетическом
смысле), писатель и художник всегда найдут свою
публику, как бы трудно это ни было в мире буржуазной
«рационализации» и «модернизации».
2. Можно возложить надежды на то, что «копье
ранящее — врачует рапы» и что сам принцип
«рационализации» и «модернизации» мира может стать основой для
возникновения новой системы «ценностных координат»,
системы ориентиров для человеческого поведения,
художественного творчества и эстетического восприятия; что, если
передать эту версию языком ее теоретического
первоисточника, «источник пового поэтического величия» возникнет
«в позитивистской концепции человека как верховного
владыки царства природы, которое он все время изменяет
в своих интересах с мудрой решимостью, будучи начисто
свободен от всяких пустых угрызений и от подавленного
страха, не признавая никаких общих ограничений, за
исключением системы положительных законов, открывшихся
деятельному разуму...»;i что «неотвратимое наступление
всеобщей реорганизации (то есть все той же
«рационализации» и «модернизации».— Ю. Д.) само по себе принесет
новому искусству и неистощимый материал в виде общего
зрелища чудес человеческих, и важную общественную
функцию: оно должно будет заставить по достоинству
оценить структуру нового общества»;2 что «основное
обязательное условие нового искусства, равно как и пауки и
промышленного производства, заключается в том, чтобы
подчинить все свои замыслы системе законов реальности, и
это пи в какой мере не лишит его драгоценного источника
вымысла, а лишь заставит его придать этому могучему
логическому приему новое направление, соответствующее
тому, что он получит в двух других упомянутых выше
общих аспектах» 3.
3. Наконец, можно было, отказавшись от всех этих
надежд и ожиданий, решительно переориентироваться на тс
новейшие философские устремления, в русле которых
выдвигались притязания на создание нового — уже не
«естественно сложившегося», а искусственного — мифа о чело-
1 Огюст К о н т. Курс позитивной философии, т. 6 (глава
шестидесятая, и последняя). Цпт. по кн.: «Памятники мировой
эстетической мысли», т. 3. М., 1967, с. 730 (пер. Л. Г. Левпнтона).
2 Т а м же, с. 731.
3 Там же, с. 731-732.
9
веке, его назначении и месте в космосе, и соответствующую
ему систему «ценностных координат», возникающую как
результат необходимой в случае создания нового мифа
«переоценки всех ценностей». Эта перспектива должна была
импонировать многим западным писателям и художникам
тем более, что сами философские защитники толковали
ее не только как движение литературы и искусства
навстречу философии, по и наоборот — как движепие
философии навстречу литературе и искусству. Ибо
художественное творчество рассматривалось в данпом случае как
глубоко родственное мифологическому и для того, чтобы
создать новый миф, нуждавшееся лишь в скромном
сотрудничестве философии, призванной расшифровать
художественно созданный миф. Речь шла, следовательно, о
перспективе некоей «конвергенции» философского и
художественного творчества, в русле которой последнее
рассматривалось как модель истинного
постижения-освоения действительности, как подлинный образ этой
действительности, увиденной сквозь «магический кристалл» ее
мифического преображения. Но при этом предполагалось,
что сам художник не знает о реальном содержании
увиденного и созданного им, что это содержание может
раскрыть и перевести на внятный язык лишь философ: он-то
и должен поведать «городу и миру» о том, какой миф
родился в результате творческого акта художника. Иначе
говоря, в рамках возникающего в связи с данной
перспективой культа Художника (и Искусства), претендующего
на то, чтобы заменить религиозный культ, художнику
отводилась роль нового Христа, а философу — роль его
апостола, знающего, однако, о «страстях» Христа-художника
не меньше, а, быть может, даже больше, чем он сам, и
потому играющего при этом последнем также и роль,
очень напоминающую роль жреца-толкователя при
жрицах-вещательницах (пифиях).
Нетрудпо видеть, что из трех описанных здесь
вариантов ответа на «Сфинксову проблему», поставленную перед
западным искусством углубляющимся процессом
буржуазной «рационализации» и «модернизации» мира и
межчеловеческих отношений, только третий связан
непосредственно с интересующей пас тенденцией слияпия искусства и
философии, нашедшей одно из своих наиболее
симптоматичных воплощепий в «интеллектуальном романе» (равно
как и в «интеллектуальной драме», «интеллектуальной
лирике» и т. д.). Что же касается первого из упомянутых
10
вариантов, то он нашел свое осуществление в
реалистическом искусстве Запада, двигавшемся (и движущемся до
сих пор) в направлении, очень близком тому, что было
намечено в творчестве великих русских художников —
Толстого и Достоевского. А второй — позитивистский —
вариант осуществился, с одной стороны, в русле весьма
популярной и поныне «научной фантастики», а с другой — в
тех литературно-художественных направлениях, которые
тяготели к «научным методам» познания
действительности, видя в них истинную «модель» художественного
творчества (как известно, дань такому представлению о
художественном творчестве отдал уже Эмиль Золя, а в рамках
художественного «авангарда» XX в. к этой «модели»
испытывали склонность — по преимуществу
теоретическую — футуристы).
Само собой разумеется, в совершенно чистом виде эти
варианты можно вычленить только теоретически, взяв их
как своего рода «идеальные типы», которые реализуются
лишь в виде большего или меньшего отклонения от них и
в пестром переплетении разнонаправленных литературно-
художественных процессов пробивают себе дорогу лишь в
качестве общих тенденций. Вполне возможеп случай, когда
точкой пересечения этих трех тенденций оказывается
творчество одного и того же писателя, как бы «апробирующего»
в своей творческой эволюции различные варианты ответа
на вызов буржуазной «рациональности». Но поскольку
каждый из этих вариантов имеет определенное единство
внутренней структуры и определенную логику развития,
постольку «сочетать» их в одном и том же акте творчества
(в работе над одним и тем же произведением) в принципе
невозможно, если, разумеется, не считать подлинной
творческой возможностью простую эклектику. Вот почему
упомянутые «идеальные типы» представляются вполне
применимыми для различения противоречащих друг другу, но
логически «замкнутых» внутри себя, творческих
перспектив как при анализе творчества одного художника (если
они перекрещиваются в его творческой эволюции), так и в
случае исследования разных художественных направлений,
каждое из которых последовательно придерживается
какой-то одной из них.
Так вот, что касается выбора западноевропейских
писателей, сделанного в пользу третьей — философско-ми-
фологической — перспективы, то он, с одной стороны,
отражал полное отчаяние по поводу возможностей первой
U
перспективы — пути апелляции к глубинным структурам
простейших межчеловеческих отношений и
соответствующей им элементарной системе «ценностных координат», а
с другой — решительное неприятие буржуазной
«рационализации» и «модернизации» — при полной уверенности в
том, что этот процесс действительно разрушает и
упомянутые структуры, и связанную с ними систему ценностей. Не
случайно выбор в пользу философско-мифологической
перспективы первоначально был сделан именно в искусстве
и литературе капиталистического Запада — там, где
процесс буржуазной «демифологизации» и «демистификации»
всех человеческих связей и контактов зашел особенно
далеко, а традиционная система ценностей, казалось, была
разрушена до основания,— так что перспектива создания
нового мифа мыслилась как «переоценка всех ценностей».
Тяготение писателей и художников к
философско-мифологической перспективе возникло — одновременно! — и из
ощущения полного «Тупика», куда была загнана
(буржуазной «рациональностью») западная культура, и из
нарастающей жажды «Прорыва» — в новое культурное
измерение, измерение нового «Мифа».
Как это ни парадоксально, но у истоков
интеллектуального искусства, возникшего в результате «конвергенции»
художественного и философского способов постижения (и
«освоения», и «творчества») реального, лежит именпо
тяготение искусства к не- и анти-интеллектуальному, что
позволило бы ему (искусству) противостоять буржуазной
рационализации мира, межчеловеческих связей и сознания.
Потому не случайна и манновская апелляция к немецким
ромаптикам, когда патриарх интеллектуальной
романистики XX века начал отыскивать ее более глубокие историко-
культурные корни: романтики действительно были
первыми—в культуре нового времени,— для кого философия
представала как основной инструмент отыскания-создания
нового мифа, объективную и общезначимую форму
которому должны были придать искусство и литература. И там,
где их романы строились на этой предпосылке, они уже
представляли собой нечто вроде прообраза для
позднейшего интеллектуального романа: кое-что уже в них нельзя
было понять, не зная, к какому «философскому мифу»
тяготеет в данный момент автор.
Уже немецких романтиков, большинство из которых пе
только не были чужды философии, но, наоборот, внутренне
к ней тяготели, характеризовала та самая двусторонность
J2
художественных и метафизических импульсов, которую
Томас Манн зафиксировал применительно к
«интеллектуальному роману» нашего столетия; уже здесь не только
искусство стремилось стать «родом метафизики», но и
метафизика — «родом искусства». Следующий — во многом
решающий — шаг в этом направлении сделал Ницше, чье
творчество было названо в упомянутом манновском эссе
«философской лирикой». Для него шопенгауэровская
философия (взятая к тому же в ее художественном
преломлении Рихардом Вагнером) стала инструментом «реинтер-
претации», нового «открытия» — в форме,
соответствующей умонастроениям, складывающимся в европейском
сознании второй половины XIX века, древнегреческого
мифа. Это и придало философствованию Ницше,
агрессивно направленному против всякого «рацио»,
рапсодический характер — характер поэзии особого рода; он
стремился творить в духе — истинно понятого — античного
мифа, находясь в его лоне, как бы сотворчествовать вместе
с ним. (Как свидетельствуют «Первовопросы»
Шпенглера — труд не завершенный и не опубликованный при
жизни этого ницшеанца, он также осознавал свое
философствование как творчество в истинном духе мифа, более
того — как новое мифотворчество.)
Но, как бы ни осмыслял, как бы ни осознавал сам
Ницше истинный смысл и дух своего собственного творчества,
значение последнего в культуре буржуазного Запада
определялось отнюдь не открытием «подлинного» содержания,
истипной сути античного мифа. Источник той роли,
которую предстояло сыграть этому автору книги о рождении
трагедии «из духа музыки» в западной культуре вообще и
художественной культуре в частности, заключался прежде
всего и главным образом в содержании новой концепции
человека, созданной Ницше на основе (определенным
образом истолкованной) философии Шопенгауэра; а ей, этой
концепции человека, он и обязан своим новым взглядом на
античный миф, который стал лишь способом обоснования и
детализации этой концепции. В отличие от того, что думал
об этом сам Ницше, философия (концепция человека) не
следовала здесь мифологии, не вытекала из нее, а
предшествовала ей, хотя затем, в свою очередь, и позволяла заново
истолковать наиболее близкий ей миф прошлого, а также
использовать этот — заново истолкованный! — миф для
своего собственного дальнейшего самообоснования. Иначе
говоря, ницшеанский миф имел уже не естественное, сти-
13
хинно сложившееся содержание, а содержание
«искусственное», опосредствованное философской рефлексией (как
бы эта последняя себя ни понимала),— и в этом смысле он
уже не отличался от иных продуктов буржуазной
рационализации мира и человеческого сознания, хотя и был не
столько позитивным, сколько негативным продуктом этой
всеохватывающей рационализации.
В данной связи для нас раскрывается возможность про-
яспить некоторые моменты, которым предстоит играть
существенно важную роль в пашем последующем изложении:
почему искусство традиционно тяготеет к мифу? каково
место концепции человека в философском построении?
какие из этих концепций больше отвечают внутренней
потребности искусства? какие метаморфозы претерпевает
концепция человека вообще в связи с «конвергенцией»
искусства и философии?
Что касается первого из этих вопросов, то ответ на него
уже предрешен предшествующим изложением: если иметь
в виду те «мифологемы», которые искусство второй
половины XIX — первой половины XX века извлекало из
различных философских построений (в том числе — ив
особенности — из ницшеанских философски-поэтических
озарений), станет ясно: больше всего искусство нуждается
именно в определенной концепции человека — ее-то оно и
искало в мифе, точно так же как затем, в эпоху
«демифологизации» всех мифов (среди которых последним был
христианский), стало искать в более или менее откровенно
мифологизирующей философии. Концепция человека —
это совокупность взаимосвязанных, «причастных» друг
ДРУГУ — там> гДе не идет речь об их интеллектуальной,
логической взаимосвязи, положений, отвечающих на вопрос
о том, «что есть» человек, каково его «место в космосе»,
каковы его обязанности по отношению к себе самому, к
другим людям, к миру в целом. В рамках одного
художественного произведения — будь это даже многотомнейший
роман, эту концепцию невозможно представить как
целое,— можно открыть читателю только тот или иной
«фрагмент» ее. И даже если бы такой замысел и был реализуем
в принципе в отдельном художественном произведении,—
само по себе это не гарантировало бы адекватного пости-
жепия его публикой; скорее наоборот: чем более новой
будет концепция человека, предложенная писателем или
художником в своем произведении, тем больше шансов, что
это последнее вообще не будет понято и даже просто адек-
14
ватно прочтено публикой. Иначе говоря, для того, чтобы
публика могла воспринять художественное произведение с
минимально необходимой степенью адекватности,
необходимо, дабы концепция человека, положенная в его основу,
была бы уже — в общем и целом — духовным достоянием
публики: лишь при этом условии оказывается возможной
«коммуникация» между художником и публикой «по
поводу» его произведения.
Итак — парадокс: и для того, чтобы художник
(писатель) мог создать свое произведение, и для того, чтобы оп
мог рассчитывать на контакт со своей публикой,
необходимо, чтобы та концепция человека, которая будет
положена в основание его произведения, уже существовала, была
бы «дана» публике каким-то иным способом. Так вот: в
поисках решения описанного парадокса искусство
(литература) и влечется к тому роду философии, в лоне
которого концепция человека излагается наиболее доступным ему,
с одной стороны, и его публике — с другой,—
мифологизирующим — образом. Вот откуда, а отнюдь не от
изначальной приверженности к «иррациональному», проистекает
тяготение искусства, оказавшегося перед лицом «мертвого
бога» (то есть перед лицом демифилогизации всех форм
традиционно-мифологического сознания),— к
мифологизирующим разновидностям западпой философии,
мифологизирующему типу философствования вообще.
Пока был жив (или хотя бы принимался большинством
публики, к которой апеллировали искусство и литература)
миф, тысячью разнообразнейших путей «доводивший до
сведепия» каждого индивида вполне определенную, то есть
тяготевшую к какому-то единому, общему центру1,
концепцию человека, у художника было гораздо меньше забот.
Он мог удовлетвориться, так сказать, «чисто технической»
стороной дела, в.оплощая в металле или камне, в слове или
звуке какой-нибудь фрагментарный образ, заимствованный
из мифологического целого — из мифа, как универсального
художественного произведения. Оп хорошо представлял
себе, какое место занимает воплощаемый им «фрагмент» в
художественном макрокосмосе мифа, и был достаточно
хорошо убежден (настолько хорошо, что это не требовало от
него никакой специальной теоретической рефлексии) в том,
что и его «заказчик», публика вообще представляет себе
это место создаваемого пм точно таким же образом. Ему
То есть к единой системе «ценностных координат».
15
важно было только хорошо исполнить свою работу —
достоверно воплотить образ (или фрагментарную систему
образов) мифа, витающего в его воображении: об остальном
заботился сам живой миф, само мифологизирующее сознание
народа — в свете этого сознания «фрагмент» неожиданно
представал как завершенное в себе и самодовлеющее целое.
Гораздо более сложной оказалась ситуация художника
в эпоху «гибели богов», возвещенную еще Вагнером. В
самом деле: попробуем представить себе античную
скульптуру (упомянутый «фрагмент») уже не на фоне античного
мифа (или нашего теперешпего «воспоминания» о нем), а
на фоне пустой музейной стены — голой и мертвой;
попробуем представить себе ее так, чтобы наше воображение не
подсовывало нам абсолютно никаких античных
реминисценций, живущих еще и в нашем современном
сознании,— что мы получим в этом гипотетическом случае?
Взятый сам по себе, вне внутреннего, интимного отношения к
живому целому древнегреческого мифа, этот высоко
профессиональным образом обработанный кусок мрамора не
вызовет у нас никаких глубоких переживаний, если не
считать таковыми активизированный в его присутствии поток
ассоциаций, связанных с нашпм знанием иных изображепий
нагого человеческого тела. Он так и останется
«фрагментом», частью, намекающей на целое, о котором мы ничего
не знаем; и это — несмотря на то, что здесь, казалось бы,
мы имеем дело с самой популярной, наиболее
общедоступной темой искусства вообще — темой красоты,
воплощенной в образе человеческого тела. Ну, а что можно сказать
о произведениях искусства нашего века, тяготеющего к
гораздо менее общезначимой тематике!
Словом, подобно тому как художник добуржуазных
(«традиционных») обществ неизменно предполагал в
качестве условия возможности своего собственного
творчества (и существования каждого своего произведения —
именно как художественного произведения) некоторый
общезначимый миф, художник эпохи капитализма — причем
капитализма, достаточно далеко зашедшего в деле
рационализации человеческого бытия и демифологизации
сознания, с неизбежностью должен предполагать в качестве
такого условия определенную концепцию человека,
«мифологему» *, разделяемую, по крайней мере, его собственной
1 Так можпо обозначить искусственный «миф», в отличие от
естественно сложившегося.
10
аудиторией, пусть это будет даже узкая группа людей, на
чье понимание он рассчитывает: социологи называют ее
«референтной группой». И чем более узкой, замкпутой и
нетерпимой будет «референтная группа» художника (или
писателя), тем более жестко он будет детерминирован
рамками концепции человека, разделяемой им и его
публикой: ведь ему не приходится хотя бы частично
рассчитывать на то, что его поклонники согласятся заимствовать
те или иные ее элементы из третируемого ею «обыденного
сознапия», питающегося объедками с барского стола
философии.
Таким образом, более или менее широкая и единая
публика, с которой имел дело художник, ориентирующийся на
общезначимый миф, предстает теперь расколотой на
большое число элитарных групп, состоящих из приверженцев
различных философских «мифологем», с одной стороны, и
«дно» художественного сознания — так называемую
«массовую публику», чье художественное восприятие
организуется вокруг обрывков и обломков «мифологем»,
выходящих из моды, а потому имеющих наибольшее
распространение в межэлитарной «плазме»,— с другой. Такова
ведущая тенденция, которую современный капитализм с
неизбежностью воспроизводит в сфере художественной
культуры Запада.
Уже сама функция, каковую призваны осуществлять в
художествепной культуре философские концепции
человека, заменяя в этом отношении традиционную мифологию
и религию, побуждает нас предположить, что они обладают
не'«чисто» философской природой. Это должен быть плод
насущно необходимого, но в то же время не вполне
законного бракосочетания искусства и философии,— ребенок,
выношенный и рожденный последней, но затем отданный,
так сказать, на воспитание первому, по этой причине
сохраняющему все свои права на него. От философии он
должен был у наследовать неистребимое тяготение к
«проклятым вопросам» (Шпенглер в своей последней книге назвал
их «первовопросами»), от искусства—нетерпеливое
стремление сразу же переводить их на язык «живой жизни»,
повседневных человеческих коллизий и драм. В этой
двойственности — сила и привлекательность философской
концепции человека, говорящей людям, не искушенным в
тонкостях метафизики, гораздо больше, чем философские
выкладки па иные, более отвлеченные темы. Но в этой
двусмысленности,— а она неизбежно возникает в результате
17
смешения философского языка, тяготеющего к строгости и
однозначности, и языка искусства, играющего своей
многозначностью и метафоричностью, множественностью и
переливчатостью оттенков смысла,— заключена также и
опасность философской «мифологемы». Многозначная, как миф,
она не обладает, однако, его общезначимостью; ее
притязания на общезначимость терпят крушение, наталкиваясь
на тот элементарный факт, что таких претендентов —
много, особенно — в современном западном сознании. Что же
касается искусства, то и по отношению к нему такая
«мифологема» может сыграть двоякую роль: совершенно
необходимая для него в эпоху сплошной демифологизации,
она может стать для него и якорем спасения, и болотным
призраком, уводящим его в безвыходную чащобу и топь.
Естественным результатом осознания жизненной
важности для литературы (и искусства) «мифологем»,
вырабатываемых на путях философского толкования «проклятых
вопросов» человеческого бытия, стало появление писателей
(и художников), являющихся одновременно
профессиональными (или полу-, или непрофессиональными, но все-
таки тяготеющими к метафизической мудрости)
философами; в конце концов фигура философа-романиста, или
романиста-философа, стала типичпой для
литературно-художественной жизни Запада: назовем для примера
Ж.-П. Сартра и А. Мердок. Опасность измельчания
искусства и литературы, чуждавшихся «метафизики», которая
неизменно возникала в период господства позитивистских
и сциентистских умонастроений, к середипе XX века явно
сменилась другой опасностью: опасностью поглощения
художественного начала философским, опасностью
превращения художественных произведений в философские
ребусы, которые и призвана была разгадывать критика,
вооруженная собраниями сочинений Ницше и Фрейда,
Хайдеггера и Юнга.
Само собой разумеется, и литературный критик должен
был теперь поспешать за духом времени и срочно
овладевать «второй профессией»—профессией историка
философии: без этого было уже трудно, если не невозможно
вообще, разбираться в зигзагах и протуберанцах
литературно-художественной жизни Запада. Что же касается
отдельпых негодующих голосов по поводу опасности,
которую таит в себе тенденция превращения искусства и
литературы в «род метафизики», то они оставались гласом
вопиющего в пустыне. Художественная культура Запада все
18
дальше двигалась по этому пути, устланному
произведениями, которые не просто вобрали в себя метафизическую
проблематику, но становились парадоксальным родом
философствования художественного произведения по поводу
самого себя или, говоря кантовским языком, условий своей
собственной возможности. Это значит, что искусство и
литература обнаружили тенденцию ассимилировать не
только сближающуюся с нею антропологическую философию,
но и философски ориентированную критику отдельных
художественных произведений, современного типа
искусства вообще,— тем более что судьба последнего
рассматривалась как «модель» судьбы современного человека
(вспомним «Доктора Фаустуса» Т. Манна, а также
использованные в этом романе размышления Т.-В. Лдорно —
автора «Философии новой музыки»).
Как видим, Томас Манн в своем эссе о Шпенглере, на
которое мы уже ссылались, зафиксировал процесс, который
не только ожидало большое будущее, но который имел
колоссальную «подводную часть», обусловливающую его
особую значимость — и его почти символический смысл — в
западной культуре XX столетия. Мы уже говорили о том,
что этот процесс был изначально двусторонним; и
действительно: в наш век он также был отмечен, с одной
стороны, умножением числа философских романов, повестей и
драм (манновские «Иосиф и его братья», «Лотта в
Веймаре», «Доктор Фаустус» и др., философская проза Камю и
Симоны де Бовуар, философская драматургия Марселя и
Сартра, философские пьесы-аллегории Ионеско и Беккета
и пр.), а с другой сторопы, появлепием новых
произведений философии, работающей в ключе интеллектуальной
романистики («Диалектика просвещепия» Хоркхаймера и
Лдорно, адорновская «Философия новой музыки»,
«Бегство от свободы» и другие произведения Фромма, «Эрос и
цивилизация» и «Одномерный человек» Маркузе, «Одинокая
толпа» Рисмена, «Зеленеющая Америка» Рейча, «Жизнь
против смерти» Брауна, «Становление контркультуры»
Роззака и т. п.).
И теперь мы можем уже с некоторой определенностью,
опирающейся на осмысление более чем векового опыта
развития интеллектуальной романистики на Западе,
констатировать следующее. Если литературе (и искусству)
брак с философией и давал время от времени
определенные преимущества — тем более что он был для нее
жизненной необходимостью, от которой некуда было деваться,
19
то о философии вряд ли можно сказать нечто вполне
аналогичное. Утратив свое традиционное стремление к
строгости и определенности понятий, философия,
ориентирующаяся на художественный способ постижения
реальности как высший, оказалась в ситуации, когда она,
усвоившая художническую ироничность и склонность к
игре, тем не менее продолжала претендовать на всю полноту и
серьезность своего прежнего миросозерцательного
значения — на то, чтобы заместить религию, чей способ
обоснования концепции человека уже не устраивал скептически
настроенную публику: ироническое, сознающее свою
«необязательность» философствование предлагало себя в
качестве замены не знающей сомнений религиозной веры.
Более того—в своих лево-радикалистских и
лево-экстремистских ответвлениях — это философствование, агрессивно
противостоящее протестантскому «духу серьезности», тем
не менее предлагает себя в качестве программы действия,
революционного преобразования, да еще «немедленного»,
то есть не теряющего времени на размышления.
Читатель таких произведений, стремящийся найти в них
то, что отчаялся получить от религии, разоблаченной и
демистифицированной в его глазах в процессе буржуазной
рационализации сознания, вместо насущного хлеба
серьезности получает скользкие камни иронии и насмешки. Ибо
такова природа положенной в их основу эстетизированной
философии — этой «любви к мудрости», иронически
дистанцированной от самой себя, а потому так склонной к
беспредельному релятивизму, ёрническому разоблачению
различных «табу» (в духе времени их обязательно
снабжают эпитетом «буржуазные»), но не к решительному
утверждению чего бы то ни было позитивного и устойчивого,
субстанциального и «высшего в себе». И подчас кажется,
что в рамках рассматриваемого нами
художественно-философского, или философско-художественного, жанра — как
он откристаллизовался па Западе в течение истекшего
полувека — делается все, чтобы оправдать мрачное
пророчество автора «Заката Европы»:
«Систематическая философия бесконечно далека нам в
настоящее время; философия этическая закончила свое
развитие. В пределах западного мира остается еще третья,
отвечающая эллинскому скептицизму возможность, а
именно та, которая отмечена признаком не
применявшегося до сего времени метода сравнительной исторической
морфологии. Возможность, это значит необходимость. Ан-
20
тичный скептицизм чужд историчности; он сомневается и
просто отрицает. Западный скептицизм, если он хочет
быть внутренне необходимым и явить собой символ нашей
клонящейся к концу душевной стихии, должен быть
насквозь историчным. Он упраздняет, признавая все
относительным историческим феноменом. Приемы его
психологические. В эпоху эллинизма скептическая философия
проявляется в отрицании философии — ее признают
бесцельной. В противоположность этому мы имеем в
истории философии (то есть, добавим мы от себя, в
наблюдении за тем, как различные философские концепции
терпят крах и сменяют одна другую.— Ю. Д.) последнюю
серьезную философскую тему. В этом заключается
скептицизм. Дело сводится к отказу от абсолютных точек
зрения...» i
Не потому ли среди философских концепций человека,
которые доминировали в шпенглеровские времена, а затем
пережили свой ренессанс в пятидесятых — шестидесятых
годах, на передний план выдвинулись историцистские,
вульгарно-социологические и фрейдистские, причем
фрейдовский психоанализ дал именно арсенал психологических
«приемов», коими пользовался и пользуется поныне
«западный скептицизм», зафиксированный автором «Заката
Европы»? Эстетизация философии и ее релятивизация,
скептическая зачарованность принципом
«относительности» всех человеческих ценностей и идеалов оказались
процессами, идущими рука об руку, а точнее — двумя
различными аспектами одного и того же процесса: процесса
сближения (и в конце концов — слияния) философского и
художественного способов постижения мира и человека в
эпоху, когда, говоря словами Маркса, ничто уже не
признается «высшим в себе и самодостаточным». Вот почему и
«мифологемы», касающиеся человека и смысла его
существования, возникающие в лоне соответствующих
философских устремлений, также изначально отмечены печатью
скептицизма и релятивизма. В итоге на месте более или
менее определенных утверждений о том, что такое
человек, в чем его призвание, какова его позиция по
отношению к добру и злу, оказывается некая «игровая»
конструкция, позволяющая до бесконечности продолжать «игру в
бисер», перебирая различные исторически существовавшие
1 Освальд Шпенглер. Закат Европы, т. 1. М.—Пг., 1923,
с. 45.
21
(и исторически «исчерпанные») толкования по этому
поводу.
В свою очередь, искусство, ждущее от философских
«мифологем» более или менее определенных суждений
относительно человеческой природы, однако ждущее тщетно
и безнадежно, оказывается обреченным на то, чтобы
усугублять свое ироническое, игровое устремление, ни в чем
не встречающее границ. В рамках такого искусства
утверждение абсолютных ценностей заменяется бесконечными
разговорами на тему о том, что это такое и с каких сторон
можно подойти к определению понятия «ценности» и
«абсолюта». Писатель отказывается утверждать что-либо со
всею категоричностью и решительностью: каждый свой
тезис он оговаривает, подвергает ироническому остранению—
благо есть возможность «распределить» свои бесконечные
колебания между «да» и «нет», между различными
персонажами романа, повести или драмы, которые от этого
кажутся исполненными особой метафизической глубины
(вспомним «Черного принца» Мердок). Одним словом,
подобно тому как современная западная философия
обнаруживает склонность вместо определенной концепции
человека предлагать пабор различных «игровых»
конструкций, подменяющих решение «проблемы человека»
бесконечными словопрениями на тему о том, «кто умнее?», «кто
глубже?», «кто философичнее?» (наиболее выразительный
пример в этом отношении — Мартин Хайдеггер),
современное западное искусство и литература тяготеют к тому,
чтобы вместо художественного произведения, организованного
вокруг некоторого центра — его М. Бахтин назвал однажды
«авторитетной авторской позицией»,— дать публике
некоторую «структуру» для бесчисленных, исключающих друг
друга «интерпретаций», то есть для соревнования по
вопросу о том, «кто утонченнее?», «кто изысканнее?», «кто
образованнее?». В обоих случаях мы имеем дело с
ориентацией на одного и того же персонажа западной культуры
нашего столетия — hominis ludentis, человека
играющего, пророком которого еще в тридцатые годы выступил Хей-
зинга — автор еще одного «интеллектуального романа»
XX века (он так и назывался «Homo ludens»).
В конце концов эта затянувшаяся «игра в бисер» долж-
па была порядком надоесть даже самим ее участникам,
даже тем, кто устанавливал правила этой игры; не случайно
в романе Гессе, носящем это название, Великий магистр
«игры в бисер» порвал в конце концов с Орденом, в кото-
22
ром эта игра заменяла религиозный ритуал, и ушел в мир,
в «живую жизнь» — ушел, чтобы погибнуть от одной из
тех случайностей жизни, которые пе могут быть
предусмотрены никакими правилами игры, и тем менее могут
быть предотвращены с их помощью. Скептицизм по
поводу действительных возможностей культуры, по поводу ее
способности принять себя всерьез и вмешаться в кровавый
конфликт противоборствующих жизпенных — и
нравственных! — сил,— этот скептицизм, разъедавший западную
культуру изнутри, должен был одпажды выйти наружу и,
приняв вполне телеспый вид и облик, обрушиться на нее
теперь уже «извне». Благо — релятивистский историцизм,
вульгарно-социологическое разоблачительство и
фрейдистский биологический редукционизм уже, так сказать,
«обосновали» подобный вариант теоретически.
Таким актом возмездия культуре, утратившей веру в
себя (поскольку она утратила веру в истинпость истин и
абсолютность абсолютов) и забывшей о том, что свой смысл
она получает от действительности, от того, что выше и
«значимее», чем она, и стало движение «новых левых» в
шестидесятые годы, во многом напоминавшее все те
антикультурные «волны», которые неоднократно поднимались
на протяжении нашего века (фашизм — лишь один из
примеров этого). Как и всякая месть, имеющая своим
источником действительный факт вины, а своим орудием — «вот
этого», конечпого и партикулярного ипдивпда,
антикультурная волпа шестидесятых годов представляла собою
нечто неизбежное (и черпающее в этой неизбежности свое
обоснование и оправдание) и в то же время — вопиюще
несправедливое: ведь она обрушивалась пе на реальные
недостатки и пороки существующей западной культуры, а па
культуру вообще, сам принцип культуры и человеческой
духовности. И что особенно показательно в контексте
нашего изложения — погром «элитарной» культуры,
осуществлявшийся «повыми левыми» под лозупгами,
заимствованными ими из буржуазной «массовой культуры»
(имевшей свои основания в одно и то же время и завидовать
культурной «элитарности», и ненавидеть ее), в конце
концов оказался не чем иным, как продолжением
все того же процесса капиталистической «рационализации»
сознания, конечной целью которого является «научно»
рассчитанное и оснащенное новейшей технологией
массовое — индустриальное! — производство «культурного
сознания».
23
Любопытно, что в сфере самой культуры эта
«классовая борьба» против нее (а именно так осознавали свой
нигилистический порыв «новые левые», называвшие
культуру «последним оплотом буржуазии») осуществлялась
вульгарной социологией, шедшей рука об руку со
структурализмом. Именно в атмосфере такого «альянса», почвой
которого был беспробудный редукционизм, возникла
модная на рубеже пятидесятых — шестидесятых годов идея
«конца романа» — не только «интеллектуального романа»,
к тому времени окончательно запутавшегося в
хитросплетениях «игры в бисер», но и романного жанра вообще.
Впрочем, как вскоре выяснилось, лозунг «Долой роман!»,
ошарашивший читающую публику, был только первой
ласточкой: в недалеком будущем ее ожидали еще более
удивительные откровения. Модный лозунг «Долой роман!»
очень скоро сменился еще более радикальным, еще более
«левым» и «брутальным» — «Долой литературу!», ибо она
«буржуазна» по самой своей природе (поскольку относится
к духовному, то есть «идеалистическому», а не
материальному производству). Не успел бедный читатель освоиться
и с этим лозунгом, освобождавшим его от необходимости
читать (а следовательно — «перерождаться в буржуазном
духе»), но сохранявшим за ним право слушать те же
литературные тексты, коль скоро они пропускаются через ка-
палы массовых коммуникаций — передаются по радио или
телевидению,— как его решили совсем уж доконать.
Структуралисты из группы «Тель кель» пришли к «научно
обоснованному» выводу, согласно которому само слово
обременено «идеологией», а значит — «буржуазно»; отсюда
вытекала «революционная» задача, которая и была
поставлена перед «новыми левыми» писателями: «деидеологизи-
ровать» слово, сделать так, чтобы идеология
(«буржуазность») не протискивалась между словом и вещью,
обозначающим и обозначаемым, чтобы слово выговаривало
только «саму вещь», сигнализировало только о ее
«вещественности», не привнося никаких смысловых, то есть
идеалистических, то есть контрреволюционных, ассоциаций.
В интересах «культурной революции» слову приказано
было «овеществиться», «окаменеть» — чтобы этим камнем,
как и любым другим, можно было разбивать головы
классовых врагов. Заманчивая перспектива, не правда ли?..
Но самое парадоксальное заключается здесь в том, что
и в основе этой — достаточно примитивной (и не слишком
привлекательной в аспекте нравственном) — игры в разру-
24
шеиис романного жанра, литературы вообще и, наконец,
самого слова как носителя духовного содержания опять-
таки лежала определенная мировоззренческая концепция
человека — оказывается, и тут не удалось без нее обойтись!
Правда, концепция эта была чудовищной по своему
примитивизму и вульгарности: ее краеугольным камнем было
представление о человеке как «вещи» — вещи среди
других, столь же «вещественных» вещей,— по отношению к
которой всякие смысловые, духовные определения
предстают как нечто вроде плесени и ржавчины, прилипающей
к ней и разъедающей ее (способствуя превращению
естественно-природной «человеко-вещи» в законченного
буржуазного идеалиста-индивидуалиста, опутанного
различными идеологическими «табу»). Не случайно именно на почве
этой концепции возникла еще одна (совсем уж
«революционная»!) — идея — идея «конца человека», которому
суждено настолько раствориться в безличной и безликой
массе, что он утратит наконец все свои индивидуальные, то
есть индивидуалистические, то есть буржуазные,
определения. И освободится наконец от всего того, что отличает его
от такой великолепной вещи, как машина. Это ли не
триумф буржуазной рациональности! Именно буржуазной —
и никакой иной! Триумф тем более впечатляющий, что
впереди колесницы триумфатора с восторженными возгласами
бегут как раз те, кто считал себя (иногда вводя в
заблуждение и окружающих) самым принципиальным и «до
конца последовательным», самым непримиримым и яростным
его врагом...
* * *
Впрочем, этот прискорбный и поучительный итог
мифотворчества в XX столетии со всей отчетливостью обнажил
его сакраментальную тайну. Стало, наконец, совершенно
очевидным, что главный исток мифотворческого
скептицизма и релятивизма — в отождествлении «философского
мифа» и практической деятельности, «человеческого
значения» реальности и самой этой объективной реальности,
«способа видения» действительности и самой этой
действительности отношений человека к природе и человека к
человеку. Именно оно, это исходное отождествление бытия
и сознания, ввергает западных философов и художников,
работающих в ключе «интеллектуальной романистики», то
25
в грех гордыни — когда приписывают мифам абсолютное
господство над реальностью, то в грех отчаяпня — когда
обнаруживают, что их мифологические построения, вчера
еще пользовавшиеся «всеобщим признанием»,
разваливаются, как карточные домики, и больше о них никто не
помнит. Потерпев фиаско в своем суетливом стремлении
«схватить бога за бороду», они тут же приходят к выводу,
что «бога — нет», то есть не существует никакой
объективной реальности, а есть лишь некая проекция на поле
общественного сознания субъективно конструируемых
мифов, враждебных друг другу и вытесняющих друг друга.
Между тем, как раз это постоянное низвержение вновь
и вновь возникающих «философских мифов», их
лихорадочная смена друг другом, позволяющая уловить их
несамостоятельность и вторичность, свидетельствует об обратном:
о том, что объективная реальность — есть, что это —
закономерная жизнь природы и общества, «упругость» которой
постоянно ощущает человек в своей повседневной
деятельности и с которой он должен считаться, хочет он того или
нет. Суровая действительность предписывает людям формы
и способы их практического сознания и поведения и
толкает к краху всякого, кто пытается уклониться от этой
суровости общественной жизни или «заклясть» ее на
субъективистский манер, как это делает философская мифология.
Неудержимый процесс исторического становления
социального бытия, отстраняющий все потуги «остановить» его
новыми и новыми мифологемами, взывает не к
мифологизирующей «интерпретации» мира (которая, согласно
Ницше, должна заступить место познания, ибо «никакой
истины нет»), но к его истинному постижению. Речь идет о
постижении его как бытия объективной реальности, а не
бытия «мифа» или духа, как процесса, с необходимостью
возникающего из данного нам прошлого через творимое
нами настоящее к будущему, которое представляет собой
не конструируемый «миф» или «идеал», а объективно
разворачивающуюся из человеческой деятельности реальность,
исторические горизонты которой раздвигаются в ходе
конкретной практической жизни и порождают все богатство
несущих истину и всю нищету несущих ложь идеальных
отражений в головах людей.
Часть первая
ОТ «ЗАКАТА ЕВРОПЫ»
К «КОНЦУ УТОПИИ»
ВВЕДЕНИЕ. ПО СВИДЕТЕЛЬСТВУ ОЧЕВИДЦА...
В конце пятидесятых — начале шестидесятых годов (то
есть как раз в то время, когда движение «новых левых»
делало свои первые шаги) на Западе активно обсуждалась
идея «смерти человека», вызвавшая в интеллектуальных
кругах модное поветрие, сопровождающееся своеобразной
конкуренцией — кто дальше зайдет в «развитии» этой
ошеломляющей идеи.
Как пишет лидер современного буржуазного
персонализма Ж.-М. Доменак *, в художественной сфере этот
процесс уже тогда был отмечен именами Беккета, Ионеско, Роб-
Грийе и других видных представителей авангардистской
литературы и искусства, которые не только взяли на себя
роль свидетелей «аннигиляции» — уничтожения —
человека (и человеческого начала вообще), но и пожелали
утвердить эту «аннигиляцию» в качестве отправного
пункта своих творческих исканий, оказавшись, таким
образом, вольными или невольными апологетами
зафиксированных ими явлений.
В философии, по мнению Доменака (оп имеет в виду
главным образом французскую философию), сторонниками
двусмысленной идеи «смерти человека», явно обнаружив
вавшей тенденцию превратиться в «провокационный
лозунг», выступили: Леви-Стросс со своим «этнологическим
дикарем», который превратился в его руках в основной
инструмент отрицания гуманизма и гуманности; М. Фуко,
элиминировавший, устранивший в своей книге «Слова и
1 См.: J.-M. Domenach. The attack on humanism in
contemporary culture.— In: «Concilium», v. 6, 1973, № 9, p. 17—28.
29
нощи» человеческое начало точно так же, как он
«устранил» в более ранней работе — «История безумия» —
различие между разумом и сумасшествием; Л. Альтюссер,
попытавшийся представить Марксово учение в качестве
«теоретического антигуманизма», и неофрейдист Ж. Лакан.
В политике, по свидетельству этого
философа-персоналиста, носителями идеи «смерти человека», реализуемой в
форме экстатического саморастворения индивида в «акте
Бунта», стали гошиствующие студенты, из рядов которых
вышли, как известно, левые экстремисты анархистского,
маоистского и неотроцкистского толка. Общим
знаменателем всех этих устремлений, с помощью которого они были
разменены на мелочь ходячих монет «массового сознания»,
стало, согласно Доменаку, «варварство контркультуры»,—
форма, в которую выливается ныне на Западе
«молодежная субкультура» (отсек «массовой культуры»,
создаваемый специально для молодежи с помощью ее популярных
«идолов»).
Между всеми вышеупомянутыми персонажами,
представлявшими на протяжении истекших пятнадцати —
двадцати лет самые различные области французской (и
вообще «западной») духовной культуры, Доменак
устанавливает глубокую внутреннюю связь, свидетельствующую о
неслучайности описываемого им «поветрия». Ионеско и
Беккет — эти практики (а отчасти и теоретики)
«абсурдизма», у которых уже трудно различить, оплакивают ли они
констатируемую ими «нулевую степень» человечности,
призывают ли они своих современников противостоять
тенденции «обесчеловечивания» или рассматривают ее как
единственно возможную, как не подлежащий обжалованию
приговор истории,— рассматриваются Доменаком в
качестве предтеч нынешних антигуманистов *.
Однако непосредственным провозвестником «новой
волны» антигуманизма,— писателем, у которого «смерть
человека» уже определенно не рассматривается в виде одной
из возможных перспектив и не оплакивается, как это было
раньше, а просто удостоверяется и утверждается в качест-
1 Более отдаленных предшественников антигуманистов «новой
волны» Доменак видит в таких художниках-антигуманистах, как
Пикассо, М. Эрнст, Чирико и другие, которые уже в начале века
«иллюстрировали» (утверждали?) «смерть человека» на своих
полотнах. В аналогичной связи упоминает он также теоретика и
практика «театра жестокости» А. Арто, а также близких к нему
по духу апологетов «бессознательного» из числа сюрреалистов.
30
йе «факта», долженстпующего стать отправным моментом
дальнейшего «культурного творчества», по мнению Доме-
нака, является известный французский
писатель-неоавангардист Роб-Грийе. Его критика французского
экзистенциализма за гуманистические «пережитки» ', с которой он
выступил в 1958 году, представляется автору статьи испол-
венной далеко идущего значения (разумеется, не
лишенного геростратовских обертонов).
В свою очередь, Беккет, Ионеско и Роб-Грийе
рассматриваются Доменаком как предшественники Леви-Стросса,
Фуко и Лакана, проделавшими в сфере философско-теоре-
тической то же самое, что названные писатели совершили
в практически-художественной области. В частности,
лидер французского персонализма констатирует, что «новый
роман» Роб-Грийе и его последователей, в котором
упразднены не только личность, но также история и время
вообще, вполне может быть рассмотрен как прототип
зарождавшегося тогда структурализма, его литературное
предвосхищение: ведь структурализм характеризует та же самая
тенденция «тотальной ликвидации»
индивидуально-личностного начала.
Все эти философы рассматриваются лидером
«христианского гуманизма» как участники массированной атаки"
на гуманизм, предпринятой во французской (и не только
во французской) культуре в течение истекших пятнадцати
лет под одним и тем же лозунгом «смерти человека»,— До-
менак, хорошо помнящий о кошмарах фашистского
варварства, не без основания называет его «провокационным».
При этом особую тревогу вызывает у Доменака то, что
провозвестниками атигуманистического устремления
оказались «наиболее рафинированные представители
культуры» (ставшие, таким образом, ее «наиболее яростными
противниками»). А также то, что поворот этот был с
энтузиазмом встречен широкими слоями интеллигенции и
студенчества. Сложная структуралистская и
неофрейдистская аргументация в защиту тезиса о «смерти человека»
позволила придать наукообразную форму вновь
возродившейся моде на «антикультуру»; люди помоложе
подхватили ее как «теоретическое обоснование» необходимости учи-
1 Критикуя экзистенциалистов за то, что они, «прикрываясь
абсурдом», потихоньку восстанавливают человеческий характер,
Роб-Грийе требовал, чтобы человек изображался в литературе
точно так же, как любая другая «вещь», в крайнем случае — как
насекомое в ряду других насекомых.
31
нить «бунт» против культуры: последний получал
«благородное оправдание» и обеспечивал причастность к
«интеллектуальной аристократии» не успевшим еще как
следует образоваться «бунтарям». В целом же
оказывается, что представители «антигуманизма» (и
антикультуры) — как теоретического, так и практического—образуют
достаточно широкий «фронт»; причем тем, кто его
составляет, обеспечена поддержка еще более значительного круга
буржуазной интеллигенции.
Сказанного, пожалуй, вполне достаточно для того,
чтобы представить здесь важность и актуальность
критического анализа комплекса философских,
литературно-художественных и эстетико-социологических проблем,
обсуждаемых на Западе в связи с вопросом о «конце человека».
Вопрос этот, как видим, совсем не академический, ибо то,
как оценивалась на Западе «ситуация человека» в XX
столетии, время от времени «провоцировало» — и мы были и
остаемся тому свидетелями — также и попытки
обращаться с человеком соответствующим образом: вслед за
разговорами о «конце» человека неизбежно возникали
поползновения и в самом деле «покончить» с ним. В этих случаях
становилось особенно очевидным: мысль стоит гораздо
ближе к делу, чем это можно предположить, имея в виду более
отдаленные от нас эпохи. А потому в наш век она и более
«вменяема»,— предположение, если хотите — презумпция,
отправляясь от которой мы и будем анализировать идею
«преодоленности» человека, имея в виду, что она не только
симптом, но и фермент опасных процессов, происходящих
в современной буржуазной культуре.
Вот почему в последующем рассмотрении нас будут
интересовать не только пессимистические констатации
«судьбы» личности, индивидуальности и т. д., каковых так
много нынче на Западе, но и то, с каких позиций, в рамках
какой «концепции человека» они имеют место.
* * *
Проблема «смерти человека» не впервые выдвигается
на авансцену буржуазного сознания. Шестидесятые годы,
так потрясшие Доменака, отличаются здесь разве лишь
более последовательным стремлением связать «теорию с
практикой», сделав идею «смерти человека» отправным
моментом не только философски-художественного творчества, но
и политического действия,— как это и произошло у «новых
левых» экстремистов. Вопрос этот обсуждается на Западе
32
еще со времен позднего Ницше, выступившего с призывом
«превозмочь» человека — дабы унавозить почву для
произрастания «сверхчеловека» *. И с тех пор в
капиталистических странах тема «преодоления» человека не сходит со
страниц философских книг и литературно-художественпых
журналов, перескакивая время от времени на широкие
газетные полосы, на театральные подмостки или плоскость
киноэкранов.
В этой теме симптоматично все: и то, когда, в какую
эпоху она возникла, и то, кем была выдвинута, и то, где
получила распространение и сохранила свою актуальность.
В самом деле: если у человека возникает вдруг мысль — не
утратил ли он человеческие свойства и не следует ли ему
активно включиться в процесс их окончательного
«преодоления» и если она принимает в его сознании характер
навязчивой идеи,— значит, с пим явпо творится что-то
неладное. Ну, а если об их собственной «преодоленности» (опять-
таки — в качестве людей) начинают толковать многие —
причем из числа тех, кому положено сеять «разумное,
доброе, вечное», и если разговоры об этом упорно ведутся
почти на протяжении целого столетия,— стало быть, что-то
неладное творится уже не с отдельным индивидом, а с
обществом и его культурой. Очевидно, речь идет о
радикальном (ибо затронут его корень — человек) кризисе
общества, симптомом — и в то же время ферментом! — которого
является болезнь общественного сознания.
Вот почему представляется совсем не случайным, а,
наоборот, исполненным глубокой символики и мрачных
предзнаменований тот факт, что первым, поставившим на
Западе вопрос о необходимости «превозмочь» современный
культурно-антропологический тип человека, стал
мыслитель, уже начавший погружаться в ночь «помрачения
разума»,— в буквальном, а пе метафорическом значении
этого словосочетания.
Вот почему предстает как фатальная необходимость,
как судьба западной культуры в эпоху превращения
«свободного» капитализма в
государственно-монополистический то обстоятельство, что идея, ставшая симптомом и
ферментом распада сознания автора «Заратустры»,
неуклонно овладевала умами выдающихся «мастеров» этой
культуры — до тех пор, пока (уже в середине XX столе-
1 См.: Ф. Ницше. Так говорил Заратустра. СПб., 1913, с. 29,
55, 233.
2 ТО. Давыдов
33
тия) не приобрела характер навязчивой идеи для целого
поколения мыслителей и художников.
Разумеется, далеко не для всех размышлявших в наш
век о «конце» западного человека, итог раздумий
принимал категорический характер ницшеанского требования—
«Человек есть нечто, что дбляшо превозмочь» *. Не каждый
из них решался — вослед Ницше, эйфорически
переживавшего утрату своего рассудка и собственного «я»,—
призывать человека «покончить» с собой, принеся себя «в жертву
земле, чтобы она стала некогда землей сверхчеловека» 2.
Не всякий мог отважиться, подобно экстатически
«вышедшему из себя» философу, увещевать индивида «погибнуть
и стать жертвою», доказывая ему, что он не только
«хочет... своей гибели», но что эта «воля и гибель» есть его
высшая добродетель3. Ибо далеко це все мыслители эпохи
государственно-монополистического капитализма,
пришедшие к убеждению относительно «конца человека», были
способны впадать в экстаз и переживать состояние
эйфории перед лицом подобной перспективы. У одних она вы-
зывала чувство безысходной тоски, у других —
скептическую резиньяцию, у третьих — глухое неприятие. Но при
всем разнообразии оценок этой перспективы общее число
западноевропейских философов и художников,
признававших ее фатальную неизбежность, продолжало возрастать.
Культурно-исторический смысл этих умонастроений с
достаточной резкостью и остротой выразил Александр
Блок — еще в первые послереволюционные годы. Он свел
все эти отчаянные, восторженные и неприязненные
возгласы к их общему знаменателю, усмотрев его в «кризисе»,
даже «крушении» гуманизма, истолкованного им как
определенный, а именно индивидуалистический (то есть бур-
жузный) тип миросозерцания и культуры.
«Понятием гуманизм,— писал Блок,— привыкли мы
обозначать прежде всего то мощное движение, которое на
исходе средних веков охватило сначала Италию, а потом и
всю Европу и лозунгом которого был человек — свободная
человеческая личность. Таким образом, основной и
изначальный признак гуманизма — индивидуализм» 4.
«Движение, исходной точкой и конечной целью которого была че-
1 Ф. Ницше. Так говорил Заратустра, с. 29, 55, 233.
2 Там ж е, с. 29.
3 См.: там же.
4 А. Блок. Крушение гуманизма.—В кн.: А. Блок. Собр.
соч., т. 6. M — Л., 1962, с. 93.
34
ловеческая личность, могло расти и развиваться до тех пор,
пока личность была главным двигателем европейской
культуры. Мы знаем, что первые гуманисты, создатели
независимой науки, светской философии, литературы, искусства
и школы, относились с открытым презрением к грубой и
невежественной толпе. Можно хулить их за это с точки
зрения христианской этики, но они были и в этом верны духу
музыки, так как массы в те времена не были движущей
культурной силой, их голос в оркестре мировой истории не
был преобладающим. Естественно, однако, что, когда на
арене европейской истории появилась новая движущая
сила — не личность, а масса,— наступил кризис гуманизма» i.
Для марксистов эта ситуация, которую
западноевропейская культур-философская мысль начала осознавать (с
большей или меньшей отчетливостью) лишь па рубеже
XIX—XX веков, не представлялась ни неожиданной, ни
безысходной. Проблематика, скрывавшаяся под
исполненной многозиачпой н тревожной символики формулой
«крушение гуманизма», никогда не акцентировалась в марксизме
с такой надрывностью и надсадностью (то и дело
перехлестывая в наигранную «брутальность»), которая была столь
характерна для философии культуры Запада и от которой
так и не мог до конца освободиться Блок. Маркс и Энгельс
неизменно подчеркивали глубокую противоречивость, анти-
номичность принципов ренессансного гуманизма. Говоря о
них, они никогда не забывали о тех неизбежных
драматических коллизиях, к которым должно было привести (и
действительно приводило) осуществление этих принципов
в условиях капитализма. И в самом деле: Ренессанс —
очень сложное и неоднозначное явление; об этом
свидетельствует уже простой перечень исторических
персонажей, с какими сплелось в европейском сознании
представление о Ренессансе и возрожденческом гуманизме: Данте
и Макиавелли, Петрарка и Климент VI, Боккаччо и Пик-
коломини, Тициан и Цезарь Борджиа, Боттичелли и Ло-
ренцо Медичи (по прозвищу Великолепный), Меланхтоп
и Ульрих фон Гуттеп, Эразм Роттердамский и Лютер,
Рафаэль и Бенвенуто Челлини, Леонардо да Винчи и Мике-
ланджело Буонаротти, Савонарола и Томас Мор.
Даже характеризуя только один из ряда периодов,
пройденных Ренессансом в его исторической эволюции,— так
1 А. Б л о к. Крушение гуманизма.— В кн.: А. Б л о к. Собр. соч.,
т. 6, с. 94.
2*
35
называемое Высокое Возрождение,— Ф. Энгельс
подчеркивал, что его содержание не исчерпывается ни названием
«квинквиченто», которое дали ему итальянцы, ни
названием «ренессанса», данным ему французами, ни названием
«реформации», каким снабдили его немцы. Ибо в каждом
из них отражен (и абстрагирован) лишь какой-то аспект
этой «знаменательной эпохи». Люди, наложившие свою
печать на эту эпоху, писал Ф. Энгельс, «были чем угодно,
только не буржуазно-ограниченными»; однако, по его же
словам, это не помешало им основать «современное
господство буржуазии», а не какого-нибудь другого
общественного класса Ч Они «не стали еще рабами разделения
труда»,— «отсюда та полнота и сила характера, которые
делают их цельными людьми»;2 но это лишь формальные
особенности характера, которые не определяют еще его
содержательного наполнения — направления этой полноты
и силы, каковой ведь одинаково обладали и Лоренцо
Медичи, и Никколо Макиавелли, и Леонардо да Винчи. В
целом же ренессансному типу человека была присуща
специфическая «авантюрность», которая, наряду со свободой
перехода от одной формы деятельности к другой, с
характерным для нее духом экспериментаторства и «конквиста-
дорства», была отмечена также и свойственным ей
отсутствием щепетильности в решении вопроса о выборе средств,
особенно в тех случаях, когда имелись в виду страстно
желаемые цели. А ведь цели эти были совсем не одинаковыми
и далеко не всегда возвышенными, если даже иметь в виду
лишь три только что названные ренессансные фигуры.
Надо сказать, что нравственность вообще не
принадлежала к числу сильных сторон возрожденческого сознания:
в полемике с христианским морализмом возрожденцы были
очень склонны вместе с мутной водой выплескивать и
ребенка, заменяя Добро — Красотой, а нравственность —
эстетикой. Между тем, на что обращал внимание Маркс, этот
самый «морализм» мог быть представлен в эти времена
кем угодно, кроме самих пап и кардиналов: «Климент VI
был рабом своей любовницы, виконтессы де-Тюрен; его дом
в Авиньоне был центральным вавилонским домом
терпимости, вопреки «идеальному» Петрарке»;3 «энтузиазм по
1 См.: К. Маркс и Ф. Энгельс. Соч., т. 20, с. 346.
2 Там же, с. 347.
3 К. Маркс. Хронологические выписки.— «Архив Маркса и
Энгельса», т. VI, с. 40.
36
отношению к величию древнего Рима (вместе с тем и по
отношению к писателям древности) », снова ожил «в то
время, когда Рим представлял собой в известном смысле
разбойничий вертеп» 1. Не лучше обстояло дело в смысле
«нравов» и во времена последующего углубления интереса
гуманистов к древности: развитие ренессансного сознания
явно не находилось в прямом отношении к
упрочению нравственности, причем как раз среди тех, кто имел
к возрожденческому гуманизму самое близкое
касательство.
Не менее противоречивой была эпоха Возрождения и в
социальном отношении. Согласно Ф. Энгельсу, в эту эпоху
произошел «величайший прогрессивный переворот» из
пережитых до того человечеством2. Однако Энгельс указывал
и на другую сторону дела, а именно на то, Что «первая
форма буржуазного просвещения, «гуманизм» XV и XVI веков,
в своем дальнейшем развитии превратилась в католический
иезуитизм» 3. И самое главное — такое превращение
совсем не представлялось ему случайностью. «Это
превращение,— добавлял он,— в свою противоположность, это
достижение в конечном счете такого пункта, который
полярно противоположен исходному, составляет естественно
неизбежную судьбу всех исторических движений,
участники которых имеют смутное представление о причинах и
условиях их существования и поэтому ставят перед ними
чисто иллюзорные цели. «Ирония истории» неумолимо
вносит здесь своп поправки» 4. Этот аспект проблемы особенно
волновал основателя итальянской компартии — Антопио
Грамши, что отразилось в его зпаменитых «Тюремных
тетрадях».
У Грамши этот аспект проблемы получил форму
вопроса о том, почему «так легко» произошел «переход от
Возрождения к Контрреформации»;5 по какой причине
«движение, необходимой предпосылкой которого был гуманизм,
развилось в Контрреформацию» 6. Свой ответ Грамши
связывает с акцентированием того обстоятельства, что в ходе
Возрождения совершается «разрыв гуманизма с нацио-
1 К. Маркс. Хронологические выписки.—«Архив Маркса и
Энгельса», т. VI, с. 35.
2 См.: К. Маркс п Ф. Энгельс. Соч., т. 20, с. 346.
3 Т а м же, т. 22, с. 21.
4 Т а м ж е, с. 21—22.
5 Лнтонио Грамши. Избр. произв. в 3-х тт., т. 3. М., 1959,
0 Там же, с. 291.
37
нальпой жизнью» Италии, «которая начала формироваться
после X века», так что гуманизм представал «как
прогрессивный процесс по отношению к культурным
«космополитическим» классам и как регресс с точки зрения
итальянской истории» *. Дело в том, что, по мнению Грамши,
прогрессивное социальное движение, начавшееся после X века
и сыгравшее большую роль благодаря городским
коммунам, «пришло в упадок именно в Италии и именно вместе
с гуманизмом и Возрождением, которые в этой стране
приобретают регрессивный характер, между тем как в
остальной Европе общее движение нашло свое завершение в
национальных государствах, а затем — в мировой экспансии
Испании, Франции, Англии, Португалии» 2. В соответствии
с этим в эпоху Возрождения, как полагает Грамши,
не только возник «новый класс интеллигентов», по, если
говорить об Италии, тут же раскололся на две части,
игравшие существенно различную культурно-историческую
роль.
«Возрождение,— пишет он,— можно рассматривать как
выражение в области культуры исторического процесса, в
ходе которого в Италии образуется новый класс
интеллигентов, получивший европейское значение, класс, который
делится на две группы: одна выполняла в Италии
космополитическую функцию, будучи связана с папством и имея
реакционный характер; другая сформировалась за
границей из политических изгнанников и лиц, гонимых
церковью, и выполняла прогрессивную космополитическую
функцию в различных странах, где они обосновались, или
принимала участие в образовании современных государств
в качестве технического элемента в войсках, в политике, в
инженерном деле и т. д.» 3. В связь с этим социологическим
обстоятельством Грамши ставит «возрождение
латыни в качестве языка интеллигенции в противоположность
народному языку и т. д.», равно как и гуманизм
и «Возрождение в плане культуры» — процессы, по его
убеждению, задушившие «спонтанно возникшее
итальянское Возрождение, которое начинается после X века и в
художественном отношении достигает расцвета в
Тоскане» 4.
1 Антонио Грамши. Избр. произв. в 3-х тт., т. 3, с. 275.
2 Т а м ж е, с. 272.
3 Там же,с. 275.
4 Там ж е, с. 276.
38
Для «спонтанно возникшего» Возрождения было,
согласно Грамши, характерно нечто диаметрально
противоположное «космополитическому» Ренессансу, а именно
«возникновение народного языка» и стремление культуры
(в лице се выдающихся представителей) говорить именно
на этом языке, что означало не возврат к античности, а
скорее разрыв с нею *. «Но тогда не означает ли это,—
задается вопросом Грамши,— что имела место борьба между
двумя мировоззрениями — буржуазно-народным,
излагавшимся па народпом языке, и
аристократически-феодальным, излагавшимся па латыни и обращавшимся к римской
древности, и что Возрождение характеризуется именно этой
борьбой, а не безмятежным созиданием торжествующей
культуры?» 2
Одним словом, с какой стороны ни подойти —
нравственно-этической, культурно-исторической или социально-
классовой, Возрождение во всех ракурсах предстает как
крайне противоречивое, глубоко конфликтное явление, уже
в силу этого поддающееся самым разнообразным, подчас
иключающим друг друга толкованиям. Именно этим
обстоятельством, кстати, и объясняется тот общеизвестный
факт, что Ренессанс и ренессансный гуманизм был
источником поэтического вдохновения и теоретических
импульсов для разнообразнейших художественных и
философских устремлений, которые трудно совместить друг с
другом как в этическом, так и в социально-политическом
отношениях. Для нас было бы немыслимым пытаться
охватить все «значения» Возрождения и ренессансного
гуманизма, которые фигурируют в современной западной
культуре, да это и не является предметом настоящего
исследования. Нас интересует только одна линия, ведущая
от Ренессанса (и возрожденческого гуманизма) к
современной западной культуре и специфическим образом
реализовавшаяся в пей.
Речь идет о той линии, которая (в аспекте
социологическом и социально-психологическом) была отмечена
одновременно и индивидуализмом и аристократизмом,
получившим — имепно потому, что он сочетался с
индивидуализмом,— весьма специфический характер: характер
элитарности. Речь идет о той линии, которая была
выявлена и описана в книге Якова Буркхардта «Культура Италии
».: Аитонио Грамши. Избр. произв. в 3 тт., т. 3, с. 281.
« м ж е, с. 282.
39
в эпоху Возрождения», породившей «обширную
литературу (особенно в северных страпах) о художниках и
кондотьерах Возрождения,— литературу, в которой
провозглашалось право личности на прекрасную и героическую
жизнь, на свободу действий без оглядок на моральное
ограничение»; литературу, в которой «Возрождение
олицетворяется в Сиджисмондо Малатеста, Чезаре Борджа,
Льве X, Аретино, в Макиавелли как теоретике и в стоящем
особняком Микеланджело» *; литературу, которая, по
свидетельству Грамши, в Италии была представлена Д'Лпнун-
цио — теоретиком фашизма и одновременно...
авангардизма.
Неслучайность этой линии для Возрождения и ренес-
сапепого гуманизма засвидетельствована не только
многочисленными историческими и историко-культурными
исследованиями этой эпохи. Она удостоверена также и тем,
что в западноевропейской культурной традиции, которая,
начиная с немецких романтиков, вновь и вновь выясняет
свои отношения с Ренессансом и гуманизмом, снова и
снова всплывают мотивы, связанные именно с этой, а не иной
линией возрожденческого сознания. Наконец,
неслучайность этой линии, а главное — ее вполне определенной
трансформации, проливающей, в частности, определенный
свет на судьбы сегодняшней культуры
капиталистического Запада, подтверждается теоретически — с точки зрения
марксистского диалектического анализа трагических
антиномий, свойственных возрожденческому принципу
«личной независимости» индивида, понятой как его
«абсолютная свобода».
Согласно Марксу, этот принцип, утвержденный в
западноевропейском сознании ренессансным гуманизмом в
качестве вдохновляющего идеала, мог реализоваться,
претвориться в действительности лишь на основе
«овеществления» всех человеческих связей в условиях
товарно-денежных отношений. Речь идет об историческом процессе
превращения «личной зависимости», характерной для обществ
«традиционного» типа и «естественно» сложившихся
отношений людей,— зависимости от «лица» (или «лиц»): от
отца семейства, мужа, родственника, сюзерена,
священника и т. д.,— в «вещную зависимость», характерную для
буржуазного общества и стихийно складывающихся
товарно-денежных отношений,— зависимость от такой безлич-
1 Аптонио Грамши. Избр. произв. в 3 тт., т. 3, с. 272—273.
40
ной, анонимной, но универсальной «вещи», какой являются
деньги *.
Однако именно углубление этого исторического
процесса обнаруживает антиномичность ренессансного принципа,
существовавшего как раз за счет того, из отрицания чего он
возник. Ведь ренессансный индивид стремился реализовать
свою личность, опираясь на отношения, которые
прогрессирующим образом исключали все «личные» связи,
замещая их «безличными» и «вещественными». В конце концов
это должно было поставить человека перед необходимостью
осуществлять свою личность в мире абстракций (и на
абстрактный манер) ; ибо, как пишет Маркс, «вещные
отношения зависимости в противоположность личным и
выступают так (...), что над индивидами теперь господствуют
абстракции, тогда как раньше они зависели друг от друга» 2.
Ренессансный индивид, стремившийся реализовать свои
уникальные способности, имел в виде товарно-денежных
отношений не только освободительную силу, но и
абсолютную границу — границу его же собственной
самореализации. Что же касается ренессансной идеи всестороннего
развития индивидуальности, которая — в радикально
преобразованном виде — вошла в коммунистический идеал, то,
по утверждению Маркса, при капиталистических условиях
она могла осуществиться лишь в форме своей
противоположности: «...полное выявление внутренней сущности
человека выступает как полнейшее опустошение
...универсальный процесс овеществления
(Vergegenständlichung) — как полное отчуждение, а ниспровержение всех
определенных односторонних целей — как принесение
самоцели в жертву некоторой совершенно внешней цели» 3.
Эта тенденция усугубляется и гипертрофируется по
мере вползания капитализма в монополистическую и
государственно-монополистическую стадию своей (теперь уже
нисходящей) эволюции,— стадию, которая была подвергнута
всестороннему политико-экономическому и
социально-политическому анализу в работе В. И. Ленина
«Империализм, как высшая стадия капитализма». В условиях
монополистической и государственно-монополистической
организации общества «овеществление» всех межчеловеческих
связей, происходившее ранее на основе всеохватывающей
системы товарно-денежных отношений, стократно усили-
* См.: К. Маркс и Ф. Энгельс. Соч., т. 46, ч. I, с. 100—101.
2 Там же, с. 107—108.
3 Т а м ж е, с. 476.
41
вается вторжением корпоративно-монополистических и
государственно-манипуляторских тенденций. Если
«либеральный» капитализм оставлял индивиду хотя бы
видимость ничем не ограниченной хозяйственной и
политической инициативы, то теперь исчезла даже эта «видимость»:
на поверхность общественной жизни выступила ничем или
почти ничем не скрываемая борьба классовых и групповых
экономических и политических интересов, на фоне которой
любая персональная инициатива, любая акция,
осуществляемая «частным» человеком на свой страх и риск,
представала исчезающе малой величиной — комическим
пережитком эпохи, ушедшей в безвозвратное прошлое.
Соперничество отдельных «юридически правомочных лиц» на
капиталистическом рынке, равно как и борьба за личный
престиж на вселенской «ярмарке тщеславия» — все это
сменилось войной (когда скрытой, бескровной, а когда и
открытой, кровавой) корпораций и монополий,
монополистических объединений и политических блоков. Личные
достоинства людей теперь стали приниматься в расчет
лишь в зависимости от того, находятся ли за спиной их
обладателя более или менее значимые (групповые)
экономические, политические и т. д. интересы и силы, либо нет;
во втором случае эти достоинства не имеют ни «меновой»,
ни «потребительной» стоимости.
Здесь и таится один из важнейших источников того
кризиса индивидуальности, кризиса личности, о котором
на Западе так много говорят и пишут с самого начала XX
века (то есть с момента, когда ницшеанство стало модой —
достоянием «многих, слишком многих», кого так презирал
автор «Заратустры»). Рубеж XIX—-XX веков был в этом
отношении переломным для западной культуры: именно в
этот момент глубинные процессы, которые несли с собой
роковые для судеб человека последствия, были наконец
осознаны, и это сознание стало достоянием не только
философии и социологии, но также эстетики, искусства и
литературы. Поскольку же речь шла о долговременных
процессах, которым предстояло нарастать и распространяться
на протяжении всего периода империализма, постольку и
теме кризиса индивидуальности и личности, толкуемой
время от времени в духе полнейшей резиньяции и
абсолютного неверия в возможности человека, также
предстояла долгая жизнь.
Знаменательно, что в русле ницшеанской традиции, где
тема «кризиса человека» с самого начала звучала особен-
42
но резко и надрывно, уже в первые десятилетия XX века
наметились два подхода к решению выдвинутых ею
«проклятых проблем». Первый из них представлен в поздних
работах Макса Вебера, которого Карл Ясперс —
основоположник наиболее либерального и гуманистически
ориентированного вариапта экзистенц-философии — не без
основания считал своим учителем. Второй из них предложен
Освальдом Шпенглером — автором уже упоминавшегося
нами «Заката Европы». Поскольку оба этих варианта
трактовки темы «кризиса человека» неоднократно
воспроизводятся затем на протяжении XX столетия, получая свое
отражение как в эстетической теории, так и в
литературно-художественной практике, постольку есть смысл начать
изложение нашей проблематики именно с характеристики
этих вариантов.
Раздел первый
ПРЕОДОЛЕН ЛИ ЧЕЛОВЕК?
Глава первая
ПЕРСПЕКТИВА И БЕСПЕРСПЕКТИВНОСТЬ
«ФАУСТОВСКОЙ ДУШИ»
1. БУРЖУАЗНЫЙ ИНДИВИД ПЕРЕД ЛИЦОМ КРАХА
ТРАДИЦИОННЫХ ИДЕАЛОВ
В духовном мире Макса Вебера произошла встреча,
очная ставка двух диаметрально противоположных
мировоззренческих устремлений, которая оказалась тем более
острой и конфликтной, чем менее он был способен отдать
все свои предпочтения одному из них. Макс Вебер — это
рационалист, убежденный в невозможности утвердить
принцип Разума (Истины) в качестве высшего и
основополагающего. Это либерал, прекрасно осознававший, что
историческое развитие воспроизводит тенденции,
угрожающие самым глубоким основаниям либерализма. Это
человек гуманистической культуры, трагически переживающий
сознание того, что ни для одного из своих идеалов он не
может найти «научного обоснования», и в то же самое
время исключающий возможность обосновать их каким-либо
иным способом. Это, наконец, сторонник ренессансно-ро-
мантической «концепции человека», отчетливо
фиксирующий сомнительность предлагаемой ею перспективы.
В лице Макса Вебера XIX век имел одного из
последних своих представителей. Когда век этот, переживший
уже свои официальные похороны (ими была первая
мировая война), в последний раз взглянул «окрест себя»,—
на месте лелеемого им царства Истины, Добра и Красоты
он увидел одни лишь развалины. Это и засвидетельствовал
Макс Вебер, отметивший отделение Истины — от Добра и
Красоты, Добра — от Красоты и Истины, Красоты — от
44
Истины и Добра,— отделение, превратившее некогда
светлое и гармоничное «царство» в нечто, подобное джунглям,
в царство стихий, в поле битвы богов, где каждый воюет
против всех и все — против каждого.
Сегодня мы знаем, констатирует Вебер в докладе
«Наука как профессия», «что нечто священно именно потому и
постольку, поскольку оно не прекрасно... Мы знаем также,
что оно прекрасно в том, в чем оно не добро,— это нам
известно со времен Ницше, а еще ранее вы найдете это в
«Цветах зла»... И уже ходячей мудростью является то, что
нечто может быть истинным, хотя и поскольку оно не
прекрасно, не священно и не добро (не хорошо)... Но это
лишь самые элементарные случаи этой борьбы богов
отдельных порядков и ценностей» *. Иначе говоря, тот мир
ценностей, который еще у неокантианцев, например у Рик-
керта, противостоит стихии «жизни» как нечто целостное,
распался у Вебера па множество удельных княжеств,
враждующих друг с другом,— и тем более утратил последние
остатки целостности сам «западный человек».
Произошло это по двум причинам. Первая и самая
общая получает исчерпывающее выражение в лаконичной
формуле Ницше: «Бог — умер». Если «умер» единый бог
христианства, а потребность в Идеалах, в Ценностях
осталась, еще живет в человечестве (это для Вебера простой,
эмпирический факт), то каждый из этих Идеалов
(Ценностей) становится сам по себе богом и требует к себе
соответствующего отношения. Таким образом, происходит
нечто вроде возврата от христианского монотеизма к
дохристианскому, языческому политеизму. Правда, древние
языческие боги вышли из этой метаморфозы уже
поблекшими: «Многочисленные старые боги, лишенные своих чар
и потому принявшие образ безличных сил, выходят из
своих гробов, стремясь завладеть нашей жизнью, и вновь
начинают вести между собой свою вечную борьбу» 2. Теперь
над этими богами уже нет высшего начала, а потому
невозможно установить не только «субординацию», но
элементарный порядок среди них. Более того, поскольку «бог
умер» — невозможно определить, кто из этих языческих
богов олицетворяет светлую, а кто — темную силу.
Каждый из них претендует на абсолютную значимость, каждый
1 М. Weber. Soziologie. Weltgeschichtlichen Analysen. Politik.
Stuttgart, 1956, S. 375.
2 I b i d., S. 377.
45
из пих выдвигает свою «ценность» в качестве высшей,
служение которой должно исчерпать все человеческие
возможности. Исчезло общее для всех солнце, и стали видны
все звезды на небе; каждая из них светилась теперь своим
собственным светом. Особенность каждой звезды
выявилась наконец со всей отчетливостью, наконец-то можно
было постичь каждую во всей ее «специфичности». Но
одного нельзя было установить: какой звезде следует отдать
предпочтение. Отныне решение этого вопроса зависело
только от самого индивида, от того, какая из них
приглянется ему, ту он и сделает абсолютной ценностью.
Но есть и более конкретная причина распадения
царства Истины, Добра и Красоты. Она выступает на
передний план, когда то, что только что было рассмотрено в
аспекте судеб христианской религии, истолковывается в
аспекте исторических судеб рационализма вообще, судеб
его посительницы — науки.
В этой связи Вебер говорит о трех этапах в
историческом развитии научного знания, точнее — о трех
исторических формах последнего. Первая форма — античная
(греческая) наука, впервые открывшая для себя и для мира
логическое понятие и зачарованная им, осознавшая его как
единственный способ постижения Истины — вечной и
окончательной Истины, совпадавшей в представлении
древних с Добром и Красотой. Вторая форма — наука
эпохи Возрождения, открывшего для себя и для мира
научный эксперимент и в нем увидевшего путь к истинному
постижению Природы, которая выступала для «возрожден-
цев» как божественная природа — одновременно и
истинная, и добрая, и прекрасная. Третья форма —
протестантская наука, также рассматриваемая как путь к богу —
творцу природы, поскольку ученые-протестанты надеялись
«узнать» бога «по его плодам», как учил сын божий: «...в
точных естественных науках, где его (бога.— Ю. Д.)
создания физически осязаемы, надеялись напасть на след его
намерений относительно мира» 4. Во всех трех
исторических формах науки Разум выступал как нечто высшее,
божественное — в чем, так или иначе, сливались Истина,
Добро и Красота. Это обстоятельство и делало науку
прошлого основой общего миросозерцания, покоящегося на
единстве трех ипостасей божественного Разума. И так
было до тех пор, пока не возникла новая, в точном смысле
* Ibid.
46
слова современная наука, этапы развития которой и
оказались этапами разложения этого единства, этапами
углубляющегося кризиса, а затем — распадения
рационалистического миросозерцания вообще.
Особенность этой современной науки заключается, по
Веберу, в том, что она не имеет никакого отношения к
Истине в старом смысле слова, когда понятие истины
совпадало с понятием высшего смысла исследуемых предметов,
когда открытие Истины озпачало одновременно обретение
смысла человеческого существования, смысла жизни
вообще. Современная наука уже не претендует на Истину с
большой буквы, она довольствуется истиной с маленькой
буквы, «малой истиной». Наука занимается решением
гораздо более скромного вопроса: какой вывод следует из
таких-то и таких-то предпосылок; какое явление
возникает при наличии таких-то и таких-то условий; что мы
должны сделать для того, чтобы при наличии таких-то и таких-
то средств достичь таких-то и таких-то целей. Вопрос о
предпосылках сегодняшняя наука не решает — они ей да^
ны заранее. Не она их выбирает и оценивает, а они
«выбирают» и «оценивают» науку, задавая ей определенные
проблемы и определяя как общее направление, так и
средства научного исследования. Еще меньше отношения имеет
наука к вопросу о целях исследования, тем более что они
неявно уже содержатся в заранее данных ей общих
предпосылках. Наука становится, таким образом, умственной
техникой овладения жизнью, а те истины, которыми она,
одаряет мир, оказываются простыми техническими
инструментами, техническими приемами овладения этой самой
«жизнью» *.
Но из этого следует, что научный, технический разум
не может уже претендовать на то, чтобы руководить
человеком в тех случаях, когда он задается вопросом об
Истине «жизни» в старом смысле слова; когда вместо
вопроса о том, как овладеть жизнью, как достичь тех или иных
результатов, он ставит перед собой совершенно иной: а
что такое сама эта жизнь и почему он должен весь свой
век «овладевать» ею? Согласно Веберу, в этом пункте
наука,— если она полностью отдает себе отчет в том, чем она
стала в XIX—XX веках,— должна замолчать. Здесь
ученый — ив этом заключается категорический императив на-
1 Ср. также: Г. Р и к к е р т. Ценности жизни и культурные
Ценности.— «Логос», 1912—1913, кн. 1-2, с. 13.
47
учной добросовестности — должен отослать
вопрошающего к иным «богам»: к нравственности, искусству, религии
и т. д. Но это значит, что научный разум — а это, по Вебе-
ру, единственный Разум в точном смысле слова — уже не
может претендовать на то, чтобы объединить под своими
крылами все царство идеала. Он должен отречься от
престола, предоставив «равноправие» обитателям этого
царства.
Так выглядят причины распадения царства Истины,
Добра и Красоты в нерелигиозном, «трезво-научном»
освещении Макса Вебера, добросовестно стремившегося
рассуждать, «добру и злу внимая равнодушно» *. И тут же
перед ним возник целый узел проблем, которые требовали
самого безотлагательного решения. Ибо, если согласиться
с тем, что «не хлебом единым жив человек», то
приходится признать, что проблемы эти касаются самого
«жизненного» в человеке.
Дело в том, что Макс Вебер зафиксировал весьма
драматическое положение западноевропейского человека, так
сказать, между небом и землей — землей эмпирической
реальности и небом Идеалов, Ценностей. Человек оказался
как раз на полпути между небом и землей — именно там,
где, говорят, и сторожит его дьявол. С одной стороны, перед
человеком открывался реальный мир, не несущий в себе
никакого смысла, хотя бы уже по одному тому, что он был
создан с помощью той самой науки (и базирующейся на
ней техники), которая чисто «технична»
и,значит,принципиально «бес-смысленна». С другой стороны, высоко над
его головой, в туманно-голубой дымке витало царство
Идеала, не только оторванное от земли, но и потрясенное в
своих основаниях внутренними раздорами богов — в связи
с переходом от «иерархии» к «равноправию».
Насущная задача человека заключалась в том,
чтобы — насколько это возможно — связать небо и землю,
придав смысл своему земному существованию с помощью
Ценностей, воплотив в эмпирическом мире все, так или1
иначе причастное царству Идеалов, что он способен
воплотить. И задачу эту человек должен осуществлять с
трезвым сознанием того, что ему неоткуда ждать помощи:
земля, преобразуемая наукой и техникой, которые
руководствуются припципом полезности, сама по себе пи па шаг не
1 У Вебера это носит название «свободы от ценностей»
(Wertfreiheit).
48
продвинется к идеалу; небо, обессиленное междоусобной
«войной богов», само по себе не только не способно
облагородить землю, но и вряд ли сможет сохранить себя от
распадения. Словом, человек (в который уже раз!)
оказывается в гамлетовской ситуации: «Мир раскололся, и
смешней всего, что должен — я — восстановить его!»
Умонастроение, воспроизведенное здесь, очень близко
к ницшеанскому. Это ведь тоже — «героическая» позиция,
причем героизм ее далеко не жизнерадостный. Правда, в
основе этого умонастроения лежит стремление
восстановить, утвердить Ценности, существенно противоположные
ницшеанским.
Поскольку у Макса Вебера идет речь о традиционных
гуманистических и либеральных ценностях, постольку
можно говорить о ситуации, внутри которой рационализм и
иррационализм, гуманизм и кинизм как бы поменялись
местами. Если в свое время Ницше должен был
утверждать «наперекор стихиям, рассудку вопреки» свои
«антиидеалы», то теперь это же самое приходилось делать Вебе-
ру — поклоннику традиционных идеалов, сциентистски
ориентированному мыслителю. Поскольку «стихии» и
«рассудок» общественного мнения послевоенной Европы
были уже иными, вовлеченными в дионисический поток
философии жизни, постольку противостояние им должно
было вызвать умонастроение, глубоко родственное
умонастроению автора «Несвоевременных размышлений». И если
Ницше назвал свое умонастроение «героическим
пессимизмом», то Вебер с полным правом мог бы охарактеризовать
свое в том же духе. Правда, это было бы лишь формальной
характеристикой веберовского умонастроения, с
содержательной же точки зрения его можно назвать героическим
сциентизмом и трагическим либерализмом.
Впрочем, был в умонастроении Вебера один момент,
существенно сближавший этого немецкого мыслителя с
Ницше не только в формальном, но и в содержательном
аспекте. Веберовский человек оказывался перед «землею» и
«небом» едва ли не в таком же, если не в еще большем
одиночестве, чем ницшеанский человек. В решении
вопроса о придании «ценностного» смысла своему земному
существованию веберовский человек не мог опереться ни на
нейтральный по отношению ко всяким ценностям принцип
Пользы, от которого отправляется технизированная наука
и онаученная техника, ни на мир Ценностей, так как
последние оказывались истощенными, нейтрализованными,
49
парализованными взаимной борьбой. Отчаявшись в
возможности получить ответ на вопрос о смысле его
существования от небесных или земных богов, он должен был
найти этот ответ — в самом себе, а значит — в своей
судьбе, бросившей его между землею и небом. И только
выбрав себя, выбрав свою судьбу, осознав ее, человек мог
придать ей общезначимую форму — форму того или иного
идеала. А это, в свою очередь, и должно было определить
его жизненную позицию, позицию жизни «на земле», в
посюстороннем мире. Причем, одиночество веберовского
человека, вставшего перед вопросом о смысле его
существования, было тем более радикальным, что он в отличие от
Ницше, грешившего подчас позитивистской переоценкой
роли науки в решении этого вопроса,— не ожидал уже, что
биология или физиология ответят ему на вопрос о том, что
же такое «жизнь», как таковая.
Был, наконец, еще один момент, существенно
осложнявший позицию веберовского человека: когда он, осознав
свою судьбу, свою историческую заброшенность,
простирал руки к небу, дабы выбрать того из воюющих богов,
который ему ближе всего, призывая этого бога придать
общезначимую форму его судьбе, Вебер — страж «научной
честности» снова оказывался на его пути. В своем докладе
о науке как призвании он не оставляет
западноевропейскому человеку надежду па то, что, выбрав себе в
путеводители одного из враждующих между собою богов, он
выберет его общезначимым образом. Ибо судьба эпохи, а
значит, общезначимость ее заключается именно в
«равноправии» богов, которое сопровождается их войной. И если
европейский человек хочет выбрать себя общезначимым
образом, он должен отнести свою судьбу не к одному из
богов, а ко всем им вместе, взятым в их враждебности, то
есть к их «войне».
Истинный смысл его существованию должно принести
как раз сознание того, что боги борются между собою, так
что любой его поступок может быть истолкован и оценен
самыми различными, диаметрально противоположными
способами. Ему не спрятаться за пазухой бога добра от
сознания того, что с точки зрения эстетической его
добродетельный поступок будет оценен как безобразный, а с
точки зрения политической — как бессмысленный или даже
вредный. Ему не спрятаться под крылышком богини
красоты от сознания того, что его прекрасное творение с точки
зрения этической окажется безнравственным, а с точки зре-
50
ния логической — бессмысленным. Иными словами,
выбрав одного из враждующих богов, европейский человек тем
же самым актом выбирает и вражду всех остальных богов.
И, относя свой поступок к избранному им богу, он — хотя и
негативно — относит его одновременно ко всем остальным
богам. Ибо не уйти ему от судьбы, свершающейся под
знаком войны богов.
\/ Таким образом, каждый должен выбирать бога лишь
для самого себя, стремясь придать смысл только своему
собственному существованию. И горе тому, кто
попытается навязать своего бога другим, хотя бы он был при этом
одержим человеколюбивейшими стремлениями, желанием
осчастливить человечество. Бог, навязанный человечеству,
живущему под знаком «равноправия» и войны богов,
неизбежно окажется самым свирепым из когда-либо
существовавших: он потребует себе в жертву миллионы
человеческих жизней. Современные божества, как добрые боги,
живут только в небольших общинах людей, не претендующих
на то, чтобы сделать своего бога универсальным,
оставляющих право для каждого из числа остальных людей
молиться своему богу. «Судьба нашей эпохи...— пишет Вебер,—
заключается в том, что именно последние и самые
тонкие ценности ушли из общественной сферы или в
потустороннее царство мистической жизни, или в братскую
близость непосредственных отношений индивидов друг к
другу. Не является случайным ни тот факт, что наше
наиболее высокое искусство интимно, а не монументально, ни
то, что сегодня только внутри самых узких общественных
кругов, в личном общении, пианиссимо, пульсирует нечто,
соответствующее тому, что раньше в качестве пророческой
пневмы буйным пожаром проходило через большие
общины и сплачивало их. Если мы попытаемся насильственно
пробудить вкус к монументальному искусству и
«изобрести» его, то появится нечто столь же жалкое и безобразное,
как то, что мы видели в многочисленных памятниках
последнего двадцатилетия» *. f
Поскольку же такова, по убеждению Вебера, судьба
эпохи, постольку придание смысла земле, живущей под
небом, населенным враждующими богами, заключается
прежде всего и главным образом в отстаивании таких
межчеловеческих и межгосударственных отношений, которые
не мешали бы каждому самостоятельно решать вопрос о
1 М. Weber. Op. cit., S. 379.
51
придании смысла своей жизни. Единственной
политической формой, соответствующей этому идеалу, была для
Вебера буржуазно-либеральная демократия. Если учесть,
какая перспектива ожидала Германию в недалеком
будущем, станет понятной прогрессивность и политических и
«экзистенциальных» идеалов Вебера. Не случайно
большинство из тех, кто прошел его школу, выбрали
последовательно антифашистскую позицию. Но если принять во
внимание, сколь максимальные требования предъявлялись
в рамках веберовской концепции каждому отдельному
индивиду, какую чрезмерную ответственность возлагал Ве-
бер на плечи каждого гражданина, в особенности
интеллигента, то нельзя не заметить и утопической стороны вебе-
ровского построения.
Хотел этого западноевропейский человек или не хотел,
но Вебер оставлял его один на один с самим собой, со
своей свободой, со своей судьбой, которая, впрочем, целиком
совпадала с его свободой. Она не предъявляла ему
никаких требований, внеположных ему самому, но и не давала
никаких гарантий. И, оказывается, это было величайшее
бремя — бремя свободы, величайшее испытание —
испытание произволом, своим собственным произволом, самим
собой.
Эту позицию Вебер и пытался противопоставить
широкому потоку умонастроения, первоначально осознававшего
себя в формулах философии жизни, но уже вырвавшегося
за ее профессионально-философские рамки,—
умонастроения, принявшего форму погони за «переживанием», за
расслабляющим дух «переживанием жизни». В бесформенной
атмосфере этого расслабляющего переживания немецкая
(и не только немецкая) молодежь искала тех самых
«опор» и «скреп» для расползающегося миросозерцания, в
которых отказывал ему Вебер. На путях углубления и
рафинирования, эстетизации и символизации этого
переживания искали «синтеза» — примирения непримиренных
богов, искали нового бога, который навел бы порядок в
потрясенном смутами царстве Истины, Добра и Красоты.
Сама хаотичность, неопределенность, многозначность
этого переживания представлялась в глазах многих
молодых интеллектуалов чем-то положительным: щедрым
обещанием нового, небывалого. Таящийся в нем эклектизм,
скрывающаяся в его сумерках беспринципность — это
представлялось «гибкостью», «диалектичностью»,
«непосредственностью», словом, всем тем, что облегчает челове-
52
ку прикосновение к истинным глубинам «Жизни». И если
сопоставить все эти ожидания и «предчувствия» с тем, что
предлагал Вебер, перевес явно будет не на его стороне. Его
«испытание свободой» не сулило никаких приятных
перспектив тем, кто в своем женственном устремлении желал
отдаться потоку жизни, которая не требовала бы от
человека чрезвычайных волевых усилий. Веберу, который
стремился противопоставить этому женственному
устремлению трезвые размышления о том, что произойдет, если оно
возобладает в общественном сознании Германии, судьба
явно готовила трагическую роль Кассандры.
Размягчающее желание погрузиться в смутный поток
переживания жизни, переживания вообще волновало Ве-
бера тем более, что оно сопровождалось тоской по
Пророку, который возвестил бы миру о появлении нового,
истинного Бога. Леденящей кровь трезвости веберовской точки
зрения послевоенный европеец, особенно послевоенный
немец, определенно предпочитал «метафизическое
утешение» i от сознания своей погруженности в поток жизни,
резюмируемого в обывательском: «Такова жизнь, и не нам
ее осуждать». Не у многих доставало силы противостоять
потоку жизни, несущему послевоенную Германию в
объятия нового «пророка». Лучше ужасный конец, чем «ужас
без конца», лучше ужасный бог, чем ужас вечной войны
богов, лучше лжепророк, чем бесперспективность
ожидания истинного пророка,— вот настроение, которое
овладевало пемцами па глазах у Вебера 2.
В этой истерически-расслабленной духовной атмосфере
словам Вебера о том, что «нет налицо пророка, по
которому тоскуют столь многие представители нашего молодого
поколения», что судьба «музыкального» в религиозном
отношении человека, жаждущего экстаза, растворения в
переживании бога,— «жить в богочуждую, лишенную
пророка эпоху»,— этим словам предстояло прозвучать гласом
вопиющего в пустыне. Послевоенная Германия,
метавшаяся между враждующими богами и тоской по единому,
«тотальному» богу, который восстановил бы наконец «поря-
1 Выражение позднего Ницше, клеймившего за склонность к
такому утешению Вагнера и романтиков.
2 Это, кстати, то же самое умонастроение, которое время от
времени приводило к «экстатическому» вырождению экзистенц-
философиц в поверхностный экзистенциализм (и на наших глазах
приводит к превращению «критической социологии» в род
леворадикальной демагогии).
53
док» в потрясенном мире Идеалов и Ценностей, не могла
выдержать ощущения бесконечности этого напряжения.
Она затворила свои уши перед веберовскими
предостережениями.
Аналогичное умонастроение прекрасно передал Роберт
Музиль в своем романе «Человек без свойств»,
характеризуя «христианско-германский кружок молодых людей», с
которым он свел одного из своих героев: «Было трудно
сказать, во что верили эти молодые люди; они образовывали
ту бесконечно малую, неограниченно свободную
духовную секту, которыми кишела немецкая молодежь со
времен распада гуманистического идеала. Они не были
расовыми антисемитами, но были противниками «еврейского
духа», под которым они понимали капитализм и
социализм, науку, разум, власть родителей и родительскую
надменность, расчет, психологию и скепсис. Главным пунктом
их учения был «символ»; ...символом они называли
великий образ милостивого благоволения, благодаря которому
спутанность и мелкотравчатость жизни... становится ясной
и большой жизнью,— благоволения, которое вытесняет
спутанность чувств и охлаждает чело веяниями
потустороннего. Так называли они Изенхаймский Алтарь,
египетские пирамиды и Новалиса; Бетховен и Стефан Георге
допускались ими в качестве предзнаменований, а что такое
символ, если выразить его трезвыми словами,— об этом они
не говорили, во-первых, потому, что символ не может быть
выражен трезвыми словами, а во-вторых, так как арийцы
не могут быть трезвыми в вопросе о том, почему им в
последнее столетие удалось достигнуть лишь
предзнаменований символа, и в-третьих, так как имеет место именно то
столетие, в которое удаленные от людей мгновения
милостивого благоволения все еще скудны в далеких от
подлинно человечного людях» *.
Впрочем, тщетность веберовских предостережений
была предопределена не только особенностями духовной
атмосферы, в которой они прозвучали, но и их собственным
специфическим содержанием — смыслом заключенной в
них альтернативы. Современный западноевропейский
философ Карл Ясперс не случайно назвал Вебера мыслителем
киркегоровского и ницшеанского типа —
нигилистическим, демоническим и терпящим крушение. Вебер был че-
1 Robert Musi 1. Der Mann ohne Eigenschaften, Bd. I: Erster und
zweiter Teil. Berlin, 1975, S. 397—398.
54
ловеком «эпохи кризиса» в полном смысле этого слова. Он
пе только не видел выхода из этого кризиса, но предлагал
отнестись к нему со стоическим спокойствием, приняв его
как необходимость, как судьбу.
Сегодня «положение всех тех, кто ждет новых
пророков и спасителей,— говорил Вебер,— подобно тому
положению, о котором повествуется в одном из пророчеств
Исайи — речь идет здесь о прекрасной песне едомского
сторожа времен изгнания евреев: «Кричат мне с Сеира:
«Сторож, сколько ночи?» Сторож отвечает: приближается утро,
но еще ночь. Если вы настоятельно спрашиваете, то
обратитесь и приходите»...» 1 Сам*же он не задавался вопросом о
том, скоро ли наступит утро: он был убежден, что «ночи»
хватит не на одно человеческое поколение, и пытался
научить человека ориентироваться по звездам, зная, что,
быть может, многие из них уже погасли, хотя свет от них
еще льется на землю, еще указывает дорогу усталым
путникам.
Но идет ли речь о человеке, который очертя голову
бросается в «поток жизни», не сознавая того, что это — акт
кризиса, кризиса культуры, кризиса европейского
человечества, или о человеке, который осознал ситуацию в
качестве кризисной, но не видит выхода из нее,— в одном от-
ношепии они родственны друг другу. Оба они — «люди
кризиса», несущие в себе «демоническое», разрушительное
начало — наследие породившей их больной эпохи. И как
раз по этой причине на самом дне веберовского
миросозерцания таилось нечто, роднящее Вебера с его
противниками из числа взыскующих чистого «переживания жизни».
По сути дела, веберовский человек, освобожденный от
традиционных обязательств по отношению к «земле» и
«небу» и предоставленный его судьбе, его историческому
времени, был глубоко родствен тому, которого философия
жизни освободила от всех обязанностей, кроме
обязанности жить, реализуя в своей судьбе «полноту жизни». И
непонятным, непостижимым оставалось только одно: почему
первый — человек «исторической судьбы» — не мог,
подобно второму — человеку «жизненной судьбы»,—
навсегда распроститься с желанием придать смысл своему
существованию; почему он, прекрасно знающий, что его
судьба — жить в «богочуждую эпоху», продолжал обращать
свой взор к голубым небесам идеалов, почему он стремил-
1 М. Weber. Op. cit, S. 380.
55
ся ориентироваться «по звездам», а не надеялся на свой
темный «жизненный инстинкт».
На этот вопрос Вебер не дает никакого ответа, и не
дает потому, что здесь — тайна свободы веберовского
человека, который стремится придать смысл своему
существованию, потоку своей жизни, своей исторической судьбе не
благодаря, а вопреки: не благодаря тому, что на это есть
«достаточные основания», а вопреки отсутствию каких бы
то ни было оснований. Ибо просто-напросто он так хочет.
Воистину: это был слишком хрупкий фундамент, чтобы
пытаться восстанавливать на нем разрушенное здание
Истины, Добра и Красоты. Однако именно на нем попытался
возвести здание своей экзистенц-философии ученик Вебе-
ра — Карл Ясперс. Сделав все возможные выводы из
веберовской «концепции человека», он положил
начало экзистенциалистской линии в западноевропейской
философии XX века, наложившей свою печать на развитие
литературы, искусства и всей художественной культуры
капиталистического Запада.
По сути дела, в своей системе понятий Макс Вебер
изобразил тот же самый процесс «овеществления»
межчеловеческих связей и отношений, о котором говорил Маркс.
Правда, процесс этот зафиксирован Вебером на более
поздней его стадии — в условиях превращения «свободного»
капитализма в государственно-монополистический, когда
традиционно-буржуазные формы «самоотчуждения»
личности дополняются давлением на нее «ложных коллектив-
ностей». Отправляясь от веберовской констатации
положения «западного человека», Ясперс стремится истолковать
личность таким образом, чтобы обосновать возможность ее
существования в новых условиях — условиях
углубившегося отчуждения.
Отсюда — основной ясперовский (и
экзистенциалистский вообще) метод определения личности, в отличие от
индивидуальности, напоминающий способ определения
бога в апофатическом богословии1. Все, что представляется
формализованным, овеществленным и отчужденным,
выносится за пределы личности; поскольку же не удается
назвать ничего, что не было бы так или иначе формализовано,
овеществлено и отчуждено в условиях «позднекапитали-
стической цивилизации», постольку и у личности не удает-
1 Богу здесь даются лишь отрицательные определения типа:
бог — это не то, не то и т. д.
56
ся найти никакого положительного определения: все ее
определения оказываются чисто негативными — «не то»,
«не то» и «не то». Как видим, этот способ определения
личности уже внутренне, имманентно тяготел к гуссерлевскои
«феноменологической редукции»: «вынесению за скобки»
все новых и новых аспектов явления для того, чтобы
постичь его как «чистый феномен» (как чистый способ
«данности» его сознанию). И не случайно эти два метода
объединились в экзистенциализме.
Отсюда же — углубляющийся разрыв между тем, что,
согласно экзистенциализму, считалось «подлинным»
(«аутентично» личностным) существованием человека —
«экзистенцией», и тем, как этот человек существовал
«эмпирически», то есть «неподлипно» — в системе
межчеловеческих связей, в реальности социального пространства и
времени. И чем более глубоким оказывался этот разрыв в
глазах экзистенциалистов, тем более трагичным
представлялось им положение человека в современном
капиталистическом обществе. Непреодолимая пропасть,
разверзавшаяся между «подлинным» и «неподлинным»
существованием человека, бросала тень двусмысленности и на саму
эту «подлинность»1. Она оказывалась фатально
ограниченной своей собственной противоположностью
(«неподлинностью»), вытеснявшей ее все дальше и дальше в
глубь человеческой субъективности — без перспективы
вырваться оттуда, противостав повсеместно
торжествующей «неподлинности».
В свою очередь, раздвоение человека с самим собой —
в качестве «подлинного», с одной стороны, и
«неподлинного» — с другой, превращавшееся в поистине
метафизическую пропасть, не могло не влечь за собой трагически
непреодолимого разрыва между этим человеком и всеми
«другими», поскольку всех их оп встречал уже на уровне
своей собственной «неподлинности». Отсюда —
экзистенциалистская тема «некоммуникабельности», отчетливо
зазвучавшая в произведениях Камю, Сартра и Симоны де
Бовуар уже в конце тридцатых — начале сороковых годов
и превратившаяся в повальную моду на Западе десять лет
спустя — в конце сороковых — начале (и середине)
пятидесятых годов. У истоков превращения этой темы в
расхожую монету западного кинематографа стоят Ф. Феллини
1 См. в этой связи: Th. W. Adorno. Jargon der Eigentlichkeit.
Zur deutsche Ideologie. Fr. a. M., 1964.
57
со своей «Дорогой», Й. Бергман с «Земляничной поляной»
и М. Лнтониони с «Затмением», «Ночью» и др.
Впрочем, все это связано с более поздней историей того
комплекса идей и умонастроений, который столь
отчетливое и глубокое выражение получил уже в работах Макса
Вебера, возникших под впечатлением первой мировой
войны. И вообще — собственно экзистенц-философский ответ
на «ситуацию человека», как она была осознана на Западе
после этой войны (а оп связан не только с именем Яспер-
са, но и с именами Хайдеггора, с одной стороны, и
Марселя—с другой) нельзя считать ни самым первым по
времени, ни — тем более — единственным. Ведь миросозерцание
Вебера никак нельзя считать тождественным экзистенц-
философскому (а еще меньше экзистенциалистскому — во
французском смысле этого слова), хотя умонастроение,
владевшее этим социальным мыслителем в послевоенные
годы и получившее свое выражение в его докладе «Наука
как призвапие и профессия», было, как видим,
поразительно близким к тому, что отлилось впоследствии в форму
философии существования. В качестве боее ранней реакции на
первую мировую войну экзистенц-философии, которая
сложилась окончательно лишь к концу двадцатых годов,
предшествовала «философия жизни» — широкое философское
умонастроение, восходившее к Ницше, но, в отличие от
такого своеобразного ницшеанца, каким был Вебер,
агрессивно настроенное по отношению к науке и «духу
научности» вообще. В первые послевоенные годы эта реакция
воплотилась в шпенглеровском «Закате Европы» * —
книге, которая была начата автором еще до войны,
завершалась в годы войны, а корректировалась уже после
поражения Германии.
Что касается Шпенглера, то он акцентировал другой
мотив Ницше — не «аполлоновский»,
индивидуалистический, а «дионисийский» — антииндивидуалистический,
«брутально»-коллективистский, тот самый, что и
ницшеанскую концепцию человека превращал в концепцию имен-
по «преодоления», именно устранения индивида,
растворяемого в стихии биологизированной «воли к власти», а не
его развития, не его совершенствования. Вот почему
автором «Заката» не принимались уже в расчет такие реалии,
как человек, индивидуальность, личность, которые — по
1 См.: Oswald Spengler. Der Untergang des Abendlandes,
B-de I—II. 1918-1922.
58
его убеждению — были не чем иным, как воплощением
анонимных, внеиндивидуальных, безличностных сил,
представлявшихся ему единственно реальными и
действительными.
2. «ФАУСТОВСКИЙ ЧЕЛОВЕК» ПРИ СВЕТЕ «ЗАКАТА ЕВРОПЫ»
Хотя в общем Шпенглер представлял в рамках
буржуазного мировоззрения точку зрения на человека,
диаметрально противоположную веберовской, существовал один
пункт, где позиция автора «Заката Европы» совпадала с
позицией Вебера. Этим пунктом была идея «исторической
судьбы», к которой одинаково апеллировали Вебер и
Шпенглер, при всем различии их толкований этого
словосочетания.
У Вебера необходимость такой апелляции возникала как
логический результат его своеобразного политеизма —
представления о вечной «войне богов» (идеалов,
ценностей). Ведь там, где «богов» — множество и они не могут
«договориться» друг с другом, им приходится решать свои
распри с помощью жребия и, следовательно, самим
признавать Судьбу в качестве арбитра.
Да и сами национальные ценности культуры
представали теперь как нечто «судьбическое». «Как мыслят себе
возможность «научного» выбора между ценностью
французской и немецкой культуры — этого я не знаю,—
признавал Вебер.— Здесь тоже спор различных богов, и спор
вечный. ...А над этими богами и их борьбой господствует
судьба — но отнюдь не «наука»...» 1. Между этим выводом
Макса Вебера (а к нему были близки и другие мыслители
либерального склада — например, Кроче в своих статьях
военного времени) и основными постулатами Шпенглера
уже нет никаких промежуточных ступеней: автор «Заката
Европы» мог бы спокойно включить его в свою книгу.
Иначе говоря, мы можем считать шпенглеровский
«аншлюс» философии истории к философии жизни достаточно
хорошо подготовленным в лоне веберовского «абсолютного
историзма»: троянский конь «жизни» и здесь сделал свое
дело.
Посмотрим же, какими последствиями был чреват этот
«аншлюс» в области философии человека и тесно
связанной с ним философии искусства, в отношении понимания
1 М. Weber. Op. cit., S. 380.
59
«бытийного статуса» искусства (п «царства идеалов»
вообще) .
Свою концепцию культуры, изложенную в «Закате
Европы», Шпенглер строит на двух постулатах. Первый
постулат — заимствованное у Гете различение «становления
и ставшего», осуществляемое па основе убеждепия о том,
что в основе «ставшего» лежит «становление» *. Этот
постулат автор «Заката Европы» целиком разделяет с
метафизиком и систематиком философии жизпи А. Бергсоном,
хотя и нигде не говорит об этом (Бергсоп, как и другие
философы — современники Шпенглера, фигурирует в
«Закате Европы» лишь в уничижительном контексте). Так же
как и у Бергсона, у Шпенглера имеет существенное
значение не столько само утверждение, согласно которому
становление является основой ставшего, сколько радикальное
противопоставление этих двух моментов. И если первый
момент роднит этих философов жизни с немецкой
классической традицией, то второй — существенно отличает их от
нее. Между тем как раз из этого последнего момента и
возникает новое мировоззрение — мировоззрение,
базирующееся на ощущении неизбывной вражды между
становящимся и ставшим, превращающей всякое становление, всякое
творчество — в трагедию. В самом деле: не превращается
ли всякое творчество в трагедию уже от одного сознания
того, что его результатом, его детищем, в муках
рождаемом, будет его враг, его исконная, непреодолимая
противоположность, его неумолимое, неизбежное отрицание,
словом: его смерть, гибель.
По сути дела, это миросозерцание не что иное, как
результат философской генерализации умонастроения
ранних немецких романтиков, которых очень заботило
противоречие между универсальностью творческого
замысла Художника («космичностью» творческого порыва) и
ограниченностью его созданий, произведений искусства,
объективированных (и «отчужденных» от личности
творца») результатов творчества. Оно (это миросозерцание)
возникло в результате того, что на место романтической
Иронии, с помощью которой устанавливалась в свое время
дистанция между процессом творчества и его продуктами,
а тем самым как-то смягчалось напряжение между ними,
прорвалось откровенно трагическое переживапне их изна-
1 См.: Освальд Шпенглер. Закат Европы, М.—Пг., 1923,
т. 1, с. 59.
GO
чальной враждебности, коренной несовместимости. Так,
чувство юмора сменялось горькой иронией, ироническое
настроение — трагическим, а божественная комедия
превращалась в божественную трагедию («пантрагическое»
мировоззрение). Вот из этого-то чувства и вырос второй
постулат шпенглеровской философии культуры, который
естественно «накладывался» на первый.
Этот второй постулат — различение двух «изначальных
фактов сознания», фиксируемых словами «собственное» и
«чужое». Нетрудно заметить, что эти «факты сознания»
есть не что иное, как эмоциональные характеристики
становления и ставшего (процесса творчества и его
результата), как они выступают для индивида, переживающего
себя, свое «внутреннее» (Innerlichkeit) в качестве
непрерывного процесса, устремления, созидания,— то есть в первую
очередь для художника, причем романтически настроенного.
В различии двух «изначальных фактов сознания»
скрывается самая глубокая противоположность живого и
мертвого, жизни и смерти. А основное переживание, связанное
с постижением всей глубины этой противоположности, это,
по Шпенглеру, страх, космический ужас — самое
фундаментальное переживание человеческой души. Это
переживание рождается, согласно автору «Заката Европы»,
вместе с рождением человеческой души, которая,
собственно, и есть не что иное как пробуждение космической
души из бессознательного, вегетативного состояния,
пробуждение, заключающееся в актуализации для души
противоположности между ее изначальным жизненным
устремлением, с одной стороны, и всем противостоящим этому
устремлению, отрицающим жизнь — с другой.
Рождение души и рождение страха — это для
Шпенглера один и тот же акт; пока душа находилась в
бессознательном, вегетативном состоянии, она была тождественна
основному жизненному устремлению, стремлению к
самореализации «жизни» (сравните «жизненный порыв»
А. Бергсона). А это было равносильно отсутствию души в
точном смысле слова, это был такой сон души, который
равнозначен ее полному отсутствию, ее небытию *. И
только в тот момент, когда стремление к самореализации
жизни натолкнулось на некоторое непреодолимое
препятствие, на свое радикальное отрицание, а главное, когда про-
1 «Ибо душа без бодрствования есть в известном смысле
противоречие» (О. Spengler. Urfragen. Münehen, 1965, S. 33).
61
тивоположность этого стремления и его отрицания стала
актуальной для самой жизни,— только в этот момент
душа пробудилась, возникла из небытия. И первым
переживанием, испытанным ею, был страх, ужас перед лицом ее
противоположности — перед лицом чуждого, ставшего,
мертвого, лишенного жизненного начала, утратившего
органическое тепло.
«Когда из общего хаоса впечатлений,— пишет
Шпенглер,— перед изумленными глазами первобытного человека
начинает выделяться в широких очертаниях этот брезжу-
щий мир устроенных протяженностей и разумного
ставшего и глубоко ощущаемая непреодолимая
противоположность этого внешнего мира и собственной души даст
направление и облик сознательной жизни, одновременно
наряду со всеми возможностями новой культуры родится
пра-чувство тоски и стремления в этой душе, внезаппо
осознавшей свое одиночество. Тоска и стремление к цели
становления, к завершению всех внутренних возможностей, к
развитию идеи собственного существования. Тоска и
стремление ребенка, все с большей ясностью вступающие в со-
знание в виде чувства неизбежности направления и позднее
стоящие перед зрелым умом как жуткая, заманчивая,
неразрешимая загадка времени. Слова «прошедшее» и
«будущее» вдруг получают роковое значение.
Однако это тоскующее стремление, возникшее из
полноты и блаженства внутреннего становления, является
вместе с тем в глубочайших тайниках каждой души и чувством
страха. Как всякое становление имет своей целью ставшее,
в чем и находит свой конец, так пра-чувство становления,
тоскующее стремление уже соприкасается с чувством
завершения, со страхом... Это та глубокая боязнь мира,
свойственная детской душе, которая никогда не оставляет
человека высшего порядка, верующего, поэта, художника в его
безграничном одиночестве, боязнь перед чуждыми силами,
великими и угрожающими, облеченными в чувственные
образы, вторгающимися в брезжущий мир» i.
Как видим, две рассмотренные нами пары
противоположностей — становление и ставшее, собственное и
чужое — теперь дополняются третьей и четвертой, которые,
по сути дела, являют собою первую противоположность
(становление и ставшее) в ее новых ипостасях.
Становление, которое в аспекте психологическом раскрылось перед
1 Освальд Шпенглер. Закат Европы, т. 1, с. 86—87.
62
ними как собственное, на более глубоком уровне
постижения выступает в качестве «ира-чувства тоски и
стремления» — напряженного переживания устремления души к
развертыванию своих собственных возможностей.
Напряженность этого переживания возпикает не только из того,
что душа ощущает себя носительницей некоторой
космической силы, космического жизненного порыва, который
переполняет ее, грозя разорвать ее, вернуть в хаотическое
состояние. Эта напряженность связапа еще с ощущением
«судьбичности» владеющего ею жизненного устремления,
которое, так сказать, от века имеет определенное, заранее
данное направление — от прошлого в будущее, от начала
к концу, от становления к ставшему,— направление, раз и
навсегда заданное и необратимое. Вот почему и этот порыв,
это наиболее внутреннее, интимное, изначальное
стремление души переживается весьма драматически: как веление
чего-то чуждого, неизмеримо более высокого, чем она:
«...направление всего становления в его неумолимости —
необратимости — воспринимается с полной внутренней
достоверностью, как нечто чуждое. Что-то чуждое
превращает будущее в прошедшее, и эта сторона сообщает времени,
в противоположность пространству, ту полную
противоречий жуткость и давящую двойственность, от которых не
может вполне освободиться ни один значительный
человек» *.
Искомое слово сказано: становление, раскрывшее себя
как «пра-чувство тоски и стремления», получило свое
обозначение — «время». Человек, по Шпенглеру,
символизирует свое «пра-чувство тоски и стремления» с помощью
понятия времени, в котором уже дано все: и направление,
и необратимость, и судьба,— хотя люди, пользующиеся
этим понятием, крайне редко отдают себе отчет
относительно всей полноты его мистического смысла.
Вместе с этой цепью интуиции, в которые развернулась
первичная интуиция становления, развертывается и
другая, параллельная ей, связанная с интуицией ставшего как
первоначальной и основополагающей. В параллель с
напряженным переживанием основпого жизненного
устремления, его необратимости и «судьбичности», с которым
пробуждается человеческая душа, автор «Заката Европы»
ставит переживание «противоположности этого
устремления — всего ставшего, законченного, исчерпавшего себя,
1 Освальд Шпенглер. Закат Европы, т. 1, с. 87.
63
принявшего для человека образ заранее данного ему мира.
Это переживание Шпенглер расшифровывает как боязнь
мира и считает его «наиболее творческим из всех исконных
чувствований». Таким образом, изначальный страх, с
которым рождается человеческая душа, как бы раздваивается:
страх перед неотвратимостью своей собственной судьбы
символизируется в понятии времени, тогда как страх
перед миром, перед неизбежной и неумолимой
противоположностью, перед радикальным отрицанием этого
устремления символизируется представлением о протяженности,
которая фиксируется — в конечном счете — в понятии
пространства.
Можно было бы попытаться «интегрировать» оба
аспекта страха, владеющего человеческой душой, представив их
как два различпых способа выражения одного и того же
страха — страха человека перед своей конечностью, перед
небытием, перед ничто (как это имеет место у Хайдегге-
ра). И, казалось бы, Шпенглер мог предпринять подобную
попытку с тем большим основанием, что и в первом и во
втором случае в «Закате Европы» шла речь об отношении
человеческой души к тому, что отрицает ее: в одном
случае — о страхе ее перед непоправимостью, перед концом, в
другом же — о ее страхе перед тем, что как бы воплощает,
овеществляет, олицетворяет и то и другое. Но так мог бы
поступить Шпенглер только в том случае, если бы для
пего жизненное устремление, носителем которого является
душа, рождалось бы только вместе с человеческим родом, с
человеком. Поскольку же это устремление, по Шпенглеру,
космично, поскольку оно существовало до человека и с
пробуждением человеческой души только актуализовалось
для живого существа, постольку автор «Заката Европы»
не мог и представить возможность подобной попытки.
Тот страх, который сопровождает процесс становления,
процесс жизненного творчества как переживание
неумолимости, необратимости и конечности этого процесса для
индивидуальной души (будь то душа человека или душа
культуры), этот страх, в изображепии Шпенглера, как бы
растворяется в более сильном переживании самого этого
становления, самого жизненного творчества, сообщая ему
трагический оттепок. В целом же переживание жизненного
порыва скорее радостное, чем боязливое, скорее
устремленное вовне, чем скрывающееся от мира, скорее забывающее
об ужасах бытия, чем стремящееся заклясть или
завуалировать их. Второе — особенность того страха, который от-
64
личен от акта переживания жизпегшого становления, не
погружен в это переживание, а находится на определенной
дистанции по отношению к нему.
Если попытаться объяснить происхождение этой второй
формы страха с помощью шопенгауэровских понятий, то
можно сказать, что он возникает для той «стороны»
человеческой души, которая как бы выпадет из процесса
становления, процесса жизпеппого творчества и получает
возможность взглянуть на него не изнутри, а как бы извне.
Тому, кто смотрит на процесс становления, не будучи
захваченным пафосом этого процесса, не будучи
загипнотизированным его внутренними токами, становится
совершенно очевидно, что судьба всякого становления — ставшее,
цель всякого жизненного порыва — его радикальнейшее
отрицание, смерть. Ио душа, познавшая это, продолжает жить,
продолжает реализовать свои возможности, шаг за шагом
приближаясь к смерти. Ибо движется она не своей волей,
а волей судьбы, наделившей все живое стремлением к
жизни, определившей направление этой жизни и отрезок
времени для каждой индивидуальности — будь то
индивидуальность культуры или человеческая индивидуальность.
И если последняя одной — сознательной — своей стороной
и выпала из этого процесса, то другая —
бессознательная — ее сторона целиком погружена в него. Причем она-
то и является определяющей как раз потому, что
укоренена в потоке жизненного становления.
Вот почему душе, познавшей свою конечность, свою
судьбу, ничего не остается, кроме как попытаться заклясть
ее, найдя какие-то формы примирения с нею, придания ей
смысла. Здесь, согласно Шпенглеру, и таится истинный
исток культурного творчества человечества. И первым
актом культурного творчества, порожденного страхом
человеческой души перед чуждым миром, перед своей
собственной гибельностью, является создание «символа
протяженности» как того экрана, того пространства, на котором
затем будут рисоваться образы человеческой культуры,
заклинающие ставшее, придающие ему смысл, сообщающие
ему давно утраченное им тепло жизни.
Сам по себе акт такого заклятия чуждого
амбивалентен, если воспользоваться здесь фрейдовским выражением.
Амбивалентность эта заключена уже в двусмысленности
самого слова «заклинать», которое, с одной стороны,
означает магическое подчинение заклинаемого власти
заклинающего, а с другой стороны, выражает мольбу, исполпен-
3 Ю. Давыдов
65
ную священного трепета и смирения. Лучше всего эта
амбивалентность, согласно Шпенглеру, передастся идеей
«табу», в основе которого лежит «первобытное чувство,
предшествовавшее всякому познапию и попимапию
окружающего мира, даже всякому ясному самосознанию,
отделяющему душу от мира» *. Чувство, в котором сливаются
«вечная боязнь, священный трепет, глубокая
беспомощность, тоска, ненависть, смутные желания приближения,
соединения, удаления», оборачивающиеся «глухой
нерешительностью» 2.
В этом чувстве автор «Заката Европы» усматривает
истинное начало всякого формообразующего стремления
человека, начало всякой элементарной формы, а стало быть,
начало всякой человеческой культуры. На первых этапах
развития любой культуры ее связь с переживанием табу
совершенно очевидна. Она вся пронизана столь же
священными, сколь и непонятными запретами, одна мысль о
возможности преступить которые повергает человека в
неописуемый ужас. Отсюда — «гиератический орнамент и
мелочные церемонии», «строгие уставы примитивных обычаев и
своеобразные культы» 3 — все это, проникнутое острым
чувством формы, непосредственным ощущением прямой
связи формы и табу.
С развитием культуры, с удалением от всех прямых
запретов связь между формами этой культуры и ее табу
забывается. Тем не менее она продолжает существовать, как
продолжает существовать и ощущение этой связи у
творческих представителей культуры.
Поскольку уже во всех этих образованиях изначальным
является стремление человеческой души заклясть чуждое,
то есть смерть, поскольку наиболее значительными
феноменами культуры оказываются для Шпенглера именно те
ее формообразования, в которых она самым прямым и
непосредственным образом имеет дело с фактом смерти.
Отсюда — решающая роль, которая принадлежит в
построении Шпенглера Храму, символизирующему для автора
«Заката Европы» тот способ, каким каждая культура
заклинает смерть, создавая свой собственный образ
пространства. По сути дела, своеобразие любой из исследуемых
им культурных форм Шпенглер выводит из особенностей
организации пространства внутренней и внешней архитек-
1 Освальд Шпенглер. Закат Европы, т. 1, с. 88.
2 Т а м ж е, с. 89.
3 Т а м ж е.
66
fонйкой храма — будь то пирамиды Древнего Египта или
Парфсноп, мавританская мечеть пли готические соборы.
Здесь открывается Шпенглеру пра-феномен каждой
культуры, из которого выводятся затем особенности искусства
и философии, религии и этики, науки и техники, политики
и экономики и т. д.
Описав шпенглеровскую дедукцию культуры из
переживания чуждого, боязни мира, мы, по сути дела,
изложили также и представление Шпенглера о происхождении и
функции искусства. Ибо речь у автора «Заката Европы»
шла о выведении целостного феномена культуры, в
пределах которого трудно, если не невозможно, выделить
искусство, в отличие от науки, пауку в отличие от религии,
религию в отличие от политики, и т. д.
Все эти формы можно рассматривать как различные
ипостаси религиозного чувства: не случайно все они
выводятся из благоговейного переживания смерти,
воплотившегося как в архитектонике храма, как в его внутреннем и
внешнем убранстве, так и в совершаемых в нем и перед
ним обрядах. Но с таким же основанием рассматриваемые
формы культуры можно дедуцировать из чисто
эстетического чувства. Ведь сам Шпенглер весьма склонен к тому,
чтобы трактовать феномен храма как чисто
художественное явление, как чисто художественный способ
организации хаоса разрозненных впечатлений души — в
целостность гармонически уравновешенного космоса. А если к
этому прибавить, что другой изначальный способ
человеческой символизации «чуждого», превращения его в
«пространство» культуры — математику — Шпенглер также
называет искусством, то эстетическое чувство придется
рассматривать как едва ли не основной строительный
материал космоса культуры, хотя бы в том смысле, что из него
изготавливаются «скрепы» для соединения
разрозненного—в целое, бесформенного — в оформленное.
Таким образом, Шпенглер как будто возвращается к
утраченному европейской культурой, а потому страстно
искомому принципу целостности культуры, принципу
единства Истины, Добра и Красоты. Правда, как и все
приобретения философии жизни, реставрация этого принципа в
лоне шпенглеровского построения весьма двусмысленна.
Истинное, доброе и прекрасное оказались едиными,
тождественными в одной своеобразнейшей функции — в
функции заклятия чуждого, то есть, если воспользоваться
изящным стилистическим оборотом Шопенгауэра, набрасывании
3*
67
«покрывала Майи» на смерть — этот истипный результат
любого жизненного устремления. Истинное математики и
прочих наук, доброе религии и нравственности, прекрасное
искусства (и философии, и математики, и религии, и
этики) объединены, оказывается, одним и тем же
(неистинным!) стремлением: стремлением к сокрытию подлинной
реальности от человеческой «души», стремлением
отвратить ее взор от истинного лица смерти, ибо лик ее, подобно
лику Горгоны, превращает в камень взглянувшего на него.
Отсюда и возникает описанное нами изначальное
раздвоение, которое проникает затем в каждую из форм
культуры, раскалывая ее до основания. Уже шпенглеровский
постулат, согласно которому любая форма культуры есть
не что иное, как заклятие чуждого, отрицающего
жизненное устремление человеческой души, таит в себе общую
схему этого раздвоения. Ведь сам этот постулат означает,
что в пределах культуры, так сказать, «бьют по мешку, а
имеют в виду осла»: творят разнообразные формы, имея в
виду нечто иное, к ним отношения не имеющее, а
именно — освобождение от космического страха живого перед
мертвым, конечного перед своей конечностью,
гибельностью. Вся культура оказывается, таким образом,
некоторым средством — инструментом «катарсиса», очищения
человеческой души от этого страха, хотя цели этой ей
никогда не удастся достигнуть.
Здесь, однако, мы должны остановиться и глубже
вдуматься в шпенглеровскую трактовку страха и связанной с
ним культуры. Зададим себе вопрос: является ли страх
имманентным свойством жизненного устремления, как
такового, то есть самой «жизни», или, говоря шопенгауэровским
языком, самой «Воли к жизни»? Очевидно, эта «жизнь»
сама по себе — все равно, взята ли она в шпенглеровском
или шопенгауэровском толковании,— страха не имеет: она
просто-напросто вожделеет самое себя, свою собственную
безграничную реализацию. Ведь, как таковая, она —
бессмертна, согласно шопенгауэровскому постулату,
разделяемому Шпенглером (вслед за Ницше), и ей нечего
страшиться «смерти». Этот страх может возникнуть — и с
неизбежностью возникает — лишь в том случае, когда
жизненное устремление реализуется в индивидуальных его
воплощениях, в индивидуальных формах, то есть живых
организмах, причем не всяких, а лишь тех, у которых этот
факт индивидуализации, а значит, смертности, актуализу-
ется в специфическом переживании души — в индивиду-
68
альпом сознании, в человеческом созпании. Иначе говоря,
страх связан у Шпенглера с «принципом
индивидуализации», который столь же иллюзорен, сколь иллюзорной
оказывается, в конечном счете, выросшая из страха культура.
Человеческая конечность, находящая свое выражение
в неизбывном чувстве страха — этом переживании
неизбежного «конца», «гибели», «смерти», бросает тень и па
культуру, выросшую из этих переживаний: она также
оказывается конечиой и смертной. Правда, срок жизни
культуры, согласно автору «Заката Европы», гораздо больший,
чем срок, отведенный человеку, но в принципе, то есть в
том, что они одинаково смертны, индивид и культура не
отличаются друг от друга: их ждет одна и та же судьба —
погружение в Лету. Поскольку же в человеческом страхе
перед смертью есть нечто эфемерное: ведь для самой
«жизни» смерти нет, постольку эта же эфемерность сообщается
и культуре. Но главный парадокс заключается в том, что
культура, обязанная — казалось бы — своим
возникновением «принципу индивидуальности» и представляющая
собою некий побочный продукт индивидуализации «жизни»
в человеке, фактически развивается, если верить
Шпенглеру, независимо от индивидов, во всяком случае
безотносительно к их сознательному целеполаганию. Подобно тому
как «жизнь» вообще пользуется индивидуальными
организмами для реализации своего извечного устремления,
культура как некий над- и сверхиндивидуальный организм
использует отдельных индивидов для осуществления
своего принципа — «пра-феномена», лежащего в ее основе.
Отдельный человек, даже — гениальный (и в
особенности — гениальный), не может и не должен сознавать, чьим
орудием он является; он здесь как бы «ни при чем»: все
решает за него сама культура, реализующая через него
свой принцип, и наиболее полно реализующая его именно
там, где индивид меньше всего осознает смысл собственной
деятельности; она «прорастает» через индивидов,
отбрасывая одно поколение за другим после того, как они
выполнили свою культуротворческую задачу, даже в виде
исключения не давая им понять, какую же, собственно, задачу
они решали, когда сознательно преследовали те или иные
свои цели.
Иначе говоря, индивид, взятый как самосознающее и
ставящее осознанные цели существо, оказывается, с точки
зрения Шпенглера, эфемерным вдвойне; он эфемерен как
бессознательный «агент» процесса «самореализации куль-
69
туры», которая сама, в свою очередь, есть нечто
иллюзорное, зависящее во всех решающих своих определениях не
от себя самой, а от лежащей в ее основе «жизни»: ее
самореализация является мнимостью — это лишь форма, в
которой реализует себя «жизнь». Вот почему, несмотря па
то, что «принцип индивидуации» является у Шпенглера
истинным источником страха, а следовательно, и
вырастающей из него культуры, индивиды (индивидуальные,
сознающие себя посители личного пачала) вообще не играют
никакой роли в шпенглеровском культурно-историческом
построении. Индивид для автора «Заката Европы» — это
не просто исчезающе малая величина; в качестве «вот
этого» индивида он для него вообще не величина, а чистый
ноль: он начинает что-то значить в глазах Шпенглера лишь
в той мере, в какой не является (или перестает быть)
индивидом, становясь анонимным, не имеющим никакого
«лица» носителем тенденций культуры («жизни» вообще),
которые ему предназначено осуществить в данный отрезок
ее исторической эволюции, не задаваясь вопросом о смысле
и значении этих тенденций.
Дело в том, что, согласно шпенглеровской концепции
человека — как она представлена в «Закате Европы»,
человеческий индивид — это существо, наиболее отдаленное
от непосредственного источника космической стихии
«жизни». Ближе всего к этой стихии — растение, живущее во
времени и не знающее никакого пространства; оно
целиком и полностью погружено в космический ритм «жизни»
и не знает никакой отличной от него «свободы»; оно не
стоит в каком-либо отношении к жизненной стихии — оно
само есть эта стихия. В отличие от растения, уже животное
обладает определенной свободой — свободой передвижения
в пространстве, поэтому оно способно к определенному
самообособлению и представляет собой «микрокосмос»:
жизнь, ушедшую «вовнутрь» индивидуального организма,
а потому как бы дистанцированную от самой себя как
непосредственного и самодовлеющего устремления. В связи
с этим возникает напряжение между самотождественным
космосом «жизни» и ее же собственными
«микрокосмическими» порождениями: «Все микрокосмическое имеет
полярность. Слово «против» выражает всю его сущность. Оно
обладает напряжением»1.
1 О. Spengler. Der Untergang des Abendlandes, Bd. II.
München, 1922, S. 4.
70
В человеческом индивиде это напряжение между
отдельным организмом и «жизнью» в целом, отдаляющее
организм от «жизни» и ослабляющее в нем жизненный
порыв, доходит до кульминационной точки; в человеке
отношение к непосредственной жизненной стихии
опосредствуется не только свободой передвижения в пространстве,
как это имеет место у всякого животного, но и всем его
сознанием, благодаря которому жизнь ипдивида становится
для него проблемой: ведь сознание — это прежде всего
сознание конечности, смертности индивида. Если растение
просто-напросто тождественно своему собственному па-
личному бытию — своему жизненному устремлению, то
уже у животного включение в него опосредствуется
«бодрствованием» — напряженно-внимательным отношением к
окружающему; у человека же это «бодрствование»
предстает как отношение «я», в котором человеческий
микрокосмос выступает как некий источник света, и
освещенного этим источником окружающего мира — на место
ночного мира растения приходит дневной мир человеческих
индивидуальностей. Вместе с человеческим «я» рождается,
по Шпенглеру, и страх индивида перед невидимым,
характеризующий «своеобразие всей человеческой
религиозности» i.
Чем дальше человек от непосредственной жизненной
стихии (если сравнить его с животными, а особенно —
растениями), тем большую роль играет в его существовании
смерть и страх смерти. Животное «знает лишь жизнь, а не
смерть» (растение в этом отношении еще ближе к «жиз-
пи»: оно ничего не знает о ней, а просто живет); человек
же не только видит смерть других, как видит ее животное,
но и понимает ее, зная, что такая же смерть ожидает и его
самого. Поэтому животное не боится смерти, оно боится
окружающего мира, опасностей, таящихся в нем; лишь у
людей животный страх перед миром становится «страхом
перед смертью» 2, и только из человеческого знания о
смерти вытекает то, что «люди, в отличие от животных,
обладают мировоззрением»3. Одним словом, человек, согласно
Шпенглеру, есть «смертное» существо в гораздо более
глубоком и универсальном смысле, чем животное и растение:
особой роли, которую играет смерть в их жизни, люди обя-
1 Ibid., S. 10.
2 I b i d., S. 19-20.
3 I b i d., S. 20.
71
заны своим мировоззрением, и своей культурой вообще,—
причем и то и другое еще больше отдалило их от
непосредственной жизненной стихии, сделало, если можно так
выразиться, менее живыми, менее одержимыми ее
«ритмом» и «тактом».
Поскольку же все это, вместе взятое, есть результат
наивысшей индивидуализации, которой достигает «жизнь»
в человеческом существе, обладающем «я», постольку
самым глубоким корнем, изначальной причиной такого
усугубляющегося отдаления людей от жизни, все больше
отдающего их во власть смерти, оказывается не что иное, как
сам «принцип индивидуации»: вместе с ним смерть
приходит в жизненную стихию, в его порождениях —
индивидах, индивидуальных «микрокосмосах» — эта космическая
стихия встречает свою последнюю границу, которую
отбрасывает, чтобы все начать заново. Вот откуда
подозрительное, даже враждебное отношение автора «Заката Европы»
к человеческому индивиду, индивидуальности вообще, коль
скоро она хочет быть чем-то большим, нежели
бессознательным и безличным носителем жизненной («родовой»)
стихии, стремящейся реализовать себя в человеческой
культуре и истории точно так же, как она, скажем,
реализует себя в жизни муравьев или пчел.
Отсюда — общий вывод автора «Заката Европы»,
согласно которому «великие события истории» не имеют
никакого отношения к «микрокосмосу» каждого отдельного
индивида, так как осуществляются не индивидуальными, а
над- и сверхиндивидуальными силами,— в отличие от
«микрокосмических», Шпенглер называет их
«космическими сущностями», «сущностями космического рода» и
относит к ним «народы, партии, массы, классы» *. Если
при этом Шпенглер и оговаривается, что каждая из таких
«сущностей космического рода» нуждается в «фюрере» 2,
то под этим последним он имеет в виду отнюдь не яркую
индивидуальность, совсем не «микрокосмос», живущий
постоянным напряжением по отношению к космическим
стихиям бессмысленно вожделеющей лишь самое себя
«жизни», а чистый слепок с соответствующей «родовой
сущности», в котором ничего не осталось от индивида в
человеческом смысле этого слова. Все это действительно
доведение идеи «кризиса человека» до ее логического преде-
» См.: Ibid., S. 24.
2 См.: Ibid.
72
ла — до заключения об «исчерпанности» европейской
идеи индивида и личности, до полной ликвидации индиви-
дуально-личпостного принципа, подозреваемого отныне в
том, что он несет с собой начало, противоположное
«жизни»,— смерть.
Нетрудно заметить глубочайшее родство между этим —
основным и решающим — шпенглеровским выводом, с
одной сторопы, и зафиксированной Доменаком идеей «конца
человека», под знаком которой шла эволюция западной
культуры вообще и художественной культуры в частности
в последние десять — пятнадцать лет,— с другой. Как
говорится, все приходит па круги своя: то, с чего началось
осознание «кризиса человека» в западноевропейской
культуре полвека назад, вновь было воспроизведено у таких
идеологов «новейших умонастроений», как Маршалл Мак-
люэн, у таких литераторов, как Беккет и Роб-Грийе, у
таких литературоведов-структуралистов, как Р. Барт и его
последователи из группы «Тель кель», наконец, у таких
теоретиков, как Фуко и Лакан; мы не говорим уже о
других мастерах культуры, способствовавших в
шестидесятые годы ее полной переориентации с традиционной
культуры на «враждебную». Но таким образом многое из той
критики, которая прозвучала в адрес шпенглеровского
«Заката Европы» уже полвека назад, оказывается вполне
применимым к тому, что говорится и пишется
защитниками «враждебной культуры» на протяжении последних
десяти лет.
* * *
Фактически культура (как и сама человеческая
индивидуальность) выступала в составе концепции автора
«Заката Европы» как воплощение и персонификация момепта
«конечности», «смертности», «гибельности» в бескопечпом
(и бессмертном) потоке Жизни. Она символизировала
смерть уже самим фактом своего существования. История
каждой из культурных форм оказывалась, таким образом,
историей обособления одного из рукавов из общего потока
жизни, история его индивидуализации, история его
иссыхания в лабиринте институтов, выработанных в рамках
Данной культуры,— словом, история его гибели, понятой
как плата за обособление и «индивидуациго».
«Закат Европы», как и закат каждой из исторически
сменявших друг друга форм культуры, представлялся п
73
рамках этих предпосылок в виде чего-то заранее данного,
от века запланированного. Это был естественный и
закономерный результат «экспликации» шпенглеровских
посылок, в рамках которых ожил, возродился и получил силу
древний бог Хронос, безжалостно пожирающий своих
детей.
Кровожадное божество Времени, вырастающего, по
Шпенглеру, из корней космической «Жизни» и
использующего человеческую душу в качестве своего инструмента,
возводилось в ранг высшего божества в структуре шпенг-
леровского построения. Ему предлагалось молиться, его
предлагалось любить хотя бы уже по одному тому, что
больше, казалось, некому было молиться и некого было
любить. Оно, это божество, выделяло каждому своему
детищу — каждой исторической форме человеческого бытия,
каждой культуре — его долю: отрезок времени в тысячу
сто лет. За это время каждая культура должна пройти свой
жизненный цикл — детство, молодость, зрелость и
старость,— с тем, чтобы в конце концов бесследно исчезнуть
в чреве Хроноса. В этом и состоит высший смысл
существования каждой исторической культуры — смысл, как
видим, тождественный отсутствию всякого смысла.
Таков общий вывод, с необходимостью вытекающий из
шпенглеровских предпосылок. И Шпенглер ничем не мог
предотвратить этого вывода, ибо стоило только возникнуть
Хроносу в русле его концепции, как это свирепое
божество потребовало жертвы. И в качестве первого жертвенного
тельца Хроносу автор «Заката Европы» предложил
Истину, Добро и Красоту. После этого сакраментального акта
Шпенглер остался беззащитным и безоружным перед
лицом неумолимого божества. Тысяча сто лет, отведенные
Хроносом каждой исторической форме культуры,
утратили свой смысл. И культуре в целом, и каждому отдельному
человеку не оставалось ничего иного, кроме как тешиться
иллюзиями истинного, доброго и прекрасного, тщетно
пытаясь скрыть от себя неизбежность бессмыслеппого конца
в пасти Хроноса.
Так двусмысленность в вопросе об отношении
культуры к «Жизпи» оборачивалась выводом о бессмысленности
всякой культуры, всякого культурного творчества перед
лицом неумолимого Хроноса. А быть может, и наоборот:
сомнение в осмысленности культуры вообще привело
Шпенглера к двусмыслеппости в решении вопроса об
отношении культуры к «Жизни».
Ц
Но как бы там ни было, у всех мыслителей,
сохранивших веру в смысл и значение культурного творчества,
после прочтения «Заката Европы» должно было возникнуть
определенное желание низвергнуть Хроноса, повторив
деяние Зевса...
Весьма показательно, что среди мыслителей,
подвергших критике шпенглеровскую концепцию уже в
двадцатые годы, был и Томас Манн, опубликовавший в 1924 году
статью «Об учепип Шпенглера». Причем главное, что
вызвало в «Закате Европы» резкое неприятие немецкого
писателя, это ярко выраженный фатализм, побуждавший
Шпенглера игнорировать исторически-творческую роль
личности, сводить ее к нулю: «Шпенглер утверждает, что
он не пессимист. Еще менее он захотел бы назвать себя
оптимистом. Он фаталист. Но фатализм его, выражаемый
формулой «Мы должны желать исторически необходимого
или не желать ничего», далек от трагического героизма
того дионисийского начала, в котором Ницше снял
противоположность между пессимизмом и оптимизмом. Он скорее
носит характер злобной аподиктичности и враждебности
будущему, которая надевает личину научной
неумолимости. Он не amor fati *. Как раз amor 2 здесь меньше всего
участвует — вот почему оп такой отталкивающий. Дело
совсем не в пессимизме или оптимизме. Можно очень
мрачно смотреть па судьбу человеческую, полагать, что
человек обречен или призван страдать до скончания веков;
можно, если речь зайдет о «счастье», о каком-то где-то в
неопределенном будущем ожидающем нас счастье,
драпироваться в тогу глубочайшего скептицизма и все-таки не
иметь вкуса к мертвенному, школярскому безразличию
шпенглеровского фатализма. Пессимизм — не жестокость.
Он отнюдь не обязательно означает холодпый, как
лягушка, «научный» взгляд на развитие и врожденное
пренебрежение к таким невесомым величинам, как дух и воля,
которые все же, быть может, вносят в процесс развития
элемент иррационализма, недоступный для точной науки.
Л Шпенглеру свойственны именно такая надменность и
такое пренебрежение всем человеческим. Пусть бы он хоть
циничен, как дьявол! А он всего лишь фаталистичен. И он
поступает несправедливо, когда возводит Гете,
Шопенгауэра и Ницше в ранг предшественников его гиеньих прори-
1 Любовь к року (лат.).
2 Любовь (лат.).
75
цаний. То были люди. Он же всего лишь пораженец
рода человеческого» *.
«Смешон тот,— излагает Манн шпенглеровскую
концепцию,— кто полон доброй воли и льстит себя
уверенностью, будто добро, дух, воля к созданию достойных
человека общественных порядков тоже относятся к понятию
рока и могли бы оказать благотворное влияние на ход
истории. То, что ожидает человечество, абсолютно
несомненно: грандиозные войны цезарей за власть и добычу,
потоки крови и, если говорить о пародах-феллахах — молчание
и долготерпение. Человек, снова опустившийся до уровня
зоологического вида, обреченный па жалкое
существование в космосе, лишенный истории, будет крестьянином,
привязанным к матери-земле, или будет тупо прозябать
среди развалин прежних мировых столиц. В качестве
наркотика его убогая душа создаст так называемую «вторую
религию», суррогат первой, культурно-полноценной и
творческой, и она будет бессильна, способна лишь на то, чтобы
помочь ему безропотно нести свое страдание» 2.
Согласно Манну, Шпенглер апеллирует при этом к
понятию «закона природы» лишь «по причине стремления к
удобству и по причине надменно-аподиктического
безразличия! А также по причине того самодовольства, которое,
сладострастно предвкушая предательство, заносчиво
становится на сторону природы — против духа, против
человека; именем природы тупо твердит о безжалостности
законов и при этом кажется самому себе невесть каким
несокрушимым и благородным» 3. Это — слова, которые
можно отнести ко всей ориентации в буржуазной
философии XX века, связанной с тенденцией «внеличностного» и
«внеиндивидуалыюго» рассмотрения человеческих
проблем,— в шестидесятые годы она была представлена Ле-
ви-Строссом, Лаканом и Фуко.
Впрочем, к этому вопросу мы еще вернемся. А пока
продолжим наше изложение. Посмотрим, каким образом
реализовались намеченные здесь «перспективы
человека» — веберовская и шпенглеровская — в последующем
развитии западноевропейского философского и
художественного сознания.
1 Томас M а и н. Собр. соч., т. О, с. 012—013.
2 Там же, с. 010.
3 Т а м ж е, с. 018-619.
Глава вторая
«СМЕРТЬ БОГА» И «АГОНИЯ ЧЕЛОВЕКА»
1. «ЧЕЛОВЕК БЕЗ ЛИЧНОСТИ»
Тема «преодоленности» человека, широко
дебатировавшаяся в странах буржуазного Запада в десятых —
двадцатых годах, была временно снята с повестки дня в
тридцатые — сороковые, в период, когда все духовные и
физические силы прогрессивного человечества концентрировались
для борьбы против реального воплощения варварства и
бесчеловечности — «коричневой чумы»
национал-социализма. Это было время, когда западная интеллигенция
обнаружила склонность слушать мыслителей, призывавших
к выработке «сбалансированной позиции», взглянув на
«перспективу человека» более трезвыми глазами; впрочем,
слушать далеко не всегда означало слышать. Одним из
таких мыслителей был католический философ Романо Гвар-
дини, выпустивший в 1950 году примечательную книгу
«Конец нового времени» *.
Чтобы правильно понять важнейшие устремления
книги Гвардини, необходимо сначала сказать хотя бы
несколько слов о том, что лежало в ее подтексте или вообще было
вынесено за скобки, так как предполагалось само собой
разумеющимся для европейского интеллигентного
читателя конца сороковых — начала пятидесятых годов. А за
скобками оказались довольно серьезные вещи, требующие
сегодня — четверть века спустя после выхода первого из-
х Romano Guardini. Das Ende der Neuzeit. Ein Versuch zur
Orientierung. Würzburg, 1950 (Neunte unveränderte Auflage, 1965).
Далее книга цит. по последнему изд.
77
дапия книги — определенных комментариев и
разъяснений. Во-первых, долгие годы владевшее самим Гвардини
и его читателями (из тех, кого причисляют обычно к
«средним классам») ощущение того, что действительно
наступил «закат» европейской культуры, во всяком случае — в
той ее исторической форме, какую она получила со времен
Ренессанса; что Европа, следовательно, живет уже «после
заката», а потому особенно нуждается в ориентирах,
которые помогли бы «европейскому человечеству» найти свой
путь в ночи,— ощущение, как видим, достаточно мрачное
и мало способствующее выработке оптимистического
миросозерцания.
Во-вторых, опирающееся на большой жизненный и
политический опыт, равно как и на неоднократные попытки
его философско-теоретической «артикуляции» убеждение
в том, что «закат Европы» глубочайшим образом связан с
«восстанием масс» (словосочетание Ницше, введенное в
широкий научный оборот Ортегой-и-Гассетом)1, что вместе
с вступлением «масс» на историческую арену закончилась
целая историческая эпоха и началась совсем иная — эпоха
масс и массовых движений и что поэтому без позитивного
решения проблемы «массы» — в противоположность
простой негативистской ее констатации у Ортеги —
невозможна сколько-нибудь серьезная мировоззренческая
ориентация в этой новой эпохе, как немыслимо и сколько-нибудь
значительное духовное творчество.
Любопытно при этом, что «масса» фигурирует у
Гвардини именно в том виде, как описал ее в работе о
восстании масс открытый и яростный ее противник, создатель эли-
тарпой концепции культуры Ортега-и-Гассет. Так же как
и Ортега, Гвардини связывает появление «массы» в
современном смысле с развитием машинного производства в
крупное, стандартизированное индустриальное
производство, творящее по своему образу и подобию и «человека
массы» (или «массового человека»), характеризующегося
определенными чертами «усредненности», «обезличенно-
сти», «анонимности» — словом, «стандартизировапности».
Он согласен и с тем, что пе склонный к оригипальпой и
самобытной «самореализации», податливый планирующе-
1 См. широко известпую работу Ортеги-и-Гассета «Восстание
масс» (Ortega у Gasset. La rebeliôn de las masas. Md., 1930;
па нем. яз.—1931 г.). Подробнее об этом см. в моей книге
«Искусство п элита» (М., 1966).
78
му воздействию и руководству извне «человек массы»
представляет собой решительный антипод идеалу спонтанно-
творческой и ничему, кроме своего гения, не послушной
индивидуальности, который культивировался в
европейской цивилизации со времен Ренессанса (культ, нашедший
свое продолжение и завершение в романтизме). И в этом
своем аспекте все, сказанное Гвардини об обезличивании
человека в нашем столетии, может быть понято как
продолжение ортегианской критики капиталистической
цивилизации, поставившей «на поток» производство «массового
человека» — подобно тому как она создала «поточные
линии» для массового стандартизированного производства
ширпотреба.
Но, в отличие от Ортеги, который не считал господство
«массового» типа человека неизбежным и надеялся, что
он, как и вызвавшая его к жизни современная техника,
сойдет с исторической сцены «гораздо скорее, чем это
можно себе представить» *, Гвардини был уверен, что и
современная техника, и «массовый» человек пришли в мир
всерьез и надолго — их время не представлялось ему
переходным периодом, он был убежден, что речь идет пока лишь о
самых первых «моментах» становления новой эпохи,
сравнимой со средневековьем и «закончившимся» новым
временем. Поэтому свою задачу католический мыслитель
видел отнюдь не в том, чтобы продолжать ренессансно-роман-
тическую линию критики «человека массы» (где, кстати,
трудно уже было добавить что-либо существенное к
написанному автором книги о восстании масс), а в
диаметрально противоположном. Он попытался радикальнейшим
образом переориентировать буржуазное сознание, поставив
перед ним задачу понять и принять «человека массы» как
«судьбу» новой эпохи, от которой нельзя уйти и с которой
можно только «ужиться», постигнув ее особенный смысл.
И хотя, быть может, этот смысл и непостижим с точки
зрения ренессансно-романтической традиции — той самой,
что была обязана своим существованием новому времени
и лишалась своего животворного духа вместе с его
«окончанием»,— он все же существует; но постичь его, по
Гвардини, может лишь тот, кто попытается понять резоны
«массового человека», который все-таки — человек и вынужден
жить, коль скоро судьбе было угодно вызвать его к жизни,
1 См.: А. X ю б ш е р. Мыслители нашего времени. М., 1962,
с 83.
79
и который, как и всякий человек, хочет жить
осмысленно — то есть ища и находя смысл своего существования.
В этом отношении Гвардини оказывается
принципиальным оппонентом Ортеги и всей (восходящей к ренес-
сансно-романтической традиции) линии критики
«человека массы». Прежде всего Гвардини возражает против
отождествления «современной массы» с тем «бесформенным
человеческим множеством» *, каковое в новое время
составляло фон для «отдельных высокоразвитых индивидов».
По мнению Гвардини, «обыдепный» человек нового
времени хотел бы реализовать себя таким же образом, как это
делали «аристократические» (в самом широком, а не
только «кровно-наследственном» смысле слова) представители
его эпохи, но не достиг этого в силу различных
обстоятельств, каковых бесконечпое множество, а потому не смог
«развить свою личность», доведя это развитие до
реализации ее «вовне» — в «материале» истории, в «металле и
камне» эпохи. В этом и видит Гвардини решающее
отличие «бесформенного множества» индивидов, которым
судьба не предоставила шанс «состояться», от «массы в
современном смысле», для представителей которой подобного
рода «самореализация» уже не является ни внутренней
потребностью, ни идеалом, действительно придающим
смысл их существованию, пробуждающим их волю к
борьбе.
Если «бесформенное множество» нового времени —
этой столь же «ренессансной», сколь и
индивидуалистической эпохи — возпикло как результат эмансипации
человека от всех и всяких зависимостей (в том числе и от тех,
от коих, быть может, и не следовало бы
эмансипироваться), то «масса», появление которой ознаменовало конец
этих времен, представляет собой, согласно Гвардини,
продукт совсем иначе направленного процесса. Она —
результат «структурирования» упомянутого «множества»
(достигшего к тому времени астрономических размеров) на
основе научно-технического развития — путем
соотношения сил и способностей, влечений и потребностей людей «с
функциональной формой машины», машинообразной
крупной промышленности вообще. Такого рода
«соотнесенность» характеризует и «самых высокоразвитых
представителей массы», тех, кто творит этику массы и формирует
1 R. Guardini. Das Ende der Neuzeit. Würzburg, 1965, S. 66.
Далее цит. с. 66—67 этого изд.
80
се как стиль, то есть тех, кому в «ренессансную эпоху»
предстояло бы стать избранными судьбою аристократами
самореализации.
К «человеку массы» в Гвардинневом толковании этого
словосочетания уже неприменимы представления об
индивидуальности и субъективности в возрожденческом смысле
(с характерным для последнего акцентом на
экстенсивности, бесконечности, беспредельности — «безмерности» —
саморазвертывания человека). Этому
социально-историческому типу совсем не свойственно стремление к
утверждению уникальности, реализуемой как в неповторимом
облике индивида, так и в оригинальности его поведения и
своеобразии всего «образа жизни»,— наоборот: он
принимает «рациональное планирование и нормирование» его
жизни в соответствии с требованиями «машинного
производства» (по выражению Гвардини) как нечто разумное,
правильное и само собой разумеющееся, как естественное
русло своего самоосуществления. Столь же мало характе-
ризирует «человека массы» желание «положить в основу
своей жизни собственную инициативу». Нет, он более
склонен отправляться от программ, которые «задают» ему
многочисленные организации: включенный в них,
направляемый ими, этот «человек без индивидуальности» вовсе не
находится в непримиримом конфликте с ними, находя и
здесь способы для осуществления своего бытия.
Как видим, Гвардини существенно смещает акценты в
проблематике человеческой индивидуальности и
автономии субъекта, свободы личности и ее культурного
творчества, выдвинутой на передний план «ренессансной эпохой»
и крайпе заострившейся в конце нового времени в связи с
новой проблемой — развитием крупной промышленности,
монополистического капитала и «восстанием масс». Идея
свободы и самоценности человеческой индивидуальности,
ее максимального «развертывания» именно как
уникальной и неповторимой, которая витала в атмосфере
«ренессансной эпохи», не представляется Гвардини абсолютно
значимой. Более того, рискуя заслужить упрек в
вульгарном социологизме, он связывает ее с определенной, «а
именно буржуазной» структурой общественной жизни.
Технический прогресс — по его убеждению — выдвигает
на первое место и делает повсеместно господствующей
совсем иную социальную структуру, для которой вообще
«перестает быть определяющей» идея творческой
индивидуальности, созидающей саму себя, идея автономного, спон-
81
танно развертывающегося субъекта, призванного во что бы
то ни стало «реализовать себя» во всей своей
уникальности и неповторимости.
Тем не менее взгляд Гвардини на процесс становления
нового социально-исторического типа — «человека
массы» — далеко не безоблачен. Автор видит те утраты,
которыми сопровождается этот процесс — даже по сравнению
с не очень-то импонирующим ему «ренессансным
человеком», человеком ничем не сковываемого индивидуализма,
эгоцентрического самоутверждения личности. Нельзя не
ощутить, например, меланхолического чувства, которым
окрашено рассуждение Гвардипи в связи с констатацией
того факта, что у «человека массы» рождается своего рода
«инстинкт» — не выделяться в качестве обладателя
индивидуальных особенностей, оставаться анонимным
носителем коллективного духа, поступать так, будто своеобразие
является не только источником многочисленных
опасностей, но и началом «всякой неправды». У Гвардини
вызывает явную тревогу, что в буржуазном обществе повсюду
исчезает «уважение перед частной жизнью людей»,
которая все глубже и «тотальнее» охватывается статистикой и
становится предметом администрирования,— тенденция, в
пределе чреватая опаспостыо фашизма.
И все-таки, в противоположность мыслителям, более
экзистенциально связанным с «ренессансным образом
человека», он не считает, что все эти утраты и потери
привели к деградации человеческой личности, если иметь в виду
ее истинное ядро — лицо, к утрате (или хотя бы
«деформации») ее божественного начала. В этом смысле «человек
массы» не представляется католическому мыслителю чем-
то менее достойным, заслуживающим меньшего внимания
и уважения к его потенциям и устремлениям, чем «ре-
нессансный индивид», который действительно выглядит
более впечатляюще, однако отнюдь не с этической, а
только с эстетической точки зрения.
Ограппченпость эстетической точки зрения на «ренес-
сансного человека», боровшегося за свою безграничную
самореализацию на протяжении всего нового времени,
заключается в том, что она покоится на
сознательно-бессознательном забвении о тех «многих, слишком многих», за
счет которых реализовьгвалп себя отдельные «титанические
личности». (И Иицше — один из немногих, продумавших
эту точку зрепия со всей возможной
последовательностью,— убедительно показал, что означает она на деле, не
82
остановившись перед чудовищностью своих выводов.) Что
же касается Гвардини, то в качестве глубоко религиозного
философа он не может не акцентировать —
альтернативную в данном случае — этическую точку зрения, которая
даже перед лицом избранников судьбы, окруженных
героическим ореолом, не может отвлечься от тревожащего
совесть вопроса о том, а как же быть с этими «многими»;
справедливо ли — в высшем смысле этого слова — то, что
им не удалось реализовать смысл своего бытия, открыть и
утвердить божественное начало, таящееся и в каждом из
них.
В середине XX столетия такой подход представлялся
оправданным еще и тем не лишенным резона
соображением, что «слишком многие» исчислялись теперь уже не
сотнями тысяч и даже не миллионами, а десятками и сотпями
миллионов,— эти «цифры» должен был ставить на карту
новый цезарь, коль скоро он по-прежнему собирался «рса-
лизовывать себя» на возрожденческий манер. И
становилось как-то само собой понятным: пусть уж лучше
захиреют и увянут «нереализованные» уникальные способности
и «творческие потенции» подобного персонажа, по
останутся в живых десятки и сотни миллионов людей,
имеющих право на жизнь гораздо более несомненное, чем его
право на «безграничную самореализацию». У Гвардини
аналогичный вывод носит характер призыва к
самоограничению и «повой дисциплине», полемически
противопоставленного возрожденческому требованию «безмерного и
беспредельного» самоосуществления, сохранявшего свою
непреложность вплоть до «конца» нового времени; ведь
становилось слишком уж очевидным, что такое
самоосуществление неизбежно происходило за чей-то счет,
который в XX веке возрастал с каждым десятилетием. В этой
же связи католический философ выдвигает требование
«аскезы» власти, «власти над самой властью», которое он
противополагает макиавеллевски-ницшеанской
абсолютизации «воли к власти», истолкованной в качестве высшей
человеческой способности.
Возникает, однако, вопрос: суждено ли вообще
сохраниться человеческой личности в строгом смысле этого
слова в «век масс», когда понятие «анонимности» обещает
вовсе утратить свои пугающие, отталкивающие черты? И не
находится ли все то, что констатирует Гвардини в связи
с характеристикой «человека массы», в гораздо большем
противоречии с личным началом, с «ядром» личности, чем
83
это ему представляется? Впрочем, и сам Гвардини не
пытается уклониться от этого вопроса, более того —
выдвигает его в центр своих размышлений о перспективе
человека. В середине XX столетия перед человеком, согласно
убеждению философа, раскрываются две возможности:
либо он вовсе утрачивает всякую личность, «без остатка»
растворяясь в механической совокупности выполняемых
им машинообразных функций (все равно, идет ли речь о
вещественно-материальном или «духовном» производстве,
«производстве культуры»); либо ему удается отдалиться
от них, сохранив себя от распыления, сосредоточившись в
себе самом — хотя бы и ценой отказа от «развертывания»
вовне, от экстенсивного творчества «внешних форм»
(очевидно, потому, что последнее осуществляется обществом,
«общественным производством» в целом, как бы уже без
участия уникальных особенностей индивидов).
Правда, человек, сохраняющий «ядро» личности за
счет такого самоограничения, мало похож на
«всесторонне развитую» личность в возрожденческом смысле слова.
И Гвардини вообще склонен отказаться здесь от понятия
«личности», которая представляется ему накрепко
связанной с Ренессансом и новым временем, а значит — и с
идеей экстенсивного «саморазвертывания». Более уместным
представляется ему в данном случае понятие «лица», с
которым католический философ связывает метафизическое
«ядро» личности, сохраняющееся и после «ликвидации»
последней (точно так же, как оно существовало, по
мнению автора книги, и до того, как возникла личность в
нынешнем ее понимании, унаследованном от Возрождения).
Важнейшая особенность «лица», определяющая его
решающее отличие от «личности»,— это, согласно Гвардини,
его самоконцентрация, сосредоточение центра тяжести в
себе, то есть в отношении к богу, а не к миру (отношение
к миру перестало уже гарантировать отнесенность
человека к богу, как это было у пантеистически настроенных
возрожденцев).
Такая самокопцентрация «лица» была для Гвардини
тождествена дефиниции человека, его самоопределению,—
в противоположность «самоутрате», грозившей, по мнению
католического мыслителя, экстенсивно устремленной
«личности» и действительно приведшей ее к крушению. Речь
шла, следовательно, о «собирании» в «скудной, по
прочной» оболочке углубленного в себя «лица» всего того, что.
было распылепо «личпостыо», овладевшей «внешним ми-
84
ром» (да и то — достаточно условно), но потерявшей свою
«душу», свою дефиницию, свое определение, свое
отношение к абсолютному. Что означает все это в аспекте
социально-психологическом, лучше всего раскрывается при
сопоставлении сказанного с современными буржуазными
социологическими концепциями, апеллирующими к понятию
«роли» и представляющими личпость как «совокупность
ролей» *.
Индивид, выступающий как совокупность
разнообразных, очень часто исключающих друг друга «ролей» —
генерал, отдающий распоряжение о бомбардировке
населенного пункта, и активный член какого-нибудь
благотворительного комитета; чадолюбивый отец семейства,
достойный супруг, исполняющий все свои «функции», и в то же
время «ветреный любовник», реализующий вдали от дома
свои «неосуществленные потенции»,— каждый раз
оказывается перед жестокой необходимостью: для того, чтобы
«оптимально функционировать» в одной из ролей, он
должен забыть обо всех остальных, во всяком случае — о тех,
которые более всего противоречат выполняемой им в
данный момент. А это значит, что он должен забыть и о самом
себе — в тех «ролях», которые исполнял день или час,
даже несколько минут назад и которые ему скоро придется
играть снова и снова. Иначе неизбежны «сбои»: жену он
начинает пазывать именем любовницы, любовницу —
именем жены, в благотворительном комитете говорить
голосом военной команды, а размышляя о том, стоит ли отдать
приказ о бомбардировке населенного пупкта,— вспомнить,
что и там, по-видимому, есть ни в чем не повинпые
старики, женщины и дети.
Но что значит в каждый следующий момент забыть о
себе предыдущего момента, что значит выработать в себе
привычку к такому «беспамятству»? Это значит утратить
чувство самотождествепности, чувство собственного
«лица», которое дается лишь отнесением непрерывного
потока «душевных переживаний» к чему-то устойчивому,
неизменному, абсолютному. Это значит выработать в себе
дурную и опасную привычку к переживанию такой утраты
как свободы — свободы для новых и новых «самореализа-
1 См.: Т. Parsons. The structure of social action. Glencoe, 1949;
R. Dahrendorf. Homo soziologicus: Versuch zur Geschichte,
Bedeutung und Kritik der Kategorie der sozialen Rolle.— In: R. D a h г e n-
d о r f. Pfade aus Utopia Arbeiten zur Theorie und Methode der
Soziologie. München, 1967.
85
ций» в новых и новых ролях. Это значит утратить себя как
нечто единое и целостное; рассыпать, распылить,
аннигилировать свою «самость» в многообразных «ролях»,
исключающих одна другую; забыть о возможности,
необходимости и нравственной обязанности быть тем, кто имеет
право говорить о себе в каждый данный момент одно и то
же слово: «я», утверждая тем самым не просто
формальное «равенство» с самим собою, но и ответственность за
себя — перед «всеми остальными» *. Вот именно такого
рода «развертыванию» личности «вовне» — сколь бы ярким и
импозантным оно ни казалось (кстати, у многосторонне
«широких» возрожденцев типа Цезаря Борджиа также не
исключено было чадолюбие наряду с «волей к власти»,—
ситуация, в которой роль государя требовала убийства
соперника-сына, а роль отца — рыданий над его свежей
могилой) — Гвардини и противопоставляет личное
самоограничение, «дефиницию лица», понятую как возвращение
личности в ее прочное «ядро», углубление ее в свое
«внутреннее», осуществляемое на путях «аскезы» и самым
последовательным образом проведенного разрыва с «волей к
власти», в какой бы форме она ни выступала.
Отметим, однако, нечеткость понятия лица, особенно
заметную на фоне той огромной роли, которая отводится
ему в Гвардиниевой концепции конца нового времени.
Говоря о «лице», философ преимущественно пользуется
метафорами, среди которых чаще других фигурирует
«окликну тость» человека богом. Средоточием личности,
сохраняющимся, по Гвардини, и в «лице», является то, что
каждый человек, вне зависимости от того, удалось ему
реализовать себя или нет,— уже «окликнут богом», то есть
находится в определенном отпошении к нему; в свете это-
1 Отправляясь от этих рассуждений, нетрудно дедуцировать, в
каком отношении Гвардиниевы основные интенции стоят к модной
нынче на Западе идее «многодушия» (несколько душ, живущих
якобы в каждом человеке и иллюзорно принимаемых им за одну
ли(шость), получившей наукообразный вид в юнгиапствс и
«революционную» форму борьбы против «буржуазного» тождества «я»
самому себе (фихтеанское «Я^=Я») у Адорно и «адорнитов». С
рассмотренной точки зрения эту идею можно было бы понять как
простую (и далеко не безупречную в нравственном отношении)
апологетику фактического положения дел, при котором личность
полностью утратила себя в исключающих друг друга «ролях», а
ее бывший обладатель хочет видеть в этой самоутрато
«мистический» или «революционный» (смотря по вкусу) акт. (Ср. в этой
связи «Степного волка» Германа Гессе.)
86
го отношения и проступают черты его «лица», которые он
должен сохранить. Это — «минимум», который остается от
роскошествовавшей в своих многообразных
самопроявлениях «ренессансной личности», однако — тот минимум,
благодаря которому «человек может еще оставаться
человеком» 1 даже в качестве «массовидного» индивида.
«Лицо» — это не аристократическая привилегия, не подарок
судьбы, одним позволяющий реализовать свою
индивидуальность, а другим — нет; это не призыв к безграничной
«самореализации» во что бы то ни стало и не оправдание
«титанического» своеволия. Это, по мнению католического
мыслителя, не больше, но и не меньше, чем «верность»
человека своей коренной обязанности — быть носителем
начала, более высокого, чем он сам, со всей своей
оригинальностью и уникальностью, во всем неповторимом сочетании
своих многообразных свойств и качеств.
Пожалуй, более адекватно передать реальный смысл
того, что хотел, но не смог выразить общезначимым
образом Гвардини, можно — пока — не столько с помощью фи-
лософско-теологической терминологии, сколько с помощью
поэтических образов. Вспомним стихотворение Б.
Пастернака «Быть знаменитым некрасиво», рожденное, как нам
представляется, настроением, очень близким к тому, что
владело автором книги о конце нового времени:
Быть знаменитым некрасиво.
Но это подымает ввысь.
Не надо заводить архива,
Над рукописями трястись.
Цель творчества — самоотдача,
А не шумиха, не успех.
Позорно, ничего не знача,
Быть притчей на устах у всех.
И надо жить без самозванства;
Так жить, чтобы в конце концов
Привлечь к себе любовь Пространства,
Услышать будущего зов.
И надо оставлять пробелы
В судьбе, а не среди бумаг,
Места и главы жизни целой
Отчеркивая на полях.
1 R. G u а г d i n i. Op. cit., S. 69.
87
И окунаться в неизвестность,
И прятать в ней свои шаги,
Как прячется в тумане местность,
Когда в ней не видать ни зги.
Другие по живому следу
Пройдут твой путь за пядью пядь,
Но поражепья от победы
Ты сам не должен отличать.
И должен пи единой долькой
Не отступаться от лица,
Но быть живым, живым и только,
Живым и только — до конца.
(1956)
Как видим, у Пастернака, так же как и у Гвардини,
проблема «лица» теснейшим образом переплетается с
вопросом о цели и смысле культурного творчества. Здесь
отчетливо звучит мотив самоуглубления,
самоограничения — аскезы, так не свойственный ренессансному
пониманию культуры. Творить — это не значит обращаться
прямо и непосредственно к «городу и миру», ко «всему
человечеству» (жест, в котором трудно различить, что хочет
поэт на самом деле — явить миру истину или «себя
показать»). Творить — это значит «окунаться в
неизвестность», обращаясь к одпому, но живому, реальному
человеку, с которым стоишь «лицом к лицу». Ибо только в этом
случае то, что пишется па бумаге, может оставить
действительный след в судьбе — и того, к кому обращается поэт,
и в его собственной. Ведь пишется в таком случае
только сама «суть дела» — абсолютпо необходимое для того,
чтобы «не отступаться от лица», то есть «быть живым».
То, что пишется перед лицом «вот этого» другого,
имеет смысл и для «всех». То же, что пишется с расчетом «на
всех», не имеет смысла ни для кого: утерян адрес —
«лицо».
Со стоическим спокойствием решает католический
философ коренную проблему XX века — как она
формулируется на Западе: проблему неизбежного снижения ренес-
сансного уровня культуры в век масс и массовых
движений. Он полагает, что связанное с такой постановкой
вопроса рассуждение об органически-нерасторжимой
соотнесенности «великих ценностей» с ограниченным числом
людей («аристократия», «элита» и т. д.) неизбежно
переносит центр тяжести с важнейшего и первостепенного в
88
плоскость вторпчного и Производпого. BiMCCTO того чтобы
ставить вопрос о культуре как средстве сохранить
человеческое «лицо» в ситуации конца нового времени,
сопровождающейся опасной тенденцией полного обезличивания
(а то и прямого обречения на голодную смерть)
миллионов и миллионов людей,— вопрос, от которого зависят все
остальпые,— обращаются к совсем иной, заслуживающей
своего обсуждения, но — увы! — не решающей проблеме:
реализации индивидуального «богатства» и личностной
«мощи» (реализация, которая к тому же становится тем
более сомнительной в нравственном отношении, что
достичь ее можпо лишь ценой утраты «лица». Что толку
человеку от того, что его произведение тиражируется в
миллионах экземпляров, если у него самого нет «лица», а у
его творений — «души»; и не производит ли кошмарного
впечатления это наполеоновское завоевание «рынков
культуры» телами без души, то есть, попросту говоря,
трупами) . Культура в наш век — это, согласно Гвардини, то,
что помогает сохранить свое «лицо» каждому, а не
отдельным избранным, ибо «окликнут» — каждый, а не только
тот, у кого обнаружился «гений». Каждому предоставлен
этот «личный шанс» как нечто безусловное, чему следует
предпочесть все остальное,— и культура призвана
способствовать тому, чтобы он не был упущен.
Каждое «лицо» — неповторимо. Но это — совсем не
возрождепческая «неповторимость», так много несущая в
себе от чисто «природного» и в этой «природности»
хаотического многообразия. Нет, это, как пишет философ, неза-
местимость человека в акте его ответственного решения;
исполненное высшей серьезности сознание того, что
никто не может сделать за индивида его нравственный
выбор — его нельзя ни перепоручить другому, пи
«разделить» его с другим.
С ренессансной точки зрения, тяготевшей над
сознанием нового времени, поставленный вопрос безусловно
решается в пользу десятка счастливых баловней судьбы:
остальным «не следовало бы» появляться на свет, а коли уж
они все равно появились, то пусть послужат пьедесталом
для счастливой десятки, материалом ее «исторического
творчества». Последовательно антиренессансная позиция
приводит Гвардини к диаметрально противоположному
выводу: если каждое «лицо» неповторимо в абсолютном
смысле слова и эту свою неповторимость способно
утвердить в любых условиях, то хорошо, чтобы «людей было
89
больше» i. Иначе говоря, «массовое общество», или
(чтобы не вызывать неверные ассоциации, прилипшие к этому
словосочетанию) «общество масс», то есть общество, в
котором — хотят они того или нет — и должны ужиться
миллионы и сотни миллионов людей, выступает в глазах
католического мыслителя как нечто не только неизбежное,
по и нравственно оправданное.
В целом, как видим, картина, нарисованная Гвардини,
пе выглядит особенно воодушевляющей. И нет ничего
удивительного в том, что голос Гвардини оставался долгое
время неуслышанным на Западе, хотя его книга
многократно переиздавалась, поскольку отражала точку зрения,
близкую официальным католическим кругам,— и в 1965
году вышла уже девятым изданием. Западноевропейская
буржуазная интеллигенция, воспитанная в духе ренессанс-
но-романтической традиции, должна была перепробовать
все иные варианты решения «проблемы человека» в XX
столетии прежде, чем ее идеологи задумались над
вариантом, предложенным в работе Гвардини.
Мы же, со своей стороны, не должны — при всей
нашей критичности, учитывающей крайнюю
противоречивость перспективы, намеченной в книге о конце нового
времени,— упустить из виду главное, выделяющее
концепцию Гвардини среди других современных ей
буржуазных культур-философских построений. А это главное
состоит в том, что Гвардини (равно как и официальные
католические круги, к которым он был близок) не только
видит в появлении «массового человека» основной
феномен и — соответственно — кардинальную проблему
государственно-монополистического капитализма, но и считает,
что вне постановки и решения этой проблемы вообще
невозможно решение «проблемы человека»; ибо
применительно к XX столетию это — для Гвардини — одна и
та же проблема: от нее нельзя уйти на ортегианский (и
вообще—«неоромантический») манер, «отделив» от
«массы» — «элиту» и обеспечив последней обособленное
существование. В этом — характерный «антиромантизм»
Гвардини (и официальной католической философии
вообще) , его стремление со всей серьезностью взглянуть на
реальное положение дел, во всяком случае — не
отворачиваться от него. Почувствовав в «массовом человеке»
историческую реальность, католицизм, в лице Гвардини, попытал-
1 R. G u а г d i n i. Op. cit., S. 70.
90
ся сделать шаг ему навстречу, связать его « смысл >> — Со
своим.
Наконец, для понимания Гвардиниевой оценки конца
нового времени и сопровождающих его социальных и
антропологических метаморфоз важно иметь в виду
историческую перспективу, в разрезе которой оценивается в
книге и то и другое. Человеческий тип, сформированный
новым временем, не представляется Гвардини ни
единственно возможным, ни «оптимальным», пи даже обладающим
какими бы то ни было решающими преимуществами перед
человеком иных времен, особенно — перед средневековым
человеком. Наоборот, в качестве наследника и преемника
той критики, которой средневековый католицизм подверг
формирующегося буржуазного индивида — поклонника
чистогана, стяжателя и накопителя, Гвардини
акцентирует скорее утраты, чем приобретения, сопровождающие
исторический процесс «самореализации» ренессансной
личности в условиях капитализма. Здесь обозначается
решающий пункт, отличающий оценку католическим
философом ситуации индивида в конце нового времени от
оценки ее всеми теми, кто сознательно или бессознательно
продолжал ориентироваться на ренессансную «модель»
человека как наиболее истинную.
Наиболее четко различие в этом пункте фиксируется
при сопоставлении гвардиниевскои постановки вопроса с
бердяевской, характерной для книги Бердяева «Смысл
истории» (Берлин, 1928). В отличие от Гвардини, Бердяев
полагает, что «ренессансный период» (он целиком совпадает
у него с эпохой нового времени) принес с собой нечто,
уже «неотмыслимое» от понятия человека, без чего его
уже невозможно представить. Он имеет в виду принцип
свободного, автономпого (и в этой автономии
доходящего до претензии на эмансипацию от бога) развертывания
творческих сил индивида.
В этом смысле линия, ведущая от средневековья к
Ренессансу (новому времени), оказывается у Бердяева
прогрессивной, направленной вверх, несмотря на то что сам
автор книги о смысле истории считал понятие
исторического прогресса глубоко противоречивым и
несостоятельным как в теоретическом, так и в этически-религиозном
отношениях. И сколько бы ни говорил Бердяев о том, что
«ренессапеная эпоха» потерпела поражение в решении
своей основной задачи — абсолютно свободного
развертывания творческих сил человека, повторив здесь судьбу
91
предшествовавших эпох, каждая из которых также не
смогла решить собственной задачи,— он не мог уже мыслить
нормальный человеческий тип вне тех свойств и качеств,
которыми наделил его Ренессанс. Отсюда — глубоко
трагическая интонация, сопровождающая бердяевские
размышления о судьбах человеческой личности в ситуации
«конца Ренессанса» в условиях наступающего «нового
средневековья», имеющая мало общего с эпической
интонацией «Конца нового времени». Бердяев настолько
мало отошел от возрожденческого человека (быть может,
потому, что сам был плоть от его плоти и дух от духа его
идеалов и ценностей: нет ли в бердяевском — слишком уж
навязчивом! — настаивании на человеческой свободе как
свободе «творить зло» чего-то от онтологизации ренессан-
сного образа человека?), что «конец» этого человека
воспринимался им совершенно апокалипсически — как
«конец» человека вообще. «Мы вступаем в ночь нового
средневековья»,— говорил он, невольно — самой
лексикой — подчеркивая свою солидарность с «ренессансным»
отношением к нему, свою неспособность (да и нежелание)
хоть как-то отделиться от этого отношения.
Совсем не то у Гвардини, для которого средние века
никогда не сопрягались (и в принципе не могли
сопрягаться) с образом «ночи». Подмеченная Бердяевым
формальная аналогия между эпохой, предшествовавшей новому
времени, с одной стороны, и целым периодом, в который
разрастался «конец» последнего,— с другой, дает
католическому мыслителю скорее некоторую — хотя и робкую —
надежду, чем дополнительный повод для отчаяния.
Гвардини—совсем не «ренессансный человек» и—в отличие от
Бердяева — даже не раскаявшийся возрожденец (трудно
представить, чтобы он когда-нибудь, и хотя бы на момент,
мог отождествить себя со Ставрогиным, как это случилось
с молодым Бердяевым,— отождествление, под знаком
которого протекал его «революционный» период). Это —
человек, никогда не порывавший с католичеством,
традиционной обрядностью и церковной дисциплиной, много
сохранявшей в себе от наследия средних веков, от равнения
на средневековый «образ человека»; и в то же время —
человек, совсем не чуждый «новым веяниям» (хотя и
тщательно отбиравший среди них то и только то, что
соответствовало католической традиции, казавшейся ему, во
всяком случае — применительно к фазе конца нового
времени — гораздо более широкой и плодотворной, чем
92
ренессапспая). Вот почему оп с таким эпическим
спокойствием воспринимает организующие и дисциплинирующие
устремления «века масс»; вот почему он совсем пе склонен
считать вопросом жизни и смерти индивида, подрывом
самого принципа индивидуальности многое из того, что
воспринимали именпо таким образом люди, связанные более
интимной связью (связью общего греха и общего
покаяния — как Бердяев) с ренессансной «моделью» человека.
Л то, что оказывается здесь проблемой также и для него,
формулируется им совсем иначе.
2. «АГОНИЯ ЧЕЛОВЕКА»
Не удивительно, что представителям «ренессансной»
ориентации перспектива, предложенная в книге Гвардини,
не казалась ни убедительной, ни обнадеживающей.
Достаточно яркое свидетельство тому — произведение другого
религиозно настроенного мыслителя, Габриэля Марселя,—
«Деградация человека» *, вышедшая год спустя после по-»
явления «Конца нового времени».
В центре внимания Марселя находится как раз тот
пункт, который настолько слабо обоснован в концепции
Гвардини, что по справедливости может считаться ее
ахиллесовой пятой. Марселя интересует вопрос, насколько
свободен человек XX столетия и действительно ли он по-
прежнему «незаместим» в акте принятия нравственного
решения,— скажем (если взять случай предельный с марсе-
левской точки зрения), в решении вопроса о том, стоит ли
ему кончать жизнь самоубийством или нет. Марсель
полагает, что в наше время в распоряжении «технократов»
находятся такие средства воздействия на индивида,
которые дают возможность лишить его возможности принять
свободное решение даже в этом случае. Теперь он не
свободен и там, где, согласно стоикам, коренилась его
последняя свобода: свобода «перестать быть», когда условия
человеческого бытия перестают отвечать человеческому
достоинству; свобода избежать необходимости
подчиняться чужой воле, сколь бы мощной и всесокрушающей она
ни была. В «оруэлловском мире», навстречу которому, со-
1 Книга Марселя цит. по нем. изд.: Gabriel Marcel.
Erniedrigung des Menschen. Fr. a. M., 1964. На французском языке она
вышла под другим названием: «Люди против человеческого» («Les
hommes contra l'humain». Paris, 1951). В дальнейшем мы пользуемся
более поздним — немецким — названием книги.
93
гласно философу, «технократы» ведут Запад, стоическая
позиция исключается, ее фундамент рушится вместе с этой
последней свободой: «убежать в небытие» невозможно —
не пустят.
Автор книги о деградации человека убежден (в
противоположность Гвардини), что средства психологического
давления на личность, созданные с помощью современной
науки и техники, таковы, что они делают вполне
возможной подмену «личностного» акта нравственного
решения — столь же «безличным», сколь и безнравственным
«решением», навязав индивиду «выбор», потребный
властям предержащим. Можно убедить человека, полного
желания жить, что ему пора покончить счеты с жизнью,— и
он сделает это, будучи абсолютно уверенным в момент
самоубийства, что убивает он себя исключительно на
основании своего собственного решения, а не приказа
(«сигнала») извне. И наоборот: человека, рискнувшего в наш век
последовать заветам стоиков и решившего покончить с
собой, чтобы не совершать поступка, навязываемого ему
силой,— можно тем же (чисто техническим) способом
привести к переживаемому с абсолютной достоверностью
сознанию того, что убивать себя — безнравственно и что
высшим, истинным актом свободы и ответственности будет для
него именно отказ от самоубийства. А это значит, что
время стоиков безвозвратно прошло, ибо «нет никакого
стоицизма без веры в неотчуждаемый внутренний суверенитет,
в абсолютное господство над самим собой» i. Кириллов из
«Бесов» Достоевского мог до бесконечности «тянуть» с
выполнением своего решения о самоубийстве только в
медленном прошлом веке; в наш век, судя по выкладкам
Марселя, он должен был бы поторопиться: а ну как нагрянет к
нему оруэлловский Большой Брат и «приведет» его к
совсем иному решению, принятому со столь же «абсолютно
достоверным» переживанием свободы выбора?
Но коли так обстоит дело даже в «предельном» случае,
то что говорить о привычных, банальных, обыденных
ситуациях, когда человек вообще не задумывается о
границах, пролегающих между действительно свободным (и в
этом смысле «аутентичным») поступком и действием,
продиктованным «извне» — обстоятельствами, приказом,
принятой без размышления догмой и т. д. И если все это верно
даже в отношении стоически настроенных одиночек, тщет-
1 G. Marcel. Op. cit., S. 22.
94
но пытающихся устоять на позиции, которая прежде
казалась (и была) совершенно несокрушимой,— то что
говорить о «массах», которые, по Марселю, как раз и
созданы с помощью «техники лишения человека его
достоинства», техники «замещения» его в акте свободного решения,
техники «выведения» его за пределы самого себя — прочь
от «личного» центра.
Марсель, в отличие от Гвардини, убежден, что «человек
массы» полностью утратил не только личность, но и ее
отдаленное подобие, утратил — без надежды обрести вновь.
Собственно говоря, словосочетание «человек массы» и
означает в устах Марселя: «человек, лишенный личного
начала»,— точка зрения, как видим, практически выводящая
французского мыслителя, всегда стремившегося сохранить
лояльность по отношению к католицизму, не только за
пределы этой версии христианства, но за пределы
христианского вероучения вообще.
И в самом деле: с таким пониманием «массового
человека» французский философ оказывается гораздо ближе к
языческому представлению, господствовавшему в
эллинском мире,— представлению, согласно которому
существуют «свободнорожденные граждане», с одной стороны, и
люди, лишенные права на свободу,— рабы и «варвары»,—
с другой; так что обладателями «лица», со всеми
вытекающими отсюда последствиями не только правового, но и
нравственного порядка, оказывались только
«свободнорожденные», остальные — не имели своего «лица» *. И здесь
обнаруживалась граница марселевской концепции
«деградации человека» в XX столетии: мыслитель, выдвинувший
ее, не мог оставаться в рамках христианского
миросозерцания, как бы он этого ни хотел; и чем дальше развивал
он свое представление о «массовом человеке», тем
больше обнаруживалась его несовместимость с христианским
учением о человеческой природе.
Книга о «деградации человека» обнаруживает полную
«разнонаправленность» двух основных ее постулатов:
1) «только... личность поддается воспитанию» 2 и 2)
«человек массы», то есть «обыденный» индивид массового об-
1 «...Массы,— пишет Марсель,— существуют и развиваются в
принципе, следуя именно механическим законам, лишь далеко по
ту сторону уровня, на котором возможны рассудок и любовь.
Почему так? Потому что массы нечто деградированно человеческое; они
суть деградированное состояние человечества» (Op. cit., S. 167).
2 I b i d.
95
щества, ne есть и tic может быть личностью, ибо основное
его определение — отсутствие личностного начала.
Это противоречие пронизывает едва ли не все
«измерения» теоретической конструкции Марселя — и логические
и «настроенческие». Тезис, резюмирующий образ «массы»,
витающий в представлении философа, имеет форму
категорического утверждения: «человек лежит в агонии». Оно
выражает умонастроение, которое представляет собой
даже не ницшеанский «героический пессимизм», а полное
отчаяние, тщетно пытающееся «трансцендировать» само себя,
выйти за свои пределы — к чему-то позитивному. Ибо то,
что Марсель предлагает современному человеку как
положительную альтернативу, кажется подчас самому автору
этих предложений «последним туалетом, который
осужденный совершает перед казнью»,— настроение, которое
не может не бросать странный, двусмысленный отсвет на
«позитивность» предлагаемой альтернативы.
Подобно многим другим представителям христианской
критики «массового общества» (и здесь ему вряд ли стал
бы возражать Гвардини), Марсель считает, что
единственной гарантией человеческой свободы является связь
индивида с трансцендентным, то есть тем, что находится за
границами «мира вещей», от которого не в силах
отрешиться «массовый человек», видящий в нем все начала и
концы своего бытия; в горизонте этой связи, собственно
говоря, и конституируется внутренний мир индивида, он
сам как личность. Однако здесь решающее отличие
автора кпиги о деградации человека (как и всех
эсхатологически настроенных критиков капитализма — и христианских
и антихристианских) от Гвардини: Марсель понимает эту
связь слишком узко, выталкивая за пределы «отношения к
трансцендентному» всех «многих, слишком многих»,
отказывая им в личностном начале.
В самом деле, посмотрим, на какой «модели»
отрабатывает Марсель свое представление о связи конечного
индивида с трансцендентным, кто, по его мнению, наиболее
адекватно реализует эту связь, «чувствуя» ее в себе, как
романтический поэт — присутствие «гения». «Прежде
всего,— пишет он,— я хотел бы сказать, что истинный
художник ощущает эту связь с трансцендентным подлиннейшим
и глубочайшим образом...» i Правда, оговаривается
Марсель, «ничто не было бы более ложным и опасным, чем же-
1 Ibid., S. 26.
9G
лание основать на этом замечании какой-либо род
эстетизма», ибо имеются «виды творчества, которые не
принадлежат к эстетическому порядку» и «в этом смысле
общезначимы» *. Тем не менее главным, несмотря на эту
оговорку, остается утверждение, что каждый может
«осознать себя свободным» «именно в качестве творца»,—
человека, творящего по образу и подобию «истинного
художника». Причем, не говоря уже о том, что здесь все время
маячит представление только об одном типе художника —
«возрожденческом» (вновь возведенном в культ
романтиками), модель эта крайне ограниченна и в другом
отношении. Она в принципе исключает возможность
установить «связь с трансцендентным» для всех тех, кому
предназначены судьбою не творческие, а механические, ма-
шинообразпые функции. Речь идет как раз о тех, что
составляли основную массу населения стран капиталистического
Запада уже с конца XIX века. Эти последние обречены,
согласно марселевской «разверстке», на то, чтобы
оставаться «безличными» людьми, которым так и не удалось
причаститься высшему началу, пережить чувства
истинной свободы. Более того, приняв марселевское
предположение, пришлось бы отнести к числу людей, лишенных
шанса обрести личность, и всех тех, кому довелось
заниматься такими формами деятельности, сутью которых
является не творчество, не создание нового, а «репродукция»,
повторение (ну, разумеется,— в достаточной мере
«рутинное») изо дня в день, из года в год одних и тех же
процессов,— например, одних и тех же земледельческих циклов.
Узость марселевской «модели» личности, условием
становления которой является творчество, и только творчество
(истолкованное к тому же как «создание нового»),
обусловливается полным игнорированием возможности для
каждого ощутить свою связь с трансцендентным (л,
следовательно, почувствовать себя личностью) перед лицом
таких «повседпевных» вещей, как рождение ребенка, его
воспитание, исполненное совсем не творческих, а
«бытовых» забот, тревога за близких (и «дальних»), болезни,
смерть и т. д.— а все это, как известно, не игнорировала ни
одна религия, ни одно широкое миросозерцание. Здесь
наиболее резко обнаруживается столь же сектантский и
элитарный, сколь и «мозговой» (как выразился бы Андрей
Белый) характер критерия, на основе которого Марсель
1 Ibid.
4 Ю. Дапыдоп
97
пытается решить, кто является личностью в наш век, а
кто — нет, кому «отказано» в этом. Потому-то и получают
от него «право» считать себя личностями (в
противоположность безликим массам) только представители
«творческой интеллигенции»,— вывод, настолько же лестный
для нее, насколько и чреватый самыми опасными — и,
разумеется, совсем не «христианскими» — соблазнами. А
между тем как раз на фундаменте этого «права»
французский философ развивает свою идею «повой аристократии»,
с которой связывает перспективу избавления от
уравниловки «массового общества» *.
Крайне симптоматично, что
буржуазно-индивидуалистические черты миросозерцапия (точнее, даже
мироощущения) Марселя явственнее всего обнаруживаются
именно в тот момент, когда этот католический мыслитель
начинает расшифровывать, что же он, собственно,
понимает под взыскуемой им «аристократией» и
«аристократической моралью». Оказывается, наибольшее впечатление на
него произвели не этические, а скорее эстетические
характеристики «аристократизма» — честь, гордость и т. д.,
взятые к тому же именно в том виде, как они трактовались и
стилизовались «возрожденцами». Речь идет о том самом
чувстве, которое, согласпо крупнейшему и
авторитетнейшему знатоку итальянского Ренессанса — Я. Буркхардту,
«представляло собой загадочную смесь совести и
себялюбия» 2. «Это чувство чести,— писал Буркхардт, фиксируя
в нем именно те черты, которые делали его близким
буржуазному индивидуализму (со всей характерной для
последнего антиномичностыо),— уживается с настоящим
эгоизмом и самыми значительными пороками и может
вводить человека в невероятное заблуждение; но в то же время
все, что остается благородного в человеке, может
примыкать к этому чувству и почерпать из этого источника
новый запас сил» 3. Сославшись на Рабле, полагавшего, что
честь — это «природный инстинкт», Буркхардт не только
1 «...Безусловно необходимо,—пишет Марсель в заключении
своей «Деградации человека»,— чтобы вновь образовалась
аристократия, ибо следует иметь в виду ужасный факт, что уравниловка
может существовать только на самых низших ступенях иерархии,
так как нет и не может быть никакой уравниловки, направленной
вверх» (Ibid., S. 211).
2 Яков Буркгардт. Культура Италии в эпоху Возрождения,
т. II. СПб., 1906, с, 168.
3 Там же.
98
толкует это представление как чисто ренессансное («и в
Италии также каждый апеллирует к своему
индивидуальному благородному инстинкту»1), но именно с ним-то и
связывает «безграничное развитие индивидуализма» в
эпоху Возрождения2.
Восхищаясь «гордостью» испанцев, которая кажется
ему признаком истинного аристократизма,
культивированного средневековым католичеством, Марсель вовсе
забывает о том, что отношение христианства к «гордости»
вообще было, по крайней мере, двойственным. Не говоря уже
о том, что благочестивый христианин безусловно
предпочел бы «гордости» — смирение (добродетель, которая
вообще отсутствует в марселевском перечне аристократических
качеств), он никогда не упустил бы из виду, что «гордость»
находится в опасной близости к гордыне, которую
христианство всегда считало одним из величайших грехов. И
если бы Марсель действительно стоял в данном случае на
позициях упомянутого христианина, он никогда бы не
начал своего рассуждения об «аристократической морали»
(понятие, с христианской точки зрения противоречивое,
так как оно кладет в основу морали, которая, согласно
христианскому учению, должна быть универсальной, не
религиозный принцип, а какой-то иной—скажем, «сословный»)
ни с «чести», ни с «гордости». Начать с этих добродетелей
можно, лишь стоя па позициях либо античного
(языческого), либо «ренессансного» (возродившего античность и в
этом пункте) представления об этических свойствах
личности.
Заметим, далее, что аскетизм
христиански-средневекового понимания этики, связанный с выдвижением на
первый план именно «самоограничительных» моральных
требований, вообще чужд Марселю. В этом смысле он
находится целиком под влиянием литературных
реминисценций, связанных с эстетизацией психологии испанского
идальго,— причина, побуждающая Марселя усматривать
(вместе с этим последним и прямо-таки его глазами)
абсолютную утрату человеческого достоинства и —
соответственно — полнейшее обезличивание там, где человек,
воспитанный в духе аскетического самоограничения и
«смирения», склонен видеть лишь предельное испытание этого
достоинства. Испытание бесконечным унижением, кото-
1 Яков Буркгард. Культура Италии в эпоху Возрождения,
т. II, с. 171.
2 См.: там же.
4*
99
рое, однако, отнюдь не означает (и не имеет своим
результатом) «самоутрату» личности, коль скоро оно не было
продуктом ее свободного выбора, а было навязано ей
внешними силами. Марсель, совершенно убежденный в
«истинности» своего католичества, не принял, однако, всерьез
известное рассуждение Августина о том, что монахиня,
изнасилованная пьяными солдатами и переживающая
случившееся с нею как свой абсолютный грех и свое величайшее
унижение, остается — в глазах поистине верующих — не
только совершенно невиновной в грехе «прелюбодейства»,
но и не утратившей ни на йоту своего человеческого
достоинства («личности», в марселевской терминологии).
Совершенно чуждой ему, бесконечно далекой от его
«аристократического» пафоса оказалась и едва ли не главнейшая тема
всего философско-художественного творчества
Достоевского — тема человеческой униженности, достигающей столь
глубокой степени, что погружение «на дно» унижения, его
полное принятие на себя и даже его усугубление
(предстающее как своеобразное «разрушение эстетики»,
очищение отношения к человеку от последних остатков
«эстетизма») — становится для униженного последней формой
защиты человеческого достоинства (сохранения «личности»)
в ситуации, не дающей иных возможностей противостоять
силам унижения и деперсонализации: такое
самоуничижение предстает порой как единственно
возможный акт свободы, протестующей против ее
изнасилования.
В общем, безотносительно к тому, как сам Марсель
воспринимал принцип, лежащий в его основе,— резкое
разделение на «низших» и «высших», артикуляция
противоположности между «аристократией» и всеми
остальными,— отнюдь не христианского происхождения. Оно
восходит к специфически языческим элементам платонизма,
«обогащающимся» полемически заявленным (в чем не
нуждалось средневековье) ренессансным
аристократизмом, в котором пошатнувшийся было аристократизм крови
и традиции получил новый импульс к дальнейшему
развитию, слившись с пробивавшим себе дорогу
аристократизмом «духа», «творчества» и «новаторства». В этой связи
Марсель прямо ссылается на Ортегу-и-Гассета:
«Испанский писатель указывает на то, что в группах, характер
которых состоит именно в том, что они не суть множества
или массы, существует фактическое согласие их членов
относительно одного требования, одной идеи или одного
100
идеала, который сам по себе исключает большое число.
Масса же, напротив, может определяться как
психологический факт но ту сторону пункта, в котором индивиды
объединяются в группы» i.
В противоположность «человеку массы», который
(согласно Ортеге, Гвардини и Марселю) видит свою
добродетель в том, чтобы думать и поступать «как все», переживая
свою тождественность с другими как нечто положительное,
«личность», а вернее — «человек группы» усматривает
свою добродетель в том, чтобы думать и поступать «не как
все», поскольку идентичность — не со всеми, а именно со
«многими» переживается им как что-то недостойное,
отрицательное. На этом переживании (не оно ли побудило в
свое время Гегеля назвать интеллигенцию «сословием
тщеславия»?) Марсель и пытается возвести барьер,
отделяющий «человека группы» от «человека массы». Барьер,
который позволил бы «иерархизировать» общество, отличив
«низшие ступени иерархии», характеризующиеся, по
мысли французского философа, неистребимой тенденцией к
«уравниловке», от высших, где должна господствовать
противоположная тенденция — очевидно, тенденция к
неравенству, воля к различению, осуществляемая на основе
творческой самореализации, творческого самоутверждения
тех, кому довелось осознать себя «не такими, как все», и
развить, заострить, рафинировать это сознание,
«укоренив» его в «трансцендентном».
Однако то обстоятельство, что альтернативу «человеку
массы» Марсель видит не в ренессансно-романтической
индивидуальности, а в «персоне», усматривающей свой
аристократизм в принадлежности к «группе избранных»
(социологи назвали бы ее «малой группой», а политики —
«группускулой»), свидетельствует об определенном шаге
в сторону от индивидуализма, сделанном французским
католическим философом. И действительно, осторожная
полемика с гипертрофированным индивидуализмом долгое
время представляла собою характерную черту его
теоретических выкладок. Еще в своем докладе «Я и другой»,
сделанном в 1941 году, Марсель противопоставлял
романтически толкуемому «я», понятому как «я = я», то есть прежде
всего как отношение «я» к самому себе, понятие
«персоны» (или личности, так как у него эти понятия не
различаются), в котором «я есть таковое одновременно по от-
1 G. Marcel. Op. cit., S. 111.
101
ношению ко мне самому и по отношению к другому»;1
иначе говоря, мое отношение «к другому» оказывается для
меня столь же важным, как и мое отношение «к самому
себе» с точки зрения конституированпя моей «персоны»,
то есть выступает как копститутивпыи момент этой
последней, без которого «персона» просто немыслима. Таким
образом, фундаментом понятия «персоны» («личности»),
в отличие от романтически понимаемого «я», оказывается,
согласпо Марселю, не «субъект», пе «субъективность»,
неизменно тяготеющая к образу «монады», а «меж-» или
«интерсубъективпость», тяготеющая, как мы уже видели,
к модели узкого кружка общающихся людей:
И люди собираются в кружок
И говорят негромко, каждый слог
Дороже золота ценя при этом.
(Р.-М. Рильке)
В таком вот «размыкании» романтического субъекта,
который не мог отныне ограничивать себя диалогом с
абсолютным субъектом («Я» с большой буквы), так сильно
смахивавшим на монолог, а должен был предстать теперь
в совершенно новой ипостаси — в виде «персоны»,
опосредствующей свою связь с Абсолютом общением с
близкими себе людьми, разделяющими те же самые «ценности»,
французский католический мыслитель и видел
единственно возможную позицию, позволяющую преодолеть
индивидуалистическое «атомизирование», не впадая при этом в
омассовляющее «коллективирование» 2. Такое общение
узкого круга людей Марсель рассматривал как некоторый
род священнодействия — как причастие (Kommunion), в
котором причащение людей друг другу неотделимо от их
соборного причащения общим для всех ценностям, и
наоборот: причащение ценностям, объединяющим данную
группу, неотделимо от причащения индивидов, ее
составляющих, друг другу.
Только в рамках такого общения идеалы и ценности,
разделяемые людьми, не рискуют превратиться в
абстракции, в которые они неизбежно превращаются в тот момент,
когда попадают в орбиту деятельности «Технократа», ис-
1 G. Marcel. Auf der Suche nach Wahrheit und Gerechtigkeit.
Fr. a. M., 1964, S. 134.
2 См.: G. M a r с е 1. Erniedrigung..., S. 210.
102
пользующего их в целях манипулирования «массовым
Сознанием». Только в атмосфере подобного общения
раскрывается «истинная глубина» духовного содержания,
с которым имеют дело люди, объединенные общими
идеальными устремлениями, и оно отливается в форму
«универсалии», диаметральпо противоположных
«абстракциям», поскольку в «универсалиях» дух не лишается своих
персональных черт и воистину может быть предметом
любви, то есть глубоко индивидуального, а пе анопимного и
безличного отношепия. «Лишь в лоне ограниченных групп,
одушевленных единым духом любви, универсальное
может фактически обрести форму» '; лишь здесь,
следовательно, возможно действительное развитие духовной культуры.
Таким образом, Марсель пытается (хотя, как мы
видели, и не без определенных колебаний) запять среднюю,
промежуточную позицию между
возрожденчески-романтическим индивидуализмом, с одной сторопы, и «коллекти-
вированием», взятым так, как оно выступает в условиях
«массового общества», создаваемого современным
государственно-монополистическим капитализмом (то есть
главным образом в форме того, что Маркс называл «ложными»,
«мнимыми» коллективпостями),— с другой.
При этом, однако, французский мыслитель вовсе не
чужд ощущения зыбкости и незащищенности своей
позиции — и как раз в том пункте, который должен был бы
образовывать ее главную цитадель. А именно там, где
вставал основной для Марселя вопрос: пет ли известного
противоречия между узостью и ограниченностью
элитарных групп и универсальностью вырабатываемого в их
недрах духовного содержания? Не возобладает ли в
элитарных группах, возникающих из стремления некоторой
категории людей быть «не такими, как все», оградить себя
от нивелирующих процессов «массового общества»,
тенденция к замыканию групп в своих узких рамках, которая,
в свою очередь, должна наложить свою печать и на
духовное содержание, каким живут эти группы, то есть лишить
его универсального характера? Марсель — надо отдать ему
справедливость — не исключает такую возможность,
считая ее вполне реальной. «Всякая численно ограниченная
группа,— пишет он,— во всех случаях сталкивается с
опасностью снова замкнуться на себе самой и стать сектой
или «капеллой»,— и она тотчас же предает универсальное,
1 См.: Ibid.
103
которое должна воплотить» *. И хотя он тут же пытается
свести на нет эффект невольного признапия, предлагая
средства предотвращения этой роковой возможности, его
рекомендации звучат скорее прекраснодушными
призывами и благими пожеланиями и лишь подчеркивают
«рискованность» и «авантюрность» (эпитеты самого Марселя)
перспективы, предложенной французским философом.
Поэтому нет ничего удивительного в том, что основным
тоном, «делающим музыку» книги о деградации человека,
остается эсхатологизм, который Марселю, при всем его
желании, не удается отделить от глубокого и
безысходного пессимизма. Сам философ связывает содержание
собственного «эсхатологического сознания» с двумя фактами
истории XX столетия: гитлеровскими лагерями смерти,
играющими в теоретическом построении автора книги о
деградации человека роль своеобразного «негативного
абсолюта» 2, и созданием атомной бомбы, представляющейся
в его глазах «символом тенденции, которая влечет наше
поколение к самоуничтожению» 3. Однако то
обстоятельство, что эти «два факта» отлились в форму именно
«эсхатологического» мировосприятия, и никакого иного
(скажем, не такого, каким оказалось мировосприятие того же
Гвардини), зависело отнюдь не только от одной
«фактической» стороны дела. У марселевского «эсхатологизма»
были и свои теоретические истоки, уходящие в
«метафизические» глубины концепции французского мыслителя и
связанные в первую очередь со слабостями марселевского
понимания личности («персоны»).
Дело в том, что не успел Марсель «разомкнуть»
романтическую («монадическую» и «атомистическую»)
личность, переведя ее с уровня «субъективности» на уровень
«меж-» или «интерсубъективности», как тут же поспешил
снова «замкнуть» ее, ограничив «интерсубъективность»
узким кругом лично знакомых друг с другом людей (то
есть рамками «малой группы»), а следовательно, лишив
истинное, по словам философа, человеческое общение его
универсально-всеобщего характера. Дело в том, что
«интерсубъективность», в точном смысле этого слова, должна бы-
1 Ibid., S. 211.
2 Согласно Марселю, гитлеровские лагеря уничтожения «в
определенном смысле» могут рассматриваться как «дух
наступающего мира, представший в виде зловещей и предостерегающей
карикатуры» (I bi d., S. 178).
3 I b i d., S. 279.
104
ла бы включать не только «близких», но и «дальних», то
есть — в пределе — и всех тех «многих, слишком многих»,
всех тех «людей массы», от которой Марсель хотел бы
отгородиться, апеллируя именно (!) к понятию
«интерсубъективности». И, кстати, только при таком
толковании «интерсубъективности» и базирующихся на ней «форм
общения» последние не оказались бы в противоречии с
универсальностью того духовного содержания, «по поводу»
которого они возникли и откристаллизовались.
При «элитарном» же толковании интерсубъективности
узкие группы «лично общающихся» друг с другом людей,
которые повсеместно возникают в рамках «массового
общества» (и Марсель, ориентировавшийся на них, лишь
зафиксировал фактическое положение дел, никак не
выйдя, вопреки тому, что он думал, за пределы налично
существующего), предстают как один из полюсов этого же
общества, глубочайшим образом связанный с другим его
полюсом — «человеком массы» и пребывающий в
негативной зависимости от него. Ибо в конечном счете
оказывается, что желание быть «не таким», как «массовый человек»,
является не только внешним, но и внутренним
(«конститутивным») определением «человека группы»: не будь
«человека массы», он просто-напросто лишился бы
важнейшего своего определения.
Универсальность же, к которой стремился Марсель, но
которой так и не мог достичь, могла быть обретена лишь
на основе преодоления «массового» и «элитарного» полюсов
«массового общества», что — в аспекте философско-теорети-
ческом — предполагало новое толкование и
«интерсубъективности» как фундамента личности в современном ее
понимании, и, соответственно, всех остальных структурных
характеристик «персоны». И что касается Марселя, то он был
неспособен к занятию новой позиции как раз в силу
обремененности его теоретического сознания рудиментами
индивидуалистического, ренессансно-романтического толкования
личности,— факт, получивший свое наиболее полное
выражение именно в марселевском аристократизме и
элитарности.
В этой — скорее даже экзистенциальной, нежели
теоретически осознанной — привязанности к
индивидуалистической ренессансно-романтической модели человека
обнаруживается глубокое родство Марселя с другим
религиозным мыслителем XX века (безусловно оказавшим на
него влияние)— Н. Бердяевым. Родство это является столь
105
далеко идущим, что, но сути дела, обоих мыслителей можно
отнести к одному и тому же ответвлению критики
«позднекапиталистической цивилизации», а именно
аристократическому — но в весьма специфическом смысле;
ибо их аристократизм — не феодально-средневековый, а
именно ренессансно-индивидуалистический, глубоко
родственный позднейшему духу элитарности, которому
одинаково были причастны и Марсель и Бердяев.
Этот аристократизм, выявленный, как мы помним,
Я. Буркхардтом и получивший особое преломление в
ницшеанстве, у Бердяева, например, приобрел форму
концепции, согласно которой все человечество подразделялось на
две расы — «раса духовной аристократии» и «толстокожие
люди расы демократической» *. Причем эта идея настолько
отвечала «экзистенциальному» устремлению Бердяева, что
ради нее он готов был пожертвовать христианской
ортодоксальностью, заявив о необходимости чего-то вроде
расщепления христианства на два уровня, два измерения, из
которых один будет обращен к «среднему массовому
человеку», к его «средне-нормальной душевной организации» 2, а
другой — к людям «иной духовной организации,
обращенной к иному, духовно-творческому, миру, организации
более чувствительной, сложной и тонкой» 3.
Очень близок к этой очевидной ереси, с точки зрения
как православия, так и католицизма, был, как мы могли
убедиться, и Марсель; в рамках этого расщепления людей
на два несовместимых друг с другом типа, из которых
первый признавался «высшим», а второй «низшим», и была
замкнута марселевская (и бердяевская) «модель»
человека. В пей и следует искать самый глубокий корень эсха-
тологизма, одинаково характерного для Бердяева и
Марселя и сознательно утверждаемого ими в качестве
непременной черты христианского миросозерцания4.
3. МОРАЛЬНЫЙ ЭСТЕТИЗМ ИЛИ ЭСТЕТСТВУЮЩИЙ МОРАЛИЗМ
Поскольку мы познакомились с марселевской
концепцией человека, постольку для нас особенно интересным
будет посмотреть, в каком отношении она находится если
1 Н. Бердяев. Философия свободного духа, кн. I. Париж,
1927, с. 8.
2 Т а м ж е, с. 9.
3 Т а м ж е, с. 8.
4 См.: Н. А. Бердяев. Опыт эсхатологической метафизики,
1945.
106
ne к самому литературно-художественному творчеству
Марселя-драматурга, то, по крайней мере, к его
представлению о своем собственном творчестве. Для этого у нас
есть достаточно выразительный материал, оставленный
самим Марселем,— его доклад «Драматический стержень
моего творчества с точки зрения философа», прочитанный
во Фрайбурге 12 января 1959 года. Отчетливо звучащий
подтекст этого доклада свидетельствует о том, что
Марселю-драматургу неоднократно приходилось сталкиваться с
упреками по поводу «головного», избыточно философского
характера его литературно-художественного творчества,—
представление, с которым он (в который уж раз!)
полемизирует и в данном случае.
Задача, которую ставит перед собой докладчик,—
доказать, что взаимоотношения между Марселем-философом
и Марселем-драматургом всегда носили «динамический» i
характер, причем в этом динамическом взаимодействии
решающую роль играла не философия, а драматургия.
К тому, чтобы отдать пальму первенства
Марселю-драматургу, автора доклада, кроме соображений чисто
полемического характера, толкают, по крайней мере, два
обстоятельства мировоззренческого порядка. Первое и,
пожалуй, самое глубокое связано с уже отмеченным нами
непреодоленным марселевским «возрожденчеством»,
важнейшим атрибутом которого является именно эстетизм с
его гипертрофией роли художника (мотив, развитый
романтиками и в этом виде усвоенный Марселем). Правда,
во времена Ренессанса этот мотив не противостоял еще
рационалистическому представлению о познании:
художник Возрождения часто был одновременно и ученым, во
всяком случае — пе чуждался рационально-научных
методов постижения, всемерно используя их в своем
творчестве. Но уже в романтизме он, будучи изолированным от
иных ренессансных мотивов, решительно
противопоставлялся им как абсолютно первенствующий.
Второе обстоятельство, представлявшее, с одной
стороны, лишь известное преобразование («модификацию»)
первого, а с другой — некую надстройку над ним,
касается уже собственного воззрения Марселя, сложившегося в
рамках его экзистенциальной философии.. Согласно этому
воззрению, художественное постижение действительности
1 См.: G. Marcel. Auf der Suche nach Wahrheit und
Gerechtigkeit, S. 19.
107
является изначальным (и единственно истинным — в
отличие от рационально-научного) потому, что сама
структура человеческого бытия — это существование человека
в мире окружающих его «эмпирических данностей» (более
точно, хотя и более коряво выражавшиеся немцы, у
которых учился Марсель, создали для обозначения этого
постулата специальный термин — «бытие-в-мире»), а такое
существование драматично по своей природе и предполагает
соответствующие — то есть драматические — способы его
постижения. Этот драматизм, вытекающий из того, что
человеческое существование всегда есть существование в
ситуациии и определенная драматическая ситуация, лежит
в самом глубоком основании бытия, которое — по
Марселю — не может быть постигнуто ни наукой, ни
рационалистически ориентированной философией, ибо и первая и
вторая пытаются постичь бытие — без человека, а
человека — вне ситуации, вне неизбежно конфликтного
отношения с окружающим миром. Отсюда с естественной
логичностью вытекает вывод о том, что только драма способна
дать истинную «модель» человеческого бытия, а сделать
это может один лишь драматург — драматический
художник.
Но в связи с этим реальность, к которой теперь
апеллирует Марсель, явно начинает двоиться: то, на что
драматург ссылается как на изначально данное, оказывается
уже пропущенным сквозь призму сознания философа и
существенно переработанным в нем. Это становится
очевидным уже в тот момент, когда Марсель начинает
ссылаться на свою биографию как на «сырой»
материал— чистую материю «существования», образовавший
самый глубокий пласт содержания его пьес. Биография,
претендующая на объективный рассказ о том, какие
переживания детства Марселя определили направление и
содержание его будущего творчества, подается так, как
если бы Марсель был экзистенциалистом уже с пеленок и
воспринимал мир под углом зрения проблематики страха
и заботы, свободы и существования, этического и
эстетического.
В результате изначальным переживанием маленького
Габриэля оказывается страх смерти: осознанный в связи с
кончиной матери, он, как дает нам попять Марсель,
неотступно преследовал его (хотя и в разных формах) уже в
период детства и отрочества. К числу таких же своих
переживаний философ Марсель относит чувство безысходного
108
одиночества и «тяжести» собственного существования —
это умонастроение, складывающееся у обычного человека
в более позднюю пору, владело, оказывается, уже
маленьким Габриэлем.
Наконец, для того, чтобы картина была совсем полной
(и чтобы мы поняли, «естественным» представителем
какого рода экзистенциализма был маленький Марсель),
французский философ представляет нам своего отца и
тетю, взявшую на себя заботу о его воспитании после смерти
матери, как воплощение двух принципов антиномического
киркегоровского мышления — «Эстетика» и «Этика». Так
что уже ребенком Марселю довелось оказаться в
положении датского мыслителя Киркегора, метавшегося
между «Этиком» и «Эстетиком» без надежды примирить их
друг с другом. Это «детское» переживание, согласно
Марселю, «бессознательным» образом воплотилось в его пьесе
«Квартет в фа-диез», где — как он с удивлением заметил
впоследствии — в ситуации одного из персонажей —
Роже — предстала, разумеется в преображенном виде, его
собственная экзистенциальная ситуация: основная
экзистенциальная ситуация его детства, продолжавшая жить
в тайниках его взрослого «существования».
Тот факт, что Марсель стал драматургом (а быть
может, в еще большей степени то обстоятельство, что именно
в драматургии он видел наиболее глубокий аспект своего
творчества, отдавая ей предпочтение перед философией),
убедительно свидетельствовал о марселевском «выборе»:
при всех своих метаниях между «Этиком» и «Эстетиком»
он выбрал последнего. В известной мере о марселевском
эстетизме свидетельствует уже собствнное стремление
философа и драматурга вывести свое творчество «из духа
музыки», подобно тому как Ницше вывел из него
античную трагедию.
Марсель неоднократно говорит о том, что музыка
«всегда» играла для него «решающую роль»; и если бы не его
учитель музыки, отговоривший его от этого намерения,
он, «возможно, стал бы композитором». Он дает нам
понять, что его несостоявшийся замысел стать композитором
нашел свое косвенное осуществление в драматургии,
причем не столько даже в тематике его пьес, где проблема
музыки, коль скоро она возникает в том или ином случае,
сразу же берет на себя решающую
«экзистенциально»-смысловую нагрузку, сколько во внутренней специфике его
драматургического творчества. Дело в том, что, как пи-
109
шет Марсель, музыка еще со времеп детства являлась ему
«как род чудесного бегства из
тюрьмы»—одинаково-боязливого и тягостного в своей постоянной «озабоченности»
существовапия; перед лицом музыки маленький Габриэль
праздновал примирение со своим «эстетиком»-отцом, хотя
это и отдаляло его от этически настроенной и
немузыкальной тети. Это переживание стало «архетипическим» для
марселевского переживания художественного творчества
вообще, в том числе и драматургического. И тем не
менее — не здесь, где Марсель, казалось бы, сам дает нам
больше всего материала для подобпого вывода, корень
марселевского эстетизма.
Корень этот лежит гораздо глубже и — как это ни
парадоксально — в плоскости не художественного, а
именно философского творчества, спроецированного — уже
задним числом — и на истоки творчества
Марселя-драматурга. Этот корень — в разведенми этических и эстетических
начал своего собственного творчества (равно как и
художественного творчества вообще), совершенном Марселем
под влиянием модных и во времена его молодости
ницшеанских и киркегоровских веяний. Поскольку ему самому
были гораздо более близкими последние, постольку он
воспринимал разрыв этического и эстетического гораздо более
драматически, чем Ницше; этот разрыв, осознапный
философски как трагедия творчества, стал истинным истоком
и пружиной творческой деятельности
Марселя-драматурга, более того — его художественным методом.
Нужда была принята за добродетель: драма творчества
была превращена в инструмент творчества драмы. Процесс
«разведения» Истины и Красоты, Красоты и Добра,
Добра и Истины, теоретически зафиксированный, в частности,
Максом Вебером, был превращен в марселевской (да и не
только марселевской: Марсель здесь продолжает
традицию, идущую еще от бодлеровских «Цветов зла»)
драматургии в источник эстетического наслаждения —
наслаждения особого рода: это было наслаждение не гармонией,
а ее нарушением, не целостностью, а обнаружением ее
распадения. Речь шла теперь о своеобразном (Платон
обязательно назвал бы его «сложным» и «неистинным»)
эстетическом удовольствии, которое извлекалось из
переживания безысходной трагедии человеческого
существования,— «трагедии», удостоверяемой марселевскими
пьесами, и в свою очередь, ручавшейся за их
«достоверность».
НО
Что же касается экзистенциальной философии вообще
и марселевского экзистенциализма — в частности, то они
представляли собой (в интересующем нас аспекте) не что
иное, как определенный способ «онтологпзации»
упомянутой трагедии творчества, то есть превращения —
эстетических! — характеристик этого творчества в изначальные
определения самого человеческого бытия: «бытия-в-мире»
или, по-марселевски, «существования-в-ситуации», как
такового. В философии марселевского типа мир — как бы в
соответствии с ницшеанской формулой — получал
оправдание «как эстетический феномен». Правда, эстетика здесь
была особого рода —это был «пантрагизм», столь модный
в западном искусстве и философии первой четверти XX
века. И «оправдание» было весьма специфическим — оно
едва ли не было тождественно полному отрицанию мира,
во всяком случае — испытывало специфический род
удовольствия от созерцания его фундаментальной
«саморазорванности», исконной «недостоверности» и т. д.
Это, как видим, чисто философское, мировоззренческое
обстоятельство нашло свое выражение в тенденции
Марселя-драматурга к бесконечному «разведению» различных
определений человеческого существования — с тем, чтобы
поставить их в неразрешимый конфликт друг с другом,
обнажив тем самым сомпительность, хрупкость и
недостоверность оснований, на которых покоится бытие каждого
человека. В этом и заключается специфика марселевской
драматургии, как, впрочем, и всего марселевского
экзистенциализма.
В этом отношении наиболее характерна драма Марселя
«Линия водораздела» («Chemin de Crête»), весь механизм
которой строится на том, что неверная жена, прощенная
своим мужем — пастором, никак не может решить,
простил ли ее муж как любящий супруг или как пастор, в чьи
профессиональные обязанности входит отпущение грехов;
иначе говоря, никак не может провести «линию
водораздела» между «человеком» и «пастором», представшими
в одном и том же лице, в лице ее собственного мужа.
Любопытно при этом, что, «раскрутив» до конца эту
драматургическую пружину и доведя свою героиню до осознания
«опасной многосмысленности» самого понятия любви, а
затем заставив ее целиком «поставить под вопрос» и саму
себя, свое собственное существование,— Марсель делает
крутой вираж и начинает ее упрекать как раз за то, в чем
он повинен именно как драматург-экзистенциалист. Он
111
упрекает ее как раз за упомянутое «разведение»
различных определений человеческого существования, слитых
воедино в личности ее пастора-мужа, за то, что она не была
связана душой и телом с жизнью своего мужа,
исполненного веры и в то же время сомнения в своем призвании.
Но, не говоря уже о том, что именно механизм такого
«разведения» и есть источник драматического развития
в пьесе,— Марсель-драматург и философ-экзистенциалист
только с помощью этого механизма придает
содержательный смысл драматическому развитию, ставя своих
персонажей в «предельную ситуацию» и обнажая тем самым
«экзистенциальную драму» человеческого существования.
Иными словами, не сделай героиня пьесы той самой
ошибки, за которую пожурил ее автор (тем самым
«отмежевавшись» от нее), драма не получила бы экзистенциального
содержания; ошибка, следовательно, была необходима не
столько с точки зрения формально-драматургической, но и
с точки зрения экзистенциально-содержательной: ее
порождением оказывался содержательный смысл марселев-
ского произведения. Признав же действительную
«ошибочность» позиции своей героини, Марсель, сам того не
замечая, признал ошибочным и то —
экзистенциалистское — содержание своей драмы, которое покоилось на
этой позиции, из нее вытекало и на ней же и замыкалось.
Впрочем, Марсель здесь сделал не только это, но
гораздо большее. Он незаметно для себя самого осудил не
только героиню данной конкретной пьесы, но и тот метод
«разведения» различных определений человеческого
существования, который нашел свое воплощение и в целом
ряде других его драм. Ибо метод этот как раз в том и
заключается, чтобы: во-первых, представить обычного
человека, так или иначе реализующего единство своих
человеческих определений в своей жизни и деятельности,
«спящим», то есть не знающим истинной трагедии
существования, а следовательно — живущим «неистинно», не
в истине. Во-вторых, любыми средствами поставить его в
такую «экзистенциальную ситуацию», в которой его
собственные определения выступили бы как взаимно
исключающие друг друга (если не в его собственных глазах, то
хотя бы в глазах других),—это и значит, согласно
Марселю, «разбудить» человека, поставить его лицом к лицу
с «истиной», сделать его существующим «воистину».
Наконец, в-третьих, поставить вопрос (который,
естественно, не стоял перед человеком, пока он не был — с помощью
112
драматурга и инспирированных им «ошибок» —
«разведен» с самим собою) : как же теперь свести воедино
человека, распавшегося на куски, «восставшие» друг против
друга?
Естественно, что вопрос, поставленный таким образом,
не получает ответа у Марселя-драматурга; не отвечает на
него и Марсель-философ: здесь, говорит он, «тайна»,
«тайна» свободного решения индивида, который должен на
свой лад навести порядок в разбушевавшейся стихии
своего собственного существования. Иначе говоря, герой
должен вернуться к тому, с чего он начал как с состояния
некоторой «невинности» (то есть — по Марселю —
«неистинности»),— состояния, из которого он был выведен
не своей волей, а волей драматурга-экзистенциалиста,
готового использовать при этом буквально «все средства»,
в том числе и те из них, которые он сам же и признает в
качестве «ошибки». Но вернуться он должен, так сказать,
на новом витке спирали — уже в качестве совсем не
«невинного» человека, а человека, искушенного всеми
экзистенциалистскими соблазнами,— проблема, действительно
неразрешимая в рамках подобной ее формулировки, а
потому и окутанная «тайной», отсылающей нас за пределы
марселевского театра.
Но вот здесь-то и возникает вопрос: а правильна ли
сама формулировка марселевской проблемы? Оправдана ли
она? И не играет ли Марсель-драматург, вовлекающий
своих персонажей, а за ними и зрителей в магический круг
этой проблемы, роль... соблазнителя, коварным образом
толкающего нас в пучину антиномии, не имеющей своего
решения? Не говорит ли он пресловутое «пойди туда, не
знаю куда; принеси то, не знаю что»?
Можно, пожалуй, принять к сведению один резон,
приходящий на ум в данной связи, хотя это вряд ли будет
оправданием марселевского способа ставить проблему
человека. «Разведение» человека с самим собой,
«расщепление» его па совокупность противоборствующих
определений (и устремлений) — все это может, при известных
обстоятельствах и ограничениях, способствовать
художественному «анализу страстей». Ведь за каждым
человеческим определением стоит страсть, а последнюю,
разумеется, легче анализировать, противопоставив ее всем
остальным, а тем самым изолировав ее, представив пекую
идеализирующую абстракцию страсти. Наиболее далеко
идущим образом Марсель использует возможности этого
113
способа апализа изолированной страсти в пьесе «Горящая
часовня», содержанием которой является всепоглощающий
траур матери по сыну, погибшему на войне,— траур,
превращенный в жестокий культ, легший тяжким бременем
на когда-то близких к нему людей, лишивший их
искренности, непосредственности и свободы. Но именно здесь-то
и обнаруживается ограниченность марселевского способа
анализа страсти, а также источники этой ограниченности.
Дело в том, что Марсель берет не человека,
обладающего той или иной страстью (наряду с другими, хотя они
и могут оказаться в подчинении у доминирующей
страсти, а страсть, обладающую человеком. На этом
основании — а оно как будто подтверждается обычным
представлением об «одержимости» человека страстями — он как
бы «выносит за скобки» самого человека и занимается
анализом логики (или, говоря более современным
философским языком, «феноменологии») страсти — как если бы она
и в самом деле могла существовать сама по себе. Человек
целиком сводится к его собственной страсти,
растворяется в ней полностью и без остатка,— допущение,
сомнительное уже потому, что страсть, взятая без
человека, перестает быть самой собой: она становится
Идеей — идеей данной Страсти, в рассматриваемом случае —
страстной, всепоглощающей (уже не в переносном, а
буквальном смысле) печали матери по сыну. И движется
эта страсть уже не своей собственной «логикой», то есть
логикой человеческого чувства, а — головной,
умозрительной — логикой той Идеи, в которую превращена эта страсть
волей художника-экзистенциалиста.
PI дело не в том, что такая страсть с необходимостью
ведет человека к крушению, которое в рассматриваемом
случае предстает как «зачерствение страдания» —
страдание, «в горизонте которого» исчезла всякая надежда, а с
нею и любовь ко всем живущим (любовь к мертвому
превратилась в чудовище, лишившее человека возможности
любить живых). А в том, что такая и так взятая, таким
образом абстрагированная страсть уже есть крушение,
однако крушение не только того персонажа, о котором
повествует драматург, но и самого этого драматурга:
поскольку он с неизбежностью утрачивает человека, коль скоро
сводит его к одной страсти, а затем и саму эту страсть,
поскольку она с необходимостью становится своей
собственной Идеей, так что «логика страсти» неожиданно
оборачивается «страстью логики», чисто «мозговой» игрой.
114
Ибо страсть, взятая в изоляции от всех других (хотя бы
даже под благовидным предлогом того, что она, дескать,
«поглотила» все остальные), а следовательно, и от самого
человека, поскольку он есть совокупность, единство
страстей,— уже обречена на крушение! Она фатально
ограничена и может существовать лишь на «границе»,
«предельной черте», то есть в излюбленной
экзистенциалистами «предельной ситуацию*, которая оказывается таким
образом выражением не истинности, а, напротив, ложности
положения, в котором оказался человек.
Разумеется, в качестве «исключения», на которое так
любит ссылаться киркегорианец Марсель, нечто подобное
может случиться и не только в драме. Но вопреки тому,
что думает Марсель, хотя это «исключение» и
свидетельствует о человеческом крушении, о «предельности»
ситуации человека,— оно не открывает нам истину
человеческого существования, а, наоборот, набрасывает на эту истину
скрывающий ее флер «пантрагической» идеологии. Ведь
«крушение» терпит здесь пе человек, а ложная идея (или,
что то же самое, страсть, превратившаяся в такую идею,
как только она отделилась от человека, полностью
«завладев» им, то есть превратив его в бесполезный придаток
к своему собственному «частному» определению).
Последняя же, даже если она и терпит «крушение» — что
вполне естественно: на то она и ложная идея,— еще
ничего не говорит нам об истине человеческого бытия.
Зрелище «саморазрушительной» страсти (а изолированная
страсть или страсть, деспотически властвующая над
человеком, всегда «саморазрушительна») может быть даже
поучительным, но оно не есть еще зрелище истины
существования человека, который «есть» как раз потому, что он
не тождествен «саморазрушительной» страсти, а
представляет собой некую изначальную цельность, существующую
до и вопреки (!) страстям, воюющим друг с другом за
господство над ним.
Но это значит, что проблему, поставленную Марселем-
драматургом и Марселем-философом, следовало бы
перевернуть. Вопрос об истине человеческого существования —
это не вопрос о «трагическом разрыве», разрушающем
фундамент человеческого бытия, и не вопрос о том, что
ввергает человека в противоречие с самим собой и делает
его недостоверным для самого себя. Вопрос — в
диаметрально противоположном: в том, что сообщает единство
человеку, несмотря на все эти «разрывы», что обеспечи-
115
вает его самодостоверность, что является гарантией его
человечности в «негарантированной», в антиномичной
«экзистенциальной ситуации». Вопрос — не о том, что
лишает человека человечности, когда им безраздельно
овладевает всепожирающая страсть, превращающаяся в
бесчеловечную Идею (ибо ответ здесь очевиден, он на
поверхности: сама эта «страсть-Идея»), а в том, как ему удается
сохранить свою человечность, свою целостность, несмотря
на «раздирающие его» страсти, вопреки всему тому, что
делает их столь опасными и разрушительными. Марсе-
левская постановка вопроса, ориентированная в духе
ренессансно-романтического культа страсти,
рассматриваемой как — единственно! — истинное начало в
человеке, помешала ему правильно понять даже то, на что его
наталкивал его собственный художнический интерес.
Истинно человеческое в человеке — это не его страсть сама
по себе («аффект», доведенный до крайней степени
напряжения), но человечность этой страсти, то есть ее
связь с другими страстями, а главное — ее соотнесенность
с высшими ценностями человека, со всей целостностью его
жизни и духа.
Взятые вне этой целостности ( = человечности)
человека, «его же собственные» страсти становятся не- и
бесчеловечными, безжалостными и злыми; они уподобляются
кровожадному демону, пожирающему в человеке все
человеческое: не случайно человека, одержимого такими
страстями, считали одержимым бесами. Как мы уже
писали в более общей связи, принцип буржуазной
рациональности, ведущий к разложению «микроструктуры»
межчеловеческих отношений и к «атомизации» людей, чьи
связи друг с другом окостеневают и «овеществляются»,
имеет своим результатом отчуждение и самоотчуждение
человека; это, естественно, касается также и его страстей.
Человек «атомизированный», оторванный от других
людей, а потому становящийся «сомнительным» для самого
себя («самоотчужденный» — в философском,
социологическом и психологическом понимании этого слова), весьма
подвержен склонности воспроизвести тот же самый
процесс и на уровне своих страстей, каждая из которых
также обнаруживает тенденцию к «атомизации» и
враждебному противостоянию другим страстям, равно как и
самому индивиду — их носителю.
Это и есть стремление страсти к самоабсолютизации,
то есть к обесчеловечиванию себя, к превращению в злую,
116
всепожирающую и всеразрушающую страсть,
действующую не по мере человека, а в соответствии со своей
собственной безмерностью. Обожествлять эту страсть — значит
вольно или невольно отказываться от традиций
человечности, гуманности,— даже если само это обожествление и
ссылается на гуманистическую традицию: противоречие,
которого не заметил Марсель именно в связи со своей
аристократической ренессансно-романтической
ориентацией. Вот почему, говоря о том, что героиня его пьесы,
«воплощающая,— по его словам,— зачерствевшее
страдание», сама «нуждается в сострадании», Марсель вводит в
заблуждение зрителя, не давая ему четкого критерия для
решения вопроса о том, чему он должен сострадать: самой
обесчеловеченной страсти Алины или чему-то еще?
Вопрос, тем менее разрешимый, что, по мнению Марселя,
страсть эта оказалась настолько деспотической, что в
душе Алины не осталось уже ничего, не отмеченного ее
роковой печатью.
Однако самое главное, повторяем, заключается в том,
что крушение этой гипертрофированной страсти
(совершающееся для всякого, кто не заражен романтическим
культом страсти, согласно формуле: «что и требовалось
доказать») совсем не открывает нам истину человеческого
существования; в лучшем случае оно свидетельствует о
тех эксцессах, которые может порождать неистинность
тех или иных человеческих ситуаций, вызывающих
«ошибки» человеческих страстей. Поскольку же автор
утверждает обратное, настаивая на том, что именно в
таких крушениях открывается людям истина их бытия,
постольку он и оказывается соблазнителем, который сперва
сознательно заводит их в непроходимую чащобу, а затем
говорит: я сделал все, что мог, дальше — выбирайтесь
сами.
Естественный вопрос, возникающий перед лицом
такой «ситуации», можно сформулировать так: а стоило ли
забираться в такую чащобу? Может быть, следовало идти
в совсем ином направлении? Или, чтобы представить его
так, как сам Марсель задавал его себе (втайне надеясь,
что вопрос этот будет признан риторическим) : «Не идет
ли здесь речь о болезненном наслаждении сложностью и
неясностью?» * Элитарная тенденция, которая
характеризует Марселя-драматурга точно так же, как она характе-
1 Ibid., S. 36.
117
ризовала и Марселя-философа, проливает новый свет и
на специфическую усложненность марселевской
драматургии — обстоятельство, которое, по собственному
признанию драматурга, затрудняло приятие и продвижение его
пьес, делало их малодоступными широкой публике.
Основным «соблазном», с помощью которого
«совращались» люди, попадавшие в игровую ситуацию,
создаваемую экзистенциалистской драматургией Марселя,
оказывался чисто эстетский подход к нравственной
проблематике, когда этический уровень личности ставился в
прямую зависимость от «сложности» и «неразрешимости»
раздирающих ее моральных противоречий; так что
целостность и моральное единство личности не только
обесценивались, но получали прямо-таки негативную
характеристику. Таков был неизбежный результат
экзистенциалистского («трагического») эстетизма и аристократизма
в подходе к морали и нравственности. В конечном итоге
он выражал ту же самую тенденцию моральной эрозии
западной культуры, от которой пытались спастись
поклонники Марселя-драматурга, получавшие от него
вместо насущного хлеба нравственной серьезности —
скользкие камни «морального эстетизма» или «эстетствующего
морализма».
* * *
Пример Марселя убедительно показывает, в какой
степени констатация фактического положения вещей
(в данном случае — «ситуации человека» в условиях
государственно-монополистического капитализма),
осуществленная в рамках ограниченных мировоззренческих
предпосылок, замыкает теоретическую перспективу
мыслителя, побуждая его искать выход из создавшегося
положения там, где оно лишь усугубляется: «завершается»,
образуя свой «второй полюс». Связывая с этим «вторым
полюсом» перспективу выхода из тупика, образуемого
«массовым обществом», Марсель уподобляется тому
заключенному, который, пробив стену своей камеры,
оказался не на свободе, а в соседней камере — только
несколько иначе обставленной. Поскольку же новая
обстановка, существенно отличная от той, что он видел в
прежней камере, сбила его с толку, постольку оп стал
связывать все свои надежды на свободную жизнь с пер-
118
спективой проживания во второй камере. В этом
«недоразумении» и заключается одна из причип того, почему
элитарная критика «массового общества» оказывается
парадоксальной (а потому далеко не всегда осознаваемой)
формой его апологетики: «элита» имеет смысл лишь как
антипод «массы» — другого смысла она не имеет.
Но, пожалуй, в еще большей степени подобная
метаморфоза, превращающая мыслителя в невольное
теоретическое орудие тех самых сил, которые он хотел бы
низвергнуть, характерна для идеологов Франкфуртской
школы — Хоркхаймера и Адорно.
Раздел второй
ПО ТУ СТОРОНУ ОТЧАЯНИЯ
Глава первая
БУРЖУАЗНЫЙ ИНДИВИД «ПОСЛЕ ЗАКАТА ЕВРОПЫ»
1. МЕЖДУ ИНДИВИДУАЛЬНОСТЬЮ И ЕЕ ОТРИЦАНИЕМ
Подобно Марселю, «отцы»-идеологи Франкфуртской
школы выступали одновременно и против «массового
общества», и против индивидуализма. Однако «модель»
человека, на которую они при этом ориентировались (далеко
не всегда отдавая себе в этом отчет), оказывалась, как
правило, в еще большей зависимости от ренессансно-ро-
мантических представлений *, чем это было у
французского философа. Это обстоятельство делало их критику
«массового общества» еще более пессимистической, а
размышления о судьбах индивида в XX столетии — прямо-
таки отчаянными. Причем «эсхатологизм» Хоркхаймера
и Адорно усугублялся тем, что — в отличие от Марселя —
они не верили ни в какую «трансценденцию».
Еще в своей статье «Традиционная и критическая
теория», опубликованной в 1937 году и представлявшей
собой своеобразный «манифест» Франкфуртской школы,
Хоркхаймер писал: «При монопольно-капиталистических
отношениях... приходит конец даже относительной
самостоятельности индивида. Он не имеет больше собственных
мыслей»2. Любопытно, что уже тогда Хоркхаймер сделал
отсюда вывод, к которому Марсель пришел позже: «При
отношениях позднейшего капитализма... истина бежит
1 Речь идет о том комплексе представлений, который мы
выделили из общего многообразия ренессансных идей.
2 Мах Horkheimer. Traditionelle und kritische Theorie. Vier
Aufsätze. Fr. a. M., 1968, S. 52.
120
к... маленьким группкам...» * Правда, в отличие от
Марселя, основоположник Франкфуртской школы имел в виду
не консервативно-аристократические, а радикально- и
даже «революционно»-аристократические группы, которым,
по его убеждению, предстояло в будущем осчастливить
человечество, в том числе и «коррумпированный» (?!)
капитализмом рабочий класс. «История учит,— уверял
Хоркхаймер немногочисленных в то время сторонников
его «критической теории»,— что такие преследуемые, по
непоколебимые группы, едва замечаемые даже
оппозиционными партиями, благодаря их более глубокой
проницательности в решающую минуту могут оказаться на
вершине» 2.
Однако в настоящее время, предостерегает
Хоркхаймер, эти группы не должны рассчитывать ни на какую
опору. Они не могут опереться на культуру, ибо «поздне-
буржуазная» эпоха с необходимостью воспроизводит
тенденцию к ликвидации культуры, к варварству. Не могут
опереться опи и на сознание передовых общественных
сил — оно «идеологизировано и коррумпировано».
Словом, историческая необходимость с роковой
неизбежностью приводит к изоляции «постигающее ее мышление»,
которому ничего не остается, как «утвердиться на самом
себе»3. Что же касается самих носителей этого
мышления, то их, согласно Хоркхаймеру, не связывает друг с
другом ничего, кроме общего познавательного
устремления. Оно, это «связывающее познание», сцепляет их в
своеобразное «содружество», но в таком сцеплении —
гарантия лишь настоящего, а не будущего «содружества»:
будущее остается негарантированным4.
Эта столь же пессимистическая, сколь и революциона-
ристская версия элитарной критики «массового общества»
получила свое развернутое социально-философское
обоснование в совместной книге Хоркхаймера и Адорно
«Диалектика просвещения»5. Основным объектом критики в
книге был «буржуазный» тип личности, который
понимался, однако, столь широко, что его прототипом
оказывался уже «хитроумный Одиссей» — этот «прообраз
1 Ibid.
2 Ibid., S. 55.
3 Ibid., S. 34.
4 См.: Ibid., S. 54—56.
5 См.: M. Ног k heimer und Th. W. Adorno. Dialektik der
Aufklärung. Fr. a. M., 1969.
121
буржуазного индивидуализма» '. При этом особенностью
хоркхаймеровски-адорновской критики «буржуазного
индивидуализма» и «буржуазного» типа личности была
характерная аберрация. Авторы «Диалектики просвещения»
критиковали то, что фигурировало у них под названием
«буржуазного индивида», в общем-то даже не за
индивидуализм, а за нечто, в известном смысле диаметрально
ему противоположное. «Буржуазный человек» (мы берем
это словосочетание в кавычки, так как пе можем
согласиться с расширительным толкованием Хоркхаймера
и Адорно, для которых «буржуазным человекам»
оказывался Одиссей) подвергался критике как раз за то, что
делало его чем-то большим, чем «вот этот»
эмпирический индивидуум, взятый в его чисто природных
измерениях.
Хоркхаймер и Адорно неизменно стремятся
развенчать и разоблачить в сконструированной ими модели
«буржуазного индивида» не столько то, что делает его
«буржуазным», сколько то, что делает его индивидом,
личностью, «персоной» — в том смысле, в каком
употребляли этот термин представители немецкой классической
философии, и прежде всего Кант. В общем-то, если иметь
в виду самые глубокие мировоззренческие устремления
авторов «Диалектики просвещения», многое
воспринявших от ницшеанского — антииндивидуалистического —
«дионисизма», им представлялся сомнительным уже сам
«принцип индивидуальности», который, согласно их
утверждению, «был противоречив с самого начала» 2.
Причем «противоречив» он был одновременно в двух —
диаметрально противоположных — отношениях. Во-первых,
потому, что он несет в себе начало «индивидуации», то
есть обособления от изначальной целостности природы
и — соответственно — человеческих коллективов,
изначально пребывавших в гармонии с нею. А во-вторых,
потому, что «прогресс индивидуации, однако, шел за счет
индивидуальности, во имя которой он совершался...»3, так
что «буржуа» был «потенциально уже наци (нацист.—
Ю. Д.)»А. Иначе говоря, авторы книги были склонны
критиковать бедную индивидуальность, и без того подвер-
1 Ibid., S. 50.
2 Ibid., S. 164.
3 Ibid.
4 Ibid.
122
гавшуюся нивелирующему остракизму в «позднебуржуаз-
пом» обществе, в одно и то же время и за то, что она
слишком индивидуальность, и за то, что она —
недостаточно индивидуальность.
В первом случае подвергался критике «буржуазный))
тип индивида, причем критика велась как будто с «не-» и
«антибуржуазной» — природно-коллективистической
позиции; однако нозпция эта оказывалась такой, что она
вообще исключала «принцип индивцдуации» — не только
«буржуазный», но и всякий другой. Так что уже здесь
обнаруживалась полная зависимость Хоркхаймера и
Адорно от того же самого «буржуазного» толкования
принципа индивидуальности, которое они собирались
«критически преодолеть»: ведь, оказывается, в данном
случае они не представляли себе никакой иной формы
«индивидуации», кроме «буржуазной», а стало быть, и
никакого иного индивида, кроме буржуазного,— всякая
индивидуализация оказывалась тождественной «обуржуа-
зиванию». Точка зрения, характерная, согласно Марксу,
именно для «казарменного коммунизма», со свойственной
ему негативной зависимостью от индивидуалистического
и частнособственнического сознания.
Во втором же случае подвергалась критике «поздне-
буржуазная» (а точнее —
государственно-монополистическая) нивелировка той самой индивидуальности, которая
уже была подвергнута критике за свой «буржуазный ип-
дивидуализм» в первом случае. Теперь авторы
«Диалектики просвещения», повернувшие фронт против «позднего
капитализма» и формируемого им «массового общества»,
встают на ту же позицию, которую — только что! —
подвергли сокрушительной критике: они начинают защищать
«индивида» (и «принцип индивидуальности»), сетуя на
плачевную его судьбу в XX столетии. И если в первом
случае Хоркхаймера и Адорно можно было бы принять за
противников всяческого «элитаризма», то теперь они
начинают говорить буквально языком Ортеги-и-Гассета,
Марселя и Бердяева, оплакивая «индивидов», которые
должны формировать свое тело и душу «в соответствии с
технической аппаратурой», то есть полностью утрачивать
свою былую индивидуальность и превращаться в «людей
массы». Причем во всех аналогичных случаях, как нам
предстоит убедиться в этом не раз, негативная
зависимость миросозерцания авторов «Диалектики
просвещения» от буржуазпо-ипдивидуалистической «модели» чело-
123
века превращается в позитивную, «обратная» — в
«прямую».
Последнее, кстати, и связано с тем, что глубочайший
источник всяческой «буржуазности» индивида Хоркхай-
мер и Адорно видят именно в тенденциях, превращающих
этого индивида в «личность», «персону» в кантовском
смысле этих слов, то есть выводящих его за его
собственные «чисто природные» и «чисто эмпирические»
пределы, обеспечивающих его «открытость» миру культуры,
общечеловеческим идеалам и ценностям, духовному
измерению человеческого существования вообще.
Механизмы «личностного» становления индивида, связанные с
тем, что он соотносит свои витальные влечения, свои
неосознанные побуждения с элементарными требованиями
человеческого общежития, взятыми в их универсально-
всеобщей форме (так, как они даны в сфере
общечеловеческих идеалов и ценностей), неизменно рассматриваются
в «Диалектике просвещения» как результат
самоподавления индивида, изнутри обживающего его фактическое
угнетение в буржуазно-эксплуататорском мире. По
убеждению авторов книги, акт подчинения индивида, его
инстинктов и влечений тому, что он считает высшим в
нем самом — идеалам истинного, доброго и справедливого
(взятым так, как они формулировались в его
самосознании, в его «я»), является актом его радикального разрыва
с природой и тем самым — глубочайшим его
«грехопадением». Ибо — так утверждается в «Диалектике
просвещения» — подчинение индивидом своей собственной
(«внутренней») природы неизбежно должно обернуться
«волей к власти» — ничем не ограниченным стремлением
к угнетению и эксплуатации также и «внешней»
природы, а вместе с нею — всех остальных людей, как
носителей природного начала.
Итак, именно то, что классики немецкой философии,
начиная с Канта, рассматривали как залог преодоления
«партикулярности» (и в этом смысле « индивиду а листич-
ности», ограниченной «буржуазности») индивида, в
«Диалектике просвещения» предстает в прямо
противоположном освещении: как выражение исконной
«буржуазности», которой европейский человек оказался пораженным
с гомеровских (!) времен. Вполне естественно поэтому,
что «ситуация индивида» должна была представляться
авторам книги в гораздо более мрачных тонах, чем она
представлялась наследникам персоналистической тради-
124
цйи немецкой классической философии в XX веке: 1 ведь
как раз там, где последним виделся выход (хотя и едва-
едва брезжущий где-то па горизонте), Хоркхаймер и
Адорно видели один сплошной тупик — конец той
цивилизации (и того человеческого типа), которая родилась
под знаком олимпийской мифологии древних греков. Что
же касается возможности рождения нового человеческого
типа, то она должна была представляться тем более
проблематичной, чем более противоречивым, антиномич-
ным (и просто — не додуманным до конца) было
представление этих «франкфуртских» мыслителей о том, что
же в конце концов такое небуржуазный индивид. Словом,
и здесь «застылое отчаяние» философов по поводу
«ситуации человека» в нашу эпоху, их «эсхатологизм»,
утрачивающий всякое представление о своих собственных
границах, имели не столько «эмпирические» причины,
связанные с существованием таких «реалий», как
Освенцим, сколько причины теоретические, имеющие свой
«истинный исток» в их вульгарно-натуралистическом
миросозерцании.
Как видим, в книге Хоркхаймера и Адорно идея
«конца индивида», временно отодвинутая на задний план в
период открытой вооруженной борьбы против фашизма и
гитлеризма, сразу же зазвучала на самой высокой ноте.
В каком-то отношении «Диалектика просвещения»
сопоставима со шпенглеровским «Закатом Европы». Подобно
Шпенглеру, восчувствовавшему «закат» европейской
(«фаустовской») культуры накануне первой мировой
войны, когда, по словам автора, «его книга» уже была в
основном готова, авторы «Диалектики просвещения»
вновь подняли вопрос о «конце» этой культуры — теперь
она называлась культурой «буржуазного просвещения» —
на исходе второй мировой войны. Причем теперь идея
конца была сосредоточена даже не столько на вопросе о
судьбах культуры Запада, сколько на проблеме
индивидуальности — этой носительницы всех прежних форм
(«эксплуататорски-угнетательской») культуры и
цивилизации; под сомнение ставилась сама возможность
существования индивида в наш век — век сверхмощных
государств и «тотальной заорганизованности» людей; век
1 В русле этой традиции начиналось и философское развитие
Марселя, но более последовательно она была развита у
французских персоналистов, начиная с Мунье и кончая Доменаком.
125
глобальных войн и лагерей массового уничтожения; век
индустриального «производства сознания» и
целенаправленно организуемых «массовых психозов».
В этой картине «нашего века», на фоне которой в
«Диалектике просвещения» утверждается окончательное
«поражение культуры» и гибель индивидуальности,
поражает полное отсутствие светлых тонов: все утопает во
мраке ночи — ночи, наступившей «после заката Европы»
(выражение Адорно). И это — не случайное
впечатление: аналогичное переживание владело самими авторами
«Диалектики просвещепия», и опи сознательно хотели
передать его читателям. Дело в том, что Хоркхаймер и
Адорно принадлежали к поколению западноевропейской
буржуазной интеллигенции, воспринявшей ницшеанскую
«смерть Бога» как утрату всех положительных идеалов —
абсолютов. Поэтому ими с гораздо большей
«непосредственной достоверностью» переживалось то, чего они не
хотят, нежели то, что же они, собственно, хотят, что
утверждают,— позиция, превращенная впоследствии Хорк-
хаймером и Адорно в теоретическую программу их
«школы» '. Ив конце концов место (то самое «святое место»,
которое не бывает «пусто») позитивного абсолюта занял
в их сознании «негативный абсолют»: его символом стал
у них Освенцим — это высшее, предельное, абсолютно
достоверное воплощение всего отрицаемого ими в XX
столетии.
В свете этого «негативного абсолюта» и оценивали
авторы «Диалектики просвещения» все то, что они
считали ее исторически необходимым результатом —
современную западную культуру и принцип индивидуальности,
составляющий, по мысли Хоркхаймера и Адорно, самое
глубокое ее основание.
Согласно убеждению этих идеологов франкфуртской
школы, «человечество, вместо того чтобы вступить в
истинно человеческое состояние, погрузилось в новый вид
варварства» 2. Олицетворением этого варварства является
1 «Ее базпс,—писал Хоркхаймер о «критической теории»
франкфуртской школы,— образует убеждение, что мы не в
состоянии дать представление о добре, абсолюте, однако можем
указать, отчего мы страдаем, что требует изменения...» (M. H о г к-
hei mer. Gedankenworte.—In: «Theodor W. Adorno zum Gedächtnis».
Fr. a. M., 1971.)
*M. Horkheimer und Th. W. A d о г п о. Dialektik der
Aufklärung, S. 1.
126
для франкфуртских теоретиков не только фашизм, но и
вся «поздпекапиталистическая» эпоха, его породившая.
Ибо она, по мнению Хоркхаймера и Адорно, изначально
характеризовалась «фашизоидностью», то есть
внутренним тяготением к фашистской перспективе — и никакой
иной. Эта эпоха рисуется ими как период полного
торжества насильственных и тоталитарных тенденций и —
соответственно — полного л окончательного поражения
индивида и апеллирующей к нему культуры. С начала
«позднекапиталистической» эпохи (в «Диалектике
просвещения» оно точно не датируется, но, по-видимому,
совпадает у франкфуртцев с началом XX в.) и вплоть до
ее конца, который теряется в туманной дали, индивиду и
его культуре — если верить Хоркхаймеру и Адорно —
суждено «парадоксальное» существование:
существование в момент ликвидации, на границе бытия и небытия.
То, что это — так, не вызывает у них никаких сомнений:
такой вывод представляется им столь же достоверным,
сколь достоверным был факт существования фашизма и
гитлеровских лагерей смерти. (Устранение этого «факта»
в результате разгрома гитлеровской Германии не
побудило авторов «Диалектики просвещения» пересмотреть
свой вывод; они были убеждены, что коль скоро
сохранился «поздний капитализм», место разгромлепной
формы «тоталитаризма» неизбежно должна занять другая.)
Поэтому вопрос для Хоркхаймера и Адорно
заключался не в том, чтобы аргументировать и обосновать этот
вывод, а совсем в другом — в том, чтобы с точки зрения
этого вывода «понять» всю предшествующую историю
человечества (по крайней мере — европейского).
В качестве представителей натурализма, очень
близкого фейербаховскому, франкфуртские теоретики,
склонные к идеализации «матушки-природы», готовы были
видеть самый глубокий — метафизический — источник всех
человеческих бед в подавлении и угнетении этой
последней — как «вне», так и «внутри» человека. В качестве
наследников идейного капитала немецкого «истинного
социализма», близких по своим установкам к социальной
философии молодого Вагнера («брутализированным» с
помощью Ницше — автора «Рождения трагедии из духа
музыки»), они усматривали изначальную причину
подавления и угнетения «матушки-природы» в «акте
индивиду ации» человека, представляющего собою необходимую
форму его выделения из природы. Наконец, в качестве
127
мыслителей, которые при всем при этом хотели считать
себя также и марксистами (и даже «единственно
истинными» марксистами), Хоркхащмер и Адорно стремились
истолковать этот «акт индивидуации» человека,
сопровождающийся — по их убеждению — возникновением
эксплуататорского отношения и к природе, и к другому
человеку, как всемирно-исторический акт становления
самого принципа буржуазности, из которого должен был
вырасти капитализм. Так выглядели основные
мировоззренческие посылки, на основе которых была развита
концепция «диалектики просвещения», давшей название
книге Хоркхаймера и Адорно.
В самых общих чертах эта концепция выглядит
следующим образом. Первоначально (авторы «Диалектики
просвещения» дают понять, что именно так обстояло дело
в эпоху матриархата, протекавшую под знаком
«материнского», то есть природного начала) человек пребывал в
нерасторжимом единстве со своим родом, который, в свою
очередь, представлял собой нечто тождественное природе.
Это был — по утверждению Хоркхаймера и Адорно —
золотой век воистину счастливого существования людей, за
которое они платили полным отсутствием индивидуально-
личностного начала — самости (das Selbst).
Универсальным отношением человека к природным явлениям и
процессам, да и к своим собратьям (которых он не
противополагает природным вещам) было в те времена
«миметическое» отношение — отношение подражания,
уподобления. Уподобляясь тому, от чего он зависел и от
чего ждал милости и покровительства, первобытный
человек еще раз утверждал свою причастность целому, свое
единство с ним. Существование в рамках этого социо-
космического целого не сопровождалось,— как это и
полагается в «золотом веке»,— переживанием времени;
прошлое и настоящее еще не различались, история еще
не возникла. Первым историческим актом и должно было
стать выделение индивида из матриархально-родового, то
есть природного целого,— акт, с которого начинается у
Хоркхаймера и Адорно авантюра «просвещения», его
роковая диалектика.
Франкфуртские теоретики не дают нам
сколько-нибудь вразумительного разъяснения причин раскола
между человеком и природой. Вопрос о том, почему человек
решил расстаться со своим счастьем и стал рвать одну за
другой связи с природой, остается за пределами сюжета
128
«Диалектики просвещепия». Здесь можно лишь строить
предположения, отправляясь от туманных намеков
авторов книги,—намеков, сделанных в такой форме, что их
всегда легко «взять обратно». Можно предположить,
например, что человек потому решил выделиться из природы,
что он захотел не только счастливого, но и
гарантированного существования, в рамках которого он уже не был бы
столь абсолютно зависим от милостей природы. Можно
предположить далее, что это чувство абсолютной
зависимости от целого было не только счастливым, по и
тоскливым, сопровождавшимся столь же благочестивым, сколь и
жутким переживанием, которого человек был уже не в
состоянии вынести.
Но и при таких предположениях неизбежно возникли
бы новые и новые «почему», отвечая на которые вновь и
вновь приходилось бы заранее предполагать (хотя бы
частично) черты выделившегося индивида там, где вообще
нельзя еще говорить об индивидуальности. Здесь —
логический круг: чтобы захотеть выделиться из природы,
человек уже должен обладать чертами выделившегося
индивида, быть таким индивидом. Фактически с таким индивидом,
который сразу же выходит из лона природы во всеоружии
«буржуазно-индивидуалистических» черт и особенностей,
и имеет дело «Диалектика просвещения», оставляя в тени
как причины, так и процесс становления этих социально-
психологических характеристик.
Пока человек чувствовал свое родство с природой, его
отношение к природным вещам было миметическим —
отношением уподобления. Поскольку же это чувство
утратилось, на его место встало другое отношение —
стремление к овладению природой, стремление силой взять то, что
раньше ожидалось как милость, то есть насильственное
отношение, имеющее форму одиссеевского «хитроумия»,
форму подавления, угнетения и эксплуатации. Но для
того, чтобы овладеть природой, выступившей теперь в
качестве «внешней», человек должен был прежде всего
овладеть природой в себе самом — потоком своих чувств и
переживаний, динамикой своих влечений, которые и
внутри него должны были предстать как нечто «внешнее».
«Внешнее»... чему? — Тому же самому человеку, но
представшему как tftte-природа»: человек, следовательно,
раскололся на «природное» в нем самом и нечто «не-природ-
ное», выступающее по отношению к его собственному
природному началу как истинно человеческое начало.
5 Ю. Давыдов
129
Это и есть его «самость»: опа возникла в момент откола
индивида от социо-космического целого и одновременно
его собственного раскола: раздвоения па центрированное
в себе «я» и отличную от него «внутреннюю природу».
И чем более глубоким становился раскол между индивидом
и «внешней» природой, выступающей отныне как нечто,
все более «чуждое» ему, тем более драматичной
становилась коллизия между «я» и «внутренней природой», тем
более раздвоенным оказывался сам индивид. Отношение
«я» к миру внутренней чувственности и витальности
становилось столь же насильственным и угнетательским, что и
его отношение к «внешней» природе, равно как и к другим
людям — этим носителям природного начала.
«Пробуждение субъекта,— читаем мы в «Диалектике
просвещения»,— покупалось ценой признания власти как принципа
всех отношений» i. A это значит, по Хоркхаймеру и
Адорно, что субъект пробуждается как буржуазный субъект;
его «самость» выступает как носитель
буржуазно-эксплуататорского принципа «воли к власти».
Парадокс, однако, заключается в том, что чем больше
«овладевает» человек природой (включая и «природу»
внутри самого себя), тем более чуждой она оказывается
для него, тем резче «отчуждается» она от него: насилие не
рождает близости, не восстанавливает родства. Субъект,
«я», самость выступает как абсолютный господин над чем-
то столь же абсолютно чуждым ему, запредельным для его
холодной похоти властвования. Но именно в этой своей
непоколебимой «внешности» и «чуждости» природа, по
Хоркхаймеру и Адорно (рассуждающим здесь в духе
Шпенглера), пробуждает в человеке древний ужас,—
аналогичный тому, который испытывал первобытный человек
в присутствии всего необычного, выходящего за
привычный круг его повседневного опыта. Но если дикарь умел
«заклинать» этот ужас на путях миметического
«уподобления» ужасному, стремясь таким образом «породниться»
с ним, то индивид, выделившийся из природной
целостности, поступает диаметрально противоположным образом:
его способ «заклятия» ужасного — это «удвоение природы
в видимости и сущности, действии и силе» 2. Таким
образом поступают как миф, так и наука, которые одинаково
возникают из страха и оба выражают в своем «раздваива-
1 Ibid., S. 15.
2 Ibid., S. 21.
130
ющем» устремлении, еще больше отчуждающем их от
природы, общую тенденцию просвещения.
Впрочем, на этих путях достигается, если верить
авторам «Диалектики просвещения», лишь мнимое «заклятие»
древнего ужаса: ужасное лишь удаляется — вместе с
удалением природы от человека, но не преодолевается. Но
тем большим становится страх «самости», все время
боящейся «упасть обратно» в «ту чистую природу, от которой
она отчуждала себя с таким невыразимым напряжением
и которая именно потому внушает ей невыразимый
ужас» 1. Это — тот самый страх, который человек
испытывает перед безумием; возможность сойти с ума
представлялась грекам едва ли не самой страшной из человеческих
участей; не случайно они говорили: «Если боги хотят
наказать человека, то они отнимают у него разум» — это
первое из ужасных наказаний, приходивших на ум
древним.
Этот ужас, по утверждению Хоркхаймера и Адорно, и
побуждает человека двигаться по стезе насильственного
овладения природой с помощью сначала мифа —
например, олимпийской мифологии древних, которая
оказывается, таким образом, одной из первых форм
(«буржуазного») просвещения, затем — науки и техники, которые
стали играть роль новой мифологии, в такой же мере
«просветляющей», в какой и затемняющей природу,
застывающую в отчужденных формах как нечто столь же
бессмысленное, сколь и безысходное. Как гончие псы, преследуют
они живую природу, чтобы превратить ее в мертвую, в
чистый материал для созидания «второй природы»,
представляющей собою не что иное, как проекцию «похоти
властвования», которой одержима «самость», а в этой
проекции — не что иное, как застывший ужас, окаменевший
страх «самости» перед угрозой растворения в том, что
представляется ей не иначе как природным хаосом,
бессмысленной стихией и т. д.,— ибо только такой — воистину
ужасный — лик оборачивает изнасилованная природа к
своей насильнице-самости.
В этой связи авторы «Диалектики просвещения»
прибегают к чисто фрейдовским ходам мысли, рассматривая
отношение «буржуазного «я» («самости») к
«просвещаемой» ею природе по аналогии с отношением садиста к
своей жертве, который ненавидит ее тем в большей степени,
1 Ibid., S. 37.
5*
131
чем больше страданий ей припосит, проецируя па нее свои
страхи. Источник же этого извращенного отношения Хорк-
хаймер и Адорно видят в том, что («буржуазный»)
индивид стал личностью, то есть «самостью», лишь ценой
принесения в жертву своей природы — как «внешней», так и
«внутренней»: отсюда ненависть индивида-«самости» ко
всему природному, отсюда параноидальное стремление его
видеть в любом проявлении живой природы «происки
враждебных сил».
В результате мы приходим (вместе с авторами
«Диалектики просвещения») к несколько парадоксальному
выводу: оказывается, западный человек и его культура
претерпевают аннигилирующее, уничтожающее их
воздействие со стороны «иоздокапиталистического общества»...
по их собственной вине, ибо это общество обязано своим
появлением на свет им же самим — и никому другому.
Не надо быть семи пядей во лбу, чтобы заметить
совершенно определенную тенденцию «Диалектики
просвещения» переадресовать возмущение, которое вызывает
«позднекапиталистическая» действительность, направив
его на всю западноевропейскую культуру начиная с
Гомера (причем, взятую без каких бы то ни было попыток
отличить в ней демократические элементы от
антидемократических, гуманистические — от антигуманистических,!
народные — от антинародных).
2. ПАДЕНИЕ ИНДИВИДА И КРАХ ЗАПАДНОЙ КУЛЬТУРЫ
Как видим, вся история западной цивилизации, начиная
с «пред-гомеровских» времен, представляет собой, если
верить авторам этой книги, историю сумасшествия
разума. В чем заключается это сумасшествие? Прежде всего
и главным образом в том, что разум отделился от природы.
Отделившись, он обособился от нее; обособившись —
противопоставил себя ей; противопоставив — не мог уже
установить к ней никакого отношения, кроме отношения
«овладения»: господства над нею. Но отношение «господства»
уже предполагало восприятие природы как врага
разума: овладевать природой, господствовать над нею
означало преследовать природу в качестве враждебной
силы. А преследовать — это значит, в силу
«амбивалентности», то есть двусмысленности чувства, владеющего
преследующим (см. Фрейда, за которым следуют здесь авто-
132
ры «Диалектики просвещения»), бояться преследуемого,
заражаться «бредом преследования» и т. д.
В общем — и это полностью соответствует исходным
посылкам авторов «Диалектики просвещения»,
рассмотренным нами,— уже в самом нервом, изначальном, акте
становления западной культуры и цивилизации —
отделении и обособлении разума от природы даны в едином и
нерасторжимом комплексе: определенный тип
«разумности» (следуя М. Веберу, франкфуртцы более склонны
говорить о «рациональности»), стремление к господству над
природой (следом за Ницше они предпочитают говорить
в данной связи о «воле к власти» ) и... специфическая форма
сумасшествия («рационализируемая» — здесь веберов-
ское понятие приобретает фрейдовский смысл —
помраченным разумом как борьба против — мнимой! —
агрессивности природы). Этот «комплекс» и лежит, согласно Хорк-
хаймеру и Адорно, в основе неудержимого, неумолимого и
неуклонного стремления («западного») разума к
универсальному покорению и подчинению природы: прежде
всего — в самом человеке (самоподавление и самоподчинение
индивида), затем — в отношениях людей друг к другу
(угнетение и эксплуатация человека человеком)
наконец — в сфере отношения общества к «внешней» природе
(универсальное «использование» и расхищение природы
и ее ресурсов).
Одним словом, уже на самом глубинном уровне
концепции «диалектики просвещения» представлены — как
моменты одного и того оке ряда! — общефилософские
(«разум»), общесоциологические (веберовская
«рациональность»), метапсихологические (фрейдовская
«рационализация» ), социально-экономические ( «эксплуатация» ),
политологические («господство») и т. д. категории и
понятия. В этом и заключается «истинный исток и
тайна» (если воспользоваться Марксовым выражением)
социальной философии Франкфуртской школы.
Так вот, если попытаться расчленить (разумеется,
несколько условно и схематично) описанный нами
социально-философский «комплекс» понятий и категорий, с
помощью которых «дешифруется» — а может, наоборот,
«зашифровывается»? — один и тот же разум, то можно
будет выделить и ту преимущественную сферу,
применительно к которой франкфуртские теоретики пользуются
обычно термином «культура». Речь идет о подавлении
природы (и всего природного, всего, напоминающего при-
133
роду, и т. д.) в самом человеке и в качестве человека; о
совокупности средств и методов, инструментов и
«технологий», поставляемых обществом, с помощью которых
индивид осуществляет господство над самим собою:
распадается с самим собою (то есть с природным в себе),
овладевает собою, подавляет и эксплуатирует себя. Культура,
собственно говоря, это и есть, по мнению авторов
«Диалектики просвещения», весь «универсум» средств,
методов и «технологий» — сперва но преимуществу
идеальных («сублимированных»), а потом все более и более
вещественных («десублимированных», воздействующих
прямо на нервно-физиологический субстрат индивида),— с
помощью которых человек реализует свою сумасшедшую
«волю к власти» в отношении к самому себе: с тем, чтобы,
«овладев собою», с тем большей силой ринуться в борьбу
за господство над другими людьми и «внешней» природой.
В основе процесса «самовладения» человека,
осуществляемого на коварных путях и перепутьях культуры,
лежит, если верить авторам «Диалектики просвещения»,
чисто религиозный механизм сублимации именно
того—и как раз того! — что принесено в жертву, предано
закланию: то, чем пожертвовано, чего уже не существует
в действительности (и с чем поэтому примирились
враждебные ему силы), обожествляется в символической
форме—в виде идеализованного «образа». Хоркхаймер и
Адорно, повторяя здесь Фрейда — автора «Тотема и табу»,
дают понять, что именно так обстоит дело в религии,
особенно — христианской (ей больше всего достается в
«Диалектике просвещения»), «сублимирующей» — и в этом
виде сохраняющей на долгие века — реальный обряд
человеческого жертвоприношения. Причем в западной культуре
этот обряд повторяется миллионы и миллионы раз в
реальном процессе «культивирования» отдельных индивидов.
Каждый из людей вынужден приносить «добровольную
жертву»: он жертвует непосредственностью своих
естественных побуждений, витальных влечений, инстинктивных
порывов в пользу того, что считает высшим в себе,—в
пользу своего «я», а вернее — того, что является
эгоистическим центром этого «я», его заостренной вершиной: в
пользу «самости» (das Selbst). Чем больше связываются эти
побуждения, влечения и порывы рациональными
соображениями (вращающимися главным образом вокруг вопроса
о «самосохранении»), чем более опосредствуются они
всепроникающей «самостью», чем чаще, следовательно, пре-
134
красное мгповенье приносится в жертву трезвой
(и.тусклой в своей безнадежной «трезвенности») мысли о
будущем,— тем больше обожествляется символическая
«идеализация» всего этого: принцип «я», становящийся
принципом духовной «возгонки» всего
природно-естественного. «Я» воспринимается теперь как нечто прочное и
устойчивое в противоположность «бессубстанциальной»
хаотичности инстинктивных порывов и витальных
влечений индивида; тогда как «субстанциальность» этого «я» на
самом деле есть лишь «видимость», то есть — согласно
франкфуртскому словоупотреблению— «идеология».
«В классовом обществе», развивают Хоркхаймер и
Адорно свою основную мысль, враждебность «самости»
против всего того, что было принесено ей в жертву,
сопровождалась, с одной стороны, новыми и новыми
преследованиями остатков природного, сохранившихся в ней самой,
а с другой — «отрицанием природы» в других людях и в
качестве других людей, которые превращались таким
образом в чистый материал господства. Такое «отрицание
природы», выливающееся в конечном счете в самое
тривиальное истребление сперва десятков, затем сотен тысяч,
наконец — миллионов людей, есть «ядро» всякой
«цивилизаторской рациональности», всякого «культивирования»,
отправляющегося от «самости», как от своего
основополагающего принципа.
«Господство человека над самим собой», являющееся
основанием его «самости»,— потенциально — всегда есть,
по утверждению франкфуртских теоретиков, «уничтожение
субъекта, в интересах которого оно осуществляется» *; ибо
«субъект» — это не «я» и не «самость», а, наоборот, то, что
вытесняется и подавляется ими: естественные влечения,
инстинкты и побуждения человека, взятые во всей их
«природности», тождественности природному целому. Что
же касается культуры, поставляющей человеку
«идеологические обоснования» необходимости и неизбежности
этого господства, снабжающей его всесторонне
разработанными методами (включая чисто «технологические»)
обеспечения такового, то она оказывается не чем иным, как
развернутым на тысячелетия ритуалом принесения в
жертву природного в человеке, в качестве человека и вокруг
человека. И вся история цивилизации есть «история интро-
версии» (то есть овнутренения человеком) этой жертвы,
1 Ibid., S. 62.
135
«история отказа» (от прямого и непосредственного
удовлетворения витальных влечений).
Своей конечной точки этот процесс достигает, согласно
концепции франкфуртских философов, в гитлеровских
лагерях смерти, ß «Негативной диалектике» Адорно, где до
конца договаривается то, что в данной связи не было
договорено в «Диалектике просвещения», Освенцим
рассматривается как фатально необходимый, единственно
возможный итог западной культуры, развивавшейся якобы
исключительно за счет подавления природного в человеке.
Освенцим, играющий в адорновской «негативной
диалектике» роль «негативного абсолюта», засвидетельствовал,
согласно Адорно, справедливость ницшеанского «Бог —
умер» (получившего, как известно, продолжение в серии
дадаистских бунтов против культуры еще в двадцатые
годы).
«Бог» — это в данном случае вся европейская культура
с ее абсолютами и ценностями. Она, если верить автору
«Негативной диалектики», пришла к концу, обнаружив —
именно в этой своей точке — не только свою полнейшую
несостоятельность перед лицом фашистского варварства,
но — даже более того — свое внутреннее родство
бесчеловечности гитлеровцев: ибо, стремясь к уничтожению целых
народов, гитлеровцы лишь осуществляли «антиприродную»
интенцию культуры Запада. Адорно проводит совершенно
прозрачную параллель между «идеалистической»
западной культурой, «в лагерях» которой «сгорел без утешения»
природный субстрат человека: «соматический,
чувственный слой живого» 4, с одной стороны, и нацистскими
лагерями уничтожения, где то же самое совершалось на деле, в
материальной действительности,— с другой.
Согласно адорновской концепции, люди, привыкшие к
подавлению природы в самих себе, то есть к
самоподавлению, неизбежно становятся послушным орудием
подавления других (и даже испытывают якобы бессознательное
удовольствие от такого подавления). Таков источник
«конформизма», которым активно пользовались
национал-социалисты для осуществления своих чудовищных целей: он,
если согласиться с автором «Негативной диалектики»,
вытекает из глубинных истоков «идеалистической» ( и в своем
идеализме — бесчеловечной) культуры Запада. Ибо эта
культура, «идеологизируемая» с помощью идеалистической
1 Ibid., S. 356.
136
метафизики (апеллирующей, в свою очередь, к
религиозным абсолютам), занималась не чем иным, как
«возжиганием» бедной «физической экзистенции» в высших
интересах 1 — то есть в интересах Истины, Добра и Красоты, не
имеющих, по Лдорно, никакого отношения к «вот этой»
конкретной индивидуальности, кроме угнетательски-
эксплуататорского (подобно любой всеобщности — все
равно, материальная ли она или духовно-идеальная).
Л коль скоро иодобпое, согласно адорповской логике,
«сожжение» физической экзистенции удается осуществить
в отношении к индивидам (а именно это удалось сделать
культуре Запада по отношению к европейцам), последних
становится тем легче убедить в необходимости принести в
жертву — на алтарь «Высших Ценностей»—целые
народы и расы: в качестве «интеграции физической смерти» 2
западная культура не могла не стать носительницей гибели
для представителей иных культур,— таков общий вывод,
к которому автор «Негативной диалектики» ведет своего
читателя.
Вот почему разговор о культуре в «Негативной
диалектике» ведется автором книги на фоне его детских
воспоминаний о «живодерне»3, где сдирали шкуру с убитых
собак, а главное — о том «завораживающем» впечатлении,
которое производил на него зловонный запах собачьих
трупов. Ребенку, по Лдорно, еще дано знать, что означает
этот запах; это же знание — знание того, что означает
культура, покоящаяся на истреблении всего живого ради
«Высших Принципов» (например, принципа чистоты и
стерильности, ради которого собак пускают па мыло),—
непосредственно давалось ребенку и в том ужасе, который
он испытывал, встретившись с повозкой «собашников». Что
же касается взрослых, то они «уже не понимают»
глубокого смысла своих детских переживаний, и в этом —
«триумф культуры и ее неудача» 4. Они, как и вся их культура,
испытывают одно лишь отвращение ко всякой вони; но
это происходит совсем не потому, что плохо пахнет падаль,
а потому, что «воняет» сама культура, «ибо ее замок, как
говорится в одном великолепном отрывке у Брехта, создан
из собачьего дерьма» 5. Культура, согласно франкфуртско-
1 См.: I Ь i d., S. 357.
2 См.: Ibid.
3 См.: I bid.. S. 356.
4 См.: Ibid., S. 357.
5 Ibid.
137
му теоретику, не только потерпела поражение, не только
пришла к своему концу, но и насквозь протухла, как давно
разложившийся труп,— что и было доказано явлением
«негативного абсолюта» — Освенцима. И «тот, кто
высказывается за сохранение (этой) радикально виновной и
паршивой культуры, превращается,— по категорическому
адорновскому утверждению,— в ее сообщника...» \ в
пособника ее чудовищных преступлений.
Дальше, как говорится, уже некуда идти в отрицании
культуры. А ведь это — совсем не случайный
стилистический оборот Адорно, любившего, как известно, «говорить
красиво». Речь идет о последовательном развитии идеи,
сформулированной еще в «Диалектике просвещения», а
затем по-разному варьировавшейся на протяжении более
двух десятков лет и обраставшей все новой, все более
изощренной аргументацией. Еще в 1950 году, сразу же после
возвращения из эмиграции, Адорно со всей
категоричностью заявил о бессмысленности, вредности и пагубности
идеи восстановления западной культуры (!),
разгромленной национал-социалистами в Германии. «Перед лицом
культурного ренессанса современной Германии»,
рассуждает франкфуртский философ в одной из первых статей
этого периода2, вспоминается вопрос, заданный еще ниц-
шевским Заратустрой: «неужели смерть бога осталась
неизвестной?» — неужели немцы не пришли еще к
убеждению в том, что «культура в традиционном смысле —
мертва»; что она представляет собою безжизненную
сумму «образовательных благ», упорядоченных и
каталогизированных в целях их более удобной доставки
«потребителю» и отданных в распоряжение рынка «сбыта».
Увлечение культурными ценностями в послевоенной
Германии, утверждает Адорно, несет в себе нечто от
«опасного и двусмысленного» самоутешения немцев, от их
стремления укрыться в своем «провинциализме» от
реальных процессов истории, которые — как утверждает автор
статьи — давно уже покончили с культурой,
превратившейся в пустой анахронизм или реакционный
пережиток.
«Кто хотел бы сегодня ссылаться на вечные ценности
культуры,— категорически утверждает франкфуртский
1 Ibid., S. 358.
2 См.: «Auferstehung Kultur in Deutschland».— In: «Kritik. Kleine
Schriften zur Gesellschaft», 1971, S. 23—26, 358.
138
теоретик,—тот уже оказался бы перед лицом опасности
сделать из культуры новый род «земли и крови» (Blut und
Boden)»,—иначе говоря, уподобился бы
национал-социалистам (!). Сам же он больше склонен относиться к
культуре, пережившей день своих официальных похорон (все
равно — считать ли им день, когда Ницше произнес свое
«Бог — умер», или день, когда запылали печи Освенцима),
согласно ницшевскому — «толкни падающего». Поэтому
ему импонирует безоговорочно отрицательное отношение
к культуре, которое после первой мировой войны утвердил
экспрессионизм, считавший ее силой абсолютно враждебной
человеку и предпринявший, по адорновскому выражению,
«грандиозную» попытку «сбить» с сознания индивида «все
цепи конвенций и овеществления», чтобы помочь ему
прийти к «чистому выражению» своего «я».
Лдорно выражает сожаление, что в Западной Германии
первого пятилетия после второй мировой войны нет
«ничего, что можно было бы сравнить с силой и
непоколебимостью этого (экспрессионистского.— Ю. Д.) стремления».
Между тем именно экспрессионизм представляется
франкфуртскому философу тем — антикультурным —
устремлением, которое могло бы довести до конца исполнение
исторического приговора, вынесенного культуре,— точно так
же, как он делал это после первой мировой войны,
освобождая сознание индивида, «оказавшегося одиноким в
очерствевшем мире», от последних остатков, последних
пут изолгавшейся культурной традиции.
Иной задачи, иной перспективы этот мыслитель не
мыслит: дух и его единственно живое проявление в XX
столетии — авангардистское искусство (искусство
универсального отрицания) должны повернуться против
культуры «в традиционном смысле», ибо вся она стала
«идеалистической», то есть «ложной», а значит— «идеоло-
гичной».
Возникнув в результате отделения духа от природы,
духовной активности от «телесного труда», культура, по
Адорно, неизменно стояла на страже этого расщепления,
открывшего роковую перспективу истории европейского
человечества; тем самым она неизменно оказывалась
слугою (возникавшей из этого расщепления) воли к власти,
с пеизбежпостыо воспроизводящей эксплуатацию
человека человеком.
Согласпо дадаистам и экспрессионистам,
подтверждением факта «смерти культуры» явилась первая мировая«
139
война. Согласно мнению их последователя ( превратившего
их авангардистские нигилистические программы в
отправную точку для построения философии культуры, вернее —
«антикультуры»), Адорно, фашизм и вторая мировая
война подтвердили этот факт еще более убедительно — так,
что не признавать его могут либо заведомые глупцы, либо
отъявленные мерзавцы. Либо, наконец, люди, оказавшиеся
под совершенно магическим влиянием массовой «индустрии
культуры» — того, чем культура «в традициоппом
смысле» неизбежно должна была стать после своего
превращения в «идеологию» и даже «пропаганду» — эту технику
сознательного манипулирования бессознательным *.
Отсюда — чрезвычайно большое место, которое занимает в
рассуждениях Адорно, как и всех других ведущих теоретиков
Франкфуртской школы, проблема «культурной
индустрии», или, иначе, «индустрии сознания».
Круг вопросов, которые франкфуртцы связывали с этой
проблемой, был очерчен уже в «Диалектике просвещения»
Хоркхаймером вместе с Адорно (одпим из первых
набросков концепции «индустрии культуры», как она предстала
в этой книге, можно считать статью Хоркхаймера «Новое
искусство и массовая культура», опубликованную в
1941 г.) 2. Согласно их мнению, не успел «умереть» бог, то
есть вера в абсолютность абсолютов и ценность цепностей,
как его место заняла «индустрия сознания», успешпо
заменившая религию и метафизику в их основной (и
единственно реальной, согласно франкфуртским теоретикам)
функции — функции «легитимации», узаконения
господства3. И вместе с тем либерально-буржуазные
рассуждения о высших ценностях и идеалах культуры «в
традиционном смысле» изменили свое фактическое содержание,
превратившись в способ защиты «индустрии культуры» и
осуществляемого ею контроля над мыслями и поведением
людей.
Если уже культура «в традиционном смысле»
вызывала у франкфуртцев отношение либо подозрительное
(культура прошлого), либо открыто неприязненное (современ-
1 См.: «Die Freudische Theorie und die Struktur der faschistischer
Propaganda».— In: «Kritik. Kleine Schriften zur Gesellschaft». 1968,
S. 128.
2 См.: M. Horkhe inier. Kritische Theorie, Bd. II. Fr. a. M.,
1968.
3 См.: M. По r khe i m e г und Th. W.Adorno. Dialektik der
Aufklärung, S. 128.
140
пая культура Запада, слившаяся с идеалистической
метафизикой) *, то «культурная индустрия» способна вызвать
у них лишь яростные негодующие филиппики, сравнимые
с инвективами библейских пророков по адресу общества,
«лежащего во зле». Многое в этих филиппиках явно
заимствовано из модных «антиутопий» тридцатых —
сороковых годов и представляет собою простое перенесение в
настоящее «позднекапиталистического общества» того,
что авторы антиутопий рисовали как дело более или менее
отдаленного будущего.
«Индустрия культуры» представляется Хоркхаймеру
и Адорно не просто полной заменой древней мифологии,
средневековой религии или «культурпой метафизики»
нового времени; дело в том, что в ней не только до конца
осознается (и, так сказать, «рационализируется») идеоло-
гически-легитимирующая функция всех этих исторически
исчерпанных форм духовного пособничества угнетению и
воле к власти, но она связывается, наконец, с новейшей
техникой массового производства. Культурная «идеология»
сплавляется с самой современной технологией, более
того: целиком превращается в эту технологию — научно
выверенное средство манипуляции созпанием и поведением
масс.
Эту свою функцию, если верить франкфуртским
теоретикам, «индустрия сознания» выполпяет тем более легко,
что ее продукция — продукция кино, радио, печати и т. д.—
находится в полном соответствии со всем предметным
миром, со всем миром человеческих взаимоотношений,
созданным «буржуазной цивилизацией». Ведь этот мир.
так же как и «идеологический мир», создаваемый в лоне
«индустрии культуры», творится одним и тем же
«техническим разумом» («технической рациональностью»),
возникшим в итоге отделения духа от природы, мышления от
(физического) труда, сознания от его телесного субстрата.
Поскольку же, как утверждают авторы «Диалектики
просвещения», «технологическая рациональность есть
рациональность самого господства»2, постольку и в реальном
мире, и в мире идеологическом, которые в одинаковой
степени творятся по мерке этой (буржуазной — потому что
технической, и технической — потому что буржуазной)
1 См.: Th. W. A d о г п о. Negative Dialektik, S. 357.
2 M. Horkheimer und Th. W. Adorno. Dialektik der
Aufklärung, S. 128.
141
рациональности, господствует один и тот же принцип, один
и тот же закон: закон эксплуатации и угнетения.
Вот почему «идеология», так сказать, «поставленная
на поток», создаваемая промышленным способом, не
нуждается в том, чтобы искажать фактическую
действительность «позднебуржуазного мира». Наоборот, она должна
лишь точнее копировать ее, «удостоверяя» ее этими своими
копиями, «удваивая» ее, то есть приращивая к
извращенному и искаженному миру «фактичности» в точности
соответствующий ему идеальный образ. Таким образом,
предметно-человеческое окружение и духовно-культурная
среда каждого индивида оказываются замкнутыми в одном
и том же измерении, в рамках одного и того же
«горизонта», за пределы которого не предполагается выхода: во
всяком случае, задача «индустрии сознания» как раз в том
и заключается, чтобы доказать человеку, что такого выхода
нет,— а это возможно, как утверждают франкфуртцы,
лишь за счет растления человеческой способности
воображения, которая одна могла бы вывести человека в мир
«второго измерения» — мир Иного, или Утопии.
Культура, рассуждают авторы «Диалектики
просвещения», уже предполагает осознание, «каталогизацию и
классификацию» явлений человеческого духа, что облегчает (и
как бы заранее предвосхищает) включение культуры «в
царство администрации» *. «Этому понятию культуры»
целиком соответствует осуществляемое индустриальным
способом, математически рассчитанное и логически
последовательное подведение («субсумация») всего
индивидуального под «общее»: шаблон, стандарт, клише массового
производства «культурных благ». Таким образом, на путях
развития «культурной индустрии» осуществляется то
самое объединение всех духовных явлений в целое «единой
культуры», о котором, как пишут Хоркхаймер и Адорно,
мечтали философы-персоналисты, противопоставляя эту
последнюю перспективе всеобщего омассовления. Только
«единство» это, оказывается, было достигнуто именно на
путях до конца доведенного «омассовления»:
промышленной стандартизации человеческих побуждений и чувств,
понятий и идей.
Согласно Хоркхаймеру и Адорпо, «культурная
индустрия» воспроизводит свою продукцию как систему
взаимодополняющих «духовных благ», песущих один и тот
1 См.: Ibid., S. 139.
142
же общий штамп: клеймо насквозь извращенной
действительности, которая, как скажет впоследствии Маркузе,
сама стала идеологией1. «Кино, радио, журналы образуют
систему» 2,— в этом смысле произошла пародийная
реализация еще одного либерального идеала — идеала «единого
стиля» культуры, отсутствие которого так огорчало
интеллектуалов в XIX столетии. «Бросающееся в глаза единство
микрокосмоса (индивидуального сознания.— Ю. Д.) и
макрокосмоса (предметно-человеческого окружения
людей.— Ю. Д.) демонстрирует людям единство их культуры:
ложное тождество всеобщего и особенного». Тождество
всеобщего и особенного, то есть превращение постулатов
и требований «позднекапиталистического общества» во
внутренний закон поведения индивидов, навязывается
людям внешним и насильственным образом. Однако
насилие это настолько повседневно, привычно, а — главное —
всеохватывающе, что оно уже и не ощущается как
насилие, принимая форму нерефлектированного внутреннего
побуждения.
«Культурная индустрия», пишут авторы «Диалектики
просвещения», исследует потребности потребителей,
продуцирует их (уже в форме, соответствующей ее целям и
задачам), «дисциплинирует» их и «управляет» ими. Даже
развлечение втягивает она в этот процесс; потому-то «в
условиях позднего капитализма» оно превращается в
простое «продолжение труда», часто вызывающее гораздо
более серьезные нервные напряжения и срывы, чем
вызывает процесс труда. В особенности, когда «количество
организованного развлечения превращается в качество
организованной жестокости», то есть когда удовольствие,
испытываемое зрителем от «созерцания» насилия, превращается
в насилие по отношению к самому этому зрителю.
«Индустрия культуры», пишут Хоркхаймбр и Адорно, «не
сублимирует, а угнетает»; так что становится сомнительным,
осуществляет ли «сама культура» ту «функцию
отвлечения», которой она так громко хвалится. Как и все
«тотальное общество» (а пмеппо таким выступает в глазах
франкфуртских теоретиков все позднекапиталистическое
общество — без различия политических режимов), «куль-
1 См.: «Die erschreckende Zivilisation. Salzburger
Humanismusgespräche». Wien — Frankfurt — Zürich, 1970, S. 239.
2 M. Horkheimer und Th. W. Adorno. Dialektik der
Aufklärung. S. 128. Далое пит. с. 132, 128, 152, 145, 146, 147, 160, 141,
162, 163 этого изд.
143
турная индустрия» не ликвидирует страданий своих
подданных, а «регистрирует и планирует их», направляя в
своих интересах; таким образом поступает она, например,
с трагикой, не поднимая ее на уровень высокого искусства
трагедии, а отводя ей «прочное место в рутине», в той
сфере культурного производства, которая занимается
производством сильных ощущений.
Но, таким образом, согласно концепции «диалектики
просвещения», и здесь все приходит «на круги своя»:
«индустрия культуры» ликвидирует тот припцип, на котором
покоилась вся западная культура, возникшая в результате
выделепия индивида из рамок первобытного рода,— акт,
тождественный, согласно франкфуртцам, акту отделения
духа от природы, сознания от (телесной) материально-
природной субстанции. Она ликвидирует principium
individuationis, да и саму индивидуальность, превращая
ее в «псевдоиндивидуальность». Существование
индивида «в позднем капитализме» есть — по утверждению
авторов книги — все время продолжающийся и никогда не
заканчивающийся «ритуал посвящения»: каждый индивид
должен показать на деле, что он целиком и без остатка
отождествляет себя с той самой властью, которая бьет и
калечит его. Некогда именно противостояние обществу
«составляло субстанцию индивида», теперь это
противостояние исчезло, а тем самым исчез и сам индивид, как
носитель субстанциального начала, как индивидуальность.
У индивида нет больше своего собственного содержания,
которое делало бы его законным оппонентом
несправедливого общественного целого; как выразился Хоркхаймер
еще в своей статье о критической и традиционной теории,
индивиды не имеют более собственных мыслей !, более
того: как оказалось, они не имеют больше и своих
собственных побуждений, во всяком случае — «не знают»
о них.
* * #
Если сопоставить написанное против «самости» Хорк-
хаймером и Адорно с тем, что сказано против «личности»
от имени «лица» у Гвардини, можпо констатировать сле-
1 См.: М. Horkheimer. Traditionelle und kritische Theorie.
Vier Aufsätze. Fr. a. M., 1968, S. 52.
144
дующее. С одной стороны, в глаза бросается известное
сходство, заключающееся в «антиличностной» ориентации
обеих книг — «Диалектики просвещения» и «Конца нового
времени» — в том смысле, что «личность» не
рассматривается в них ни как единственная, ни даже как наиболее
оптимальная форма внутреннего конституирования
человека. Л в описаниях ситуации, в которой оказалась личность
в наш век, сказывается и чувство удовлетворения, у Хорк-
хаймера и Адорпо — менее, у Гвардини — более
тщательно скрываемое. Но, с другой стороны, именно на фоне
этого сходства выявляется глубокое различие, причем связано
оно пе только с тем, что в книге о конце нового времени
мы имеем дело с ортодоксально-религиозным (и
«стабилизационным»), а в «Диалектике просвещения» — с нонкон-
формистски-атеистическим (и «кризисным», «революцио-
наристским») сознанием.
Дело в том, что, как это ни парадоксально, но
фактически Хоркхаймер и Адорно не представляют себе иного
способа внутреннего конституирования индивида, кроме
«буржуазного», откристаллизовавшегося в новое время и
глубже всего выразившего себя в протестантской этике
индивидуального труда и личной ответственности. Потому-
то авторы «Диалектики просвещения» и
универсализировали этот способ индивидуально-личностного
структурирования, распространив его на всю историю развития
человека в качестве самосозпающего и самотождественного
индивида.
Отсюда — их тенденция рассматривать кризис
индивидуальности в период «позднего капитализма» как ее
всеобщее саморазрушение, пичего не оставляющее ни от
прежней формы, ни от прежнего содержания
индивидуально-личного начала вообще. Отсюда — настроение
безысходного пессимизма и абсолютного отчаяния,
овладевающее Хоркхаймером и Адорно перед лицом гибели
«буржуазного индивида», которому они хотели бы, да не могут
противопоставить никакой альтернативы, никакой новой
формы индивидуального конституирования человека.
Отсюда — их невольное тяготение к тому, чтобы до бесконеч-
сти продлевать «миг» падения индивида, «мир»
балансирования его на грани бытия и небытия (несмотря на всю
кошмарность этого «мига»), как если бы это было гетев-
ское прекрасное мгповеште.
145
3. САМОУБИЙСТВО ИСКУССТВА КАК МОДЕЛИРОВАНИЕ
ПРОЦЕССА ЛИКВИДАЦИИ ИНДИВИДА
Двусмысленность «франкфуртской» критики
«буржуазного индивида», равно как и сетований по поводу его
прискорбной судьбы в условиях «позднекапиталистического
общества», определила изначальную противоречивость
эстетико-социологической концепции Адорно, в частности,
его «Философии новой музыки». В плане нашего
изложения эта концепция приобретает особый интерес как
иллюстрация того, какими путями концепция человека,
имеющая социально-философские корни, проникает в область
теоретической мысли об искусстве и литературе, а затем
начинает воздействовать и на сами художественные
процессы. Ведь последнее, как известно, имело место уже в
случае «Доктора Фаустуса», один из важных персонажей
которого — Черт — очень часто изъяснялся с помощью
раскавыченных цитат из адорновской «Философии новой
музыки» (с этой работой Томас Манн был знаком уже в
ее рукописном варианте, а когда вышел роман, он подарил
его Адорно как своему «действительному тайному
советнику») 1. Причем это была лишь «первая ласточка»;
впоследствии — с начала шестидесятых годов, когда стало
активно заявлять о себе движение «новых левых» —
влияние адорновской (и франкфуртской вообще) концепции
человека на искусство и литературу капиталистического
Запада возросло и расширилось; нельзя считать его
исчерпавшим свой импульс и в настоящее время.
Исходный тезис, лежащий в оспове адорновской
эстетико-социологической концепции, лучше всего выражен,
пожалуй, даже не в самой «Философии новой музыки»
(1949) 2, а в книге, вышедшей через два года после нее,—
она называлась «Минима моралиа»3. В этой книге,
представлявшей собой нечто вроде собрания афоризмов
и максим, Адорно пишет о том, что жизнь субъекта «стала
видимостью», так как «на современном этапе
исторического движепия» он фактически уничтожен «подавляющей
его объективностью» 4. И если этот «старый», «исторпче-
1 См. в этой связи мою статью «Черт Адриана Леверкюна».—
«Вопросы литературы», 1965, № 9.
2 См.: Th. W. A d о г п о. Philosophie der neuen Musik. Tübingen,
1949. Далее цит. по изд.: Fr. a. M., 1968.
3 Th. W. Adorno. Minima moralia. Reflexion aus beschädigten
Leben. Berlin und Frankfurt. 1051 Далее пит. пп пап. 1962 г.
4 См.: Ibid., S. 8.
146
ски осужденный» субъект еще существует «для себя», то
его уже нет больше «в себе»; «ничтожность субъекта,
которую продемонстрировали концентрационные лагеря»,
распространяется теперь «на саму форму
субъективности», ибо «старый субъект» погиб без того, чтобы на его
месте «возник новый»1. Адорно не видит перспективы
возникновения «нового субъекта» (хотя и не исключает
ее в принципе), а потому во всем ему видится только
одно и то же: «упраздняющий жест»2— «жест»,
упраздняющий всякую «субъективность» и «индивидуальность»
(понятия, которые не дифференцируются в адорповском
теоретическом сознании).
Что же касается истинного искусства (и литературы),
то оно, согласно Адорно, неизменно представало как
адекватное воспроизведение ситуации человека в обществе,
всегда стремилось быть правдивым голосом того в
человеке, что подавлялось этим обществом, хотя и сохраняло
свою жизнь в глубинах человеческой природы — как
мечта о «доиндивидуальном» прошлом и обетование «пост-
индивидуальпого» будущего. Таким образом, искусство, в
адорновском изображении, оказывается чем-то вроде
шпиона-двойника: с одной стороны, оно представляет
интересы индивида («буржуазного», ибо другого Адорно не
знает) против «позднекапиталистического общества», а с
другой — интересы («дойн диви дуального») природного
начала, задавленные в индивиде,— против него самого.
Эти «интересы» не всегда совпадают: ведь «доиндивиду-
альная» природная стихия так же противостоит
«принципу индивидуации», как и «позднекапиталистическое
общество», хотя, так сказать, с другого конца.
Отсюда — двойственная позиция искусства, а верпсе,
самого Адорно — истолкователя истины о человеке,
являемой им миру: с одной стороны, оно вроде и оплакивает
«буржуазного индивида», взятого в момент его падения,
но, с другой стороны, не может не чувствовать в этом
падении возмездия за грехи «индивидуации» (то есть
опять же «буржуазности») против природы и всего
природного. Вот почему в адорновском изображении
«ситуации человека» (и искусства, «моделирующего» эту
ситуацию в своей форме и структуре, в своем «теле») так
трудно отделить «объективно-социологическую» констатацию
1 См.: Ibid., S. 8.
2 См.: Ibid., S. 9.
147
факта от тайного, не всегда признающегося даже себе
самому, чувства «рессентимента», мстительного
удовольствия по поводу происходящего, а последнего — от
негодующих филиппик по поводу «обезличивающих» тенден-^
ций «массового общества».
Здесь же коренятся причины еще одной
двусмысленности концепции «Философии повой музыки», автор
которой восхваляет в качестве высших достижений
искусства XX века те самые его тенденции, которые — по
свидетельству самого же Адорно! — являются
самоубийственными, свидетельствующими о том, что искусство
«кончает» с собой, ибо, по мнению «франкфуртского»
мыслителя, только таким образом искусству удается наиболее
адекватным образом «моделировать» индивида, взятого в
момент его падения, в момент убийства его «позднекапи-
талистическим обществом». «Во имя человечности,—
пишет Адорно, истолковывая додекафонию Шенберга,—
искусство должно превысить бесчеловечность мира своей
собственной бесчеловечностью» К Как будто общее
количество «бесчеловечности» в «позднекапиталистическом
обществе» уменьшится от того, что мы начнем
преследовать последние остатки человечности даже там, где они
(по недосмотру властей предержащих) все еще сохраняли
свою жизнь — в сфере гуманистических идеалов,
одушевляющих искусство!
Между тем этот (весьма сомнительный) ход мысли
совсем не случаен для автора «Философии новой
музыки»; он со всей непреложпостыо вытекает из основного
адорновского тезиса, согласно которому «старый
субъект» — умер, новый — не появился, а искусству,
следовательно, ничего не остается как предаваться разоблачи-
тельству: вновь и вновь демонстрировать, что даже там,
где субъективность еще сохранилась, она существует
лишь «для себя», а не «в себе» и потому заслуживает
лишь развенчания как «исторически изжитая» видимость,
иллюзия, фальшь и т. д.
Как видим, в отличие от консервативно настроенных
представителей элитарной мысли, радикалистски
ориентированный Адорно полагает, что «аннигиляция»,
уничтожение субъективно-индивидуального начала, совершается
не только в «массовой», но также и в «элитарной»
художественной культуре. «Насилие, которое совершает над че-
1 Th. W. A d о г п о. Philosophie der neuen Musik, S. 126.
148
ловеком массовая музыка,— констатирует Адорно,—
продолжает жить и на противоположном социальном
полюсе — в музыке, которая освобождается от человека...
Тотальная рациональность музыки — это ее тотальная
организация... Новый порядок двенадцатитоновой техники
виртуально погашает субъекта... Радикализм, с которым
техническое произведение искусства разрушает
эстетическую иллюзию, в конечном счете превращает в иллюзию
техническое произведение искусства... В реальности
техника должна служить целям, которые находятся по ту
сторону ее собственной связи. Здесь, где такие цели
отпадают, техника становится самоцелью и заменяет
субстанциальное единство произведения искусства
простым единством «поступательности». Такое перемещение
центра тяжести можно приписать тому, что
фетишистский характер массовой музыки распространился как
па авансированную, так и на «критическую»
продукцию» К
Но тогда возникает вопрос: сохраняет ли свой смысл
элитарная критика, которой Хоркхаймер и Лдорно
подвергли «массовую культуру» («массовое искусство») уже
в «Диалектике просвещения»; и в чем суть адорновского
противопоставления «истипного» («критического» и в
конечном счете опять-таки элитарного) искусства —
«неистинному» (= «массовому»)? Ведь и в том и в другом
случае одинаково исчезает индивидуальность и
субъективность, к которым неизменно апеллировали
консервативно ориентированные элитарные концепции, когда
возникал вопрос о критериях, позволяющих отличить
«элиту» от «массы», равно как и соответствующие формы
культуры и искусства. В этом пункте у Адорно трудно
найти однозначный ответ на возникающие недоумения;
здесь он наиболее туманен, поскольку сам же был
вынужден признать утрату основы, на которой возможно было
бы провести четкую грань между этими культурными и
художественными формами. Поэтому грань, которую
проводит сам Адорно, становится все менее уловимой; в
конце концов все сводится к тому, что в «массовом искусстве»
мы имеем дело с полной аннигиляцией
субъективно-индивидуального начала, а в «элитарном» — с процессом такой
аннигиляции, то есть с ситуацией, когда
индивидуальность еще не исчезла совсем, а находится «в моменте»
1 См.: I bid., S. 68-69.
149
исчезновения (каковой опа и являет миру в своих
созданиях).
Иначе говоря, если «массовый человек» представляет
собою полную утрату всякой индивидуальности, то
«критический» художник (так же как и любой другой
критически мыслящий интеллектуал, в особенности же —
сторонник франкфуртской «критической теории общества»)
олицетворяет собою образец человека, балансирующего на
грани «между» индивидуальностью и ее отрицанием.
Причем единственным доказательством того, что этот
последний не утратил еще своей индивидуальности (и,
следовательно, не превратился еще в «массового
человека»), является его своеобразная критическая позиция,
заключающаяся в универсальной разоблачительстве,
пафосом которого является демонстрация повсеместной утраты
индивидуально-личностного начала в «позднебуржуазном
мире».
Только демонстрируя акт творческого самоубийства,
«критический» художник может продемонстрировать свою
способность к творчеству в условиях «позднекапиталисти-
ческой цивилизации». Только повествуя о бессилии своей
творческой индивидуальности, только разоблачая ее
пустоту и бессодержательность, «критический» художник
(как и любая другая «критически мыслящая»
индивидуальность) может утвердить эту самую индивидуальность,
доказав, что она не упразднена окончательно, хотя бы
потому, что находится «в моменте» такого упразднения1.
Хотя бы потому, что, как бы перехватывая инициативу
у сил, направленных против нее, она — «свободно!» —
совершает но отношению к самой себе то, что и так бы
совершилось против нее, по совершилось бы с фатальной
необходимостью.
Такими художниками Лдорио считал в музыке —
Шенберга, Берга, Веберна; в живописи — Пикассо, в
художественной прозе — Кафку, в драматургии — Бекке-
та. В их искусстве, по его убеждению, «моделируется»
неприкрашенная истина общественного состояния,
высказывается горькая правда о положении человека в
современном «позднекапиталистическом» обществе.
1 В несколько преобразованном виде мотив этот дошел и до
Федерико Феллипп, получив отражение в его фильме «872»,
который повествует о творческой иеудаче художпика, «преодоленной»
хотя бы уже тем, что о ней — сказано.
150
Современное искусство, если оно хочет быть
общественной истиной, а не идеологией, должно — по Лдорно —
сохранять постоянное напряжение между собой и
публикой, подверженной растлевающему влиянию «культурной
индустрии». Прошли те времена, когда искусство могло
быть истиной, не порывая связей с публикой, не разрывая
всех и всяких «коммуникаций». В эпоху «согласия масс
с аппаратом господства» \ которое принес с собой
государственно-монополистический капитализм, разрыв
искусства с обществом, с публикой — его тотальное
отчуждение от всего человеческого — единственный способ,
каким оно еще может служить людям, каким оно может
осуществить свою просветительскую миссию, «невзирая
на коварную наивность культурной индустрии» 2.
«Мера общественной истинности музыки сегодня,—
пишет Адорно,— в том, насколько она... выступает в
противоположность обществу, в котором она возникает и
существует, насколько она... становится «критической».
В иные времена, например, в эпоху, которую любят
называть эпохой подымающейся буржуазии, все это было
возможно и без того, чтобы ради этого разрывалась
социальная коммуникация. Девятая симфония, призванная
провозгласить единство того, что мода строго разделила,
все-таки нашла свою публику. Между тем теперь
существует совершенно непосредственное соотношение между
общественной изоляцией музыки и строгостью и
объективностью ее общественного содержания» 3.
Адорно требует от современной музыки (и
современного искусства вообще) радикальной общественной
изоляции, чтобы она могла уподобиться той «абсолютной
монаде», каковой стал отчужденный индивид в
«организованном обществе»; только в этом случае в эстетической
сфере станет возможным адекватное постижение
«микрокосмоса» одинокого человека эпохи
государственно-монополистического капитализма. Ибо одиночество стало
всеобщим явлением: одиночество жителей больших городов,
которые уже «больше ничего не знают друг о друге» 4.
И речь, стало быть, идет ныне об общественном характере
одиночества и — соответственно — о том, что «одинокая
1 Th. W. A d о г п о. Philosophie der neuen Musik, S. 28.
2 I b i d., S. 22.
3 Th. W. Adorn о. Klangenfiguren. Fr. a. M., 1950, S. 29.
4 Th. W. Adorno. Philosophie der neuen Musik, S. 50.
151
речь» говорит сегодня гораздо болыше об общественной
тенденции, чем речь «коммуникативная». Вот почему
Адорно приветствует Шенберга, который — по его
убеждению — «натолкнулся на общественный характер
одиночества, так как развил его до предела» 1.
В то же время Адорно подчеркивает, что это —
одиночество совершенно нового типа, и потому его пи в коем
случае не следует путать с «индивидуализмом раннебур-
жуазной фазы». Последний был связан с определенной
степепыо субъективной свободы индивида, тогда как
одиночество «поздпебуржуазпой фазы» целиком и
полностью исключает всякую свободу, ибо оно — продукт
«тотального отчуждения»: «...Позиция абсолютной монады
в искусстве — двойственная: это — восстание против
дурного (то есть отчужденного.— Ю. Д.) обобществления и
готовность к еще худшему (то есть к еще более
отчужденному.— Ю. Д.) обобществлению» 2.
Процесс общественной атомизации, осуществляемый
капиталистическим обществом, и — параллельно этому —
подчинения индивида государственно-монополистической
организации, насквозь «рационализированной»
(калькулированной) «тотальности», находит, согласно Теодору
Адорпо, свой аналог в развитии новейшего искусства в
XX веке, в особенности — музыкально-эстетической
эволюции создателя двенадцатитоновой системы — Лрнольда
Шенберга. Уже в изречении героя вагперовских
«Мейстерзингеров» — Ганса Сакса, согласно которому
композитор сам полагает правило самому себе и затем следует
ему, заключалось, по мнению Адорно, смутное ощущение
исторического «номинализма» современного человека,
которому не задан заранее «никакой субстанциально
утвержденный художественный порядок» 3. Казалось бы, это
должно было свидетельствовать о свободе художника,
освободившегося от всяких «правил», кроме тех, которые
он дает самому себе,— от всего внешнего его
индивидуальности. Однако уже тогда эта свобода была в
значительной мере мнимой, так как правило, самостоятельно
устанавливаемое художником, было таковым только но види-
1 I b i d., S. 46. Здесь — социологическая интерпретация
экзистенциалистской проблемы одиночества человека предстает как
симптом перехода западной мысли к новому этапу: от экзистеп-
цналняма к «неомарксизму».
2 Ibid., S. 51.
3 Th. W. A d о г п о. Klangenfiguren, S. 22.
152
мости: в действительности же оно могло только отражать
«объективное состояние материала и форм».
Приблизительно так же обстояло дело и с той свободой индивида,
которую провозгласило буржуазное общество.
С течением же времени — уже в нашем веке — вагне-
ровское положение относительно правила, которое
художник ставит сам себе, раскрыло свой роковой аспект:
оказалось, что ни одно правило не подавляет художника
более, ни одно правило не является более «репрессивным»
по отношению к нему, чем то, которое он ставит сам себе.
Ибо речь идет о правиле, которое проистекает из
человеческой субъективности, из человеческой случайности и
партикулярности, но которое тем не менее претендует
на всеобщее, универсальное, абсолютное значение: ведь
оно — «правило». И, стало быть, отдать себя во власть
этому правилу — это все равно что отдаться во власть
случая, рока, судьбы. Причем, как опять-таки
подчеркивает Адорно, как раз такой характер принимает власть
«организованного общества» над человеком.
Именно эту ситуацию и воспроизводит, согласно
Адорно, двенадцатитоновая техника Шенберга.
«Двенадцатитоновая музыка, которая отказывается от всякого в себе
сущего смысла в музыкальном произведении, равно как и
от всякой иллюзии, обрабатывает музыку по схеме
судьбы» *,— пишет Адорно. «Двенадцатитоновая музыка есть
поистине судьба музыки. Она сковывает музыку,
освобождает ее. Субъект повелевает музыкой благодаря
рациональной системе, становясь при этом жертвой
рациональной системы» 2.
Но, спрашивается,— для чего все это? Для чего эта
«организованная бессмыслица», моделирующая
положение индивида в условиях
государственно-монополистического капитализма, причем моделирующая так, что об этом
в состоянии догадаться только немногие знатоки и
теоретики музыки, тогда как остальные просто ничего не
понимают во всех этих двенадцатитоновых имитациях
«судьбы»? Адорно отвечает: это единственный способ борьбы
против государственно-монополистической организации
общества, против «тотального отчуждения» человека.
«Истина новой музыки,— пишет он,— состоит, по-видн-
мому, в том, что она посредством организованного отсут-
1 Th. W. A d о г п о. Philosophie der neuen Musik, S. 67.
2 Ibid.
153
ствия смысла опровергает смысл организованного
общества» 1. Адорно не видит иных процессов, которые вели
бы к преодолению «тотального отчуждения» человека:
сама «капиталистическая рационализация» могла бы, по его
убеждению, прогрессировать до бесконечности; что же
касается самих людей, то с помощью «коварной
наивности» культурной индустрии им вполне возможно
втолковать, что «отчуждение» идет им же на пользу. Отсюда —
надежда на искусство, и только на искусство.
* * *
Если попытаться рассмотреть адорновскую (и хорк-
хаймеровскую) концепцию культуры и искусства с точки
зрения «мифа» о человеке, лежащего в ее основе, то мы
заметим в ней черты, роднящие ее с фрейдистским
«мифом», правда, переработанном на «неомарксистский»
манер, как это вообще характерно для франкфуртцев. При
этом — симптоматично: фрейдистский мотив, поначалу
характеризовавший скорее «подтекст» рассуждений Хорк-
хаймера и Адорно, чем «текст», постепенно все более
отчетливо выявляется и в этом последнем. Причем
происходит это как раз по мере того, как
государственно-монополистический капитализм в наиболее развитых
странах Запада конституируется в форме «общества
потребления».
Вот почему есть необходимость предварить анализ
«лево»-фрейдистского «мифа», лежащего в основе
франкфуртской концепции культуры и искусства, общей
характеристикой связи между «левым» фрейдизмом, с одной
стороны, и «обществом потребления» — с другой.
* Ibid.. S. 26.
Глава вторая
«ПРОРЫВ» В ДОИНДИВИДУАЛЬНОЕ СОСТОЯНИЕ
1. «ЧЕЛОВЕК ВОЖДЕЛЕЮЩИЙ»
(«Левый» фрейдизм и «общество потребления»)
Если попытаться осмыслить социологически
«фрейдистский бум», происшедший в культуре
капиталистического Запада после второй мировой войны (и не
исчерпавший своего импульса до сего времени), то первое, что
при этом бросится в глаза,— это своеобразное
соотношение между возрастанием (и в то же время определенной
внутренней трансформацией) интереса к учению Фрейда,
с одной стороны, и углублением — и универсализацией —
тенденций, ведущих к тому, что западные социологи
назвали «обществом потребления»,— с другой.
Можно (и нужно) критически относиться к самому
понятию «общество потребления», коль скоро тенденции,
им обозначаемые, толкуются так, будто речь идет о
коренном преобразовании государственно-монополистического
капитализма и превращении его в нечто принципиально
новое, утрачивающее черты капиталистического общества.
Но нельзя не отнестись со вниманием к тем западным
социологам и экономистам, которые стремятся
зафиксировать с помощью этого понятия ряд новых явлений,
возникших в лоне государственно-монополистического
капитализма после второй мировой войны,— явлений, которые,
не изменив природы капиталистического общества, в то
же время свидетельствовали о существенном углублении
его противоречий: об их крайнем усложнении и обретении
ими качественно новых черт и особенностей. Эти
экономисты и социологи, говоря об «обществе потребления»,
155
имеют в виду прежде всего тот факт, что резкое
возрастание сферы массового потребления, происшедшее в
развитых капиталистических странах после войны (во второй
половине пятидесятых — начале шестидесятых годов),
поставило перед современным капитализмом ряд новых
проблем хозяйственного, социально-политического и
культурно-идеологического порядка, которые до сих пор не
получили сколько-нибудь удовлетворительного разрешения.
В связь с этими проблемами (по крайней мере,
некоторыми из них) мы и хотели бы поставить нижеследующее
рассмотрение «фрейдистского бума» пятидесятых —
шестидесятых годов и — что нас будет интересовать в
первую очередь — возникшего в его лоне «левого» фрейдизма.
Как в нашей советской1, так и в зарубежной2
литературе, касающейся агрессивно-потребительского
устремления, пробившего себе дорогу в современном западном
обществе, уже отмечалось, что вместе с этим
устремлением в буржуазном сознании выдвинулся на авансцену
принцип, который прежде присутствовал лишь на заднем плане
этого сознания, а потому оставался в тени. Речь идет о
гедонистическом «принципе удовольствия», если взять его
в наиболее четкой, а именно — фрейдовской
формулировке, фиксирующей суть, «ядро» всякого потребительства.
Расшифровывая содержательно этот принцип3, Фрейд
говорит обычно о стремлении индивида (он считает это
стремление «извечным», «изначальным») извлечь
максимум наслаждений из каждого участка своего тела, из
каждого органически-телесного отправления; на
обывательском же языке этот принцип расшифровывается
категорическим требованием: «Бери от жизни все, что можешь!»
Само собой разумеется, выдвижение «принципа
удовольствия» на передний план не могло происходить
бесконфликтным образом, так как это ведь грозило
определенными опасностями для другого принципа, который до
сих пор безраздельно господствовал в буржуазном
сознании: «принципа производительности» или, если
сформулировать его более критическим образом, принципа
«самоцельности производства», «производства ради
производства». Ибо не так уж трудно заметить, что эти два принци-
1 В этой связи см., в частности, и мою работу «Мистика
потребительского сознания» («Вопросы литературы», 1973, № 5).
2 См.: D. Bell. The cultural contradictions of capitalism. N. Y.,
1976.
3 S. F г e u d. Jenseits des Lustprinzips.
156
па в известном смысле исключают друг друга; если один
из них ориентирует человека на то, чтобы он трудился,
трудился и еще раз трудился (таков важнейший
императив буржуазно-протестантской «хозяйственной этики»,
этики индивидуального труда и личной ответственности),
то второй призывает его потреблять, потреблять и еще раз
потреблять (лозунг того буржуазного персонажа, которого
еще молодой Маркс назвал «евнухом промышленности»).
Л чем больше трудится человек, тем меньше времени и
энергии у пего остается, чтобы предаваться культу
потребления, и наоборот: чем больше времени и энергии уходит
у него на погоню за разнообразными «удовольствиями»,
тем меньше того и другого может оп отдать
продуктивному труду.
Эти два принципа могли более или менее мирно
сосуществовать в общественном сознании капиталистического
Запада лишь до тех пор, пока один из них — а именно
принцип «самоцельности производства» — в той или иной
форме признавался главенствующим, тогда как другой
(«принцип удовольствия») рассматривался как
подчиненный; до тех пор, пока в обществе господствовал
протестантский «дух серьезности», который вполне адекватно
выражается и народной мудростью: «делу —время,
потехе — час».
По мере того как государственно-монополистический
капитализм Запада обнаружил тенденцию
конституироваться в форме «общества потребления», эта ситуация
радикально менялась; наступал конец мирного
сосуществования «принципа производительности» и «принципа
удовольствия», поскольку второй, вырвавшись на
авансцену буржуазного сознания, претендовал теперь на ту же
абсолютную значимость, что и первый: а там, где
сталкиваются два «абсолюта», мира между ними быть не может.
Таким образом, во второй половине XX века буржуазное
сознание дало одну из самых глубоких своих трещин;
функционер капиталистического производства раскололся,
вступив в безвыходное противоречие с самим собою: в
качестве «потребителя» он противостал самому. себе как
«производителю», и поскольку каждая из этих ипостасей
предъявляла абсолютные требования к его «я», ему явно
грозило раздвоение личности. И, кстати, совсем не
случайно нарастание на Западе тенденций гипертрофированного
потребительства сопровождалось, с одной стороны, ростом
психических заболеваний, а с другой — скачкообразным
157
возрастанием интереса к психопатологии вообще и
фрейдовскому психоанализу — в частности.
Приглядимся, однако, более внимательно к общему
процессу самоутверждения «принципа удовольствия»
(взятого со всеми его «империалистическими» устремлениями)
в буржуазном сознании XX века; посмотрим, почему
именно фрейдизм оказался наиболее подходящей
идеологической формой этого самоутверждения.
«Принцип производительности», как о том
свидетельствуют исследователи «духа капитализма», начиная
Максом Вебером и кончая Д. Беллом, апеллировал к
«модели» человека, понятого как свободная, нравственно
ответственная и рационально ориентированная личность: как
«я» («самость») —духовное, морально-разумное и
разумно-моральное начало, подчиняющее себе все телесные
влечения и склонности и допускающее их осуществление
лишь в той мере, в какой это отвечает его основному
устремлению: стремлению реализовать себя в
деятельности, в труде — в конечном счете в накоплении капитала;
капитал же, в свою очередь, рассматривался и как
источник благосостояния, и как источник уважения
окружающих, коль скоро они расценивали этот капитал как
воплощение энергии, деловитости, бережливости и прочих
этических качеств его обладателя.
В этой «модели», а она-то и легла в основу буржуазной
идеологии, взятой в ее «классической» форме (то есть в
форме, соответствующей восходящему капитализму, хотя
сохраняла свою идеологическую роль она и в более
поздние времена), на первом месте стоят волевые качества
характера, требующие от человека определенного
самоограничения, отказа от немедленного удовлетворения
влечений, суровой и жесткой целеустремленности и т. д.,—
словом, всего того, что у М. Вебера1 фигурировало под
термином «внутримирской аскезы», без которой действительно
невозможно самоутверждение новой социальной формы
жизни. К этим качествам до сих пор взывает буржуазная
идеология, когда имеет дело с «производителями» —
активными функционерами капиталистического общества;
правда, эти призывы оказываются тем менее
эффективными, чем более очевидным становится несоизмеримость,
вопиющий разрыв между индивидуальным трудом, личной
1 См.: М. Weber. Die protestantische Ethik, Bd-e I—II.
München, 1968.
158
инициативой, энергией, расчетливостью и пр., с одной
стороны, и тем, что на Западе называют нынче
«корпоративным капитализмом» — с другой. Иначе говоря, уже
безотносительно к тому давлению, которое «принцип
производительности» (вся буржуазно-протестантская
«хозяйственная этика» вообще) испытывает со стороны
противостоящего ему «принципа удовольствия», этот
первый принцип оказывается расколотым в самом себе:
сегодняшний американец, если взять страну, где этот принцип
разрушен в наименьшей степени, уже очень мало верит в
то, что его индивидуальная воля и целеустремленность, его
личная бережливость и расчетливость откроют ему
перспективу стать капиталистом, «сильным мира сего». И уже
одно это обстоятельство не могло не способствовать
известной расчистке почвы для самоутверждения принципа,
противоположного «протестантскому духу
капитализма»,— «принципа удовольствия».
Принцип этот взывает к «модели человека»,
диаметрально противоположной буржуазно-протестантской, хотя,
вопреки тому, что думали «лево»-радикалистски
настроенные социологи, это обстоятельство отнюдь не превращало
его в «антикапиталистический», а тем более — в
«коммунистический», ибо это — также принцип капитализма, но
капитализма, обнаружившего тенденцию
конституироваться в качестве «общества потребления». Если взять эту
«модель» как в изображении тех, кто по меньшей мере
настороженно относится к «принципу удовольствия»
(Д. Белл), так и в изображении тех, кто стали его
восторженными пророками (Г. Маркузе, Н. Браун, П. Гудмен,
Т. Роззак), то можно будет выделить следующие самые
общие ее черты. В основе этой модели — апелляция не к
нравственно-духовному (морально ответственное и трезво-
рациональное «я»), а наоборот: к
«эстетически-чувственному» и даже более того: «брутально»-телесному началу
человека; это начало нельзя даже назвать личным,
индивидуальным: оно скорее безлично, анонимно — это
фрейдовское «оно», влекущееся к максимуму наслаждений в
единицу времени. Ибо только оно, это телесно-чувственное,
вожделеюще-«страстное» начало может быть истинной
субстанцией самодовлеющего влечения к удовольствиям
(удовольствиям — любой ценой, во что бы то ни стало),
поскольку все «привходящие» соображения — будь то
нравственного или практически-рационального
характера — могли бы лишь воспрепятствовать наслаждению.
159
Если первая, буржуазно-протестантская «модель»
отдает все свои предпочтения активно-волевым и морально-
разумным качествам человеческой личности, то вторая,
гедонистически-потребительская «модель» берет человека на
том уровне, где он уже не является личностью,
отвечающей за себя и поступающей, как говорится, в здравом уме
и трезвой памяти: в рамках этой «модели» он столь же
«безличен», сколь и безответствен: здесь он «одержим»
страстями (делающими его «невменяемым» точно так же,
как, согласно средневековому воззрению, утрачивал свое
«я» человек, одержимый дьяволом, что, впрочем, не
освобождало его от ответственности). Таким и хотел бы видеть
человека «евнух промышленности», поскольку тогда он и
в самом деле был бы в полной его власти.
Однако второй принцип — «принцип удовольствия»,
если взять его в той форме, в какой он допускался и
культивировался «обществом потребления», также был
внутренне раздвоен: раздвоен смутным сознанием (одинаково
владевшим и «евнухом промышлености», и «человеком
потребляющим») того, что он не может быть реализован
целиком и полностью — в «неурезанном», так сказать,
виде, поскольку «безграничное» потребление предполагает
столь же «неограниченное» производство.
Как видим, оба принципа, борющиеся за «абсолютную
власть» в буржуазном сознании второй половины XX века,
оказываются одинаково противоречивыми (хотя и в
разных отношениях и на различных основаниях). Однако в
контексте нашего рассмотрения интересна не эта антино-
мичность сама по себе; важна самая общая идеологически-
мировоззренческая форма, в которой она осмысляется,
важны общие тенденции, характеризующие теоретическую
мысль, что стремится как-то «разрешить» их.
Если мы с этой точки зрения посмотрим на два
описанные нами устремления современного западного сознания,
то нам бросится в глаза одно многозначительное
обстоятельство: эти устремления таковы, что они вполне
адекватно могут быть описаны с помощью фрейдистской теории:
не случайно одно из важнейших понятий Фрейда —
«принцип удовольствия» — было прямо использовано нами
при описании одного из этих устремлений, тогда как
второе — «принцип реальности» — оказывается очень
близким по своему содержанию тому, что в нашем описании
фигурирует под названием «принципа
производительности», «самовозрастающего производства», «производства
160
ради производства» и т. д. Фрейдизм оказывается
настолько подходящим аппаратом понятий и представлений,
позволяющим вполне адекватно выразить то, что совершается
в буржуазном сознании в момент, когда в нем начинается
открытое противоборство двух описанных нами
устремлений, что его и в самом деле трудно обойти при
характеристике соответствующих явлений, правда — взятых на
уровне описания, но ни в коем случае не объяснения.
В сказанном — одна из весьма существенных причин
того, почему западные философы и социологи, психологи
и публицисты, писатели и художники все чаще и чаще
обращаются к учению Фрейда («заново» открывая его для
себя) как раз по мере углубления и «институционализа-
ции» на Западе тенденций «общества потребления». Для
«фрейдистского бума» пятидесятых — шестидесятых годов
характерно то, что это было не первое обращение
западного сознания к учению Фрейда. Первый такой «бум»
вызвали фрейдовские работы еще в двадцатые годы, но тогда
интерес к ним имел «элитарный» характер, который стал
«массовым» лишь тридцать лет спустя,— факт,
симптоматичный именно в социологическом отношении: как
свидетельство того, что гедонистически-потребительские
устремления, которые в двадцатые годы характеризовали лишь
узкие элитарные круги капиталистического Запада (факт,
о котором свидетельствует Белл, опирающийся на
значительную литературу)1, десятилетие спустя после второй
мировой войны приобрели широкое массовое
распространение.
Характеризуя значение Фрейда уже на фоне первого
«фрейдистского бума», многочисленные авторы, писавшие
о фрейдизме, констатировали, что оно (это значение)
было связано, во-первых, с тем, что создатель психоанализа
снял «табу» с обсуждения сексуальной проблематики,
которое раньше нуждалось в многообразных эвфемизмах,
иносказаниях и пр., а теперь освободилось от них.
Во-вторых,— что, оказывается, довольно тесно связано с
первым»,— Фрейд был одним из тех, кто поставил вопрос
о смягчении (и даже отмене) некоторых нравственных,
культурных и т. д. запретов, «табуировавших» некоторые
сексуальные проявления, до него считавшиеся половыми
извращениями. В-третьих,— и это, быть может, самое
1 См. упоминавшуюся уже книгу Д. Белла о культурных
противоречиях капитализма.
6 Ю. Давыдов
161
важное в плане нашего рассмотрения,— Фрейд
решительно ограничил сознание, но уже не для того, чтобы
«освободить место вере», как это сделал протестантский
мыслитель Кант, а для того, чтобы предоставить освободившееся
место «принципу удовольствия», гедонистическому
устремлению вообще, хотя он тут же попытался поставить
его в определенные рамки. В-четвертых, определив сферу
«бессознательного» как область, где безраздельно
властвует «принцип удовольствия», Фрейд открыл новую
перспективу для социально-утопического мышления: оно могло
искать отныне свою «обетованную землю» не в греческой
античности и не в христианском средневековье, не у
древних германцев и не у счастливо припозднившихся
полинезийцев, да и вообще ни в прошлом, ни в будущем, а, так
сказать, «здесь и теперь» — в актуально присутствующем
«бессознательном» каждого индивида; обрести свою
Утопию каждый мог, не покидая своей постели: размышляя о
том, что ему приснилось, с помощью фрейдовского
«Толкования сновидений». В-пятых,— что можно считать
развитием и углублением четвертого момента,— Фрейд
драматизировал сферу «частной жизни» обыденного
представителя «средних классов» (к которым принадлежал и он
сам), подняв, возвысив ее до уровня античной трагедии:
«Эдипов комплекс», спроецированный Фрейдом в
«подсознательную» область человеческой души, давал
возможность каждому переживать свою душевную жизнь как
высокую трагедию,—для этого, как говорится, не нужно
было даже ударить пальцем о палец.
Действительные трагедии, в которые было ввергнуто
человечество с приходом к власти гитлеровцев, нацистские
лагеря смерти и ужасы второй мировой войны,— все это
на долгие годы затмило постельно-комнатные драмы, па-
тетизированные с помощью фрейдовских «комплексов»,
переносивших в мещанский быт античные мифологические
ассоциации. Но в послевоенный период, по мере того, как
трагедии, разыгрывавшиеся на полях сражений, вновь
начали сужаться до размеров среднебуржуазного дома или
даже двуспальной постели,— а этому-то как раз и
способствовала идеология «общества потребления»,— фрейдизм
вновь вошел в моду и даже стал брать реванш: то, что
совсем недавно совершалось на поле битвы, фрейдисты
пытались истолковать, взывая к схемам «Эдиповой
ситуации»: отец — мать — сын или мать — отец — дочь,
намекающим на кровосмесительные «притяжения». Только те-
162
перь игра на аналогичных намеках перестала быть
элитарно-аристократическим занятием немногих, с помощью
средств «массовой коммуникации» к ней были приобщены
и «многие, слишком многие», что не могло в конце концов
не привести и к некоторым содержательным,
теоретическим трансформациям в лоне фрейдизма.
Разумеется, средства «массовой информации», взятые
сами по себе, отнюдь не повинны в самом факте
возникновения моды на фрейдизм в пятидесятых — шестидесятых
годах. Социальной основой, на которой взросло
фрейдистское умонастроение, стало именно «общество
потребления» наряду с «сексуальной революцией», вызванной им к
жизни — как бы в осуществление
«сексуально-революционных» утопий, возникших под влиянием фрейдизма еще в
двадцатые годы. Причем речь идет здесь не о той —
идеологизированной и мистифицированной — «сексуальной
революции», о которой так много шумели «новые левые»
экстремисты в шестидесятые годы, тревожа тень «сексу-
алистов-утопистов» двадцатых годов. Речь идет о менее
шумной, но гораздо более реальной и основательной
«революции», которая произошла в половой морали и
«сексуальных обычаях» капиталистического Запада в
сороковые — пятидесятые годы (а в США это началось еще
раньше) под влиянием скачкообразно растущей
урбанизации, с помощью массового производства легковых
автомашин и дешевого кредита, позволяющего каждому
приобрести эту автомашину в рассрочку, и, конечно же, не
без содействия средств «массовой коммуникации»,
обеспечивавших широчайшую рекламу — связанному со всем
этим — новому образу жизни, влекущему за собой
«либерализацию» сексуальных отношений людей.
И в самом деле: многомиллионные города, задававшие
«стандарты» и городам помельче, принудительным
образом увеличивали — до невероятной цифры — число
человеческих контактов, перемешивая в этом вавилонском
столпотворении не только социальные и национальные, но
также и возрастные группы; легковая машина,
обеспечивавшая ее владельцу относительную свободу не только
передвижения в пространстве, но и дополнительные
возможности ускользания от морального контроля семьи и
ближайшего окружения, а в случае нужды превращаемая в
не слишком удобное, но достаточно изолированное
пространство для адюльтеров,— все это, как известно, привело
на Западе к далеко идущему перевороту в сфере интимных
6*
163
взаимоотношений между полами: здесь произошла
радикальная «переоценка ценностей», которую при желании
можно было бы назвать и «революционной» (чего,
впрочем, не торопился делать «евнух промышленности», хотя
он и не мешкал с тем, чтобы подвести под эту
«революцию» промышленную базу, работающую по обеспечению
«сексуального переворота» соответствующим
ширпотребом). Что же касается кино и телевидения, то они
поспешили поведать «городу и миру» о происшедших
изменениях, донеся весть о них до самых отдаленных
медвежьих углов: дабы и там не отставали от новшеств,
до которых «допрогрессировали» наконец столичные
города.
Но, пожалуй, самое главное и основное, что принесло
с собой общество удешевленных товаров, дешевого
кредита и всемерно стимулируемого потребительского спроса в
сферу морального сознания
государственно-монополистического Запада,— это культ чувственности,
осязаемо-телесного наслаждения, который, естественно, не мог не
обернуться культом «сексуального удовольствия»,
сексуальности вообще, ибо в нем-то как раз и достигал своей
кульминации гедонистически-потребительский культ
телесно-чувственного, ставшего объектом почти
мистического поклонения именно потому-—и только потому, что
оно... инструмент: инструмент добывания всяческих
удовольствий. Как свидетельствует Д. Белл в своей книге
«Культурные противоречия капитализма», в
«потребительском обществе», не без основания склонном именовать
себя также и «обществом вседозволенности»,
традиционный буржуазный мотив приобретательства нашел свою
столь же неожиданную, сколь и закономерную
кульминацию в сексе.
При всей внешней парадоксальности связи между
приобретательством, которое издавна покоилось на
экономии и «сдержанности», с одной стороны, и сексом,
который в глазах традиционно настроенного
приобретателя-капиталиста всегда был источником всяческого
расточительства,—с другой, в ней и в самом деле есть своя
закономерность. Как только сын
приобретателя-капиталиста, разочаровавшийся в возможностях «догнать и
перегнать» своего отца в гешефте (а главное — и не склонный к
этому в силу размягченности воли и утраты веры в идеалы
буржуазно-протестантской этики), вступает на путь
погони за чувственными удовольствиями, он — неожиданно
164
уподобляясь здесь своему родителю — начинает искать
наиболее «весомые» и «ценные» из них, то есть тс
удовольствия, которые могут дать ему максимум наслаждения
в минимальный отрезок времени,— и таковыми для
вульгарного гедониста, разумеется, оказываются удовольствия
сексуального порядка.
Таким образом, в сфере
потребительски-гедонистически ориентированной чувственности «сексуальные
удовольствия» оказываются мерой всех иных чувственпо-те-
леспых удовольствий, то есть играют ту же самую роль,
что играют деньги в хозяйственно-экономической сфере
буржуазного общества. И, кстати, эти— «натуральные» —
деньги гедонистической чувственности подвержены тем
же самым инфляционным бурям (вплоть до их полного
обесценения), которым подвержены американский доллар,
английский фунт стерлингов или французский франк. Так
что и здесь приобретателю-гедописту приходится «играть
на повышение» курса «сексуальных удовольствий»,
сдабривая их возрастающей долей садизма, мазохизма и
прочих извращений, призванных «осерьезнить» сильно
подешевевший секс, связав его с опасностью и риском. Как
видим, «культ Оргазма», пришедший на смену «культа
Богатства» * (но не отменивший его, как это кажется подчас
буржуазным социологам, а лишь несколько потеснивший
и дополнивший его), в очень многих отношениях
начинает смахивать на этот последний. Впрочем, это сближение
не исключает углубляющегося противоречия этих двух
культов,— что и вызывает время от времени копфликты,
подобные тем, которые возникли в лоне движения «новых
левых», где созрела идея соединения «сексуальной
революции» с политической.
Нетрудно представить себе, в сколь значительной
степени обстановка «культа Оргазма» должна была
подогревать интерес к Фрейду, поскольку возникала возможность
перевода на фрейдистский язык целого пласта жизни,
который прежде уклонялся от излишне откровенной
«вербализации», а теперь, наоборот, лихорадочно выставлялся
на всеобщее обозрение. Речь шла о языке, который вполне
подходил для того, чтобы стать формой выражения для
целой идеологии — идеологии «потребительского
общества», идеологии гедонизма, усматривающего свою
последнюю истину в «Оргазме». Впрочем, для этого фрейдизм
D. Be!!. The cultural contractions of capitalism, p. 70.
165
должен был претерпеть определенные преобразования,
причем пе столько в области самой языковой ткапи,
сколько в сфере скрывающихся под нею «мифологем».
Дело в том, что, если иметь в виду социологическую
сторону дела, фрейдизм возник как попытка достичь
компромисса между ригористической и рационалистической
«хозяйственной этикой» капитализма (ее требования
получили отражение в рамках фрейдовского «принципа
реальности», равно как и в области «сверх-я»), с одной
стороны, и потребительски-гедонистической тенденцией, все
громче заявлявшей о себе с начала XX столетия
(представителем этой тенденции в рамках психоанализа Фрейда
стал «принцип удовольствия»),— с другой.
Как легко можно заключить, исходя из
вышеизложенного, источником нарушения равновесия между двумя
принципами буржуазного сознания XX века, которое было
с грехом пополам обретено в первой четверти нашего века
(что было сделано на «элитарной» основе), было, с одной
стороны, обнаружение вопиющей самопротиворечивости
«принципа производительности», а с другой — резкое
усиление «принципа удовольствия» как в социологическом,
так и соответственно в теоретическом отношении:
принцип этот получил целые полчища совершенно яростных
защитников как на практике, так и в теории. Если
психоаналитику Фрейду приходилось врачевать своих
пациентов, озабоченных неожиданно появлявшейся у них
склонностью к запретным удовольствиям и наслаждениям,
доказывая им, что последние не так уж страшны и
кошмарны, как они представляются их чересчур строгому
и ригористичному «сверх-я», то психоаналитикам
пятидесятых — шестидесятых годов пришлось столкнуться с
принципиально иной категорией невротиков.
Если верить Беллу (а в этом пункте у нас нет
оснований для недоверия), в условиях «общества потребления»
поводом для невротических переживаний, приводящих
человека к болезненному самоанализу и побуждающих его
обращаться к помощи психоаналитика, является не вопрос
о влечении к запретному удовольствию, а совсем наоборот:
отсутствие такого влечения, равно как и «влечения к
удовольствиям» вообще (поскольку оно обязательно
предполагает нынче большую или меньшую «запретность»,
которую все труднее найти в «обществе вседозволенности»).
Человек, которого не влекут к себе удовольствия,
культивируемые «обществом потребления», который испытывает
166
мало радости от служения «культу Оргазма», считает это
вполне достаточным для того, чтобы прийти к выводу о
том, что его психика «не в порядке» и ему пора
обратиться к психоаналитику.
Казалось бы, все это означало окончательную победу
фрейдовского психоанализа; как о том и мечтал Фрейд, по
мере углубления и универсализации тенденций «общества
потребления» на Западе не только традиционная религия,
по и традиционная мораль утрачивала свое значение в
качестве душевной терапии и руководства для
индивидуального поведения: все эти функции брала на себя
психология и прежде всего — фрейдистски ориентированная
психология. Но эта победа оказалась пирровой победой,
началом конца «классического» фрейдизма; дело в том, что
теперь шла речь не о большем или меньшем «облегчении»
души пациента, мало-помалу «освобождаемой» от
«репрессий» пуританизма (буржуазно-протестантской
«хозяйственной этики» вообще); речь шла совсем о другом: о
том, чтобы примирить человека с «репрессиями»,
навязываемыми ему идеологией «общества потребления», его
«принудительным гедонизмом» (выражение Белла).
Ситуация, с которой имел дело Фрейд, буквально
перевернулась с ног на голову: отныне речь шла не о защите
«угнетаемого» «принципа удовольствия» от «агрессии» со
стороны «принципа реальности» (и вырастающего на нем
«сверх-я»), а наоборот — об арьергардных
оборонительных боях этого последнего, которому грозило полное
порабощение, если не истребление. Для такой ситуации
«классический фрейдизм» уже не годился; психоаналитик Фрейд
уже ничем не мог бы помочь своему новому пациенту,
доживи он до конца пятидесятых годов. Теперь импотенция
невротиков, которой так часто приходилось заниматься
Фрейду-психоаналитику, возникала отнюдь не от избытка
моральных «репрессий»; а чем могла бы помочь его
психоаналитическая техника «ослабления напряжений», если
бы он убедился, что отныпе ему предстоит работать в
некотором «моральном вакууме» — в ситуации почти
полного отсутствия всяческих «напряжений». В этой ситуации
модной среди психоаналитиков становилась «терапия
весельем», «воспитание оргазмом» и т. д. — вещи, которые
ставили на голову все его теоретическое построение. Вот
где таится истинный источник нападок на Фрейда,
который так характерен для «фрейдовского бума»
пятидесятых — шестидесятых годов (в отличие от «бума» двадца-
1G7
тых),— «бума», который точнее было бы назвать даже не
«фрейдистским», а «лево-фрейдистским».
Теперь мы уже достаточно подготовлены к тому, чтобы
понять, в чем заключается различие между
«классическим» и «левым» фрейдизмом и чем, следовательно,
отличается второй «фрейдовский бум» от первого — как в
социальном, так и в теоретическом отношениях. На
протяжении всего предшествующего изложения мы уже
неоднократно имели случай убедиться в том, что «общество
потребления» могло реализовывать свое основное
устремление лишь за счет более или менее значительных
компромиссов с государственно-монополистическим
капитализмом, на почве которого оно возникло. Вот это-то
обстоятельство и не устраивало «левых» фрейдистов,
которым — как и всяким абстрактным идеологам — претило то
логическое (да и социо-логическое) противоречие, на
фоне которого осуществлял себя «принцип удовольствия»,
так привлекавший их и вселявший в них радужные
надежды, тем более что противоречие это поразительно
совпадало с тем, которое раскалывало теоретическое
построение Фрейда.
Перед лицом этого нового противоречия — между
«принципом производительности» и «принципом
удовольствия», одинаково претендовавшими на «всего» человека,
заставляя его метаться между двумя половинками своей
души: и «дневной» — расчетливо осмотрительной, и
«ночной» — вожделеющей — «левые» фрейдисты сделали
безоговорочный вывод в пользу второго припципа. В пользу
«принципа удовольствия» их настраивали два
соображения: во-первых, то, что в рамках фрейдовского
психоанализа он как бы персонифицировал силы природы, ее
«требования», а к тому, что намекало на
«естественно-природное», они питали неизъяснимую слабость — вполне,
впрочем, понятную у жителей больших городов, где
природа закована в камень и опоганена. Во-вторых, то
соображение, что «принцип удовольствия» действительно долгое
время оттеснялся на задний план буржуазной
«хозяйственной этикой», что открывало возможность для вывода
(не гарантировавшую, впрочем, его правильности),
согласно которому принцип этот является исконно
«антибуржуазным», то есть (еще один логический скачок!)
«социалистическим», «коммунистическим» и т. д. и —уж во всяком
случае — глубоко «революционным». Справедливость
требует вспомнить, что это — как раз те постулаты, апеллп-
1G8
руя к которым А. Бретон * и другие «левые» сюрреалисты,
шедшие за ним следом, ревизовали учение Фрейда — в
своем неумеренном стремлении заставить «либидо»
крутить жернова «мировой революции»,— попытка,
получившая поддержку со стороны Троцкого. PI когда «левые»
фрейдисты пятидесятых — шестидесятых годов
ссылались на А. Бретона.как на своего предшественника2, они
не просто кокетничали «солидностью» своей традиции; их
реальная зависимость от сюрреалистической теории (и
практики) была даже еще более глубокой, чем это
представлялось им самим.
Важнейшая особенность «левого» фрейдизма (как,
впрочем, и «левого» сюрреализма бретоновского толка)
заключалась в том, что «переоценка ценностей» в учении
Фрейда осуществлялась «лево»-фрейдистами с помощью
апелляции к учению Маркса. И если одно из важнейших
понятий фрейдовской «метапсихологии» — «принцип
удовольствия» — толковалось в духе «классического
фрейдизма» с характерным для него биологизмом, то второе из
этих понятий—«принцип реальности» — трактовалось в
«неомарксистском» ключе: в ключе гегельянизированного
«западного марксизма». Таким образом, получалась некая
эклектическая амальгама — «фрейдо-марксизм» или «мар-
ксо-фрейдизм», которая оказывалась критикой «слева»
одновременно и Фрейда и Маркса. В таком виде «левый»
фрейдизм выступал уже у первых теоретических
представителей — Вильгельма Райха и Эриха Фромма; причем
второй из них, чьи работы появились в тридцатых годах, в
последующем придавал своим идеям более умеренное —
не «лево»-радикальное, а скорее «лево»-либеральное
направление, за что неизменно подвергался критике со
стороны своих более экстремистски настроенных коллег по
Франкфуртской школе, в особенности — со стороны
Г. Маркузе; что же касается первого, В. Райха, то он
остался в сознании «лево»-фрейдистов пятидесятых —
шестидесятых годов как представитель самого крайнего
варианта «марксо-фрейдизма» — основоположник
концепции, решительно и безоговорочно настаивающей на
необходимости объединения политической революции с
«сексуальной»,— концепции, перекочевавшей
впоследствии в резолюции и лозунги «новых левых» экстремистов.
1 См.: А. Breton. Les manifestes du surréalisme. Paris, 1946.
2 Чаще других это делал Г. Маркузе (см. его кн. «Эрос и
цивилизация» и «Очерк об освобождении»).
169
Уже в ранних работах Фромма 1 с наибольшей
отчетливостью выявился тот ход мысли, с помощью которого он
подверг леворадикальной критике умеренного либерала
Фрейда и который — что для нас особенно интересно
отметить— вошел впоследствии в арсенал «мифологем»
идеологии «потребительского общества». Фромм развенчал
и отверг фрейдовское стремление начинать человеческую
историю с патриархата, ставя всю ее под знак
деспотической власти «Отца», представителем которого в душе
каждого индивида оказывается морально-ригористическое
«сверх-я», базирующееся на «принципе реальности» и как
бы увенчивающее этот принцип. Настаивая на том, что
патриархат не является изначальной формой
человеческого существования, Фромм выдвинул на первый план
матриархат — как самую первую, а главное, самую
«естественную» форму бытия людей, в лоне которой они
подчинялись якобы не «принципу реальности» и не «сверх-я», а
«принципу удовольствия», со свойственной ему
склонностью к человеческому сотрудничеству, вседозволенности и
эгалитаризму 2.
С точки зрения таким вот образом истолкованного
«принципа удовольствия», который в своей природной
«изначальности» и первобытной «естественности»
оказывается одновременно воплощением высших
социально-этических человеческих свойств, Фромм и обрушивается как
на фрейдовское «сверх-я», так и на толкование Фрейдом
«принципа реальности», усматривая в этом толковании
следствие непреодоленной «буржуазности» (и, как стали
говорить несколько позже, «конформизма») создателя
психоанализа. Следует сразу же отметить, что идее
«матриархата», взятой в ее фроммовском толковании, было
суждено большое будущее: взятая в сочетании с принципом
«вседозволенности», она произвела впоследствии большое
впечатление на идеологов «общества потребления»,
которые в связи с этим обнаружили склонность толковать это
общество как возврат к все разрешающему
«матриархату» — разумеется, «на новом витке»* исторической
спирали. «Матриархальная» модель человека, погруженного в
темное материнское лоно «коллективного бессознательно-
1 Речь идет о статьях, опубликованных в начале тридцатых
годов в журн. «Zeitschrift für Sozialforschung».
2 Об этом см. в кн.: В. Brown. Marx, Freud and critique of
everyday life. Toward a permanent cultural revolution. N. Y.— L., 1973.
170
го», где не может быть речи об этически
ориентированном — «патриархальном» — принципе индивидуации»
(principium individuationis), a потому ничто не мешает
предаваться самым экстравагантным наслаждениям,— эта
модель вполне отчетливо прочитывается, например, у
Маршалла Маклюэна; многое от этой модели можно встретить
в рассуждениях Нормана Брауна и Теодора Роззака *.
В самых глубоких теоретических истоках «левого»
фрейдизма отчетливо фиксируется некоторый «комплекс»
представлений и умонастроений, в составе которого идея
безграничного наслаждения неизбежно сочетается с
представлением о «безличности», «анонимности», «бессамост-
ности» человека, погруженного в темную стихию того, что
на марксистском языке нельзя было бы определить иначе
как «ложную коллективность». Поскольку же эта
последняя понималась не иначе как «истинная» (потому что
«естественная», «природная» и т. д.) коллективность — и
даже противопоставлялась «действительной
коллективности» в Марксовом ее понимании,— постольку «левые»
фрейдисты с самого начала осознавали себя в качестве
подлинных «социалистов» и «коммунистов», даже более
«подлинных», чем сами основоположники марксизма.
Причем — любопытно: именно этот «комплекс» и воодушевлял
впоследствии людей, взыскующих «неурезанного», «ничем
не ограниченного» наслаждения (= удовольствия =
потребления) , давая им сознание своей «ужасной»
антибуржуазности, революционности и коммунистичности. Ведь они
«тоже» против «буржуазного индивидуализма», и даже
более того: против самого принципа индивидуальности,
принципа личности и т. д.! Вот каким «ходом мысли» идея
«свободы», понятой как свобода ничем не ограниченного
иаслаждения, превращалась в апологию «казарменного
коммунизма», повсюду исключающего личность.
Крайности сошлись: препятствием на пути совершенно
первобытной уравниловки, с одной стороны, и стремления к
«радикальным» (то есть ничем не ограниченным)
удовольствиям—с другой, оказывается одно и то же: сама
индивидуальность, личность, этически ориентированное «я». Против
него-то и выступили сперва теоретики «левого» фрейдиз-
1 Ср.: M. M с L u h a n. Understanding Media. The Extension of man.
N. Y., 1964; Th. R о s z a k. The making of a counter culture. N. Y., 1970;
N. O. Brow n. Life against death: The psychoanalytical meaning of
history. Middeltown, 1970.
171
ма, а затем — бульварные идеологи «общества
потребления», поднявшие на щит своих «теоретических
предшественников».
«Левый» фрейдизм сыграл роль своеобразного
теоретического инструмента, с помощью которого в общественном
сознании капиталистического Запада были утверждены
понятия и представления, которые соответствуют новому
«соотношению сил» между «принципом
производительности» — изначально господствующим в буржуазной
практике, и «принципом удовольствия», допускавшимся в эту
сферу лишь постепенно, а во всем своем объеме
утвердившимся там недавно. Учитывая «консервативный» характер
этических традиций, господствующих в буржуазном
сознании, нетрудно понять, что вышеупомянутые понятия,
представления и ассоциации, апеллирующие к «принципу
удовольствия», достаточно трудно было утвердить
«мирным» и «эволюционным» путем. Нужен был «прорыв», и
он был совершен: в области теории и «теоретической
этики» — «левым» фрейдизмом, а в сфере «практики» —
политической идеологии, «повседневной жизни» и пр.—
«сексуальными революционерами» из числа «новых левых»
нигилистов и экстремистов.
И стало совершенно очевидно: «Мавр сделал свое
дело—мавр может уйти». Вот почему «захлебнулось»
движение «новых левых», поглощенное различными (в
основном «контр-культурными») ответвлениями массовой
культуры Запада. Вот почему начинает угасать интерес и к
«левому» фрейдизму, который явно неспособен сообщить
«веселящейся единице» ничего нового. Тем более что
безработица, инфляция, энергетический, экологический и
другие кризисы явно делают «терапию веселья»
несоответствующей (или, как говорят ученые, «нерелевантной»)
современному состоянию
государственно-монополистического капитализма.
2. МАРКУЗЕАНСКИЙ ВАРИАНТ «ЛЕВО»-ФРЕЙДИСТСКОГО «МИФА»
О ЧЕЛОВЕКЕ
Возвращаясь к последовательности нашего изложения,
следует отметить, что для подавляющего большинства
«левых» фрейдистов (исключение составляют здесь Фромм
и его сторонники) характерно одно и то же стремление:
трансформировать фрейдизм таким образом, чтобы из
попыток Фрейда («биологически») обосновать культуру,
172
нравственное, духовное измерение человеческого
существования вообще,— сделать инструмент критики культуры
(духовности, как таковой), опираясь при этом на
ницшеанский эстетический нигилизм,— то есть пытаясь
объединить автора работы «По ту сторону принципа
удовольствия» с автором книги «По ту сторону добра и
зла». Делается это с различной степенью основательности
и глубокомыслия. И, быть может, кое-что из написанного
в этой связи, скажем Хоркхаймером и Адорно, значительно
интереснее в философско-теоретическом и эстетико-социо-
логическом отношениях, чем сделанное Гербертом Марку-
зе. Мы не говорим уже о том, что работы Хоркхаймера и
Адорно, в той или иной мере затрагивавшие проблематику
психоанализа, в ряде случаев предшествовали маркузеан-
ским, так что автор «Эроса и цивилизации» шел здесь уже
по проторенной дороге, используя достаточно хорошо
отработанные ходы мысли. Но,— по-видимому, не без связи
с этим последним обстоятельством,— случилось так, что
именно в произведениях Маркузе упомянутые тенденции
получили наиболее ясное, популярное и впечатляющее
выражение.
И хотя в целом идеологию «новой левой» следует
рассматривать как результат философско-теоретической
деятельности, по крайней мере, двух «школ» —
Франкфуртской и «лево»-экзистенциалистской (Жан-Поль Сартр и
его последователи), однако самые ходовые (лозунговые)
понятия и представления, господствовавшие над умами
молодых бунтарей-протестантов в шестидесятые годы,
чаще всего фигурировали в том виде, какой придал им автор
«Эроса и цивилизации», «Одномерного человека» и
«Очерка об освобождении».
Исходным моментом маркузеанской критики Фрейда
был своеобразный парадокс, в котором все больше
запутывался основоположник психоанализа по мере того, как
он, назвав свое «либидо» — Эросом (опять-таки — чтобы
активизировать античные мифологические
реминисценции), разрисовывал его все более радужными красками.
Ведь чем более благообразным представлялось — в
изображении Фрейда — это влечение к продолжению рода
(одушевленное, согласно утверждению создателя
психоанализа, благороднейшей целью объединения всего человечества
во вселенском экстазе Любви), тем более мрачные и
двусмысленные тени ложились на культуру, существующую,
в частности, также и за счет подавления и ограничения
173
эротических влечений («усечения» Эроса). Так что уже с
трудом верилось фрейдовским заверениям насчет того, что
подобное «усекновение» делается-де ради самого этого
влечения, которому якобы верно служит культура. Скорее
наоборот: последняя начинала казаться чем-то вроде
коварной приживалки при (простодушном, добродушном и
прекраснодушном) Эросе, опутавшей его своими
злокозненными интригами и уготовившей для него нечто вроде
прокрустова ложа. Это вот ощущение, возникающее при
чтении позднего Фрейда, и выразил Маркузе,
попытавшись перевести основные «метапсихологические» понятия
психоанализа на язык политики и социологии.
Маркузе, надо сказать, имел известные права на такую
попытку. Ведь и в самом деле «метапсихологические»
понятия фрейдизма в неявной форме уже включали в себя и
социологическое и социо-культурное содержание.
Вычленить его, попытавшись перевести на язык более
адекватных ему понятий,— вполне резонное намерение,
обещающее (при определенных условиях) весьма интересные
результаты. Вопрос, однако, в том, какими средствами, на
основании каких теоретических посылок осуществляется
подобный перевод. Вопрос о том, отдает ли исследователь
себе отчет относительно фундаментальных постулатов, на
которых покоится, скажем, специфика социологических (и
политологических) понятий — в отличие от тех, какими
обоснован психоанализ. В данном случае на этот вопрос
приходится отвечать отрицательно, ибо, пытаясь
перевести понятия психоанализа на язык политики и
социологии, Маркузе — в то же самое время — отрицал коренную
специфичность общественно-политической реальности, в
отличие от биологического уровня человеческого
существования, в рамках которого пытался, хотя и безуспешно
(лишь ценой нагромождения новых и новых противоречий
и «эпициклов»), заключить свои исходные предпосылки и
основоположения сам Фрейд.
После того как Маркузе перевел эмоциональное
впечатление, вызванное у него учением позднего Фрейда, на-
язык политики и социологии (а иногда и
политэкономии),— то есть назвал соответствующими этому
впечатлению терминами ряд принципиально важных понятий
фрейдовского психоанализа,— этот последний зазвучал
теперь совсем иначе, чем он звучал в устах его творца:
вместо преимущественно психологических и «метапсихологи-
ческих» (философских) он начал вызывать отныне чисто
174
политические эмоции, ассоциации и представления. В
результате фрейдовская попытка «метапсихологически»
обосновать культуру, отправляясь от самых общих постулатов
своеобразным образом биологизированной философий,
зазвучала как политическое обвинение, политический
процесс, затеянный по «делу» о «чудовищных преступлениях»
культуры.
В книге «Эрос и цивилизация» (1955) «процесс» этот
начинается с самой высокой ноты: с вопроса о том,
компенсируют ли преимущества, доставляемые культурой,
страдания, причиняемые «подавлением личности»
(имеются в виду — наоборот — совершенно безличные,
витальные влечения человека), за счет которого она только и
существует. И тут же делается вывод — что нет, не
компенсируют, а в виде доказательства приводится ссылка на
все тот же «негативный абсолют»: концентрационные
лагеря, массовые убийства, мировые войны и пр. (которые,
надо полагать, возникли в наш век только потому, что люди
были слишком культурны). Затем следует длинное и
подробное изложение учения Фрейда — на неадекватном ему,
зато присущем самому Маркузе предельно упрощенном
языке «левой» политики и вульгарной социологии,
изложение, задача которого проиллюстрировать тезис о
категорической виновности культуры во всех (без исключения!)
злодеяниях, свидетелем которых был наш видавший виды
век.
Согласно Маркузе, уже понятие человека, взятое в том
виде, как оно вводится в учении Фрейда, представляет
собой самое неопровержимое обвинение против всей
западной культуры *. Ведь в соответствии с этим понятием
культура оказывается угнетателем человека, причем не
только как социального, но прежде всего как
биологического существа, ибо она подчиняет своей деспотической
власти всю структуру его инстинктов. И что такое
прогресс культуры? — Не что иное, как рост, расширение и
углубление организованного господства над человеком, над
людьми2. А что такое увеличение этого организованного
господства? — Увеличение общего количества агрессии,
накапливающейся в обществе3,—агрессии, которая рано
1 См.: Н. Ma reuse. Eros and civilisation. London, 1956, p. 11.
2 См.: Ibid., p. 34.
3 Ср.: H. M a re us e. Aggressivität in der gegenwärtigen
Industriegesellschaft.— In: H. M a reuse u. a. Aggression und Anpassung
in der Industriegesellschaft. Fr. a. M., 1969.
175
или поздпо должна вырваться из-под сдерживающих ее
оков культуры: вот тогда-то и возникают фашистские
режимы и мировые войны, концентрационные лагеря и прочие
проявлепия варварства, в котором подавляющая,
репрессивная культура отказывается узнавать свой истинный лик.
Излагая Фрейдово учение, Маркузе пытается
«привить» к его основному стволу две ветви, так сказать, из
своего сада: понятие «дополнительного угнетения» и
понятие «принципа производительности», с помощью которого
он одновременно стремится и релятивизировать
фрейдовскую концепцию культуры, и усилить критику самой
культуры, связав ее «репрессивный» характер с корыстными
интересами властей предержащих.
«Дополнительное угнетение» означает у Маркузе такое
подавление витальных (главным образом — эротических)
влечений человека, которое не связано с «онтологической
необходимостью» человеческого существования, а
вытекает исключительно из социальной природы власти и
служит поддержанию этой последней. Так, пишет он,
обращаясь к критической интерпретации фрейдовской
мифологемы, изложенной в работе «Тотем и табу», «не
бедность и не слабость обусловили первое и решающее для
развития культуры подавление влечений, а деспотическое
господство: тот факт, что деспот несправедливо
распределяет и использует бедность, скудость и слабость, что он
узурпирует право на наслаждение, взваливая труд на
других членов орды» *. И здесь, стало быть, имело место как
раз «дополнительное угнетение, которое осуществлялось
единственно в интересах господства и сохранения
деспотического господства...» 2, а совсем не потому, что
необходимо было — как полагал сам Фрейд — обуздать
агрессивные влечения других членов орды («детей») и их
хаотические сексуальные порывы.
Да этих последних, согласно Маркузе, вовсе и не было,
а если они и были, то только потому, что существовало
это самое «дополнительное угнетение» — как нечто вроде
политически легитимной реакции на него. Впрочем,
насчет законности этой реакции у Маркузе далеко не все
ясно и непротиворечиво. Он не может отрицать того
факта, что в условиях упомянутой «бедности, скудости и
слабости» люди должны работать, так сказать, в поте лица
1 Н. Ma reuse. Psychoanalyse und Politik. Fr. a. M., 1968, S. 46.
2 I b i d., S. 48.
176
своего, далеко не всегда испытывая удовольствие от своей
деятельности. А раз это так, то они вряд ли с особой
охотой предавались этому занятию, и значит — что-то (или
кто-то) должно было принуждать их к этому, осуществляя
«репрессию», то есть «угнетение» по отношению к ним, к
их законному желанию получить максимум наслаждений
от физиологически-жизненных проявлений и отправлений
своего организма. И, следовательно, реакция на подобное
угнетение далеко не всегда (и не во всем) оправдана —
даже в том случае, если кто-то, осуществляющий
принуждение людей к тяжелому труду, претендует на
непропорционально большую часть его результатов, предметов
потребления. Решать этот вопрос более или менее конкретно
можно было бы, только углубившись в
политико-экономическую проблематику разделения труда, его исторических
форм и связи последних с определенными социальными
расчленениями общества,— задача, от решения которой
Маркузе благоразумно воздерживался, оставаясь в сфере
общих разговоров об эксплуатации и «угнетении».
Вместо всего этого он просто вводит в структуру
психоаналитической концепции понятие «принцип
производительности» (тогда как нужно было, наоборот, объяснить
постулаты этой концепции, отправляясь от этого принципа
буржуазно-протестантской «хозяйственной этики»),—
понятие, на первый взгляд действительно вызывающее
ассоциации политико-экономического свойства, однако
предполагающее ею предварительный критический анализ;
поскольку же этого ие было сделано, это понятие так и осталось
сплавом, амальгамой, социологических (веберовских),
психологических (фрейдовских) и даже этических
(протестантская этика) представлений и ассоциаций. «Принцип
производительности» — это, по Маркузе, господствующая
(буржуазно-эксплуататорская) форма принципа
реальности, отражающая такую модификацию всех человеческих
влечений («отказы» и вытеснения, извращения и
сублимации) , которую общество навязывает индивидам с целью
превратить их из природных существ, с естественной
непосредственностью влекущихся к ничем не ограниченному
наслаждению, в общественно употребимые орудия труда,
инструменты производства. Иначе говоря, он дает понять,
что, во-первых, сам создатель психоанализа ошибочным
образом отождествил содержание своего «принципа
реальности» и ту историческую форму, которую этот прппцип
получил в эксплуататорском (главным образом — буржу-
177
азном) обществе: форму «принципа производительности»;
что, во-вторых, эта последняя должна отмереть вместе с
отменой классового господства, а само изначальное
содержание, скрывающееся в ней, выступить в совершенно
ином виде: не в качестве принципа, господствующего над
«принципом удовольствия», а — наоборот —в качестве
принципа, подчиненного этому последнему и, таким
образом, выступающего в качестве «нерепрессивного принципа
реальности», «либидинозпого принципа реальности»,' то
есть всего того, что в глазах самого Фрейда означало бы
нелепость, деревянное железо, раскаленный лед и т. д.
Это значит, что, наткнувшись на бросающийся в глаза
факт действительного соответствия, имеющегося между
фрейдовским «принципом реальности», с одной стороны,
и основным принципом буржуазной «хозяйственной
этики» — этики индивидуального труда и личной
ответственности, с другой стороны, Маркузе попытался лишить его
самостоятельности, подчинив тому принципу, который
выдвинулся на авансцену в условиях «общества
потребления»: гедонистически-потребительскому «принципу
удовольствия». Вместо того чтобы «снять» эту извечную
раздвоенность буржуазного сознания между трудом и
наслаждением, а тем самым подвергнуть критике все то, что
было воспроизведением этой раздвоенности в рамках
«классического фрейдизма», Маркузе лишь «перевернул»
ее, и этот «переворот» воспринял как перспективу
«освобождения» от «буржуазного сознания» вообще. Тут-то он
и попал в объятия «евнуха промышленности» и
«гедонистически-потребительского» сознания. Однако продолжим
прерванное изложение маркузеанской концепции.
Превращение «принципа реальности», бывшего
первоначально в подчинении у «принципа удовольствия», в
господствующий над этим последним «принцип
производительности» — согласно Маркузе — представляло собою
модификацию, исторически неизбежную в скудной и
враждебной окружающей среде, однако используемую власть
имущими также и в своих корыстных интересах, в
интересах «дополнительного угнетения». Эта метаморфоза
начинается — согласно автору «Эроса и цивилизации» — уже
с того момента, когда сексуальность, первоначально
«рассеянная» по всей сфере человеческого организма,
имеющая своих посителей во всех его органах, во всех участках
тела, локализуется в области гениталий. Это, если верить
Маркузе, пропсходпт потому, что общество, живущее в
178
ситуации материальной нужды и лишений, заинтересовано
в том, чтобы высво'бодить другие части человеческого тела
для совершения общественно необходимого труда,
сэкономив для него соответствующее количество нервной энергии
(которая до сих пор тратилась на эротические
удовольствия — опять-таки если поверить во фроммовски-маркузе-
анскую утопию золотого матриархального века, когда
люди якобы предавались беспрерывным наслаждениям). Так
первоначально чисто эротическое влечение («либидо»)
трансформируется в «продуктивность», которая
разворачивается в форме материального и духовного производства
материальных благ, но лишает производителя
возможности наслаждаться как самим процессом производства, так
и его результатами. Непрерывно возрастающее
производство, приводящее в итоге к изобилию предметов
потребления, осуществляется, однако, за счет подавления
способности человека наслаждаться ими, ценой лишения его
возможности быть счастливым.
* * *
Однако все отмеченные бедствия и извращения,
которые несла с собою материальная и духовная культура
прошлого, перестают быть необходимыми как раз по мере
роста общественного производства (обеспеченного, между
прочим, именно с помощью этой репрессивной культуры).
Как раз этого обстоятельства не учел, согласно Маркузе,
создатель психоанализа, в чем, по его убеждению,
заключается главный порок Фрейдова учения, которое
увековечивало репрессивную культуру, а следовательно —
принцип угнетения, эксплуатации человека человеком. Автор
«Эроса и цивилизации» считает роковой ошибкой Фрейда
убеждение в том, что свобода от подавления и вытеснения
может быть только достоянием подсознания,
доисторического и даже дочеловеческого прошлого, элементарных
биологических и психических явлений. Тем самым, по
Маркузе, идея свободы (а таковая неотделима для него от
ничем не ограниченной реализации витальных влечений)
становится чем-то нереальным, а Фрейд оказывается
простым апологетом буржуазного общества со всеми его
ужасами.
Что же произошло? Почему подавление животных
влечений, загнанных в сферу «бессознательного» человека,
179
перестает быть необходимостью? Почему убеждение в
необходимости их подавления средствами, находящимися в
распоряжении культуры, оборачивается апологетикой
современного капиталистического общества? А потому,
отвечает Маркузе, что как раз достижения репрессивной
угнетательской культуры создали предпосылки для
постепенного устранения угнетения вообще — вплоть до
ликвидации подавления животных влечений человека. Ибо, во-
первых, создан такой уровень производства, при котором
удовлетворение человеческих потребностей и в
количественном и в качественном отношениях может быть
осуществлено без тех жертв, к которым принуждает индивидов
«принцип производительности». Во-вторых, в связи с этим
возникает возможность резкого сокращения рабочего
времени (правда, при вероятном снижении излишне высокого
уровня жизни), а главное — возможность полного слияния
труда и игры, труда и наслаждения и т. д.,— ситуация,
при которой не будет никакой необходимости (за
немногими исключениями) принуждать людей к трудовой
деятельности, то есть осуществлять по отношению к ним
какое бы то ни было угнетение — не только
«дополнительное», «избыточное» и пр.
А вместе с тем обнаруживает свой преходящий,
исторический характер «принцип реальности», как понимал
его Фрейд,— по крайней мере, там, где он совпадал, по
сути дела, с «принципом производительности», ставшим
теперь излишним. То же самое происходит и с
вытесняющими, подавляющими тенденциями культуры — да и со
всей культурой в целом, оказывающейся воплощением
этих тенденций даже в своих тончайших, наисублимиро-
ваннейших областях: и эти тенденции, и сама культура
прошлого обнаруживают свою неразрывную связь с
исторически преходящим «дополнительным угнетением»,
имеющим классовую природу, и должны разделить его
судьбу. В общем, автору «Эроса и цивилизации» начинает
казаться, что теория Фрейда уже сама по себе дает
основания для того, чтобы отвергнуть Фрейдово отождествление
культуры п подавления, отвергнуть его отрицание
исторической возможности существования культуры без
ограничивающих и вытесняющих механизмов.
Однако здесь возникает новый вопрос: каким образом
реализовать возникшую возможность, как осуществить
переход от подавляющей культуры — к культуре,
основанной на полной эмансипации всех витальных влечений, всех
180
природных инстинктов человека? Дело в том, что — как
бы в виде извращенной компенсации за многочисленные
отказы от реализации влечений (инстинктов), за
подавление своего собственного «я» (при помощи угнездившегося
в нем «сверх-я» — агента нравственности и репрессивной
культуры) — у человека возникает готовность действовать
угнетающим образом и по отношению к внешней природе,
и по отношению к другим людям. Это обстоятельство
определило судьбу всех революций против репрессивного
общества и его культуры, которые имели место в прошлом.
Революции, согласно Маркузе, совершаются по той же
самой схеме, которую изложил Фрейд в «Тотеме и табу»,
описав ситуацию отцеубийства и неожиданные
исторические результаты этого перво-бунта детей против отца.
Даже после удачно совершенной революции у победителей
возникает «осознание необходимости господства на более
высокой ступени», и революция терпит поражение в
момент наивысшего триумфа: «Господство восстанавливается
и развивается дальше».
Представив такую картину (являющуюся простой
генерализацией Фрейдовой схемы), Маркузе спрашивает:
«Нет ли наряду с исторически общественным термидором,
который обнаруживается во всех революциях прошлого,
также психического термидора; возможно, революции не
только извне подавляются, поворачиваются вспять и
сводятся на нет; возможно, уже в самих индивидах действует
динамика, внутренне отрицающая возможное
освобождение и удовлетворение..?» 1 Словом, ситуация
представляется довольно безвыходной. Современное капиталистическое
общество с его духовной и материальной культурой
настолько глубоко проникло в структуру витальных
влечений человека, что он оказался сформированным по образу
и подобию этого общества,— а потому начисто лишенным
того «второго» измерения, которое вывело бы его за
пределы последнего или хотя бы вызвало желание такого
выхода. Научно-технический прогресс, проникший не только
во все поры общества, но и в сферу бессознательной
психической жизни индивидов, блокировал их естественное
влечение к свободе, к ничем не ограниченному
осуществлению принципа наслаждения; функционеры
капиталистического общества не желают истинной свободы для себя и
не потерпели бы ее у других. Модернизация же, которой
1 Ibid., S. 47.
181
подверглась сфера капиталистического производства,
равно как и область управления (манипулирования) людьми,
кажется, устраняют или побеждают всякий протест во имя
освобождения от изнурительного труда (от всевластия
«принципа производительности») и засилия власти
(«дополнительного угнетения» или «сверхугнетения»).
Развивая эту тему в своем «Очерке об
освобождении» — именно под углом зрения «укоренения»
современного капиталистического общества в «биологическом
измерении» людей, Маркузе приходит к заключению, что ныне
«контрреволюция укоренена в структуре влечений» 1 этих
последних. Ибо капиталистическая система создала у них
адекватные ей «стабилизирующие, консервативные
потребности» 2, реализацию которых люди осознают как
проявление свободы. Ценности, навязанные людям извне этим
обществом, становятся их собственными внутренними
ценностями, и в результате приспособление к
существующему порядку вещей переживается как проявление
спонтанности, свободного волеизъявления.
Где же выход? Как вызвать у этих людей стремление
к истинной, а не фальсифицированной свободе? Как
поднять их на революцию? Выход Маркузе видит в
организации такого «радикального переворота, который... должен
проникнуть в то измерение человеческого существования,
которое в марксистской теории едва ли принималось во
внимание,— в «биологическое» измерение, где становятся
значащими витальные потребности и удовлетворения».
Поскольку эти потребности и удовлетворения воспроизводят
жизнь в рабстве, постольку освобождение предполагает
изменения в этом измерении: «...иные потребности
влечений, иные реакции как тела, так и духа» 3. А осуществить
этот переворот или, по крайней мере, быть его
«детонатором» должны «аутсайдеры» капиталистического
общества—«дикие», у которых капиталистическая система по
тем или иным причинам не смогла выработать
«потребностей и удовлетворений, которые воспроизводят жизнь в
рабстве».
На людей, решившихся возглавить эти социальные
силы отрицания капитализма, ложится задача
объединения двух тенденций, направленных против этого общества:
1 H. M а г с u s е. Versuch fiber die Befreiung. Fr. a. M., 1969, S. 27.
2 Ibid.
3 Ibid., S. 34.
182
тенденции к освобождению от социального и
политического угнетения — к социальной революции, с одной стороны,
и тенденции к раскрепощению эротических влечений
человека — к сексуальной революции (если пользоваться
распространенным ныне термином). В рамках этого
сочетания Маркузе акцентирует именно «сексуальную
революцию»: уничтожение сексуальных «табу», которое — по
его формулировке — «трансцендирует сексуальную сферу
и ведет к отказу и бунту» 1.
Маркузе, впрочем, не склонен закрывать глаза на
трудности, перед которыми оказываются люди,
решившиеся бороться с «тотальным» господством «позднекапи-
талистической цивилизации». Эти люди, подобно всем
революционерам прошлого, оказываются в заколдованном
кругу: для того, чтобы у людей возникло стремление к
освобождению, они уже должны быть свободными; для
того, чтобы у них возникло стремление разрушить
существующую репрессивную мораль и создать новую,
эротическую, они должны уже обладать этой последней. Главная
трудность, с которой сталкиваются революционеры
(«нового левого» толка), стремящиеся осчастливить
человечество, освободив его от гнета репрессивного общества, его
угнетательской морали и эксплуататорской культуры,
заключается в том, что они как в сфере материальной, так и
в сфере духовной культуры встречаются с «континуумом
угнетения», из которого, кажется, нет никакого выхода.
3. ФАНТАЗИЯ КАК ОРУДИЕ УСТРАНЕНИЯ ИНДИВИДУАЛЬНОСТИ
Особенность «Эроса и цивилизации» (по сравнению с
более поздними маркузеанскими работами) заключается в
том, что выхода из обрисованной здесь «тупиковой»
ситуации автор не предлагает2, хотя схема «прорыва»
намечается здесь вполне отчетливо. Одпако известную надежду,
опять же — брезжущую «по ту сторону» отчаяния, Маркузе
все-таки оставляет читателю. Эта надежда
возлагается в книге на те душевные силы, которые, согласно
Фрейду, остаются не затронутыми «принципом реальности»,—
за них-то и хватается Маркузе, как за якорь спасения.
И чем меньше надежд остается у него «по эту» сторону
«принципа реальности», тем больше надеется он на то, что
1 Ibid., S. 24.
2 В этом сказалось общее пессимистическое настроение, явно
господствовавшее среди франкфуртцев в период «холодной войны».
183
скрывается «по ту» его сторону. А там, согласно Фрейду
и следующему за ним по пятам Маркузе, находится
способность воображения, фантазия — средоточие всех тех
сил, которым удалось как-то уклониться от всевластия
«принципа реальности» К
Дело в том, рассуждает Маркузе, что после
утверждения в сфере душевной жизни человека (и человечества)
наряду с «принципом удовольствия» также и «принципа
реальности», подавившего и вытеснившего первый
принцип, «ментальная активность» индивида раскололась. Одна
ее часть, превратившаяся в «репрессивный разум», стала
обслуживать «принцип реальности», другая же,
сохранившая прежпюю верность «принципу удовольствия» как
более изначальному, откололась от разума, ставшего
«репрессивным», уклонилась от служения «принципу
реальности». Она отстояла свою былую свободу, правда, теперь
уже только за счет признания продуктов ее деятельности
чем-то иллюзорным, не имеющим никакого отношения «
«реальности» и ее серьезным проблемам. Хотя на самом-то
деле эта отколовшаяся способность — фантазия — неиз-
мепно противопоставляла убогой реальности эксплуатации
и угнетения нечто, по Маркузе, гораздо более изначальное
и фундаментальное: воспоминание об «утраченном
времени» — о том времени, когда в мире господствовал
«принцип удовольствия» и человек, ликуя, подчинялся его
требованиям, то есть призывам своих собственных влечений.
Иначе говоря, фантазия снова и снова заставляла
«реальность» глядеться в зеркало своих собственных —
утраченных, но не уничтоженных, а лишь отступивших во тьму
«ночного сознания» — возможностей: в зеркало свободы
.(от эксплуатации, угнетения, давления «реальности»
вообще).
«...Воображение,— пишет Маркузе,— сохраняет
«воспоминание» о субисторическом прошлом, когда жизнь
индивидуальности была жизнью рода,— образ
непосредственного единства универсального и партикулярного под
управлением принципа удовольствия»2, между тем как вся
последующая история человека характеризуется расколом
1 Подобно тому как искусству в шопенгауэровском построении
удалось «уклониться» от требований всемогущей Воли.
2 Н. Marcus е. Eros and civilisation, p. 142. Это —тема,
которая совсем по случайно всплыла впоследствии в карикатурной
форме «прорицаний» Маршалла Маклюэна насчет неизбежного
наступления электронного рая, в котором индивид полностью и без
184
этого изначального единства: «точкой зрения Эго» '. При
этом крайне симптоматично: как только заходит разговор
об «утраченном времени» — эпохе всемогущества
«принципа удовольствия», тотчас же у Маркузе возникает тема
такого «единства универсального и партикулярного» начал,
которое, по сути дела, тождественно растворению
последнего в первом, то есть родовом, анонимном, коллективном
начале2. Что же касается «точки зрения эго»,
возникающей в итоге становления индивидуальности и выделения
ее из изначально нерасчлененпой целостности, то она с
самого начала рассматривается как нечто ущербное и
«греховное», болезненное и болезнетворное,— позиция, как
видим, предельно близкая той, что получила выражепие в
«Диалектике просвещения», и — через нее —
смыкающаяся с одной из наиболее фундаментальных метафизических
предпосылок «философии жизни» вообще.
В конечном счете, по Маркузе, именно сам «принцип
индивидуации» (principium individuationis),
осуществляемый как раз на основе «принципа реальности», и «дает
повод к репрессивной утилизации изначальных
инстинктов» 3. Они же, со своей стороны (и каждый из них —
своим собственным способом), стремятся к ликвидации
«принципа индивидуации» 4. Ведь последний (как и
осуществляющий его «принцип реальности») отклоняет эти
инстинкты от их цели,—совершая это «отклонение» в
ходе того самого прогресса, который поддерживается
благодаря энергии инстинктов — и никакой иной. В борьбе
против «антагонистического принципа индивидуации»
участвует и воображение, поддерживающее «требования
целого» — «в союзе с родом и «архаическим» прошлым».
Воображение выступает, таким образом, «как
фундаментальный, независимый ментальный процесс», имеющий
ценность в самом себе — вне зависимости от того, как
будут оценены его продукты с точки зрения «принципа
реальности и «репрессивного разума» 5.
остатка растворится в «коллективном бессознательном». Хотел бы
того Маркузе или не хотел, но Маклюэн явно развивает в своих
пророчествах один из важнейших замыслов «Эроса и
цивилизации».
1 Ibid.
2 Ibid., р. 142—144.
3 Речь идет о тех изначальных инстинктах, которые
фигурировали у позднего Фрейда как «Эрос» и «Танатос».
4 См.: Ibid., р. 143.
5 См.: Ibid., р. 141, 143.
185
Маркузе дает понять, что мыслителем, восстановившим
в правах вооображение, взятое в этой его функции, был
опять-таки Фрейд; себе же он оставляет здесь лишь лавры
интерпретатора. Но то, каким образом он истолковывает
в этой связи воображение, рассматривая продукты
последнего в качестве «утопии», подлежащей реализации, явно
отдаляет его от Фрейда. Ведь для основателя
психоанализа продукты воображепия (фантазии) имели значение
именно в виде идеальных образований, то есть как
«утопия», не предполагающая «реализации», более того —
утверждающая свою принципиальную нереализуемость.
Только в этой своей ипостаси утопия играла, по Фрейду,
определенную роль в «душевной жизни» индивида и
общества. Настаивая же на необходимости бороться за
«реализацию» как раз того содержания фантазий и утопий,
которое представляется современному сознанию наиболее
фантастичным и утопичным, Маркузе двигался от Фрейда
в направлении «левого» сюрреализма, критиковавшего
основателя психоанализа с экстремистских политических
позиций '.
Так регрессивный, с точки зрения того же Фрейда,
процесс, имеющий определенно выраженные
невротические черты: возврат к детским переживаниям,
инфантильное бегство от действительности, инстинктивное желание
«закрыть глаза» на ее суровые стороны,— приобретает в
концепции Маркузе «прогрессивную» и даже
«революционную» функцию. Запрещенные эротические образы,
являющиеся людям в сновидениях, непроизвольные
инфантильные импульсы взрослых и детей — все они, согласно
Маркузе, говорят миру о той правде, которую отрицает
«репрессивный разум». И тем самым они как бы возвращают
повзрослевшему человечеству его «детство», его
«утраченное время» и — это главное — дают ему те «критические
масштабы» оценки (конечно же — «революционной») всей
современной действительности, включая ее высшие
духовные достижения, которые исключаются «репрессивным
разумом», холуйски служащим капиталистическому
«истэблишменту».
...Все эти маркузеанские рассуждения насчет
«революционизирующей» роли фантазии и сновидений вызывают
1 Впрочем, это движение, «разводившее» Маркузе не только
с Фрейдом, но и с Фроммом, Хоркхаймером и Адорно, завершилось,
дав свои политические «выходы» (в «левый» экстремизм), уже в
следующей фазе эволюции Маркузе.
186
сразу же целый ряд ассоциаций более широкого плана.
С одной стороны, тотчас же вспомипаются знаменитые
лозунги, вдохновляясь которыми «лево»-экстремистски
настроенные парижские студенты строили баррикады и жгли
автомашины в мае 1968 года: «Вся власть —
воображению!», «Будьте реалистами — требуйте невозможного!»
и т. д. и т. п. Теперь становится понятным их, так сказать,
«теоретический источник». С другой стороны, эти же
рассуждения (плюс реминисценции на темы фрейдовской
мифологемы «отцеубийства» — из «Тотема и табу»)
проливают свет на ярко выраженный культ инфантильности
и — как бы это помягче выразиться? — неразумия, в
особенности характерный для «детей» из числа «новых
левых», но, как нас убеждает пример самого Маркузе, в
высокой степени свойственный и «отцам»-теоретикам.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Если мы попытаемся теперь подытожить эволюцию
концепции человека — как она предстала на Западе в
первой половине XX века, то мы получим следующую (самуд>
общую и схематическую) картину:
1. Эта эволюция протекала в рамках того образца,
который был предначертан ницшеанской идеей двух начал
человеческой культуры — «дионисийского» (безличного
и антииндивидуального) и «аполлонийского» (обостренно-
личностного, гипериндивидуалистического), и который сам
Ницше реализовал в ходе своего философского развития,
склоняясь попеременно то к первому из выдвинутых им
начал («Рождение трагедии из духа музыки»), то ко
второму («Заратустра» и другие поздние его работы).
Колебание между «дионисийским» и «аполлонийским»
началами, каждое из которых, взятое во всей своей
односторонности, абсолютизировало лишь «часть истины», как
выразился бы Герцен, а потому оборачивалось ложью,
характеризовало движение буржуазной мысли о человеке на
всем протяжении первой половины нашего века; оно же
характеризовало западное искусство и литературу.
2. Крайняя неустойчивость п противоречивость,
которую буржуазная философская, социально-политическая и
эстетико-художествепная мысль обнаружила именно в
этом важнейшем для человечества вопросе (а можно ли
назвать для человека вопрос более насущный, чем вопрос
о том, что такое человек?) ; ее бесконечные «метания»
между двумя упомянутыми принципами его решения —
«дионисийским» и «аполлонийским», ее судорожно-резкие
«шарахания» от одного из этих принципов к другому — от
188
одной односторонности и крайности к диаметрально
противоположной,— все это, быть может, ярче и
выразительнее, нежели что-либо другое, свидетельствовало об общем
кризисе сознания капиталистического Запада, о далеко
зашедшем заболевании его культуры; последнее же, в свою
очередь, не могло не сказаться и на
литературно-художественных процессах, обостряя болезненные антиномии
литературы и искусства Запада.
3. Хотя резкое противоборство этих двух начал
(персонифицируемое веберовской концепцией человека, с одной
стороны, и шпенглеровской — с другой) можно
фиксировать уже в начале XX века, но доминирующими — в
общем и целом — оставались философские и литературно-
художественные устремления, апеллирующие к одному из
них: а именно — «аполлонийскому» началу; победа
примитивного и кровавого «дионисийства» в фашистской
Италии и гитлеровской Германии, на время отрезвившая
буржуазную интеллигенцию других стран и несколько
охладившая ее «дионисийский» пыл, вызвала реакцию,
способствующую акцентированию противоположного этому
началу «аполлонийства» с присущим ему —
гипертрофированным — индивидуализмом. Результатом этой
(болезненной) гипертрофии индивидуальности,— гипертрофии,
в атмосфере которой получил искаженное
(субъективистское и аристократически-элитарное) толкование принцип
личной свободы человека,— стал экзистенциализм.
Возникший во Франции (в результате трансформации
немецкой экзистенц-философии — в духе сведения ее к
романтическим и ницшеанским истокам) в период второй мировой
войны, он приобрел характер общеевропейской моды в
первое послевоенное десятилетие, которая вызвала к
жизни широкое литературно-художественное устремление, так
или иначе апеллировавшее к экзистенциалистской
концепции человека.
4. Гипериндивидуалистическое богоборчество «левых»
экзистенциалистов (Сартр), осознававших себя
продолжателями ренессансной и романтической традиции (см. сарт-
ровское: «экзистенциализм — это гуманизм»), привело их
к этическому релятивизму и нигилизму, что вызвало — в
рамках культуры государственно-монополистического
Запада — резкую критику со стороны влиятельных
католических кругов. В противоположность экзистенциалистам,
католические их критики выступили с антиэлитарных
позиций, поскольку католицизм не хотел терять связей с масса-
189
ми, которые подвергались разоблачительской критике со
стороны экзистенциалистски настроенных противников
«массового общества». В этом отношении католицизм,
официально предавший анафеме экзистенциалистское учение
(концепцию человека), оказался более дальновидным, чем
философские представители этого последнего, которые
(например, Сартр и его последователи) со временем сами
отреклись от своего гипертрофированного
индивидуализма. Тем не менее и католическая концепция человека
(если взять ее в гвардиниевском варианте), также
оставившая свой след в литературно-художественной жизни
Запада — вспомним Бернандоса или Мориака, не смогла
удержать власти над умами. Впутренне противоречивая
(см. гвардиниевскую концепцию «лица» без личности),
так и не нашедшая меры между своим приятием
«массового общества» и опасениями по поводу возможных
перспектив его дальнейшего развития, она явно не
выдерживала конкуренции ни в борьбе с антиклерикальными
критиками самого понятия «личности», ни в соперничестве с
некритическими апологетами «массового общества».
5. Экзистенциализм, восходящий к ницшеанскому
гипериндивидуализму \ встретил резкое неприятие и
критику не только со стороны официальных церковно-религиоз-
ных кругов, но и со стороны «лево»-радикальной (и
отчасти-даже «лево»-экстремистской) «неомарксистской»:
оппозиции государственно-монополистическому
капитализму, прежде всего — со стороны неомарксистов
Франкфуртской школы. Близкие экзистенциалистам в их оппозиции
против сложившегося на почве
государственно-монополистического капитализма «массового общества»,
франкфуртские неомарксисты — Хоркхаймер, Маркузе, Адорно
и др.— отличались от них в решении проблемы личности.
Неомарксисты заявили, что принцип личности и личной
свободы, к которому апеллировали экзистенциалисты,
является исторически несостоятельным (ибо личность, или
«самость», потерпела — по их убеждению — окончательное
и бесповоротное поражение), а потому теоретически
ложным и политически вредным. Истинным выражением этого
обстоятельства они считали самые крайние,
нигилистически ориентированные устремления художественного
1 Который сам, в свою очередь, имел своей «моделью»
определенным образом истолкованный Ренессанс — Ренессанс Борджа
и Макиавелли.
190
«авангарда» — дадаизм и сюрреализм, экспрессионизм и
«экспрессивный» абстракционизм. Практически
социальная философия Франкфуртской школы была (и осталась)
философией «авангарда», существующего за счет
саморазоблачения, саморазрушения искусства и литературы;
причем смысл этого «парадоксального» существования
франкфуртские теоретики видят именно в том, что им,
дескать, «моделируется» безнадежное положение личности
(или что для них то же самое — индивидуальности) в
условиях «позднего», то есть
государственно-монополистического, капитализма.
6. В ходе внутренней эволюции франкфуртского
«неомарксизма» совершалась (уже не в первый раз, если
вспомнить О. Шпенглера и аналогичные тенденции искусства
и литературы двадцатых годов) новая переориентация
буржуазного сознания с «аполлонийского» —
гипертрофированно индивидуалистического — ницшеанского
принципа на «дионисийское», вне- и безличностное начало,—
тенденция, которая наиболее резко обозначилась у Маркузе,
выболтавшего сакраментальную тайну франкфуртского
«неомарксизма». Эта переориентация совершалась рука об
руку с нарастанием — в рамках этой версии
«неомарксизма» (да и в буржуазном сознании вообще) — «лево»-фрей-
дистских мотивов с характерной для «левого» фрейдизма
переакцентировкой концепции человека на основе
абсолютизированного «принципа удовольствия». Этот поворот,
повлекший за собой новое «решение» проблемы человека в
западном сознании, получил свое
литературно-художественное выражение в перерастании «авангардизма»,
«балансировавшего на грани» искусства и не-искусства, в
«неоавангардизм», выступавший с позиций прямого и
немедленного растворения искусства — в «жизни» (под
которой, как мы увидим дальше, понималась главным
образом «лево»-экстремистская политика).
7. Процесс переосмысления концепции человека на
основе фрейдовского «принципа удовольствия»,
предвосхищенный еще ранними работами В. Райха и Э. Фромма
(не говоря уже о работах «левых» сюрреалистов), достиг
своей кульминации в работах Г. Маркузе, начиная с его
«Эроса и цивилизации» (1955). Причем эта кульминация
совпадала с приобретением
государственно-монополистическим капитализмом формы так называемого
«общества потребления» не только по времени, но и по
внутреннему содержанию преобразований, произведенных «левы-
191
ми» фрейдистами в буржуазном сознании,—
обстоятельство, дающее нам право рассматривать этих последних в
качестве идеологов «потребительского общества» (не
осознававших, однако, смысла своих собственных
теоретических устремлений, которые представлялись им радикально
«антибуржуазными»,— что, впрочем, чаще всего и
происходит с «идеологами» в Марксовом смысле). Поскольку же
упомянутое переосмысление концепции человека по
своему глубинному содержанию совпадало с общей
перестройкой буржуазного сознапия, совершавшейся в период
кристаллизации «общества потребления», а по форме,
по способу осознания его самими «лево»-фрейдистами
представало как антибуржуазное идейное устремление,—
постольку опо должно было стать знаменем всех тех
социальпых сил, которые самоутверждение принципа
«потребительского общества» в лоне
государственно-монополистического капитализма рассматривали как
«революционное отрицание» этого последнего, «бунт» против его
«последнего оплота» — западной культуры. Эти силы и
стали источником «нового левого» экстремизма с
соответствующим ему — богемно-люмпенским — типом
бунтарства.
К характеристике этой парадоксальной ситуации мы
сейчас и переходим.
Часть вторая
ОТ «КОНЦА УТОПИИ»
К КОНЦУ АНТИУТОПИИ
ВВЕДЕНИЕ. «НОВЫЕ ЛЕВЫЕ» И
«ОБЩЕСТВО ПОТРЕБЛЕНИЯ»
Вместе с рассмотрением «концепции человека» (и
соответствующей ей философско-эстетической и эстетико-со-
циологической концепции) у социальных мыслителей
Франкфуртской школы мы уже приступили к анализу
идеологии «новых левых», поскольку ее
общемировоззренческие и теоретические основы были заложены франк-
фуртцами — Хоркхаймером и Адорно, Фроммом и Марку-
зе; «левым» экзистенциалистам принадлежит здесь,
пожалуй, меньшая роль, тем более что влиятельнейшие из
них — например, Сартр — во второй половине пятидесятых
годов далеко продвинулись по направлению к
«неомарксизму», в частности — и к «неомарксизму» франкфуртского
толка. Теперь пришла пора более конкретно
проанализировать воззрения «новых левых», взяв их не только в
связи с теоретическими построениями франкфуртцев, но —
главным образом — в тесном взаимодействии со всем
умонастроением, господствовавшим в шестидесятых годах в
самом движении «бунтующей молодежи». Сделать это тем
важнее в данной связи, что ведь и представления самих
теоретиков Франкфуртской школы, в частности таких ее
наиболее впечатлительных представителей, как тот же
Маркузе, не оставались в этот период «равными себе»: они
существенно менялись, причем — как раз под
непосредственным впечатлением «новых левых» поветрий.
Как известно, в свое время движение «новых левых»
обратило на себя внимание главным образом своей ярко
выраженной социальной и политической активностью,
весьма шумно и впечатляюще отмеченной серией самых
разнообразных массовых демонстраций и «действ», кото-
7*
195
рые довольно часто завершались столкновениями с
полицией. На фоне того, что буквально накануне подобных
«акций» называлось в лево-радикальной социологии
«инертным обществом» (Миллс), или обществом «одного
измерения» (Маркузе), или «управляемым миром» (Адор-
но) и т. п., упомянутые демонстрации и «действа»
производили сильное впечатление. Эта — неведомо откуда
возникшая — активность студенческой молодежи, которую
еще вчера авторитетные эксперты считали «полностью
конформистской», оценивалась под знаком «плюс» уже по
одному тому, что она —...активность, а не пассивность, не
«инертность», не «одномерность». Так складывалась
подчас априорно положительная оценка «новых левых» не
только в радикальных, но и в либеральных кругах
западной интеллигенции.
Вообще первоначально внимание исследователей
концентрировалось на том, против чего направлена активность
«новых левых», что отрицает их критика, а не на том, во
имя чего осуществляется и первое и второе, что
утверждается при этом. В движении «новых левых» не могли не
импонировать их антиимпериалистические устремления,
их самоотверженная борьба за мир во Вьетнаме, за
равноправие негров в США и т. д. На первых порах поражала
воображение даже форма выступлений «новой левой»
молодежи, отмеченная элементами эксцентрики, карнавала
и всего того, что М. Бахтин в своей книге о Рабле занес по
ведомству «смеховой культуры». Во всем этом — не
столько чувствовался, сколько предчувствовался свежий ветер
перемен, которые, казалось, должны были в корне
преобразовать всю политическую жизнь капиталистического
Запада, перемешав здесь — совсем на романтический
манер — серьезное и смешное (или, как скажет несколько
позднее Маркузе, «баррикаду и танцплощадку»).
Однако при этом, как правило, упускалось из виду, что
«общезначимое», так сказать, в политических
выступлениях «новых левых» характеризует не столько их самих,
сколько более широкое — демократическое — движение,
мощная волна которого, поднявшаяся в середине
шестидесятых годов на Западе, «вытолкнула» их на политическую
арену. Речь идет о движении, возникшем из
соприкосновения, сплетения, а где и слияния трех мощных потоков:
международной борьбы за мир, серьезпо
радикализировавшейся в ходе борьбы против агрессии США во Вьетнаме;
антиимпериалистической революции в странах «третьего
196
мира», происходящей чаще всего под социалистическими
лозунгами; наконец, массовых выступлений за
гражданские права в Соединенных Штатах, получивших отзвук и
на Европейском континенте — в активизации борьбы
демократических сил-против опасности возрождения
фашизма и нацизма.
Гуманистические традиции, ожившие и
актуализировавшиеся в рамках этого широкого движения,
поддерживались, казалось, и его «новым левым» крылом,— что
побуждало смотреть сквозь пальцы на его определенно
выраженные экстремистские тенденции. И первоначально
«новая левая» воспринималась (впрочем, не столько на
Западе, сколько у нас) не только в аспекте «пон-конфор-
мистской» активизации политической жизни
капиталистических стран, но даже и под углом зрения ее
«гуманизации». Поскольку же идеологи «новых левых» часто
апеллировали к Марксу, постольку невольно возникла
склонность рассматривать их как представителей
«гуманистической традиции в марксизме». Возникновению
подобной наклонности способствовало, в частности, и то
обстоятельство, что теоретики «новых левых» были
профессионально связаны с гуманитарными науками, само
название которых уже вызывает успокаивающую
ассоциацию со словом «гуманизм».
В свете аналогичных представлений отдельные акции
«новых левых» экстремистов, явно отдававшие
субъективистским гипертрофированием роли политического
насилия, расцепивались либо как досадные недоразумепия, не
имеющие никакого отношения к истинной сути движения,
либо как печальные, но необходимые издержки борьбы за
гуманизацию всех человеческих отношений, в частности —
политических. Закономерность или, по крайней мере,
неслучайность экстремистских эксцессов в лоне «нового
левого» движения можно было заметить, лишь связав его
политические лозунги с его мировоззренческими
предпосылками, с его представлениями о человеческой
личности, о духовном измерении ее существования и т. д.
Последние же, как это ни парадоксально звучит, могли
бы раскрыть свое реальное, а не «идеологизированное»
содержание лишь в связи с рассмотрением философии
культуры, одушевляющей это движение, в связи с
литературно-художественными установками «новых левых». Ибо
здесь скрывался антропологический, если можно так
выразиться, аспект политики и идеологии «новых левых»; яо,
197
что они проделывали (к счастью, главным образом в
области теории) с литературой, искусством, культурой
вообще, довольно основательно проясняло то, как они
понимали смысл человеческого существования и каким
образом предполагали «осчастливить человечество» в будущем.
Но, как ни странно, как раз эта сторона воззрений
«новых левых» заинтересовала исследователей в самую
последнюю очередь. Поэтому многие политические лозунги
рассматриваемого движения долгое время оставались для
них чистыми абстракциями, лишенными реального —
человеческого! — содержания. Иначе говоря, именно там, где,
казалось бы, могло раскрыться не только то, что отрицают
«новые левые», но — хотя бы отчасти — и то, что они
утверждают, к чему они стремятся, приходилось судить по
бессодержательным фразеологическим оборотам.
Так складывалась ситуация, благоприятствовавшая
возникновению «идеологем» по поводу «новых левых»,
которые до сих пор имеют хождение на Западе (и
оказывают известное влияние на нашу литературу). «Идеологе-
мы» эти отражали не столько особенности самого этого
движения, сколько исторические особенности его
восприятия и подхода к его теоретическому рассмотрению. Они
способствовали тому, что в поле зрения исследователей
оказывались подчас моменты, не существенные для
рассматриваемого движения, не характеризующие его
специфики. В ошибку этого рода было тем легче впасть, что
движение «новых левых» возникло в результате переплетения
довольно разнородных идейных и политических тенденций
и продолжало нести на себе их следы вплоть до
недавнего времени. Так что всегда оставалась (и отчасти
остается еще сегодня) спасительная возможность списать
неприятные «обертоны», время от времени возникавшие
в движении «новых левых» и диссонировавшие с
идиллическим представлением о нем, за счет пестроты
составляющих его социальных сил и идеологических устремлений.
* * *
По указанным причинам майские события 1968 года
в Париже, когда «новые левые» экстремисты попытались
перейти «от слов к делу», воспользовавшись общим
подъемом борьбы за социальную справедливость, который
переживала трудовая Франция, должны были произвести на
198
многих сторонних наблюдателей впечатление шока.
Политический авантюризм, граничивший с провокацией; явное
пристрастие к насильственным методам борьбы — даже в
тех случаях, когда в этом не было ни малейшей
необходимости; и, наконец, ярко выраженный нигилизм 1,
презрение к культуре, к общечеловеческим ценностям,
придающим смысл человеческому существованию,— все это мало
походило на прекраснодушный образ «новых левых»,
сложившийся у тех, кто судил о них понаслышке, на
основании отрывочных лозунгов, да собственных — так сказать,
«бытовых» — ассоциаций. Спасти же положение обычной
ссылкой на то, что все эти черты характеризуют только и
исключительно экстремистское крыло «новой левой», было
уже невозможно: майские события 1968 года показали, что
•это крыло не так уж чуждо движению в целом, как можно
было бы предположить, исходя из «априорно
положительного» к нему отношения.
Становилось очевидным, что «новые левые»
действительно заслуживают этого названия: при всех
политических и идеологических различиях, существующих в потоке
этого движения, его участников объединяет стремление —
во что бы то ни стало — быть «левее» (и «радикальнее», и
«революционнее») существующих политических партий,
включая те, что общепризнаны в качестве революционных,
ставящих своей целью коренные социалистические и
коммунистические преобразования. В области политической
это стремление с неизбежностью приводило «новых
левых» к активизму и волюнтаризму, к предпочтению
принуждения — убеждению, насилия — ненасильственным
способам борьбы, внепарламентских и внеправовых
методов — парламентским и правовым.
Что же касается отношения к культуре, то и здесь
«новые левые» пытались «перелевачить» все существующие
партии. В противоположность коммунистам, которые
исходят из ленинского положения о существовании «двух
культур» в каждой культуре, из которых только одна — а
именно эксплуататорская — должна быть ликвидирована,
тогда как другая — демократическая, общенародная,
несущая в себе социалистические потенции — должна быть вос-
1 На все эти моменты указал в своей статье «Асфальт и
булыжник» («Иностранная литература», 1968, № 12) Г. Брейтбурд —
автор одного из первых серьезных откликов на события 1968 г.,
появившихся в пашей печати (см. также статью-отклик Ц. Кин в
№ 10 «Иностранной литературы» за 1968 г.).
199
принята и развита революционными силами, «новые
левые» настаивали на том, что вся — без исключения и
изъятия — современная культура заслуживает лишь одного:
полного и окончательного уничтожения.
При этом весьма показательно: чем меньшего
удавалось достичь «новым левым» в реальной политической
борьбе против «фашизоидных», как они выражались,
правительств ведущих капиталистических стран, тем с
большей яростью выступали они против культуры, «как
таковой». И естественно, что на этом поприще — на поприще
культурного нигилизма — и «фашизоидные»
правительства, и их полиция позволяли «новым левым» много больше,
чем на политическом поприще. И если что и подвергалось
действительной опасности со стороны «новых левых» в
капиталистическом мире, так это, конечно же, не его
политическая система, а именно культура. Ведь ее-то власти
предержащие могли без особого сожаления принести в
же рву «новым левым» — особенно если таким образом
удавалось «переключить» их разрушительную энергию в
менее опасном направлении. А это, кажется, удалось-таки
сделать...
По мере того как все эти (неудобные для сторонников
прекраснодушной оценки движения «новых левых»)
аспекты «новой левизны» становились более и более
очевидными, в западной литературе о «новых левых»
выкристаллизовывались, обособляясь друг от друга, три подхода
к рассматриваемому явлению. Теперь можно было или
принять «новых левых» — со всеми неприятными
«обертонами» этого движения (попытавшись «обжить» как-то и
их, найдя в них «свою положительную сторону»); или не
принять их — несмотря на отдельные заслуги перед
общедемократическим движением (ибо не с ними связано
реальное содержание «новой левизны», культурный
нигилизм которой никак нельзя примирить с идеалами
демократии и социализма) ; или, наконец, поступить согласно
анекдотической формуле: «опять эта проклятая
неизвестность»,— то есть, закрыв глаза на очевидные факты, по-
прежнему утверждать «истинно гуманистическую суть»
этого движения. В соответствии с этими тремя
возможностями и формируются ныне три точки зрения на движение
«новых левых».
У каждой из этих точек зрения были свои (мнимые или
действительные — это пока что другой вопрос)
преимущества и свои трудности. Те, кто продолжают настаивать
200
на «обновляющей и освежающей» роли «новых левых» в
общественно-политической жизни буржуазного Запада, не
закрывая глаза на их экстремистские тенденции, должны —
вольпо или невольно и под тем или иным модусом —
принять и «новую левую» эстетизацию насилия. Многие из
авторов подобного типа — особенно те, для кого
«эстетический» подход означает полное абстрагирование от
человеческого аспекта рассматриваемых
явлений,—приветствовали «политические карнавалы» «новых левых»
экстремистов (вроде тех, что разыгрывались на улицах и
площадях Латинского квартала в 1968 году) просто потому, что
это... красиво, напоминает спектакль-хэппенинг:
«спектакль жизни и смерти, развернутых знамен и плакатов...» '.
Что же касается того общепризнанного факта, что в
мае 1968 года «интеллектуальная революция» очень
быстро превратилась в «культурную революцию» — по образцу
Мао — и студенты, со своей стороны, начали выступать
против культуры и искусства, которые казались им
«продуктами буржуазного общества» 2,— то в рамках
рассматриваемого подхода он «обживался» двояким способом.
Первый заключался в полном приятии тезиса о «сплошной
буржуазности» культуры и искусства в капиталистическом
обществе, а потому — восторженном одобрении
маоистского варианта «культурной революции», прорепетированного
во время парижских событий. В этих случаях обычно
ссылались на популярного в «новых левых» кругах Жана
Дюбюффе, согласно которому «культура и торговля
маршируют рука об руку» и «нельзя разрушить одну без
другой» 3, а сделать это тем более необходимо, что культура
«удушает» творчество и потому «ответственна за
современное состояние кризиса искусства и цивилизации» 4.
Второй способ — это истолкование антикультурных
тенденций «новых левых» экстремистов в качестве
«превращенной формы» сознания и восприятия процесса ста-
1 M. R a g о п. Der Künstler und die Gesellschaft.— In: «Kunst ist
Revolution». Köln, 1969, S. 28 (ср. также ст. Э. Я. Баталова
«Воображение и революция», в особенности раздел 3: «Революция как
эстетический феномен».— «Вопросы философии», 1972, № 1, с. 75—
78).
2 «Kunst ist Revolution», S. 33 (ср. S. 57, 59, 60, 93, 129, 132, 145,
157, 180, 181, 189).
3 Цит. по ст.: M. Ragon. Der Künstler und die Gesellschaft.—
Op. cit., S. 38.
4 Цит. по ст.: A. F е г m i g i с г. «Nie mehr Claudel!» — Op. cit.,
S. 57—58.
201
новления новой культуры, точнее — почвы для этой
последней: «новой чувственности» !. Кстати, с помощью этого
способа истолкования (а точнее — оправдания,
апологетики) обосновывались и «издержки» сексуальной
революции, последовательно доводимой «новыми левыми» до
полной ликвидации моральных норм в сфере эротических
взаимоотношений между людьми. Наконец, этот же
способ интерпретации использовался и в целях
«реабилитации» наркотиков — что также следует считать
определенной заслугой «новых левых» 2.
В рамках второй, то есть преимущественно критически
негативной, точки зрения на движение «новых левых»
(хотя этот негативизм не исключал ни признания отдельных
заслуг этого движения, ни личного мужества многих его
героев, ни искренности его теоретиков и публицистов)
акцентировали внимание на поразительных совпадениях,
существующих между теми тенденциями, которые
воспроизводит «массовая культура» так называемого «общества
потребления», с одной стороны, и теми—
«революционными»!— требованиями, которые начертали на своих
знаменах «новые левые» экстремисты, с другой стороны3.
Авторы, для которых характерен этот подход,
обращали внимание, скажем, на то, что ни требование
«обнажения» и «либерализации сексуальных отношений» (путем
«упразднения» здесь «буржуазных табу», то есть,
попросту говоря, нравственных требований), ни призыв к
реабилитации наркотиков (которые, оказывается, позволяют —
хотя бы временно — освободиться от «буржуазного я»), ни
перенесение нравов американского «вестерна» — со
свойственным ему культом жестокости — в политику и
культурную жизнь (грабеж банков, «умыкание» заложников,
политический террор, с одной стороны, «брутализация»
языка журнальной публицистики и языка искусства — с
другой), ни антиинтеллектуализм, сопровождающийся
подозрительным отношением ко всякой теории, и
нетерпимость, побуждающая видеть в любом проявлении
инакомыслия «корыстный» и «низменный» интерес,— ни один
1 Термин Г. Маркузс. См. его «Versuch über Befreiung», в
особенности раздел «Новая чувственность», который начинается
словами о том, что она «стала политическим фактором» (S. 43).
2 Об этом см. в упомянутой книге Маркузе.
3 См. ст. Дж. Пассмора «Культура и бунт» в ноябрьском
номере журн. «Энкаунтер» за 1970 г. (ср. также: Ю. Н. Давыдов.
Критика «повых левых».—«Вопросы литературы», 1970, № 2).
202
из этих моментов не является собственным открытием
«новой левой». И то, и другое, и третье, и четвертое — все
это было открыто (разумеется, не вообще, а для середины
нашего века) «массовой культурой» капиталистического
общества, вступившего в фазу «общества потребления».
* * *
Наконец, для третьей точки зрения на «новых левых»,
отмеченной стремлением сознательно или бессознательно
игнорировать их нигилистические, иррационалистические
и экстремистские тенденции, специфично спутывание
этого течения не только с традиционно-радикалистским, но и
с лево-либеральным (тем более что это течение также
стремилось перевооружиться в соответствии с
настроениями современной молодежи и кое в каких пунктах пытается
«модернизировать» свои гуманистические предпосылки).
Если смотреть с этой точки зрения, то в лагере «новой
левой» вроде и не существовало ни склонности молодых
экстремистов к «игре» с полицией в нечто вроде
«партизанского вестерна» (в переводе на русский язык это
можно было бы назвать «игрой в казаки-разбойники»), ни
авантюристических «путчей» европейских и американских
поклонников Мао во время мирных демонстраций
трудящихся, ни прочих явлений аналогичного порядка,
опаснейшим образом сближающих «революционаризм» и
провокационную деятельность.
И если нечто подобное где и происходило, то
происходило, конечно же, безо всякой связи с движением «новых
левых» и его идеологией, которая — как казалось
представителям этой прекраснодушной точки зрения — в
принципе исключает возможность упомянутых политических
приложений и применений.
Когда же фактов о связи экстремистских эксцессов
с идеологией «новой левой» накапливалось так много, что
от них уже некуда было деться, тогда сторонники этой
точки зрения прибегали к наиболее эффективному
полемическому приему. От тех, кто предлагает им упомянутые,
не совсем для них приятные факты, они требовали
«социологического истолкования» этих фактов,— причем такого
истолкования, которое не только объяснило, но и
оправдало бы эти факты, сделав их как бы и несуществующими.
«Вы говорите нам об экстремистских тенденциях, с
необходимостью возникающих в движении «новых левых»,—
203
возражали они.—Так вот, будьте добры, объясните,
почему люди, борющиеся за такие хорошие идеалы, встают
вдруг на путь политического экстремизма,
индивидуального террора и прочих неприятных вещей. Покажите нам,
что в такой метаморфозе виновны не они сами — ибо они
вдохновляются истинно гуманистическими идеалами — а
социальные условия, которые исключают иные методы
борьбы за эти идеалы, кроме террористических».
В случае подобных возражений совершались, по
крайней мере, две ошибки. Во-первых, аргументация строилась
так, будто вообще нет политических течений и партий,
борющихся за «хорошие идеалы» иными средствами,
кроме авантюристических и террористических. Во-вторых,
молчаливо предполагалось, что идеалы «новых левых»
«только хорошие» и ни в них, ни в мировоззренческих
предпосылках, на основании которых они развиты, нет
ничего такого, что с необходимостью толкало бы на путь
экстремизма, терроризма и авантюризма. Между тем обе
эти негласные предпосылки не выдерживают критики:
первая из них противоречит очевидным фактам, а вторая —
по меньшей мере не доказана.
* * *
Спор о «новых левых» начинается уже с самого
первого вопроса — с вопроса о том, кого считать
принадлежащими к этому движению, а кого — нет. В зависимости от
своих симпатий или, наоборот, антипатий к «новой левой»
авторы, пишущие о ней, либо расширяют, либо сужают это
понятие. В одних случаях под него подводятся течения
социально-философской мысли и
практически-политического поведения, которые совпадали с движением «новых
левых» лишь хронологически, сосуществуя с ним на арене
политической жизни капиталистического Запада. В других
случаях из объема этого понятия «изымаются» даже
течения, которые осознавали свою теорию и практику в
понятиях идеологии «новой левой». Для одних авторов
основанием причисления к «новой левой» является соответствие
социально-политической ориентации рассматриваемого
движения фразеологии его «отцов»-идеологов — Маркузе,
Сартра, Адорно, Хоркхаймера и др. Для других таким
основанием могут служить только «практические дела»,
отвечающие к тому же наиболее крайним лозунгам
молодых публицистов из поколения «детей»; в ФРГ, папример,
204
это Руди Дучке, братья Коп-Бепдит, Р. Рейхе, Ганс Юр-
ген Краль ит.д.ит.п.1.
Во всей этой разноголосице по поводу того, кого
можно, а кого нельзя назвать «новыми левыми», отчетливо
фиксируются два эмпирических факта, к которым чаще
всего апеллируют авторы, пишущие по этому вопросу.
Первый факт,— связанный с тем, что основной
теоретический арсенал, которым они пользовались в
шестидесятые годы, сложился где-то в самом конце пятидесятых
годов 2, причем — в среде философов и социологов, которым
уже тогда было «за сорок» (а кое-кому и «за пятьдесят»).
Возраст, который у самого молодого третьего поколения
«новых левых» вызывал весьма серьезные подозрения в
силу якобы органически присущей ему склонности к
конформизму и даже реакционности.
И второй факт,— заключающийся в том, что «новая
левая» вышла на политическую арену — и, главное, была
признана в качестве реальной силы — лишь в середине
шестидесятых годов, в связи с молодежным движением
протеста, поскольку это движение использовало
теоретический арсенал понятий, созданных «отцами»-идеологами,
для осмысления своих собственных
практически-политических устремлений.
Отсюда — большой соблазн: у одних авторов — либо
поставить под знак «новой левой» все лев о-радикальные
(и даже лево-либеральные) процессы общественной мысли
и политической практики, углубляющиеся на Западе
начиная с конца пятидесятых годов; либо, в худшем случае,
назвать движением «новых левых» все молодежное
движение, включая и движение за реформу высшего
образования, против милитаризации науки, против войны во
Вьетнаме и т. д., не делая при этом никаких различий между
отдельными потоками и течениями, вливавшимися в его
общее русло;3 у других авторов — либо подвести под по-
1 См.: «Rebellen der Studenten oder die neue Opposition? Eine
Analyse von U. Bergmann, R. Dutschke, W. Lefebwre, B. Rabel. Rein-
bek bei Hamburg», 1968.
2 Тогда же был пущен в оборот и сам термин «новые левые»,
который принадлежит известному американскому социологу Райту
Миллсу (см. Wright Mills Ch. Letter to the New Left.— «New Left
review», London, 1960, sept.—oct.).
3 Этому соблазну обычно не могут противостоять авторы,
которые сами причастны к движению «новых левых» (см., напр.:
J. Habermas. Protestbewegung und Hochschulreform. Fr. a. M.,
1969).
205
нятйе «новой левой» только экстремистское крыло
молодежного движения шестидесятых годов; либо (опять-таки
в худшем случае) «приплюсовать» к этому
экстремистскому крылу еще и тех — но только тех — представителей
«поколения дедушек», как выразился однажды Ионеско,
которых подняли на щит молодые «акционисты»,
называющие себя «провоториатом» 1 (в числе этих «дедов», с
которыми «новые левые» экстремисты заключили союз
против «отцов», чаще всего тогда упоминали Троцкого и
Мао Цзе-дуна) 2.
Однако ни первый, ни второй варианты определения
понятия «новой левой» нельзя считать точными прежде
всего фактически. Ибо в первом случае авторы, во что бы
то ни стало желающие преувеличить размеры движения
«новых левых», дабы оно выглядело более впечатляюще
(и одновременно — более респектабельно), отвлекаются от
того реального обстоятельства, что лево-радикальное
движение шестидесятых годов было представлено не только
«новыми левыми» радикалами, но и «старыми левыми»
радикалами, которые внесли не меньший вклад в это
движение, чем первые, хотя и остались на
традиционно-демократических и традиционно-гуманистических позициях. То же
самое можно сказать и о молодежном движении. Правда,
в нем «новая левая» фразеология распространена более
широко, чем среди старшего поколения радикалов. Однако
она не может скрыть того, что разные потоки этого
движения вдохновляются существенно различными
политическими и мировоззренческими установками.
Во втором же случае авторы, желающие преуменьшить
размеры описываемого движения, но одновременно
представить его в самом мрачном свете, достигают
противоположного тому, к чему стремятся. «Левый» экстремизм в
этом случае выглядит как простая «накипь» — как «пена»
1 Производное от слова «провокация», которому сперва
битники, а затем «новые левые» экстремисты — едва ли не впервые
в истории революционного движения — придали положительный
оттенок (см.: V a s s а г t, Chr. et Racine, Aimée. Provos et proletariat.
Un an die recherche participante en milieu provo. Bruxelles, 1968. Ср.:
R о d i, Frithjof. Provokation-Affirmation. Das Dilemma des kritischen
Humanismus. Stuttgart ets., 1970. Hommes U. Provokation des
Vernunft? Herbert Marcuse und die neue Linke.—«Aus Politik und
Zeitgeschichte», Bonn, 1969, 1 Nov, № 44, S. 3—27.
2 Этому соблазну не мог противостоять, например, Гизельхер
Шмидт: см. его кн. «Наследники Гитлера и Мао. НДП и «новые
левые» («Прогресс», М., 1971).
200
на гребнях волп освободительного движения,
протекающего в традиционно-гуманистических (и даже традиционно-
либеральных) его формах. Это, между прочим,— позиция,
неожиданным образом совпадающая с точкой зрения
наиболее прекраснодушно настроенных свидетелей
движения «новой левой», которые были склонны закрывать
глаза на все его «крайности» или, по крайней мере, объявить
их чем-то несущественным, случайным.
В этом последнем случае пишущие о «новых левых»
отвлекаются от одного и того же реального обстоятельства:
органической, внутренней связи, существующей между
глубинными — а не поверхностными, выраженными в
велеречивых лозунгах и декларациях,—
предпосылками идеологии «новой левой» и экстремистскими
политическими эксцессами ее «акционистски» настроенного
крыла 1.
Вот почему движение «новых левых» вновь и вновь
воспроизводило в своем русле экстремистские «акции»,
граничившие подчас с грубыми провокациями. Вот почему
эти «акции» так часто оправдывались публицистами из
числа «новых левых» экстремистов ссылками на те или
иные высказывания «отцов»-идеологов движения, причем
«отцам» здесь, как говорится, «крыть было нечем». Вот
почему этим последним в такой ситуации приходилось
делать выбор: либо пересматривать предпосылки своих
собственных концепций, либо соглашаться с их
экстремистскими «приложениями» к политической практике. Вот
почему в среде «новых левых» так трудно было найти
последовательных теоретических противников
экстремизма — даже в числе тех, кто сам не был склонен принимать
участие в экстремистских провокациях.
Вот, наконец, в чем невыдуманная — не
преувеличиваемая и не преуменьшаемая — опасность наследия всей
«новой левой», а не только ее экстремистского крыла; пока
оно будет существовать в его настоящем виде — будет
вновь и вновь воспроизводиться теоретическая и
психологическая атмосфера, в пределах которой экстремистские
выводы будут казаться наиболее последовательными и
логичными.
1 Этой аберрации ие чужд, в частности, и Юргеп Хабермас
(см. уже упомянутую его кп. «Protestbewegung und
Hochschulreform». Ср.: Lang К. Die Studentische Linke — Elemente einer
zukunftigen Gesellschaftsordnung.—In: «Demokratie im Umbruch». Wien,
1970, S. 41—64).
207
* * *
В соответствии с двумя основными иолюсами, вокруг
которых концентрируется проблематика исследования
«новой левой» — вопрос об истории ее идеологии, уводящий
в пятидесятые годы (и даже в более раннее время), и
вопрос об истории ее практически-политической
деятельности, начало которой можно датировать лишь серединой
прошлого десятилетия,— группируется и литература об
этом движении. Грубо всю эту литературу можно
подразделить на работы о философских, социологических,
эстетических, искусствоведческих концепциях «отцов» идеологии
«новых левых» ( и их последователей вроде Юргена Ха-
бермаса — ученика Адорно), с одной стороны, и работы о
практически-политической истории тех групп и течений
движения «протестующей молодежи», которые взяли на
вооружение эту идеологию, приспособив ее для своих
целей (при помощи таких авторов, как Дебре, Фанон
и т. д.),— с другой стороны.
Разумеется, проблематика работ как первого, так и
второго типа должна была бы постоянно пересекаться.
Однако, в силу того, что связь теории «новой левой» и практики
некоторых отрядов молодежного движения выявилась
сравнительно поздно (а была осознана во всем значении
еще позднее), оба потока литературы некоторое время
двигались параллельно, не пересекаясь друг с другом.
И только после 1968 года появляются работы, так или
иначе объединяющие исследование политической истории
движения «новых левых» с анализом его идеологических
(и мировоззренческих) предпосылок.
Долгое время, причем не только до возникновения
молодежного движения протеста, но и после, авторы книг
и статей о Сартре, Адорно и других ныне признанных
идеологах «новой левой» рассматривали их воззрения безо
всякой связи с политической практикой, программами и
лозунгами этой последней. Более того: от внимания
исследователей ускользала даже связь, объединявшая в рамках
общих мировоззренческих постулатов Маркузе и Адорно,
Адорно и Сартра и т. д. В глаза бросалось прежде всего
то, что разделяло этих мыслителей,— как это
засвидетельствовали они статьями и репликами, направленными друг
против друга К Наиболее глубокая пропасть, казалось,
1 См., напр., ст. Т.-В. Лдорпо «Engagement», направленную
против сартровского понимания «ангажированного» искусства
208
пролегала между ведущим представителем «левого»
экзистенциализма, с одной стороны, и сторонниками
социологически ориентированного философствования — Маркузе,
Адорно, Хоркхаймером — с другой.
Неожиданно объединил этих различных мыслителей
тот факт, что «новая левая» молодежь признала всех их —
вместе! — своими духовными наставниками, отказавшись
обращать сколько-нибудь серьезное внимание на
полемику, которую они вели между собой долгие годы. Это
обстоятельство, во-первых, заставило принять к сведению,
сделав отсюда необходимые выводы, то, что популярные
среди молодых «новых левых» Хоркхаймер и Адорно,
Маркузе и Фромм были связаны (первые двое — на всех,
вторые на отдельных, но решающих этапах своего
теоретического развития) с Франкфуртским институтом
социальных исследований 1, что они, вместе с Гердом Шолемом
и Фридрихом Поллоком, могут считаться
принадлежащими к одной и той же философско-социологической
школе — Франкфуртской школе, для которой
характерно стремление «синтезировать» Маркса и Фрейда
(или — переводя на язык молодого поколения «новых
левых» — социально-политическую и «сексуальную»
революции).
Во-вторых, в глазах исследователей приобрела большее
значение та философская эволюция, которую проделали
начиная с середины пятидесятых годов (то есть в то
время, когда окончательно формулировалась идеология
«новой левой»), с одной стороны, Сартр, а с другой —
теоретики Франкфуртской школы. Ибо это была эволюция, в
процессе которой представители различных философских
тенденций «новой левой» идеологии двигались по
направлению друг к другу: по пути сближения их
мировоззренческих постулатов, точнее — по пути выявления общности,
родственности этих последних.
Для Сартра это был период активной ассимиляции
некоторых понятий и представлений марксизма-ленинизма,
который он, так же как и социо-философы
Франкфуртской школы, пытался «модернизировать» с помощью
(Th. W. Adorno. Noten zur Literatur III. Fr. a. M., 1965), а также
ст. Г. Маркузе против экзистенциализма Сартра (в сб.: H. M а г с и-
s е. Kultur und Gesellschaft I. 5 Aufl. Fr. a. M., 1967).
1 Ипститут этот «эмигрировал» в США вместе со своим
руководителем — Хоркхаймером, а после второй мировой войпы
вернулся в Франкфурт-на-Майне.
209
фрейдистских ходов мысли \ Для Фромма, с одной
стороны, Маркузе — с другой, Адорно — с третьей, это был
период такой полемики с экзистенциализмом, которая, как
правило, завершалась новым и новым усвоением
интеллектуальных установок (Адорно), отдельных идей
(Фромм) и даже некоторых терминов (Маркузе,
заимствовавший сартровский термин «проект») критикуемого
философского течения.
В целом, если где и можно говорить об идеологической
«конвергенции», так это в рассматриваемом случае.
Причем— любопытно: эта «конвергенция» происходила в
форме выявления общности мировоззренческой традиции, на
базе которой совершалась эволюция «левого»
экзистенциализма, с одной стороны, и «левого» марксизма — с другой.
Юрген Хабермас видит основу этой общности в
позднем гуссерлианстве. «Левые экзистенциалисты в
Париже...— пишет оп,— смогли после войны поставить анализ
«мира человеческой жизни», данный в работах позднего
Гуссерля, на место хайдеггеровского анализа
«существования». При этом они опираются, по мнению Хабермаса,
«на феноменологическую основу такого марксизма,
который получал своеобразное истолкование у
Герберта Маркузе»2. Однако было бы точнее, говоря об
общности идейных предпосылок «новых левых», сослаться
на традицию, восходящую к ((эстетическому нигилизму»
Ницше.
В процессе сближения «левого» марксизма
Франкфуртской школы с «левым» экзистенциализмом Сартра (и
наоборот) эти идейные тенденции обнаруживали свою
родственность друг другу в качестве двух полюсов одного
и того же типа сознания, основы которого сложились к
концу прошлого столетия — по мере углубления общего
кризиса западноевропейского рационализма и гуманизма,
а заключительным этапом развития которого можно
считать именно идеологию «новых левых». К осознанию этого,
вот обстоятельства и подвели исследователей
представители молодого поколения «новой левой», нашедшие своих
идейных «отцов» как среди основоположников Франк-
1 См.: J. М. Е d i е. Sartre as phenomenologist and exislenzial-
psychologist.— In: «Phenomenology and existenzialism». Baltimore,
1968, p. 139—178. A. Stern. Sartre. His philosophie and existenzial
psychoanalysis. N. Y., 1967.
2 Ср.: H. M а г с u s e. Hegels Ontologie und die Grundlegung eine
Theorie der Geschichtlichkeit. Fr. a. M., 1932.
210
фуртской школы, так и среди создателей «левого»
варианта экзистенциализма 1.
Что же касается практически-политической истории
молодежного движения, то первоначально она не
рассматривалась отдельно от общедемократического
(лево-либерального и лево-радикального) движения,
активизировавшегося в наиболее развитых капиталистических странах —
прежде всего в США — с начала прошлого десятилетия:
например, в связи с движением за гражданские права в
Соединенных Штатах. И только с середины шестидесятых
годов, когда отдельные группы (и целые слои) молодежи
начали противопоставлять себя «старикам»,
возглавлявшим это движение (критикуя их «слева», пользуясь
«новой левой» фразеологией и предлагая свои приемы и
методы идеологической полемики и политической борьбы),
только с этого времени начали появляться работы,
характеризующие «бунтующую молодежь», в отличие от других
участников лево-либерального и лево-радикального
движения и — все чаще и чаще — в противоположность им.
Поскольку ассимиляция идей Маркузе, Адорно и
Сартра, а также тех более молодых публицистов, которые
использовали их идеи для обоснования «нового стиля»
политической борьбы (например, Дебре2 и Фанон3), была
одним из весьма существенных моментов самосознания
«протестующей молодежи»,— постольку авторы, пишущие
о ней, должны были быстрее натолкнуться на связь
молодежного движения с «новой левой» идеологией, чем
исследователи, специально анализировавшие эту последнюю.
В работах 1967, а особенно 1968—1971 годов,
посвященных молодежному движению, как правило, большее или
меньшее место отводится характеристике воззрений их
идейных вдохновителей — «отцов»-идеологов «новой
левой» 4.
1 Ср.: W. L. McBride. Sartre and the phenomenology of social
violence.— In: «New essays in phenomenology». Chicago, 1969, p. 290—
olo.
2 См.: Régis D e b г а у. Révolution dans la révolution. Lutte armés
et Lutte politique en Amérique latine. Paris, 1967.
3 См.: P. Clémente. Frantz Fanon tra esistenzialismo a revolu-
zione. Bari. Laterza, 1971.
4 См.: R. King. The party of eros. Radical social thought and
the reakt of freedom.—«The Univ. of North Carolina press», 1972.
W. P f a f f. Condemned to freedom. N. Y., 1971. R. N. В е г k i. Marcuse
and the crisis of the new radicalism: from politics to religion? — «Journ.
of politics», Vol. 34, № i. Gainesville, 1972, p. 56—92.
211
Правда, по мере перехода бунтующих молодых людей
«от слов к делу» между ними и «отцами»-идеологами (во
всяком случае, большинством из них) начали возникать
конфликты, особенно обострившиеся после майских
событий 1968 года в Париже. Некоторых из «отцов»-идеологов
настораживали явно экстремистские тенденции молодого
поколения «новых левых» 1. Лидерам же этого поколения
казалось, что такая позиция «отцов»-идеологов —
проявление их непоследовательности и недостаточной
революционности, возникших в результате «старческого склероза».
Если попытаться проследить — разумеется, в самых
общих чертах — эволюцию оценки движения «новых
левых» в литературе, ему посвященной, то придется
характеризовать по отдельности: изменение оценки, с одной
стороны, его идеологии, а с другой — его практики,
поскольку оба этих аспекта движения очень редко оценивались
тождественным образом. Первоначально работы идеологов
«новой левой», если исключить Сартра (чья популярность
уходила своими корнями в период, предшествующий
оформлению этой идеологии), не имели сколько-нибудь,
широкого резонанса.
Характерно, что отмеченный период (1966—1968 гг.)
был не только фазой наименее критического приятия
«отцов»-идеологов «детьми»-практиками из числа «новых
левых», но н временем — по крайней мере, частичного —
признания их в литературе, посвященной этому
движению. Большое впечатление, произведенное на пишущих о
«новых левых» размахом этого движения, определило в
общем положительную оценку как его самого, так и его
идеологов.
Однако уже к концу 1968 года в литературе о
«протестующих студентах», до той поры в основном
одобрительной, наметилось (на общем фоне большого пласта
«нейтральной» безоценочной литературы) резкое расхождение
оценок,— безоглядно положительных, с одной стороны, и
бескомпромиссно отрицательных — с другой. До сих пор
еще трудно судить, какая из этих сторон победила, чья
оценка движения «новых левых» стала
доминирующей. Можно лишь сказать, что в фундаментальных социо-
1 Ср.: М. Horkheimer. Traditionelle und kritische Theorie.
Vier Aufsätze. Fr. a. M. und Hamburg, 1968, S. 7—11. Th. W.
Adorno. Keine Angst vor dem Elfenbeinturm.— «Spiegel», Hamburg, 1969,
5 Mai, № 19, S. 204, 206, 208, 209.
212
логических исследованиях «новой левой» преобладает либо
«нейтральная», либо негативная, а в журпально-иублшш-
стических статьях и эссе — позитивная оценка движения.
Но вот что касается литературы, посвященной идеологам
«новой левой», то в ней безусловно доминирует сегодня
негативное к ним отношение — как со стороны
«детей»-практиков этого движения, так и со стороны авторов,
находящихся за его пределами.
Несмотря на большую разноречивость оценок
движения «новых левых» в современной зарубежной литературе,
она более или менее едина в констатации того факта, что
на рубеже шестидесятых — семидесятых годов это
движение вступило в фазу глубокого кризиса, от которого оно
уже не смогло оправиться1. Одним из важных источников
и в то же время наиболее ярких проявлений этого кризиса
была деятельность «лево»-экстремистских групп («группу-
скул»), которой уже не смогли воспрепятствовать более
умеренно настроенные «новые левые»,— не смогли потому,
что их идеология не давала им достаточно веских
аргументов против абсолютизации насилия и фетишизации
террора.
По мере активизации «лево»-экстремистских (главным
образом маоистских и троцкистских) сил в 1969—1972
годах усилилась критика их методов борьбы, их стратегии
и тактики также и внутри «нового левого» движения. Но
так как критики экстремистского «левачества» в самом
лагере «новых левых» не могли предложить реальной
альтернативы политическому экстремизму (для этого они
должны были выйти за пределы «новой левой» идеологии
вообще), результатом полемики оказывались новые и
новые расколы. Причем отколовшиеся секты и группировки
с тем большей яростью принимались за продолжение
своих насильственных и террористических «акций», чем
меньше принципиальных аргументов против абсолютизации
насилия и фетишизации террора они встречали со
стороны умеренных «новых левых». Движение явно оказалось
не в состоянии «переварить» экстремистские тенденции,
возникшие в его лоне; последние определенно сыграли
1 Отражением, а отчасти предвосхищением этого кризиса было
также углубление теоретических разногласий в среде «новых
левых», причем не только между «отцами»-идеологами и молодыми
«практиками», но и между этими последними, с одной стороны, и
«средним» поколением «франкфуртцев» (например, Хабермас) —
с Другой.
213
роль раковой опухоли, приведшей движепие к
«летальному исходу» К
Характерно, что как раз резкий спад этого движения,
вступившего к концу шестидесятых годов в полосу
кризиса и распада, обнаружил одно крайне любопытное
обстоятельство. Оказалось, что и после того, как движение
«новых левых» пришло к своему краху, идейно-эстетическая
тенденция, выдвинувшаяся и развивавшаяся в связи с ним,
и «новейшие умонастроения», порожденные им,
продолжали существовать, воздействуя на
литературно-художественную интеллигенцию Запада. Обнаружилось, что
соответствующий круг идей и умонастроений имел свой
собственный заряд активности, позволяющий им развиваться и
после того, как почти вовсе сошло на нет движение,
которому они, казалось, были обязаны жизнью и
одушевляющим их пафосом. Парадокс, который уже сам по себе
заслуживает того, чтобы стать предметом исследования.
Впрочем, не это здесь самое интересное. Гораздо
интереснее то, что как раз спад движения «новых левых» об-,
наружил более глубокую основу, на которой покоились
идеи, умонастроения, литературно-художественные
устремления, «клубившиеся» вокруг него, муссировавшие его
лозунги, а потому казавшиеся именно его порождением,
только его детищем. А основой этой был факт
приобретения государственно-монополистическим капитализмом
формы так называемого «общества потребления», что, в
свою очередь, несло с собой очень глубокие
трансформации в мировоззрении, в моральном сознании, в культуре
Запада в целом. Эти метаморфозы резюмировались
культурным феноменом, за которым по праву утвердилось
название «враждебной культуры» — антикультуры,
отрицающей сам принцип духовности, живущей негативист-
ским отрицанием западной культурной традиции и
существующей за счет непрестанной «переоценки всех
ценностей», за счет сжигания и предания анафеме всего
того, чему сама же она воскуряла фимиам еще вчера,— но
тем не менее претендующей на то же место и ту же роль
в официальной культуре, которую еще недавно почти
безраздельно занимала традиционно ориентированная
культура.
1 Уже в литературе начала семидесятых годов идея «конца»
движения сопровождалась обсуждением естественно возникавшего
вопроса: «кто убил» его?
214
Так вот: после того как схлынул поток «нового левого»
бунта против культуры, обнаружилась истинная роль,
которую сыграло это движение. Если иметь в виду
интересующий нас — «культурно-художественный» — аспект
проблемы, то здесь, как оказалось, «новые левые» сделали
только одно-единственное: они помогли «враждебной
культуре», рвущейся к власти над умами, занять наконец
официальные позиции, «институционализироваться»,
проникнув во все решающие звенья «культурной индустрии» и
системы массовой коммуникации. «Новые левые», с одной
стороны, довершили дело разгрома той (и без того
теснимой уже со всех сторон) ветви западной культуры,
которая связывала себя с гуманистическими идеалами и
ценностями, а также с духом протестантской этики
индивидуального труда и личной ответственности, обвинив всю
эту традицию в буржуазности и контрреволюционности
(обвинения, действовавшие безотказно в шестидесятые
годы, в особенности — на окончательно дезориентированных
либералов и прогрессистов). С другой стороны, они
утвердили — сперва в качестве непререкаемого требования
непрерывно «левевшей» моды, а затем в виде «само собой
разумеющегося», «абсолютно достоверного» постулата —
основной принцип «враждебной культуры» : принцип
самодовлеющего отрицания — отрицания, не предлагающего
никаких положительных, конструктивных альтернатив и
опирающегося только на самого себя, свою собственную
(якобы изначально ему присущую) «революционность» и
«перманентность».
Таким образом, троцкистская идея «перманентной
революции», гальванизированная движением «новых левых»,
действительно «победила» в итоге этого движения, но
«победила» — лишь применительно к сфере духовной
культуры Запада, где и могла беспрепятственно проявить
свою разрушительную, нигилистическую природу. Под
давлением «молодежного бунта» (возглавляемого совсем
не молодыми теоретиками) «перманентное отрицание»
было наконец легализовано властями предержащими, по
легализовано лишь в той сфере, которой они, на худой
конец, могли и пожертвовать, а именно — в сфере
нравственно и гуманистически ориентированной культуры: она
оказалась объектом беспрепятственного, не знающего удержу
нигилистического отрицания. В культуре
капиталистического Запада произошли наконец те необратимые
изменения, которые давно вызревали в ее непросветленных глу-
215
бинах и которых так жаждали все те, кто представлял
себе «общество потребления» (форму которого принял
государственно-монополистический капитализм в
пятидесятые — шестидесятые годы) как «общество
вседозволенности» или решающую предпосылку для окончательного
утверждения такового. Действительно, если само это
«общество потребления» и не стало таким раем
«вседозволенности» (поскольку «дозволялись» в нем только
вполне определенные вещи), то его культура, представшая
теперь в виде «враждебной культуры», очень напоминала
этот рай: в ней и в самом деле «дозволялось» — и
дозволялось вполне официально — делать все, что угодно, в ней не
было ничего недозволенного... кроме разве одного: в ней
запрещалось утверждать что-либо положительное,
нравственное, «высшее в себе».
Таким образом, под барабанный бой бесконечных
словопрений о «культурной революции», время от времени»
прерываемых отдельными антикультурными эксцессами
хэппенингообразного толка, в культуре
капиталистического Запада происходили роковые изменения, об истинном
смысле которых не догадывались пи практики, ни теоретики
«нового левого» бунта. Шел бурный процесс «институ-
ционализации», то есть врастания в сложную и
разветвленную систему государственных учреждений, в
капиталистически организованную систему «духовного
производства» негативистской «враждебной культуры»,— процесс
тем более парадоксальный, что как «новые левые»
идеологи, так и кумиры этой всеотрицающей «культуры»
неизменно выступали с позиций анархизма и отрицания всякой
государственности, в каком бы виде она ни выступала.
«Враждебная культура» въехала в
государственно-монополистический «истэблишмент», проклинаемый «новыми
левыми» бунтарями, на белом коне... их собственного
бунта: ведь он-то и расчистил для нее дорогу, усыпав ее
цветами сверхреволюционных фраз.
Несмотря на свой шумно возвещаемый «антиидеоло-
гизм», движение «новых левых» оказалось в высшей
степени «идеологичным» в том смысле, в каком пользовались
этой характеристикой авторы «Немецкой идеологии»: ни
теоретические представители этого движения, ни его
неистовые практики-«акционисты» не отдавали себе отчета
в том, жернова какой мельницы они крутят своим бунтом.
Л «мельницей» этой было все то же «общество
потребления», на пути дальнейшей эволюции которого стояли не-
216
которые «табу» — прежде всего нравственного, а затем и
общекультурного порядка, унаследованные от широко
понятой (то есть связанной не с одним лишь Ренессансом)
гуманистической традиции. Эти «табу» нужно было
«разоблачить», и прежде всего «разоблачить» перед лицом
интеллигентов — «мастеров культуры», функционеров
«культурной индустрии»; причем оказалось, что сделать
это легче всего, если назвать их «буржуазными» и
«контрреволюционными», то есть сыграв на «естественном
радикализме» литературпо-художественной интеллигенции,
которая действительно в основной своей массе попалась на
эту удочку и поспешила отречься от всего, что «новая
левая» мода обозначила этими этикетками. Как только эта
задача была выполнена, все нравственные «табу»
разоблачены в качестве «буржуазных» и «контрреволюционных»,
и даже в сфере культурного официоза утвердился стиль
мышления, эстетического восприятия и бытового
поведения, соответствующий «враждебной культуре», интерес к
движению «новых левых» стал резко падать; на передний
план начал выпирать политический «эксцентризм»
(терроризм, авантюризм и т. д.) «новых левых» экстремистов,
окончательно дискредитировавший движение перед лицом
западной общественности — как нелиберального, так и
либерального толка.
Рассмотрим, однако, основные моменты этого
поучительного процесса, взяв их в связи с соответствующими
литературно-художественными концепциями.
Раздел третий
БУНТ «НА ДНЕ» ОТЧАЯНИЯ
Глава первая
ВОССТАНИЕ ПРОТИВ «ПРИНЦИПА ИНДИВИДУАЛЬНОСТИ»
1. ИСКУССТВО КАК СПОСОБ ИЗГНАНИЯ ЛИЧНОСТИ
ИЗ САМОЙ СЕБЯ
Еще в своей работе «Эрос и цивилизация» Маркузе
писал, что сюрреалисты поняли революционные следствия,
которые могут быть выведены из открытий Фрейда, и с
той поры искусство стало союзником революции
(разумеется, взятой в ее сюрреалистическом и маркузеанском —
то есть «лево»-экстремистском — понимании).
Сюрреалисты импонировали автору «Эроса и цивилизации»,
во-первых, радикальной перестановкой акцентов, которую они
произвели в рамках фрейдовского учения, выдвинув на
первый план фантазию (воображение) и подвергнув
уничтожающей критике разум — по причине его склонности
считаться с реальностью, представлявшейся им столь же
буржуазной, сколь и контрреволюционной. «Идеи логики,
порядка, истины, разума,— заявляли они в журнале
«Сюрреализм на службе революции»,— мы все предаем
небытию, смерти. Вы не знаете, до чего может нас довести
наша ненависть к логике» *.
Во-вторых, они производили сильное впечатление на
Маркузе своей скрупулезной разработкой техники
«высвобождения» инстинктов и влечений, скованных
«буржуазным» разумом, «мещанской» моралью и всей
«угнетательской» культурой. Основную перспективу разработки этой
техники главный теоретик «левого» сюрреализма, Андре
1 André Breton. Les manifestes du surréalisme. Paris, 1946,
p. 22.
218
Вретоп, наметил уже в своем первом «Манифесте
сюрреализма»: «Чистый психический автоматизм, с помощью
которого может быть выражено, устно ли, письменно или
каким-либо иным способом, реальное функционирование
мысли. Диктовка мысли, отключающая всякий контроль
разума, всякое эстетическое и моральное
предубеждение» *. В сюрреалистических произведениях,
фиксирующих с помощью такой техники бессознательные влечения
их авторов,— то есть осуществляющих акты «рассублими-
рования», «десублимации» репрессивной культуры,—
Маркузе не мог не почувствовать тенденции, соответствующей
его теоретическим воззрениям.
Но, по-видимому, больше всего отвечало (и отвечает)
установкам Маркузе стремление сюрреалистов утвердить
продукты ничем не контролируемой деятельности
фантазии, образы сновидений, результаты непроизвольной и
немотивированной психической деятельности в качестве
манифестаций истинной реальности: той самой, которой
сегодня еще нет, но которая неизбежно будет завтра.
Так как к тому времени, когда Маркузе углубился в
«синтезирование» Маркса с Фрейдом (и соответственно
политической революции — с сексуальной),
сюрреалистические ходы мысли были уже достаточно детально
разработаны, то естественно, что чувствительная к модным
веяниям мысль автора «Эроса и цивилизации» потекла по
руслу, прорытому Бретоном и другими теоретиками
рассматриваемого идейно-художественного направления.
Однако наиболее глубоко влияние сюрреализма
сказалось в маркузеанской концепции искусства. Влияние это
оказалось настолько далеко идущим, что в ряде пунктов
маркузеанское истолкование искусства вообще нельзя
отделить от бретоновского: порой складывается такое
впечатление, что Маркузе просто-напросто взял некоторые
моменты сюрреалистической концепции да и включил их
в состав своего теоретического построения. И только
общая тенденция Маркузе, заключающаяся в более
последовательном стремлении его целиком и полностью
«растворить» искусство в действительности (преобразованной на
основании коренного переворота в структуре человеческих
инстинктов), позволяет в этих случаях отделить то, что
пРинадлежит автору «Эроса и цивилизации», от того, что
явно ему не принадлежит.
André Breton. Les manifestes du surréalisme, p. 45,
219
Между прочим, аналогичная трудность возникает при
рассмотрении маркузеанской концепции искусства и в
иной связи. Дело в том, что Маркузе ассимилирует не
только идеи Бретона, но также и идеи Адорно, хотя они
существенно отличаются от бретоновских, поскольку
«моделью», на которой автор «Философии новой музыки»
отрабатывал свои представления об истинном искусстве,
был не столько сюрреализм, сколько экспрессионизм в
сочетании с конструктивизмом.
Маркузе полностью разделяет «сюрреалистический
тезис, согласно которому поэт — это тотальный
нонконформист, который паходит в поэтическом языке
семантические элементы революции» *. Это представление
соответствует его убеждению в том, что, поскольку революция
есть абсолютный разрыв с «континуумом господства»,
постольку революционный поэт (а истинный поэт всегда
«тотальный» революционер) должен самым решительным
образом разорвать и с «вокабулами» этого «континуума
господства», создав совершенно новый язык. Тем самым
поэт, по Маркузе, расширяет «освободительные
возможности революции», которые на первых порах (прежде чем
они включились в реальное, материальное общественное
движение) предстают как, «сюрреальные» возможности и
в качестве таковых доступны только поэтической
фантазии, «как она выражается и формулируется в поэтическом
языке». Этот язык не является «инструментальным», им
нельзя воспользоваться в обычпой жизни, для выражения
обыденных реалий,— он вообще «пе может быть ничем,
кроме как инструментом революции».
Говоря о стихах и песнях протеста, Маркузе отмечает,
что они «всегда приходят слишком поздно или слишком
рано» — как воспоминание или мечтание. «Их время — не
современность» ; они доказывают свою истину — своей
надеждой, своим отказом от фактического положения дел.
Отсюда — по Маркузе — всегдашний разрыв между
поэтической фантазией и реальной политикой, что «роковым
образом сказывается на поэзии». «Нет никакого способа,—
пишет он,— каким бы мы могли представить себе
историческое изменение в отношениях между культурным и
революционным движением, которое преодолело бы раскол
между повседневным языком и поэтическим и сняло бы
1 И. M а г с u s е. Versuch über die Befreiung. Fr. a. M., 1969.
Далее цит. эта же работа, с. 56—71.
220
господство первого. По-видимому, поэтический язык
черпает всю свою силу и истинность из своего инобытия,
своей трансценденции»,— то есть из выхода за пределы
реального — в сюр-реальное.
Однако сам этот выход также представляет собой
революционный акт: он означает «революцию восприятия»,
которую предполагает и которой сопровождается
политическая революция. Революция всегда является в то же
самое время и «восстанием против репрессивного разума»,
причем это восстание получает свою силу, черпает свою
разрушительную энергию в эстетической сфере, сфере
изменившегося восприятия, «новой чувственности». Здесь,
впрочем, имеет место отношение взаимодействия: в той же
мере, в какой «восстание против репрессивного разума»
опирается на революционизированное восприятие мира,
«новую чувственность», оно одновременно придает силу и
этой последней. В свою очередь, этот революционный
процесс оказывает свое влияние на искусство в целом: на его
«аффирмативный» (то есть утверждающий репрессивную
реальность) характер, в силу которого искусство обладает
тенденцией примиряться со статус-кво, с одной стороны, и
на степень осуществляемой им сублимации влечений,
которая препятствует реализации заключенной в искусстве
истины, «когнитивного момента искусства»,— с другой
стороны.
Протест против двух этих аспектов искусства,—
связанный как раз со стремлением его к «сюр-реальному»,—
согласно Маркузе, «распространился во всей
художественной сфере» уже накануне первой мировой войны и
продолжает углубляться «с возрастающей интенсивностью»
вплоть до настоящего времени. Этот протест сообщил
искусству «негативную», «разрушительную» силу, дав голос
и «образное выражение» более ншрокому процессу —
процессу «рассублимирования культуры», то есть лишения ее
«иллюзорного» (=идеального) измерения. «Не-предмет-
ная, абстрактная живопись и скульптура, «поток
сознания» и формалистическая литература, двенадцатитоновая
музыка (Шенберга.— Ю. Д.), Булез1 и джаз»—все это,
по мысли Маркузе, отнюдь не является «переориентацией
и интенсификацией» старых способов восприятия. Нет:
это — разрушение старых структур восприятия, дабы
«очистить место».
1 Булез — французский композитор-авангардист.
221
«Для чего?» — спрашивает Маркузе. И вынужден
признать, что на этот вопрос нельзя дать четкого и
определенного ответа. Ибо «новый предмет искусства еще не «дан»:
ведь он не является «реальностью»,— сама эта
«реальность» еще должна быть открыта (точнее —
«спроектирована»), ей еще только предстоит возникнуть в итоге
революционной и революционизирующей деятельности людей,
одушевленной стремлением к осуществлению своих
тайных помыслов и неосознанных желаний. Иными словами,
предмет этот представляет собою пока что не
«реальность», а «сюр-реальность». Однако уже этой
специфической формы «данности» принципиально нового предмета —
грядущей реальности, реальности грядущего — уже
достаточно для того, чтобы обычное (традиционное) в искусстве
«стало невозможным, ложным». От иллюзии, подражания
и гармонии искусство, согласно Маркузе, рванулось к
истинной реальности — той, которая еще не дана, а потому
не может быть предметом «реализма», реалистического
искусства и требует соответствующей себе новой формы
искусства. Это должно быть искусство, само участвующее
в создании «проекта» (термин Сартра,— как видим,
достаточно органично вписывающийся в сюрреалистическую
концепцию искусства) новой реальности, еще только
подлежащей открытию.
Задача такого искусства заключается прежде всего в
том, чтобы разрушить «автоматизм непосредственного,
однако социально ориентированного опыта», который
противится «освобождению чувственности», связанной с
витальными влечениями людей, с их стремлением к,
осуществлению «доисторических желаний». Этот опыт
навязан человеку репрессивным обществом, его наукой и
техникой, его культурой и моралью,— искусство же,
ломающее его «автоматизм», должно возвратить людям реальное
ощущение реальной жизни, находящейся в гораздо более
близких отношениях с миром инстинктивных побуждений
и порывов, чем с внешним миром «эмпирического опыта»,
созданным буржуазной цивилизацией.
Это достигается в искусстве, как пишет Маркузе, с
помощью формы: «...именно форма есть то, посредством чего
искусство трансцендирует данную действительность,
работает в этаблированной действительности — против этабли-
рованной действительности; и этот трансцендентный
элемент живет внутри искусства, художественного
измерения. Искусство меняет опыт, так как оно реконструирует
222
его объекты в слове, звуке и образе. Почему? Очевидно,
«язык» искусства сообщает объективность, которая
недоступна обычному языку и обычному опыту». Что это за
таинственная «объективность»? Это—«объективность» не
реального, а сюр-реального, которого еще нет, но которое
уже есть, ибо оно — грядет.
Нетрудно заметить, что здесь искусству
приписываются функции, явно выходящие за пределы его
специфически-эстетических возможностей: русские символисты
начала .века называли их теургическими. И естественно, что
искусству, взявшему на себя столь непосильную ношу,
угрожает перспектива быть раздавленным ею или, во
всяком случае, превратиться в нечто, непохожее на себя. Это,
очевидно, чувствует и сам Маркузе, когда пишет:
«Радикальный характер, «насильственность» этой перестройки
реальности в современном искусстве означает,
по-видимому, что оно бунтует не против того или иного стиля, но
против «стиля», как такового, против Kunst-Form
искусства, против традиционного значения искусства».
Впрочем, и этим автор «Очерка об освобождении» не сказал
ничего принципиально нового: он лишь повторил то, что
говорили об искусстве дадаисты и другие сторонники
полной ликвидации искусства, превращения его в «не-искус-
ство».
Эту тенденцию, отчетливо прорисовавшуюся в лоне
авангардистского искусства (хотя, разумеется, далеко не
все авангардисты были ее сознательными сторонниками),
Маркузе объясняет следующими соображениями. Он
полагает, что революции, последовавшие вслед за первой
мировой войной и выдвинувшие свой «проект» новой
реальности («сюр-реальности» Грядущего, Будущего),
обнажили истинный характер буржуазной действительности,
которая «сделала искусство иллюзией», и заклеймили как
саму эту действительность, так и соответствующее ей
искусство. Новое же искусство, вызванное предчувствием
этих революций и предвосхищением («антиципацией»)
грядущей реальности — «сюр-реальности», не желая иметь
ничего общего со старым, иллюзорным искусством, стало
рассматривать себя как анш-искусство. В
противоположность иллюзорному искусству, которое принимало
предметы и явления буржуазного мира наивно, так, как они
выглядели на первый взгляд, не подвергая никакому
сомнению их «вещественности»,— новое искусство должно было
«порвать с этим овеществлением», то есть представлением
223
в виде неизменных вещей всего того, что создано с
помощью репрессивного производства, репрессивной
техники, науки и культуры.
С тех пор, пишет Маркузе, «прорыв анти-искусства в
искусство» обнаруживал себя в самых разнообразных
формах: в разрушении синтаксиса, разрушении слов и
предложений, «взрывающих употребление обиходного языка»,
и т. д. и т. п. Однако все попытки разрушения формы
(«обесформливания») имели своим результатом
возникновение новых форм: «анти-искусство оставалось
искусством» п — что самое печальное — рассматривалось
публикой и покупалось ею именно в качестве искусства.
«Дикий бунт» апологетов «анти-искусства» имел значение
непродолжительного шока и очень скоро был поглощен
(«абсорбирован») рынком, умиротворен в художественных
галереях, замкнут в четырех стенах. И этот исход отнюдь
не был случайным, так как действительное
«преобразование искусства — это,— согласно Маркузе,— его
самоуничтожение»,— самоуничтожение, необходимость которого
заключена в самой структуре искусства, но которое должно
осуществляться в соответствии с этой структурой, а не
вопреки ей, как это пытались делать сторонники идеи
«анти-искусства».
В чем заключается своеобразие этой структуры,
воспрепятствовавшей его действительному самоуничтожению
на путях, предложенных теоретиками и практиками
«анти-искусства»? Оно заключается в той особенности его
эстетической формы, которая исключает художественное
произведение из эмпирической реальности, делает его
принадлежностью «второй реальности», «сюр-реальности».
«Искусство,— пишет Маркузе,— по его форме
противоречит стремлению устранить обращенность искусства ко
«второй реальности», перевести истину продуктивной
фантазии в первую реальность», на обыденный и
практический язык этой последней. Эстетическая форма — это,
согласно Маркузе, господство над беспорядком, насилием,
страданием — их отрицание,— даже в том случае, если она
сама вносит беспорядок, насилие, страдание. «Этот
триумф искусства достигается с помощью покорения
содержания — эстетическим порядком, требования которого
автономны».
Такая особенность эстетической формы делает
искусство внутренне двусмысленным: оно обвиняет то, что
существует, и тут же «снимает» это обвинение в эстетиче-
224
ской форме. Эта вот «разрешающая, примиряющая сила
искусства была свойственна,— по Маркузе,— даже самым
радикальным явлениям иллюзорного искусства и анти-ис-
кусства». Даже здесь эстетическая необходимость
искусства «вытесняет ужасающую необходимость реальности;
сублимирует ее скорбь и радость», так что даже «слепое,
безвинное страдание» и «свирепость природы» — как
самого человека, так и «внешней» — получает цель и
смысл,— «поэтическую справедливость». «Обвинение
снимается, и его язвительность, оскорбительность и пасмеш-
ливость — крайние художественные отрицания,
находящиеся в распоряжении искусства,— побеждаются этим
(эстетическим.— Ю. Д.) порядком». С этим восстановлением
порядка и связан, согласно точке зрения Маркузе,
катарсис, очищающий «террор действительности» с помощью
всеупорядочивающей эстетической формы.
Однако результат этот, утверждает Маркузе, «является
иллюзорным, ложным и фиктивным: он остается в
измерении искусства; в действительности же неумолимо
продолжают господствовать ужас и отказ...». Здесь, возможно,
заключено, согласно Маркузе, самое решающее выражение
противоречия, содержащегося в искусстве: «победы над
материалом, преобразования материала, удовлетворяющие
существованию (Dasein), остаются
недействительными, так как остается недействительной революционизация
материала. И этот замещающий характер искусства снова
и снова возбуждает вопрос о его оправдании: стоил ли
Парфенон страданий одного-единственного раба?
Возможно ли после Аушвица (Освенцима.— Ю. Д.) еще писать
стихи?»
Правда, рассуждает Маркузе, на этот вопрос можно
было бы возразить: если ужасы капиталистической
цивилизации имеют тенденцию стать тотальными и она
блокирует все политические акции, направленные против нее,
то где же, кроме как в радикальной фантазии,
разрывающей с эксплуататорской, угнетательской реальностью,
может сохраниться воспоминание об «утраченном времени»
первобытного (или детского) состояния счастья, а
значит — сохраниться и углубиться также и революционный
потенциал, энергия радикального отрицания
существующего? Можно было бы привести и более простое
возражение, которое почему-то ни Маркузе, ни другим «новым
левым» не приходит в голову: будут ли искуплены
страдания упомянутого раба, если мы разрушим остатки Парфе-
8 Ю. Давыдов
225
иона? Превратятся ли ужасы Освенцима, так сказать, «из
бывших — в небывшие», если поэты откажутся писать
стихи? Наконец, прибавим сюда возражение против
Сартра: перестанут лп негритянские дети умирать с голоду,
если европейские «лево»-экстремистскп настроенные
интеллигенты «покончат» со всякой культурой, сделав это
«по образцу Мао»?
Маркузе, однако, идет по другому пути. Он задает
следующий коптрвопрос защитникам искусства,
рассматривающим его в качестве единственного «резервата»
революционизирующей фантазии: «...Являются ли сегодня
образы (фантазии, возбуждающей желание наслаждения.—
Ю. Д.) все еще доменом «иллюзорного» искусства» (да и
того, добавлю, «анти-искусства», которое тоже
оказывается в конечном счете «иллюзорным» в силу
вышеупомянутой неспособности преодолеть принцип «эстетической
формы»)? Маркузе считает, что нет, не являются. Образы
фантазии, создаваемые искусством, могли настаивать на
том, что «за иллюзией стоит знание», к тому же более
высокое, чем знание «репрессивного разума», лишь до тех
пор, пока эстетическое знание было на самом деле
нереализуемым, эстетическая утопия — действительно
неосуществимой. Теперь же дело обстоит иначе, и потому
искусство, культивирующее эти образы, обеспечивающее
иллюзорное, сублимированное удовлетворение
скрывающихся за ними витальных влечений, перестает выполнять
революционизирующую функцию, превращается в свою
собственную противоположность. Тем самым оно (правда,
рукою Маркузе, не дрогнувшей при этом) подписало себе
смертный приговор.
* * *
В чем же заключается изменение положения дел, так
печально обернувшихся в смысле судеб искусства? И в
чем же, если взять более оптимистическую — маркузеан-
скую — формулировку этого вопроса, заключается
действительная «ликвидация» искусства, которой так и не
смогли добиться теоретики «анти-искусства»? Для ответа на
этот вопрос вернемся на минутку к тому, что писал о
фантазии и воображении Маркузе в 1937 году.
«Свобода воображения,—писал он,—исчезает в той
мере, в какой действительная свобода становится реальной
226
возможностью. Границы фантазий — это в строгом смысле
технические границы: они определяются уровнем
технического развития» *. Теперь понятно, почему искусство
оказывается, так сказать, пи при чем в условиях «позднека-
диталистической цивилизации». Ведь последняя, как
неоднократно писал Маркузе, развила такие
производительные силы, создала такие производственные возможности,
что первобытные влечения и инфантильные мечтания
могут быть реализованы прямо и непосредственно — безо
всяких репрессий, вытеснений и сублимаций. И искусства,
предлагающие нам сублимированное удовлетворение
витальных влечений в тот момепт, когда мы можем сделать
это, если можно так выразиться, «весомо, грубо, зримо»,
естественно, просто-напросто отвлекают нас от этой
реальной перспективы, то есть сбивают нас с «истинно
революционного» пути.
Согласно Маркузе, искусство как специфическая
область общественного сознания (область идеального
вообще) сохраняет свое значение лишь до тех пор, пока
лелеемые им образы фантазии — жизнь в соответствии с
«принципом удовольствия», под отеческим попечением
Эроса — не могут быть осуществлены в самой
действительности. Но как только развитие производительных сил
достигает такого уровня, что эстетические утопии искусства
оказываются вполне осуществимыми,— а это, согласно
Маркузе, произошло к началу нашего века,— искусство
утрачивает весь свой смысл. Отныне возникает лишь одна
«эстетическая» задача: воплотить в самой жизни все то,
что доселе считалось фантазиями, утопическими
мечтаниями искусства.
Однако, рассуждает далее Маркузе, ситуация,
сложившаяся в начале нашего столетия, была такова, что
господствующие политические силы мешали развитию
производительных сил в направлении, которое соответствовало бы
требованиям Эроса, сформулированным на языке
литературы и искусства. И в результате, с одной стороны, сами
эти производительные силы все больше превращались в
разрушительные, а с другой — оказывалось в
парадоксальном состоянии искусство: оно должно было существовать
после того, как его реальная задача — сохранять и
культивировать в сфере художественной фантазии «практически-
политическую» программу Эроса («принципа удовольст-
1 H. M а г с u s е. Kultur und Gesellschaft l. Fr. a. Mv W66-, Si 123.
8*
227
вия»), пока не возникнут возможности для ее воплощения
в жизнь — уже была выполнена. Продолжать в этой новой
ситуации жить и действовать так, как будто ничего не
произошло,— это, если верить Маркузе, означало бы для
писателей и поэтов, художников и музыкантов встать на
путь обмана (служения «ложному сознанию»,
распространяемому властями предержащими) ; ведь таким образом
лишь набрасывался бы флер успокаивающей иллюзии на
тот факт, что вчерашние фантазии и утопии искусства —
вполне осуществимы п требуют соответствующих
политических акций.
Перед лицом такой ситуации, по мнению Маркузе,
искусству, коль скоро оно не хотело превращаться в чистую
«идеологию», ничего пе оставалось, кроме как обратиться
против самого себя: отказаться от себя, своей
художественной формы, своего существования в качестве эстетической
реальности. Так, если верить франкфуртскому мыслителю,
возникают в XX столетии тенденции авангардистского
искусства, нарастающие с каждым годом. Авангардизм,
возникающий в качестве «анти-искусства», искусства с
приставкой «не», с самого начала сознательно ставит перед
собой чисто негативную цель — «рассублимирования»
искусства, а в нем и через него —и всей культуры Запада,
то есть лишения искусства и культуры духовного,
идеального измерения. Возьмем ли мы абстрактную живопись и
скульптуру, формализм и «поток сознания» в литературе,
двенадцатитоновую музыку, музыкальные эксперименты
Булеза и джаз,— везде, с точки зрения Маркузе, мы имеем
дело с процессом, чисто негативным по отношению к
традиционному искусству, «форме искусства», как таковой.
Речь идет о разрушении старых — сублимированных,
идеализованных («идеалистических») — «структур
восприятия».
Если мы сопоставим эти маркузеанские рассуждения с
тем, что говорилось выше о драматической коллизии
между буржуазно-протестантским принципом «реальности» (и
производительности), с одной стороны, и
буржуазно-потребительским «принципом удовольствия» — с другой, то
нас поразит, в какой степени упомянутые рассуждения
соответствуют общим тенденциям этого второго принципа,
шаг за шагом пробивавшего себе дорогу в
западноевропейском сознании XX века. И нам придется согласиться с
тем, что Маркузе был не так уж далек от истины (хотя
истолковывал ее на свой «лево»-экстремистский лад), ког-
228
да оценивал тспденцпп авангардистского искусства
именно в аспекте борьбы Эроса («принципа удовольствия») за
власть против буржуазно-протестантского принципа
индивидуального труда и личной ответственности (принцип
«реальности и производительности»). Действительно
«дикий бунт» искусства против самого себя, поднятый
авангардизмом, был восстанием богемы («расстригшейся»
художественной интеллигенции), извечно враждебной всякому
напряжению, связанному с суровостью труда,
серьезностью личной ответственности и т. д., против культуры, как
таковой. На этот раз бунт художественной «люмпен»-ин-
теллигенции получил отнюдь не локальное, не
партикулярное значение, поскольку в социологическом отношении он
отразил общее нарастание
гедонистически-потребительских тенденций в культуре Запада.— Обстоятельство,
которое было реальной силой, поддерживавшей
антикультурные устремления авангардистской литературы и
искусства на протяжении XX века.
Бунт против культуры, как таковой, отражал усиление
гедонистических, потребительских и просто
паразитических устремлений в условиях
государственно-монополистической организации общества. Суть дела заключается,
однако, в том, что эти устремления вовсе не означали
радикального отрицания этой организации; нет, они отражали
тенденции, возникшие в лоне этой организации, причем
как раз в связи с превращением «либерального»
капитализма в «корпоративный» и «потребительский».
И в самом деле, как сокрушенно констатирует Маркузе,
«„анти-искусство" оставалось искусством»; оно
«выставлялось, покупалось и рассматривалось как искусство». Что
же касается многочисленных западных литературоведов и
искусствоведов, то они поспешили найти новые
(«потрясающие!») художественные открытия там, где сами их
авторы видели только «плевок в рожу» искусства, литературы,
культуры и т. д. «Дикий бунт искусства,— свидетельствует
франкфуртский теоретик,—недолго был шоком»; вскоре
он был «абсорбирован рынком» *. Плевки в лицо
человечества бойко покупались, а затем демонстрировались в
художественных галереях и концертных залах, в приемных
и вестибюлях «преуспевающего гешефта», в квартирах
миллионеров и миллиардеров. Это обстоятельство,
свидетельствующее, на наш взгляд, как раз о том, что «анти-ис-
1 H. M а г с u s е. Versuch über die Befreiung, S. 67.
229
кусство» не столь уж решительно противостояло
«буржуазной цивилизации», как полагали его идеологи, и — более
того — что оно отражало какую-то существенно важную
тенденцию этой последней, а именно гедонистическую
тенденцию «общества потребления», Маркузе объяснял по-
своему. Он утверждал (в «Очерке об освобождении»), что
«анти-искусство» было парадоксальным образом принято
за искусство лишь по одной-единственной причине:
поскольку в нем попытка отрицания
буржуазно-эксплуататорского «принципа реальности» не была выдержана до
конца — до практической замены капиталистической
действительности, возведенной на основе этого принципа,
совершенно новой действительностью, базирующейся на
«принципе удовольствия». Истинное осуществление акта
«самоуничтожения» искусства, по Маркузе, возможно
лишь при одном условии: если сублимированное в нем
эротическое содержание осуществляется в самой
действительности межчеловеческих отношений, в
преобразовании предметного окружения человека и
соответствующей переориентации производственно-технического
прогресса.
Итак: никаких «сублимаций», а значит — долой
«сублимированное», то есть «иллюзорное», то есть
«контрреволюционное», искусство! У фантазии нашлось наконец
дело, гораздо более серьезное, чем художественные
сублимации первобытных влечений, чем «иллюзорные» «поиски
утраченного времени»: «...фантазия, освобожденная от
служения эксплуатации и опирающаяся на успехи науки,
может обратить свою продуктивность на радикальное
переконструирование опыта и мира опыта». Вот почему
современное революционное движение (Маркузе имеет
в виду, разумеется, главным образом движение «новых
левых» — да разве что еще «культурную революцию» в
Китае), воодушевленное идеалом действительного, а не
«иллюзорного» преобразования «жизненного мира — в
художественный факт», бунтует (главным образом —
добавим мы уже от себя) «против этаблировапной культуры...
против прекрасного в этой культуре, против его слишком
сублимированных, упорядоченных и гармонизованных
форм, удаленных от действительности».
Основное устремление этого бунта — отрицание
традиционной культуры: ее «методическое рассублимирова-
ние»; сегодняшние бунтари выполняют завет манновского
доктора Фаустуса: они «берут обратно» Девятую симфо-
230
нию Бетховена, «отменяют» ее — так, как если бы ее не
существовало вообще. Но они делают даже больше, чем
продавший душу черту Адриан Леверкюн: паделяют свое
искусство (осознавшее наконец свое временное,
мимолетное, а главное — чисто негативное значение в условиях,
когда все первобытные влечения — в принципе — уже
могут быть удовлетворены фактическим, а пе иллюзорным
способом) «рассублимированными, чувственными форма-
МП, обладающими пугающей непосредственностью,
которые приводят в движение тела, как и материализованные
в них души».
Однако чтобы «прийти к самому себе», то есть к
последовательному осознанию и осуществлению своей
миссии, революционное искусство должно отказаться от
«прямого зова», от «дикой непосредственности изображения».
«Не был ли однажды,— спрашивает Маркузе (ив этом
пункте в его рассуждениях начинают звучать вариации на
темы эстетико-социологической концепции Адорно),—
методической целью радикального искусства как раз такой
разрыв с этой непосредственностью?» Уничтожение
эффекта отчуждения, «отстояния» от существующего общества,
которое видится автору «Очерка об освобождении» в
непосредственности искусства протеста и которое сближает
последнее с «иллюзорным» (и «иллюзионистическим»)
искусством, «противодействует,— согласно
Маркузе,—радикализации сегодняшнего искусства». Так — по его
мнению — ливинг-театр терпит крушение как раз в той мере,
«в какой он живет», побуждая зрителей непосредственно
отождествлять себя с актерами, испытывая живые
симпатии и антипатии. То же самое относится, по Маркузе, к
хэппенингу («всегда организованному» — вопреки
иллюзии спонтанности и случайности) и «поп-арту», которые
создают «ложную коллективность» внутри репрессивного
общества.
Впрочем, Маркузе совсем недолго задерживается на
адорновской точке зрения, по которой искусство есть
отчужденная и преодоленная непосредственность, ибо, как
говорил Адорно, «в наш век нет ничего невинного»; по
которой искусство синтезирует чисто непосредственное
выражение с чисто опосредованной конструкцией; по
которой искусство «балансирует на грани» художественного
произведения и его ликвидации, культуры и ее отрицания,—
°Дним словом, Маркузе не задерживается на искусстве,
ьзятом в критический момент его падения (как, впрочем,
231
п в момент «падения» его носителя —индивида). С одной
сторопы, эта точка зреиия звучала для Маркузс,
уверовавшего в благотворность «Прорыва», слишком
пессимистически. Л с другой — он никогда не проявлял особой
склонности к тонкостям диалектического балансирования
на острие ножа между «да» и «нет»; да и протестующая
молодежь, интерес которой к его размышлениям он
отчетливо осознавал (особенпо — в период работы над «Очерком
об освобождении»), требовала яспого п категорического
отпета: «да» или «нет»?!
Поскольку бескопечное балапснронаиие между «да» и
«нет», заставлявшее его выражаться все более и более
туманно, привело Адорно к ухудшению отношений с
«бунтующей молодежью» (впрочем, этому были и свои
чисто политические причины), постольку Маркузе,
бывший свидетелем этой драматической истории начавшегося
конфликта «отцов» и «детей» в стане «новых левых» —
как раз в кульминационный момент этого конфликта он
был в Западном Берлине — решил ответить более
категорически. Нет, ответил он, существование искусства в
форме «отчуждающего» и преодолевающего
«непосредственность» «анти-искусства»,— это лишь переходная, но и
последняя его фаза, за которой должно последовать «снятие»
искусства путем реализации его фантазий и мечтаний в
практике межчеловеческих взаимоотношений,
регулируемых одним лишь Эросом и соответствующим его принципу
наслаждения— «эстетическим этосом».
Если иметь в виду умонастроения «протестующей
молодежи», перед лицом которой ответ этот был дан, то ему
нельзя отказать в остроумии. Ведь, с одной стороны,
говорилось совершенно ясно и категорически «нет»: для
дальнейшего существования искусства (даже в наи-
революционнейшей его форме — форме «анти-искусства»)
нет никаких перспектив; однако, с другой стороны, этот —
вполне пессимистический—ответ звучал в устах Маркузе
мажорными, радостно-оптимистическими интонациями:
«продуктивное воображение», взорвавшее
«сублимированные» рамки искусства, должно было поставить ему такой
роскошный памятник, что, как говорится, лучше не
придумаешь.
Итак, явления «анти-искусства», которые на
протяжении нашего столетия воспроизводились в рамках, по
Маркузе, наиболее революционного — авангардистского
искусства, оказывается, согласно маркузеанской эстетической
232
концепции, весьма противоречивыми, двусмысленными —
живущими за счет своеобразной самоликвидации —
вследствие раздирающих их неразрешимых антиномий. С одной
стороны, они отличаются от произведений традиционного
искусства хотя бы тем, что не отвечают требованию,
которому так или иначе удовлетворяло все прошлое искусство:
они не дают людям того мудрого «знания», которое стояло
бы за их фантастическими образами и на основе которого
можно было бы — ведь так полагает Маркузе — строить
модель истинно человеческих отношений, регулируемых
Эросом.
С другой же стороны,— и как раз в силу первого
обстоятельства,— это самое «анти-пскусство» не может быть
и носителем того содержания фантазий, образов
воображения и т. д., отправляясь от которых последнее, выйдя за
пределы искусства и став реальным — социальным,
политическим и техническим — воображением, могло бы
претворить их в действительность, преобразовав последнюю
по мерке человеческих влечений — как они
«манифестировали» себя в «иллюзорном» искусстве. Словом, в
изображении Маркузе это «сюр-революционное» искусство — ни
богу свечка, ни черту кочерга.
Впрочем, и здесь Маркузе совершенно адекватно
отразил те умонастроения, которые владели юными
студентами художественных учреждений, принимавшими в мае
1968 года в Париже громовые «робеспьеровские»
резолюции против... искусства. Правда, вспоминая слова
Энгельса, сказанные по поводу немецких студентов, можно
предположить, что некоторых из числа упомянутых «детей»
толкала на путь принятия подобных резолюций (и
совершения соответствующих «практических» акций) простая
боязнь экзаменов. Интересно, какой экзамен пугал их
«отца»-идеолога?..
* * *
Как видим, па этом пути Маркузе зашел гораздо
дальше, чем другие «фрейдо-марксистски» ориентированные
франкфуртцы, сделав вывод о неизбежной «ликвидации»
искусства в обществе Будущего, где оно должно якобы
стать формой «самой реальности», растворившись в
социальном п паучно-техппческом творчестве, а также в
предметном окружении эмансипированного человечества. Как
233
бы ни осознавал сам Маркузе этот свой вывод, по сути
дела он был логически необходимым умозаключением из
тезиса об исторической исчерпанности «принципа
индивиду ации», которое не решались сделать другие, более
осмотрительные (но и менее последовательные) франкфуртские
теоретики. Ведь искусство — это носитель субъективно-
личностного способа гармонизации (или, наоборот,
«дисгармопизации») взаимоотношений человека, всегда
предстающего как конкретный («вот этот») индивид, и
общества, шире — всеобщего и необходимого аспекта
человеческого существования вообще. И если устраняется одна
из стороп этой двуполюсной системы — «индивидуальное—
всеобщее», то устраняется и основная задача искусства —
пайти, воплотить, выразить гармоническое соотношение
между двумя этими моментами, и с точки зрения
обретенной гармонии оценить реальное состояние человека в
обществе. А вместе с устранением этой своей — воистину
человечной! — задачи утрачивает смысл и само искусство:
там, где отсутствует противостояние (или просто
различие) моментов, подлежащих гармонизации,— нет ни
необходимости, ни возможности осуществить гармонию: ее
заменяет мертвое, безжизненное тождество.
Более искушенные в тонкостях «негативной
диалектики» Хоркхаймер и Адорно ощущали эту опасность.
Потому, во-первых, сколько бы они ни говорили о «конце»
индивидуальности, они всегда подчеркивали, что речь идет о
«процессе» (процесс «ликвидации» индивида),
занимающем целую эпоху, на всем протяжении которой человеку,
и соответственно — искусству, предписывалось
«парадоксальное» существование «на грани» уничтожения.
Во-вторых, ни Хоркхаймер, ни Адорно никогда не уточняли,
сколько же времени продлится эта эпоха, когда же она
кончится,— и что придет на смену «принципу индивидуа-
ции» — как применительно к человеку (чем будет человек,
«преодолевший» в себе это «антагонистическое» начало),
так и применительно к искусству (чем будет искусство,
которому уже не придется воплощать в себе образец
гармонизации индивидуально-личностного и анонимно-
всеобщего начал). Неосмотрительно нарушив оба этих
теоретических «табу» (чему виной была далеко зашедшая
зависимость Маркузе от его молодых поклонников,
настоятельно требовавших от него решений в духе «или — или»),—
этот франкфуртский теоретик тут же оказался в тупике.
Уже три года спустя в книге «Контрреволюция и бунт»
234
(1972) он назовет этот свой тупик «материалистической
версией абсолютиого идеализма»;1 то есть, если иеревести
эту элегантную фразу на более простой язык, он оказался
на позициях вг/льгоф«о-материалистического
отождествления идеального и реального, сознания и бытия. Реальным
же содержанием такого вульгаризаторского
отождествления оказывался все тот же гедонизм, отражавший
потребительское устремление
государственно-монополистического Запада после второй мировой войны.
В самом деле: согласно логике маркузеанского
рассуждения, «анти-искусство» действительно выполнило бы
свою миссию по ликвидации искусства лишь в том случае,
если бы «принцип удовольствия» не просто утвердился
рядом с «принципом реальности» (и
«производительности»), пойдя на компромисс с ним, а полностью отменил
бы (или радикально «подавил») этот второй принцип.
Практически это означало бы наступление мира,
предвосхищенного в «антиутопиях» Хаксли: мира, в котором уже
не существовало бы самосознающих и ответственных,
свободных и инициативных индивидов, поскольку на их месте
оказались бы человекообразные существа, находящиеся
под властью вожделений эротического порядка,
совершенно не контролируемых на индивидуальном уровне (ввиду
разрушения индивидуально-личностного начала), однако
вполне поддающихся централизованной манипуляции
(вспомним хакслиевские «ощущалки»). В этом мире и в
самом деле не было бы никакой необходимости в
«сублимированном» искусстве, как и в духовной культуре
вообще, ибо здесь вопрос стоял бы о прямом и
непосредственном воздействии на нервно-физиологическую структуру
человеческих тел (главным образом на область
сексуальных влечений, если взять маркузеанскую «фрейдо-марк-
систскую» модель человека), минуя сферу сознания и
самосознания, которые извечно препятствовали подобному
воздействию, «сублимируя» его и ставя его под
сознательный контроль индивида.
Как показал еще Хаксли, наступление такого «бравого
нового мира» означало бы чудовищное порабощение
человека, целиком замкнутого в круг своих (искусственно
стимулируемых и поддающихся целенаправленной
манипуляции) гедонистических ощущений — все равно, переживал
ли он эти «ощущения» в одиночку или «соборно», совмест-
1 H. M а г с u s е. Counterrevolution and revolt. Boston, 1972, p. 108.
235
lio с другими столь же безличными, столь же анопнмными
существами с человекообразной внешностью. Ведь еще со
времен Платона и Аристотеля известно, что рабство
человека, находящегося под властью своих вожделений
(разукрашенных в образе маркузеанского Эроса), не перестает
быть рабством оттого, что, удовлетворяя их, человек
каждый раз испытывает положительные эмоции. Таковые
испытывает и наркоман, принявший очередную дозу
героина, и мазохист, терзающий свое собственное тело, и садист,
терзающий тело другого человека,— во всех этих случаях
«принцип удовольствия» получает одинаковое
удовлетворение. Так что оказывается, что «принцип удовольствия»,
коль скоро вручить ему абсолютную власть, подавив
«принцип реальности», обладает не меньшей, а, быть
может, даже еще большей способностью стать жестоким
деспотом, порабощающим не только душу, но и тело
человека, вручившего ему «бразды правления». Но, быть может,
самое важное здесь другое: оказаться под властью
«принципа удовольствия» — это значит стать рабом того (тех),
кто владеет «объектом» (предметом), доставляющим
удовольствие — будь это владелец наркотиков, музыкальный
«поп-кумир» и т. д. Причем власть этого персонажа,
поскольку ее условием является «отключение»
индивидуального сознания, «преодоление» принципа «индивидуации»
вообще, обещает оказаться (и действительно оказывается:
вспомним хиппистскую «банду Мэнсона»), гораздо более
абсолютной, нежели власть любого деспота, не
претендовавшего на отмену буржуазно-индивидуалистического
«принципа реальности».
В общем, чем меньше индивид владеет собой, своими
влечениями (а именно к этому призывает Маркузе,
связывая всевластие «принципа удовольствия» с отказом от
«принципа индивидуации»), тем больше им владеет кто-то
другой — тот, от кого зависит удовлетворение его
влечений. Как это ни парадоксально на первый взгляд, но в
обществе «освобожденного Эроса», если бы таковое
удалось вдруг создать, «приоритет» (неизбежно
превращающийся в ту или иную форму власти над другими)
получили бы люди, менее склонные к ничем пе ограниченному
удовольствию; меньше подвластные своим влечениям и
вожделениям, они меньше зависели бы и от всего, с чем
связано (и чем обусловлено) их удовлетворение. И рано
или поздно в таком гипотетическом обществе возникла бы
ситуация «бравого нового мира» Хаксли, в котором рабы
236
своих собственных вожделений оказывались бы и рабами
в социологическом смысле, тогда как люди, способные
господствовать над своими собственными эротическими
наклонностями, составили бы социальную группу господ, не
нарушив при этом ни одного из требований «фрейдо-марк-
систского» Эроса.
2. НЕОМАРКСИСТСКИЙ НИГИЛИЗМ И ЛИТЕРАТУРНОЕ ЛЕВАЧЕСТВО
Было бы, однако, слишком большим упрощением
считать, что «новый левый» экстремизм шел к упразднению
искусства и литературы (равно как и «репрессивной
культуры» вообще) только одним путем — через
абсолютизацию «принципа удовольствия». Как свидетельствует
история движения «новых левых» в шестидесятые годы, в
их среде существовала и иная «перспектива» ликвидации
литературы (искусства),— реализуемая на путях
подмены специфически художественного содержания
последней — чисто политическим, короче — через растворение
литературы в политике. Причем, если сторонники первого
варианта устранения литературы и искусства чаще всего
ссылались на франкфуртскую (главным образом — марку-
зеанскую) версию «неомарксизма», то защитники второго
предпочитали ссылаться на ту «неомарксистскую»
версию, что была представлена Ж.-П. Сартром — автором
книг «Что такое литература?»1 и «Критика
диалектического разума» 2.
Поначалу тот факт, что неистовые искусствоборцы и
ликвидаторы литературы во Франции и других странах
капиталистического Запада апеллировали к авторитету
Сартра, мог бы вызвать недоумение. Ведь этот «левый»
экзистенциалист и «неомарксист» так часто выступал в
защиту свободы творчества, в защиту отдельных писателей
или художников, что его меньше всего можно было
заподозрить во враждебности к литературе и искусству;
наоборот: создавалось впечатление, что он скорее даже
переоценивает, чем недооценивает роль искусства и литературы в
современном мире. И тем не менее «новые левые»
ревнители растворения художественного сознания в политиче-
1 См.: J.-P. Sartre.. Situations II. Paris, 1948 (нем.пер. J.-P.
Sartre. Was ist Literatur? Hamburg, 1958).
2 J.-P. Sartre. Critique de la raison dialectique, t. I. Paris, 1960.
237
ском, искусства — в революций, литературы — в Политике
чаще всего ссылались именно на автора книги «Что такое
литература?». А самое главное здесь заключалось в том,
что эти ссылки отнюдь не были голословными или
бездоказательными; внимательное чтение сартровских работ
убедительно свидетельствует: в них содержится достаточно
многое для того, чтобы извлечь из них вывод о
необходимости растворить искусство и литературу в политике,
лишив их права даже на относительно самостоятельное
существование. Впрочем, в интервью шестидесятых годов
он, так сказать, освятил искусствоборческие и литературо-
борческие выводы из его более ранних работ
высказываниями совсем уж нигилистического порядка — в особенности
это касается сартровского стремления «обжить» идею
«культурной революции в духе Мао».
В связи с этим сартровская концепция литературы,
взятая в аспекте нигилистических выводов, сделанных из
нее как самим Сартром, так и его «новыми левыми»
поклонниками, представляет для нас особый интерес; тем
более что анализ относящихся сюда воззрений Сартра,
рассмотренных на фоне его общей философско-политической
эволюции, дает нам возможность проследить, как и
какими путями тенденции, ведущие к отрицанию личности
(через политизацию апеллирующих к ней искусства и
литературы) проникают в теоретическое построение
мыслителя, начавшего как раз с диаметрально
противоположного: с абсолютизации личности, гипертрофии личностного
начала, возвеличения индивидуальной свободы. Как мы
увидим дальше, в данном случае эта тенденция пробивает
себе дорогу именно через «перенапряжение»
ницшеанского «аполлонического» начала — начала индивидуализации,
обособления и т. д., которое, будучи отделенным от
«дионисического» начала, с неизбежностью должно было
принять — в концепции Сартра — все черты этого последнего,
а с ними и все его неразрешимые антиномии.
Сартровская—«абсолютно свободпая»—индивидуальность должна
была с неизбежностью прийти к самоотрицанию перед
лицом чисто прометеевского противоречия: необходимости
«быть богом» и невозможности стать им,— противоречия,
которое разрушило и сартровскую концепцию литературы.
Перед лицом экстремистской альтернативы — «всё или
ничего» (быть «всем» или пе быть «ничем») —в конце
концов потерпела поражение и сартровская концепция
человека, и сартровская концепция литературы; признанием
238
этого поражения и был поворот индивидуалиста Сартра к
«казарменному коммунизму» маоистского толка.
Для понимания сартровской концепции литературы
существенно иметь в виду, что — в глазах
Сартра-экзистенциалиста — писатель (художник вообще) неизменно
представал независимо от того, в какой мере осознавал это сам
философ, как истинное и действительное воплощение
экзистенциальной свободы — «для-себя-бытия» в качестве
противоположности «в-себе-бытию», этому воплощению
всего природного, вещественного, «ставшего». Сартровский
принцип свободы, которая всегда — индивидуальна,
всегда — уникальна, которая не признает никакой традиции,
никаких обязательств перед прошлым (то есть
«ставшим»), признавая лишь совершенно произвольно
складывающуюся последовательность неповторимых
«ситуаций»,— этот принцип имел и своего предпочтительного
носителя, осуществителя и выразителя; на него-то и
примерял Сартр свою концепцию свободы, принимая его за
«человека вообще», тогда как это был всего-навсего
писатель, к тому же — наиболее знакомый философу: писатель
Жан-Поль Сартр, вернее — тот образ, который
складывался у этого французского мыслителя относительно самого
себя. Вот почему Сартр всегда так легко мог переходить
от чисто философского размышления о свободе («для-се-
бя») к рассуждению о психологии художественного
творчества, о судьбах литературы и пр., и — наоборот:
размышляя о литературе, в то же самое время рассматривать
ее как «модель» человека и человеческой свободы, как
таковой.
После второй мировой войны (а нас в данном случае
интересует именно этот период), когда Сартр вступил на
путь переосмысления своего экзистенциализма в духе
«неомарксизма», он был особенно озабочен тем, чтобы дать
социологическую дедукцию исходных понятий своего
философствования, которые были изрядно политизированы
уже в ходе войны, во времена участия философа во
французском Сопротивлении. При этом прежде всего вставал
вопрос о социологической интерпретации таких
важнейших для Сартра соотносительных (и даже переходящих
друг в друга) понятий, как «свобода» («для себя») и
«литература» (писатель, интеллектуал, «человек вообще»
и т. д.). Если раньше в центре сартровских рассуждений
стояло понятие «свободы», которое позволяло ему затем
расшифровать и понятие «литературы», то теперь обстоя-
239
л о дело наоборот: Сартр отталкивался от этого понятия
для того, чтобы конкретизировать первое. Такой ход сартро-
вской мысли не случаен: во времена работы Сартра над
его основным «метафизическим» трудом он был больше
склонен отправляться от самых отвлеченных понятий;
когда же перед ним встала проблема социологического
истолкования этих понятий, весьма отвлеченное понятие
«свободы» оказалось для этого гораздо менее подходящим, чем
понятие «литература»,— тем более что оно было
некоторым иносказанием понятия свободы, метафорой этого по-
нятия.
В своих послевоенных статьях, посвященных
литературе (они-то и были собраны в книгу «Что такое
литература?», отразившую первый этап «неомарксистской»
эволюции французского мыслителя), Сартр отправляется от
представления о писательском деле как о результате
определенного экзистенциального выбора («выбор писать»),
имеющего одновременно морально-политическое и
социально-политическое содержание, более того — не
имеющего никакого иного содержания, кроме этого. Дело в том,
что, согласно Сартру, писательство — это уже
определенная политическая (и моральная, и общесоциальная, ибо
все они — «едино суть») позиция: позиция политически
конкретизированной свободы индивида, из которой
французский мыслитель выводит затем все содержание
литературно-художественного творчества. Таким образом,
содержание литературы оказывается политическим не в одном
из своих аспектов и не в конечном счете (в зависимости
от конкретной функции, осуществляемой тем или иным
произведением в реальной борьбе классов),—а именно
так это представляется марксистам, которых Сартр
клеймит за «догматизм»,— но, так сказать, изначально, «по
определению». Тезис, отправляясь от которого Сартр уже
в 1947 году учинил такой погром французской литературе
(правда, чисто теоретический, «литературный»), который
можно сравнить разве лишь с тем погромом, который был
учинен литературе в маоистском Китае во времена
«культурной революции» (причем — не в теории, а па
практике, стоившей головы многим писателям).
Как расшифровывает Сартр свой тезис об изначальной
«политичности» всякой (в том числе и особенно —
художественной) литературы, поскольку она есть результат
морально-политического и социально-политического
«выбора писать»? Эта расшифровка имеет характер социоло-
240
гической (вернее — социально-политической) «дедукции»
самого понятия литературы, писательства, писательского
дела и т. д. Эту дедукцию французский мыслитель
начинает с эпохи становления буржуазного общества, считая
литературу детищем капитализма точно так же, как,
скажем, для Адорно таким детищем была «автономная
музыка» — соната и симфония. Причем эта дедукция с самого
начала имеет весьма специфический характер; она
направляется противоречивым стремлением Сартра в одно и
то же время и «детерминировать» социологически
литературу, связав ее эволюцию с определенными классами и
историческим процессом их смены, и освободить ее от
всяких детерминаций, представив как выражение
абсолютно свободного «проекта» абсолютно свободного (то есть
независимого от классовых определений) персонажа —
Писателя, или, что то же самое, Человека с большой
буквы. Иначе говоря, с помощью социологической дедукции
литературы Сартр пытался решить совершенно
парадоксальную задачу, вставшую перед ним в тот момент, когда
он — вместе со своим «левым» экзистенциализмом —
двинулся в сторону «неомарксизма»: социологически
«детерминировать»... абсолютную свободу (представшую теперь
в облике «левого» Интеллектуала, «нонконформистского»
Писателя, «ангажированной» Литературы).
Сартр понимал, что для этого недостаточно с самого
начала «загнать» и политическую «левизну», и моральный
«нонконформизм», и социалистическую
«ангажированность» в изначальный акт человека, избравшего
писательское ремесло, то есть сделавшего экзистенциальный
«выбор писать», просто-напросто постулировав
нерасторжимую связь того, другого и третьего. Так он мог поступать
раньше, когда, с одной стороны, ему самому казалось
достаточным постулировать связь симпатичных ему понятий
общефилософского, политического и литературного
порядка, а с другой — они и в самом деле были настолько
связаны друг с другом в глазах одипаково с ним настроенных
читателей, что эта связь, казалось, вовсе и не требовала
никаких доказательств. Теперь же ситуация была иной:
читающая публика, которая была объединена неприязнью
к общему врагу — немецким оккупантам, раскололась, и
многое, что раньше казалось ей само собой
разумеющимся, отныне требовало серьезных доказательств; в то же
время и самого Сартра пе удовлетворял уже прежний —
«чисто философский» — способ доказательства связи из-
241
люблепнъхХ понятий. Теперь более убедительным казался
(во всяком случае, той части публики, к которой
по-прежнему взывал Сартр) «неомарксистский» способ
доказательства, апеллировавший к классам и классовому
«видению»,—к нему-то и обращался теперь французский
мыслитель. Он стремился на путях «классово-исторического
анализа» выработать такое понятие литературы, которое
включало бы в ее содержание и «левый» радикализм, и
моральный «нонконформизм», и социалистическую
«ангажированность»,— так, чтобы «выбор писать» включал бы
все это уже не только с нравственной, но и с социально-
исторической необходимостью.
Историко-социологическая дедукция литературы у
Сартра осуществляется в форме выведения социальной
фигуры писателя — человека, которому литература
обязана своим реальным существованием. Этой социальной
фигурой с самого начала оказывается некий
«деклассированный элемент» — буржуа по своему происхождению,
однако пишущий скорее для аристократии, которая имеет
достаточно времени для того, чтобы читать книги, и
достаточно денег для того, чтобы оплачивать писательский труд.
Писатель оказывается таким образом весьма
противоречивым «социологическим феноменом»! будучи
представителем одного класса, он живет на деньги другого —
противостоящего ему, являющегося его «классовым врагом»; он
пишет про то, что знает лучше всего, то есть про жизнь
своего собственного класса, но апеллирует при этом к
читателям, принадлежащим к противоположному классу; он
свидетельствует в пользу своего собственного класса, но —
перед враждебной ему аристократией, от которой, кстати,
получает деньги за свои свидетельские показания; одним
словом, он оказывается кем-то вроде «шпиона-двойника»,
служащего одновременно двум воюющим друг с другом
державам. Но, если верить Сартру, именно это — столь же
двойственное, сколь и двусмысленное — положение и
обеспечивало полную свободу писателю, равно как и его
созданию — литературе, причем обеспечивало, так сказать, с
железной исторической необходимостью.
Дело в том, рассуждает Сартр, что отмеченная
двойственность (двусмысленность) писательской ситуации как
бы освобождала его от специфических социальных
обязательств и перед тем классом, которому оп был обязан
своим происхождением, и перед тем, которому оп был обязан
дальнейшим поддержанием своего существования: обяза-
242
тельстЁа перед первым нейтрализовывались
обязательствами перед вторым — и наоборот. Писатель оказывался
«дистанцированным» (то есть свободным) и от идеологии
буржуазии, и от идеологии аристократии; его вынужденная
«деклассированность» поднимала его над той и другой,
делая его судьей в классовом конфликте. Позиция писателя
предстает как «надклассовая»; писатель спорит со всем
обществом, а не с каким-нибудь одним из общественных
классов, но именно это обстоятельство сообщает идеологии
писателя тот самый «универсализм», который — по
Сартру — вообще характеризует идеологию восходящей
буржуазии. Иначе говоря, именно «внеклассовость» писательской
идеологии, освобождающая ее от классовых односторонно-
стей (в том числе и от односторонности своего
собственного класса), делает ее наиболее последовательным
выражением самой существенной черты восходящей буржуазии,
то есть буржуазной идеологией в высшем, а не конкретно-
эмпирическом смысле. Свобода писателя (литературы в
целом) от всех классово-ограниченных социальных
определений, возникающая как следствие двойственного и
двусмысленного положения в обществе — она-то как раз и
превращает его с необходимостью в «человека вообще»
и — одновременно! — в наиболее истинного, наиболее
адекватного представителя своего собственного класса,
выражающего его объективно-универсалистскую
устремленность.
Таким образом, согласно сартровской концепции,
писатель, споривший с обществом (в том числе и со своим
собственным классом) от имени «естественного»,
«природного» человека, свободного от всех социальных определений,
реализовывал одновременно и свою собственную свободу,
оправдывая и акт своего изначального выбора («выбора
писать»), и само писательство, саму литературную
деятельность, «положенную» этим актом. Литература,
апеллировавшая к «универсальному человеку», стоящему над
классовым конфликтом буржуа и аристократов,
взывавшая к сознанию, пребывающему вне истории,.вне времени
и пространства,— эта литература, по Сартру, воистину
осуществляла миссию освобождения, писательская свобода
совпадала здесь с человеческой, а чтение в такой же мере
способствовало самоосвобождению индивида, как и
писательство. Причем,— и это, пожалуй, самое главное в сарт-
ровском рассуждении,— освобождение* которое возвещали
миру Писатель и Литература, было политическим осво-
243
бождепием, и политическим в более глубоком и точном
смысле, чем то, за которое боролось (в «эмпирической
реальности») третье сословие. Ибо изначальный акт выбора
(«выбор писать»), в котором возник писатель и, стало
быть, родилась литература, был, согласно утверждению
Сартра, не просто моральным, но морально-политическим
актом — и скорее политическим, чем моральным.
Уже здесь, на самой первой фазе сартровскои
социологической дедукции, обращает на себя внимание
обстоятельство, оказывающееся решающим для сартровскои
концепции литературы вообще. Свобода писателя (и,
следовательно, Литературы), призванная дать идеальный
образец Свободы, как таковой, с самого начала выступает
здесь только в одном, а именно — негативном, негативист-
ском своем аспекте: как «свобода от», в данном случае —
от всех социально-классовых ограничений и
соответственно — от более или менее четко фиксированных
нравственных определений. В этой связи нельзя не согласиться с
критиками сартровского «левачества в эстетике.», которые
считают, что социально-историческая дедукция,
предложенная Сартром, не проясняет сущности литературы, а
лишь служит «социологизированной» формой оправдания
его экзистенциалистского тезиса, отождествляющего
свободу и негативность, причем теперь в качестве истинной
реализации такой свободы оказывается писательский
акт — литературное творчество 1. Почвой для
отождествления свободы, социальности и литературы оказывается
политика, истолкованная сартровским — «лево»-радика-
листским и даже экстремистским — способом.
Таким образом, судьба литературы целиком и
полностью (и в аспекте ее содержания, и в аспекте ее
социального бытия) ставится в зависимость от политики, а
поскольку политика, с точки зрения марксизма,— это
отношение классов, постольку и литература — в сартровскои
концепции — без остатка редуцируется к этим
отношениям: ей не оставляется ничего «сверх» этого. Но при этом
Сартр хочет дать понять, что политическая сущность
литературы «политична», так сказать, в высшем смысле,
который не должен совпадать с тем, что несут с собой
непосредственные, «эмпирические» политические действия
тех или иных людей или групп. Философ стремится дока-
1 См.: Chr. Glucksmann. J.-P. Sartre et le gauchisme
esthétique.— «La nouvelle critique», 173—174. Mars 1966, p. 175.
244
зать, что литература совпадала с политикой, была истиппо
политической, не являясь инструментом политического
противоборства (и, следовательно, не предполагая для
писателя необходимости организационно связывать себя с
той или иной политической партией, скорее даже наоборот:
исключая для него принадлежность к какой-то
определенной партии,— позиция, вполне тождественная той, что
была предложена франкфуртскими неомарксистами еще в
тридцатые годы). Иначе говоря, литература должна была
давать модель истинной политики политическим деятелям,
у нее должны они учиться тому, что есть политика
«воистину»; и поскольку литература представлялась Сартру
единственно истинной политикой, политика с логической
необходимостью превращалась в подлинную литературу
(а может быть, литературщину? в безответственную
импровизацию, каких так много было в нашем веке?).
Литература — в лице Сартра — готова была отказаться от
своего специфического содержания, от самой себя — «быть
ничем» (в собственно художественном смысле), но для
того лишь, чтобы «стать всем» (Большой Политикой,
деланием Истории),— на меньшее она не соглашалась.
Так решал для себя Сартр проблему своей собственной,
как он выражался, «деклассированности», «загнанности в
угол» между противоборствующими классами. Свою
«нужду» он утверждал (с помощью социально-исторического
толкования литературы) как величайшую добродетель:
«деклассированность», «люмпенство», «богемность»
литератора оказывалась, с точки зрения сартровской
концепции, условием его проникновения в истину исторического
развития, условием «бытия» в этой истине, так что он
превращался в модель подлинного Человека. А попутно
решался и еще один вопрос, очень тревоживший Сартра:
как заниматься политикой, оставаясь писателем, и
писателем вполне определенного, богемно-люмпенского,
склада; как «делать политику», будучи свободным от
политической ответственности, как «делать историю», не
испытывая неприятностей процесса, а главное — результата
безответственного «делания истории»? Впрочем, для того,
чтобы убедить читателя в истинности предложенного им,
Сартром, решения этого вопроса, этот писатель,
искушенный в тонкостях своего ремесла, не намерен быть совсем
Уж прямолинейным; он избирает окольный путь, и прежде,
чем привести своего читателя к тому же выводу, который
Утверждался в самом начале его социально-исторического
245
обоснования, проводит его по кругам Дантова ада,
драматизируя ситуацию Писателя,— чтобы затем, после того,
как читатель почувствует всю «отчаянность»
сложившейся ситуации, предложить ему то же самое утверждение
как «формулу прорыва», единственно возможного выхода
из Тупика. А какой читатель устоит против того, чтобы
принять за непререкаемую истину тезис, вызвавший у
него состояние теоретического «катарсиса»!
Состояние «деклассированпости», рассуждает Сартр,
давая новый — трагический — поворот своей мысли, было
благотворным для писателя лишь до тех пор, пока
буржуазия — класс, породивший его, оставалась восходящим,
прогрессивным общественным классом. Но после 1848
года, когда обнаружилось, что она перестала быть таковым,
что роль главной пружины общественного прогресса
выполняется отныне рабочим классом, борющимся против
нее, «деклассированность» писателя — выходца из среды
буржуазии — становится несчастьем для него самого и,
следовательно, литературы в целом. Если писательство —
это акт абсолютной свободы, то писатель мог оставаться
идеологом буржуазии, лишь перестав быть писателем:
свободное писательство и буржуазная идеология разошлись
по разным полюсам, так как буржуазия перестала быть
объективным носителем освободительной тенденции.
Отныне служение буржуазии означало бы для литературы
подчинение ее буржуазному утилитаризму, институциона-
лизацию писательского дела и превращение чтения в
социальный обряд, в общественно дозволенный вид
развлечения. А это значит, что литература, прислушивающаяся
к своему собственному внутреннему голосу — зову
Свободы, теперь могла существовать лишь как оппозиция
буржуазии и буржуазности,— все равно, руководствуется ли
она концепцией искусства для искусства, принципами
символизма или реализма. «Отказ» (опять-таки все та же сар-
тровская негативная свобода) становится единственной
формой бытия литературы,— позиция, которая, согласно
Сартру, не может быть охарактеризована иначе как
выражение «несчастного сознания», «сознание несчастья».
Истинным же (социальным) источником этого «несчастья»
оказывается все более далеко идущий разрыв писателя со
своим собственным классом, основанный на сознании его
консервативности, с одной стороны, и неспособности
писателя слиться с пролетариатом, за которым он признает и
силу и будущность — со стороны другой. И если раньше
24G
«деклассированпость» ставила писателя «пад» классами
(не лишая в то же время его творчество истинно
классового содержания), то теперь она ставит его «под» ними,
превращая в партикулярного представителя «богемы» —
«люмпена» в точном смысле слова.
Теперь, судя по концепции Сартра, писатель
осуществляет свою свободу — свободу отрицать общество,
социальные и моральные определения (то есть «ограничения»,
ибо всякое определение — ограничивает) — лишь на свой
собственный страх и риск; теперь ничто уже не
обеспечивает связи этого бунта с реальным историческим
отрицанием: история уже не подтверждает истины литературы,
возникшей из свободного выбора и по-прежнему
утверждающей его в каждом своем акте. Отсюда — печать
вырождения, которую Сартр обязательно хочет выискать в
литературно-художественных тенденциях Запада, относящихся
к той поре, когда буржуазия уже перестала быть
революционной, а писатель — выходец из ее среды — не нашел
пути к новым исторически-революционным силам,
вернее — не нашел того «модуса», на основе которого он мог
бы присоединиться к ним, не утрачивая своей свободы и
достоинства. Отсюда — прогрессирующая утрата
литературой своего реального содержания, одновременно
сопровождающаяся утратой публики,— тенденция, приведшая в
конце концов к тому, что литература вообще лишилась
ее: она имеет читателя, но не имеет публики, если
понимать под этим некоторое морально-политическое, и
опять-таки скорее политическое, чем моральное, единство
читателей и писателя (который сам есть не что иное, как
идеальный читатель своих произведений) и т. д. Былая
«вовлеченность» писателя в политику, осуществляемая
через литературу (уже через сам «выбор писать»), оказалась
под вопросом: «вовлеченный» в свободное писательство,
писатель уже не имеет никаких гарантий того, что он тем
самым вовлечен в определенную политику, в определенный
способ «делания истории», так что его писательская
«вовлеченность» мало чем отличается от реальной
«невовлеченности».
Все эти размышления-констатации и приводят Сартра
к выводу о том, что «вовлеченность» писателя следует как
бы создать заново, исходя из его фактической
«невовлеченности», то есть — опять же! — отправляясь от его
(чисто пегатишюн) свободы. Л это значит установить
сознательную (политически прорефлектированпую) связь
247
»между литературой и реальным историческим процессом,
включив ее в «делание истории» на новом витке
исторической спирали,— когда ведущей силой истории является
уже не тот класс, из которого вышел писатель, а совсем
иной, противоположный ему, являющийся его
могильщиком. Такая связь — по Сартру — может возникнуть лишь в
том случае, если литература сознательно и
целенаправленно превратит себя в истинное, то есть критическое,
зеркало политики.
Как видим, и теперь в этой, казалось бы, совершенно
новой исторической ситуации писатель выступает как
средоточие основного классово-политического противоречия
эпохи, а литература — его детище — как выразительница
метины о писательском бытии и, следовательно (так как в
этом бытии сконцентрировалась вся истина политики),
политической истины. И опять возникает перспектива
превратить «нужду» полной деклассированности (и
соответственно — моральной дезориентированности) в высшую —
политическую! — добродетель: писателю вновь
предлагается быть «судьей» в общественном конфликте — и не
потому, что он так уж хорош, а совсем наоборот: потому,
что он особенно плох, потому, что душа его исполнена
всяческих противоречий, мешающих ему занять
какую-нибудь определенную позицию, принять на себя однозначно
формулируемые обязательства. Сартровский «писатель»
хочет быть «голосом совести» (вернее — политической
морали) всего общества именно в качестве представителя
литературной богемы — и только в этом качестве.
Нравственное бессилие и душевная пустота такого писателя,
которые делают его неспособным к высокому творчеству и
вынуждают выдавать за таковое полупублицистическое
рассуждательство по поводу политических скандалов, о
каковых информируют публику ежедневные газеты,— все
это, оказывается, и обеспечивает политическую истинность
его позиции и его продукции.
Однако мы слишком упростили бы положение вещей
(повторив отчасти сартровский грех субъективистского
толкования), если бы рассматривали концепцию Сартра
исключительно как выражение умонастроения
определенного социального слоя — в данном случае богемно-люмпен-
ски настроенного слоя буржуазной художественной
интеллигенции. Сартровское тяготение к политизации
литературы, приведшее французского ппсателя и философа к
отождествлению литературы и политики, имело и иные, бо-
248
лее глубокие причины, связанпые с существенными пере*
стройками, происходившими в западной художествеппой
культуре XX века. Речь идет об уже упоминавшемся нами
процессе «иссыхания» той религиозно-мифологической
почвы, на базе которой на протяжении многих веков
осуществлялось взаимопонимание искусства (художника) и
публики. Как мы уже упоминали, одной из форм реакции
на этот факт было обращение писателей и художников к
«искусственным» мифам — к тем, что создавались
философами, получая у пих форму той или иной «копцепцип
человека», той или ипой «мифологемы», дающей парадигму
человека, его места в космосе, его исторической судьбы. На
примере своего собственного
литературно-художественного творчества, альфой и омегой которого был
экзистенциалистский «миф» о человеке и его природе, Сартр имел
случай убедиться в том, что при таком варианте писательства
он мог рассчитывать на очень узкий круг читателей — на
те самые элитарные круги, которые, судя по его более
поздней формулировке, хотя и поставляли ему читателей,
однако не образовывали публики в строгом смысле этого
слова. Так что под утверждение о том, что писатель —
выходец из буржуазной среды «не имеет публики» *,
подпадало и все литературно-художественное творчество
Сартра-экзистенциалиста, и, уж во всяком случае, его роман
«Тошнота». Перед лицом этого «кризиса публики»,
вообще характерного для послевоенной художественной
культуры Запада, Сартр и обратился за помощью к политике и
политической идеологии,— акция, к которой он был
подготовлен своим участием во французском Сопротивлении.
Сам по себе этот поворот одного из виднейших
французских писателей свидетельствовал о том, что литература
искусственно (философски) конструируемых «мифов»,
ориентированная на узкие, элитарные читательские круги,
вместе с утратой общезначимости своего содержания
утрачивала также и публику; что в своем стремлении удержать
эту публику или вновь найти ее, если она уже утеряца,
западная литература обнаружила недвусмысленную
тенденцию опереться на общезначимость политики и
политической идеологии: политика должна была сыграть теперь
по отношению к литературе ту самую роль, какую между
Двумя мировыми войнами играла для нее философия,
философски сконструированный «миф», «мифологема» о чело-
1 См.: J.-P. Sartre. Situations IL Paris, 1948, p. 288.
249
веке, его йрироде и смысле его бытия. Но при этом,— что
и выразил Сартр со всей доступпой ему
непосредственностью,— писатели сартровского типа хотели оставить за
собой право «свободного» обращения с политикой — того
самого «игрового», «иронически-рефлексивного»
отношения к пей, которое со времен романтиков утвердилось в
сфере взаимоотношений между художппком и его
«материалом». Причем как раз это — «игровое», «игривое» —
отношение, «игра» в политические реалии в сфере
литературы,— оно-то и представлялось Сартру политикой «в
высшем смысле», истинной «моделью» для рсальпой политики,
для принятия конкретных политических решений. Таким
образом, Сартр-писатель, казалось, одним выстрелом
убивал двух зайцев: обретал наконец общезначимую и
широкую почву для серьезного разговора со своим читателем,
не принимая на себя никаких сколько-нибудь серьезных
политических обязательств; для того чтобы привлечь
массового читателя, Сартр-писатель решил обернуться
Политиком, а когда возникала необходимость оплачивать
политические счета, давал понять, что он — Писатель. Впрочем,
во втором случае он вступал в серьезные противоречия с
самим собой: ведь это писательство, «игравшее»
политическими реалиями, признавалось одновременно высшим
типом политической деятельности...
Разрешить противоречия своей копцепции,
возникающие в данной связи, Сартр пытался (скажем сразу: без
особого успеха) с помощью специфического понятия:
«литература праксиса». Согласно Сартру, «литература
праксиса» представляет собой позитивную альтернативу
«литературе потребления», или «потребительской литературе»,
соответствующей эпохе буржуазного безвременья, то есть
периоду, когда буржуазия уже перестает играть
революционную историческую роль. Она, эта «литература
праксиса», рождается как раз тогда, когда литература наконец
осознает, что она не имеет публики, то есть — как
выражается Сартр — живет «в эпоху ненаходимой публики»;
рождение «литературы праксиса» — свидетельство
активного поиска литературой своей собственной публики,
которая может быть обретена лишь при условии, если
литература снова включится в процесс реального
исторического творчества — и как раз в той мере, в какой ей удастся
стать активной силой этого процесса. В отличие от
«литературы потребления», утверждает Сартр, «литература
праксиса» связывает не Бытие и Обладание, а Бытие и
250
Деяние, то есть ориентирована не на использование, а на
преобразование мира, на вмешательство в историю, в
политику, в борьбу классов и партий.
Однако особенность вмешательства литературы
(«литературного» вмешательства) в историю заключается,
согласно сартровской концепции, в том, что оно не только
не предполагает для писателя прямую связь с той или
иной из классово-политических сил, борющихся на
социальной арене, но в принципе исключает ее. И исключает
на том основании, что сама литература (писательство) есть
выражение истинной политики и — значит — какое бы то
ни было отступление от политической позиции
литературы,— а оно неизбежно возникнет, если писатель
организационно свяжет себя с какой-нибудь партией,— это уже
отступление от политической истины. А из этого следует,
что подлинная литература — «литература праксиса» —
должна сама себя воспринимать как нечто вроде партии,
но партии — опять-таки — не в эмпирическом, а в высшем
смысле: как партию, стоящую надо всеми остальными
партиями и вершащую суд над ними на основе своего
высшего принципа — принципа свободы (не забудем: последняя
расшифровывается не иначе как «свобода от», то есть как
чисто негативная свобода). «Партия литературы»
оказывается, таким образом, парадоксальной «непартийной
партией», которая, с одной стороны, не хочет связать себя ни
с одной из реально существующих классово-партийных
сил, но, с другой стороны, именно потому и считает себя
партией в самом подлинном смысле, воплощением
партийности, как таковой.
Удаленность (как организационная, так и моральная)
от реально существующих классов и партий, позволяющая
писателю в одном случае («ситуации») выступать на
стороне одного класса (партии), в другом — на стороне
другого, с точки зрения первого критиковать второго, с точки
зрения второго — первого и т. д.,— это теоретическое
выражение позиции так называемого «беспартийного
журналиста» и представляется Сартру воплощением истинной
партийности. «Беспартийный журналист»,— однако
интересующийся только партийной борьбой, пишущий только о
ней и полностью замкнутый кругом политической
идеологии (ибо он не знает никакой иной реальности, кроме
политической) ,— вот чья «точка зрения» получила свое
воплощение в сартровском понимании «литературы
праксиса». Не имея своей собственной определенной или,
251
выражаясь философским языком, «субстанциальной»
позиции, этот персонаж способен только на то, чтобы,
попеременно вставая на позиции различных партий и «вживаясь»
в каждую из них (подобно актеру, всегда знающему о том,
что это — лишь одна из его ролей, которая завтра будет
сменена другой), пспользуя аргументы каждой из них
против всех других, заниматься таким родом политической
игры, для которой характерны одновременно и
«вовлеченность» в политику, и полная свобода от нее. И в общем,
несмотря на все презрительные замечания Сартра по
адресу «потребительской литературы», в установке
«беспартийного журналиста», идеологом которого сделал себя
французский мыслитель, нельзя не почувствовать
совершенно потребительского — гедонистического! —
отношения к политике, превращаемой в род игры: наслаждения
«вовлеченной» «невовлеченностью». Как видим, гедони-.
стическая струя, придавшая впоследствии специфическую
окраску «новой левой» политике, имела, оказывается,
одним из своих источников и сартровское литературное
«левачество» — литературную игру в политическую
«левизну», исключавшую для Сартра возможность занятия
определенной политической позиции.
Но если в одном из своих аспектов сартровская
концепция «литературы праксиса» представала как
литературное разложение политики, растворение ее в
литературщине, в безответственном журнализме, в театрализованной
игре в политику, то в другом своем аспекте эта
концепция представляла собой политическое разложение
литературы, растворение ее в политиканстве, в «метании»
между различными политическими позициями, в
«шарахании» от одной политической крайности к другой, что — и
это здесь самое главное и существенное — с логической
неизбежностью вело к утрате литературой своего
основного «субъекта» — человека, низведенного теперь до одного-
единственного своего измерения — политического и
превращенного в простой «пункт пересечения» разнообразных
политических сил и тенденций и озабоченного (якобы)
только одним: бесконечными рефлексиями на тему о
«политическом выборе» — бесконечными потому, что «выбор»
так-таки не происходит, поскольку он ьсе время
«оговаривает» себя. И если, выдавая свое литературное
«левачество» за подлинную политику, Сартр был весьма п
весьма далек от истины, поскольку опо не было ничем иным,
как «проектом» игры в политику (той самой, которую
252
впоследствии «новые левые» экстремисты,
приветствуемые престарелым философом, попытались реализовать на
практике), то, выдвигая тезис о том, что сущность
литературы — это политика, он говорил нечто, имеющее
действительное отношение к делу: но только в том смысле, что
его, писателя Сартра, литература п в самом деле утратила
свое специфическое — универсально-человеческое
содержание, и ей ничего не оставалось, кроме как обратиться за
ним к политике. Акт, благодаря которому оп не только
подготовил «новую левую» политизацию литературы, по и
стал одним из предшественников ее «политической
ликвидации» в «новом левом» экстремизме.
3. ФРАНКФУРТСКАЯ КРИТИКА КОНЦЕПЦИИ
АНГАЖИРОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
Любопытно, что сартровская концепция литературы
(и искусства) вызвала весьма резкую критику со стороны
ведущих теоретиков Франкфуртской школы и прежде
всего — Адорно. Его полемика против Сартра представляет
интерес в ряде отношений. Во-первых, потому, что в
рампах одного и того же неомарксистского потока
обнаруживаются две существенно различные концепции литературы
и искусства. Во-вторых, потому, что различие этих двух
концепций сразу же обнаружило различие двух «моделей»
человека, к которым тяготели сартровская эстетика, с
одной стороны, и адорновская — с другой. В-третьих,
потому, что различие этих двух «моделей», в свою очередь,
засвидетельствовало наличие в рамках неомарксизма
существенно различающихся «мифов» о человеке, его
природе, предназначении и т. д. В-четвертых, потому, что уже в
ходе рассматриваемой полемики стало очевидным, какая
из конкурирующих «мифологем» была более
перспективной — в смысле возможностей расширения ее влияния на
литературу и искусство шестидесятых годов. Вот почему
есть смысл несколько подробнее остановиться на адорнов-
ской работе «К диалектике ангажемента» (1962) !, в
которой франкфуртская версия «неомарксизма» бросает вызов
Сартру (находившемуся на пути создания своей версии
«неомарксизма»), причем — как раз по вопросу о
литературе, ее сущности п социальной функции.
1 In: «Die neue Rundschau, 73», Jg. 1962, Heft 1.
253
Адорно обвиняет Сартра в том, что, говоря о
литературе, он не умеет различить двух вещей: того, что хочет от
своего собственного произведения сам художник
(субъективный аспект дела), и того, что реально получает
выражение в произведении (объективный аспект). И потому
Сартр оказывается обреченным на бесконечное колебание
между этими аспектами. Между тем в таком различении и
связанном с ним четком определении позиции
заключается, по Адорно, вся суть дела. И если посмотреть на сар-
тровскую концепцию с этой точки зрения, то станет
очевидным: Сартр имеет в виду именно субъективный аспект
и явно недооценивает объективный. Ибо для него
произведение искусства и литературы — это выражение
осознанного намерения его автора и прежде всего —
политического. Такая позиция представляется Адорно
субъективистской; причем, как тотчас же становится ясным, не потому,
что Сартр переоценивает роль субъекта (в данном
случае — автора и его осознанного намерения), а потому, что
он вообще признает его традиционную роль в искусстве,
тогда как на самом деле она не только редуцировалась до
бесконечно малой величины, но и существенно изменилась
по своему содержанию.
Как мы уже видели, в противоположность Сартру,
франкфуртский мыслитель исходит из того, что в условиях
«позднекапиталистического общества» субъект,
субъективность вообще уже утратили свою историческую силу: опи
представляют собой бессодержательную форму, тогда как
реальное содержание находит действительное, а не
иллюзорное выражение в безличных, темных силах.
Применительно к литературе и искусству это означает, что
потерпел поражение также и творческий субъект (художник),
равно как и воспринимающий субъект (публика как
совокупность инициативных и самосознающих индивидов).
А раз это так, то, в силу адорновской логики, собственные
осознанные намерения писателя (художника), а также
осмысленное постижение их воспринимающим индивидом
утрачивают свое прежнее истинное значение: они должны
быть отнесены по ведомству неистинного сознания, то есть
«идеологии».
Отныне ни сам художник, ни воспринимающая
публика, ни тем более критика, рефлектирующая об искусстве,—
никто из них не должен уже верить в роль свободной и
сознательной инициативы творца художественного
произведения (тем более что она всегда была существенно огра-
254
нйчепа областью бессознательного, играющего решающую
роль в художественном творчестве). Теперь становится
особенно важным то, что всегда было существенным для
искусства, хотя не играло столь значительной роли, как в
наш век: воздействие на область бессознательного;
апеллировать же к сознательному намерению творящего
индивида в искусстве — это субъективизм. Вот почему, согласно
Лдорпо, творчество радикально настроенного
художника неизбежно окажется консервативным по своему
объективному (в том числе — эстетическому) содержанию, коль
скоро оп будет все еще исходить из принципа эстетической
(и всякой иной) значимости самосознающего индивида,
свободно осуществляющего свой выбор, свободно
принимающего свое (моральное, политическое и т. д.) решение.
По ведомству такого политического консерватизма (и
даже рудиментов религиозности) Адорно относит даже
сартровскую веру в художественную значимость
понятийного содержания поэтического творчества, понятийный
смысл поэзии вообще. Франкфуртский мыслитель не
только выражает глубочайшее сомнение по поводу
эффективности воздействия искусства на интеллектуальную (в
частности — понятийную) сферу индивидуального сознания
воспринимающих, но и сомневается насчет
целесообразности апеллировать к их сознанию и самосознанию
вообще. Истинно иррелигиозное искусство, если следовать
адорновскому рассуждению, исключает всякую веру в
понятийный смысл поэзии — как для самого поэта, так и для
его публики. Поэтому ни сам поэт не должен стремиться к
воплощению в своих произведениях некоторого понятийно
выражаемого содержания, ни публика не должна искать в
них таковое. «Радикальный» (в противоположность
«консервативному» сартровскому) подход Адорно постулирует,
что, во-первых, произведение выражает «вне»- и «без»-лич-
ностное устремление художника, его «вне»- и «без»-созна-
тельный порыв, и все это должно воздействовать на
соответствующие — до-личностные и пред-сознательные —
структуры воспринимающих индивидов; там, где
общаются друг с другом не сознание и сознание, а две
бессознательных и, следовательно, анонимных структуры,— лишь
там осуществляется, реализуется истинная, а не
идеологическая связь произведения искусства и воспринимающих
его. А во-вторых, в этом смысле только и можно говорить
о том, что в искусстве получает выражение некая
объективная тенденция: тенденция, суть которой заключается
255
в «падении» личности и индивидуальности, перестающей
быть активным и сознательным носителем общественного
содержания, наоборот — представляющей собой
совершенно бессознательный (и бесформенно-анонимный)
материал для его воплощения.
Отсюда — непонятность произведений новейшего
искусства, на которые ориентируется Адорно. Ведь они и не
предполагают никакого понимания со стороны
воспринимающих. Возникая в бессознательпой сфере художника,
выплескиваясь из пес, как брызги из кипящего котла,
опи рассчитаны только на то, чтобы передать состояние
создавшего их человека: состояние его загнанности и
задавленности отчужденным миром «позднего капитализма».
Состояние, при котором он уже перестает верить себе,
утрачивает свою индивидуальность, «теряет сознание».
Единственное, что он может,— это кричать, воздействуя
своими криками на окружающих; произведения
современного художника и есть, по Адорно, эти вопли —
полузадушенный голос задавленной плоти, которая уже утратила
те особенности, которые некогда делали ее индивидом и
личностью. Иначе говоря, новейшее искусство рассчитано
не на понимание со стороны воспринимающих его, а на
воздействие на их «подкорку»: воздействие, вызывающее
у них ужас, напоминающее им о том, что кошмарное
чувство, пробуждаемое у них произведениями новейшей
литературы и искусства,— не что иное, как картина их
собственного кошмарного состояния,— вернее, даже не
картина, а документальная запись его. Сам факт абсолютно
непонятного, замкнутого на себя (автономного)
произведения искусства уже вызывает шок воспринимающего.
И значение этой совершенной непонятности искусства
(области, которая всегда была доменом прекрасного),
равно как и шока, ею вызываемого, только одно: красота
закрыла свой лик перед ужасами мира сего, она
отвернулась от него,— а это не может не вызвать ответного
чувства ужаса, хотя оно не всегда отдает себе отчет в этом и
поначалу видит его исток лишь в кошмарной бессмыслице
произведения.
Нетрудно заметить, что перед нами — две разных
концепции литературы (и искусства), ориентирующиеся на
две существенно различные «модели» человека. Правда,
первоначально Адорно дает понять, что речь идет лишь о
•двух различных трактовках современного состояния
человека Запада, однако мало-помалу становится совершенно
256
ясным: различив уходит гораздо глубже — в
несовместимость принципов подхода к человеку. Подвергая критике
сартровское понимание человека, франкфуртский
мыслитель настаивает на том, что оно не отвечает реальной
ситуации, сложившейся в условиях государственно-монопо-
листически организованного общества. Эта ситуация
такова, что она не оставляет индивиду никакого
пространства для выбора различных альтернатив, а тем более — для
абсолютно свободного экзистенциалистского решения.
Для современного человека, если верить Адорно,
оказывается истинной как раз та самая ситуация, которую Кир-
кегор высмеивал в свое время (а Сартр полностью
поверил ему в этом), характеризуя гегелевский фатализм:
поднимешь шапку — побью, не поднимешь —- тоже побью!
Как раз эту фактическую ситуацию иллюстрируют,
согласно Адорно, и многие сартровские пьесы,—потому-то
они и не выполняют своей роли в качестве модели сартров-
ского экзистенциализма (равно как и сартровской
неомарксистской концепции литературы). В них, утверждает
франкфуртский мыслитель, видя в этом их несомненное
достоинство, воссоздается атмосфера целиком ( «насквозь» )
управляемого мира, исключающего даже элементарный
выбор, не говоря уже об экзистенциальном. В этом смысле
сартровский «театр идей» осуществляет совершенно иную
функцию, нежели та, что была отведена ему
Сартром-экзистенциалистом (и автором «неомарксистской» концепции
литературы) : он «саботирует», обнаруживая их
несостоятельность, фундаментальные категории французского
философа и литератора. Впрочем, при этом обнаруживается
и гораздо большее: строй сартровских идей,
накладывающих свою печать и на его произведения, в гораздо
большей степени связывает его с существующей
действительностью, чем этого хотел бы радикально настроенный Сартр.
Его политическая позиция, равно как и объективное, не
осознанное им самим содержание его собственных
произведений, оказываются в глубоком противоречии с сартров-
ским представлением о человеке и вытекающей из него
концепцией литературы. Если в первом случае мы имеем
дело с коренным неприятием действительности, то во
втором оказываемся перед лицом смыкания с этой самой
действительностью на почве того, что Адорно называет
«культурным консерватизмом» и субъективистским
представлением о человеке, сохраняющем чисто религиозные мотивы
(так диссонирующие с открыто провозглашаемым ате-
9 Ю. Давыдов
257
измом Сартра). Этот второй аспект дела, сказывающийся
и в драматургическом творчестве Сартра, и сделал
возможным, по Адорно, ассимиляцию сартровских пьес
«культурной индустрией» капитализма, обеспечив им
популярность.
Сартровская субъективистская установка,
побуждающая превозносить субъекта там, где от него едва ли что-
дибудь осталось, мешает Сартру «познать ад», против
которого он бунтует. У него, по утверждению Адорно, все
время возникают различные иллюзии по поводу реального
положения современного человека. Ему, например,
кажется, что если не в низах общества, то, по крайней мере, на
социальных «командных высотах» люди еще что-то
значат, что хотя бы здесь принимают решение отдельные
индивиды, а не «анонимная мапшнерия». Этому стремлению
Сартра найти «жизнь» (субъективности) там, где она
полностью отсутствует, где ее в принципе уже не может
быть,— во всяком случае, по убеждению Адорно,—
франкфуртский мыслитель противопоставляет «околевающих»
Беккета — странные существа, полностью утратившие
человеческий облик, которые, по замыслу драматурга,
должны символизировать предел деградации человека в
современном мире. При этом Адорно дает понять, что
сартровская субъективистская идеализация человека небезопасна
и в политическом отношении, поскольку обнаруживает
близость позиции Сартра позиции фашистского философа
Дж. Джентиле, провозглашавшего абсолютный динамизм
«того же философского свойства». Одним словом, слабость
концепции ангажемента поражает у Сартра как раз то,
ради чего он ангажировал себя,— его политический
радикализм, рискуя превратить его в собственную
противоположность.
Чувствуя, однако, что вывод о «конце» человека в
современную эпоху ставит под вопрос возможность
существования искусства, всякого искусства (в том числе и
авангардистского), Адорно развивает, в противоположность
Сартру, концепцию искусства (и литературы),
балансирующего «на грани» своего собственного отрицания.
Корректируя свое собственное высказывание, отражавшее
умонастроение его первых послевоенных лет,— о том, что
писать стихи после Аушвица (Освенцима) — это
варварство (где, по сути дела, уже был заключен вывод о «конце»
искусства), франкфуртский мыслитель рассуждает
следующим образом. Это высказывание, говорит Адорно, вы-
258
разило в негативной форме тот же самый импульс, что
одушевляет сартровское литературно-художественное
творчество: после второй мировой войны и гитлеровских
лагерей смерти литература и искусство не могут уже
жить так, как будто ничего не случилось; более того:
самим фактом*своего «простого существования» они как бы
удостоверяют, оправдывают кошмарную бесчеловечность
цивилизации, способной удушить в газовых камерах
миллионы людей. Но прав и поэт и публицист Г.-М. Энценс-
бергер, который, возражая против этого высказывания,
делал вывод о том, что поэзия все-таки должна
сохраниться и перед лицом всех этих кошмаров, изменив, однако,
форму своего существования и отныне существуя так,
чтобы ее «простое бытие» не могло бы расцениваться как
согласие с ними.
Развивая эту мысль, Адорно делает вывод о
парадоксальности нынешнего существования литературы
(искусства), которая, с одной стороны, не может, не имеет
морального права существовать, а с другой — не может не
существовать, так как не существовать она также не
имеет никакого права. Решением этого парадокса, по мысли
франкфуртского философа, и должно быть парадоксальное
существование литературы (искусства) — в форме своего
собственного отрицания: саморазоблачения, само
деструкции и т. д.; ибо только таким образом оно может
«моделировать» реальное состояние современного человека и
человечества.
Однако этот парадокс невозможного существования
или осуществленной невозможности искусства дает знать
о себе постоянно, в каждом произведении, в каждом жесте
художника. Искусство, посвятившее себя напоминанию о
кошмарности человеческого бытия в нашем веке, получает
ужасающую силу: силу кошмарного факта, выплеска
предельного страдания, крика, вопля ужаса,— ибо ничем
другим оно не может (и не хочет) быть. Однако все это
искусство может явить лишь в своей собственной —
эстетической! — сфере: вне ее оно уже перестало бы оставаться
искусством, превратилось бы в нечто иное. И уже одно
это обстоятельство вызывает постоянную опасность того,
что кошмарный факт превратится в образ этого факта,
выплеск предельного страдания — в картину этого выплеска,
вопль ужаса — в изображение этого вопля. Иными
словами, при всем нежелании новейшего (авангардистского),
искусства создавать художественные произведения, оста-
9*
259
ваясь лишь «чистым документом» ужасающего в
человеческой жизни, оно не может противостоять тому, чтобы
эти «документы» воспринимались как произведения
искусства и соответственным образом «потреблялись» публикой.
То, что возникло как жест неприятия этого мира,
независимо от воли и желания самого художника принимает
форму художественного произведения и в таком виде идет на
/«корм» тому самому миру, который погубил искусство,
превратив его в чистый вопль, крик ужаса (вспомним
«Крик» экспрессиониста Мунка). Страдание, которое
художник хочет бросить в лицо мира, являющегося его
виновником, обнаруживает парадоксальную возможность
приобрести (в восприятии публики) диаметрально
противоположные черты, доставляя эстетическое наслаждение.
Отсюда — необходимость постоянной «бдительности»
художника-авангардиста: он должен вновь и вновь
разламывать форму произведения искусства — с темл чтобы
являемый им ужас человеческого бытия не приобрел
эстетического характера, характера вещи, доставляющей
удовольствие при ее созерцании. Художник-авангардист
вынужден постоянно ломать вновь и вновь возникающую
«эстетическую дистанцию» между искусством и жизнью,
однако делать это так, чтобы искусство все-таки
сохранялось, хотя и взятое «в момент» падения, аннигиляции —
вместе с человеком, о гибели которого оно повествует.
В противном случае невыразимый ужас, который
пытаются «манифестировать» авангардистские художники,
неизбежно превратится в «культурное благо», то есть в
продукт культурного гешефта — в целях распродажи его
оптом и в розницу. А это значит, что искусство не
выдержало своей бескомпромиссной позиции, приняло участие
в «игре с культурой» — по правилам, предложенным этой
последней.
Вот почему, согласно Адорно, искусство,
художественное произведение, выдерживающее принцип
«бескомпромиссной автономии», «замыкания на себя» и полного
разрыва всех связей с публикой,— только оно может избежать
приспособления к рынку культуры; и в качестве такового
оно, даже независимо от воли и желания художника,
становится нападением на культуру, на защищаемый ею тип
цивилизации. И таким образом как раз разрыв с миром
становится для «автономного» произведения искусства
формой связи с ним, а «шок непонятного», вызываемый им
у публики,— способом его адекватного постижения ею.
260
Тем самым складывается парадоксальпая ситуация.
Произведепия, настаивающие на своей полнейшей
автономии, не желающие иметь ничего общего с существующей
действительностью, оказываются в определенном
отношении, связи с нею: в единственно возможной, по Адорно,
связи отрицания, отвержения этой действительности. А
поскольку связь эта входит в структуру самого
произведения, раскалывая его изнутри и превращая его
одновременно в нечто большее, чем искусство, и меньшее, чем оно,
постольку такое («немыслимое») произведение
оказывается связанным с действительностью и внутренним
образом: конструкцией своей формы, способом своего
собственного структурирования, воспроизводящего отношение
искусства, произведения, а следовательно, художника,
человека, к миру «позднекапиталистической» цивилизации.
Фантазия художника-авангардиста не есть, стало быть,
«творение из ничего»; согласно Адорно, автономные
произведения, противостоящие действительности на
эмпирическом уровне, оказываются более послушными ее
внутреннему закону, чем, скажем, произведения сартровского
типа. Вот почему, если согласиться с этим адорновским
выводом, произведения Сартра, столь озабоченные (на вер-
бально-политическом уровне) связью с современной
действительностью, оказываются, по сути дела, гораздо
дальше от нее, чем «автономные» произведения, не желающие
иметь с ней ничего общего.
Решающим, как видим (и как это снова и снова
подчеркивает сам Адорно), является постулат
франкфуртского мыслителя, согласно которому субъект не играет
больше никакой — не то чтобы исторической, но просто
сколько-нибудь самостоятельной роли: он «уволен в отставку»;
на его месте осталась лишь пустая оболочка, которую
философы сартровского типа все еще принимают всерьез,
попадая таким образом в сети официальной идеологии,
эксплуатирующей гуманистические воспоминания и
реминисценции. Беккетовское «Ессе homo» есть, согласно
Адорно, единственно адекватное воссоздание того, чем
стал сегодня человек. Причем эта истина, являемая
произведениями Кафки, Беккета и др., оказывает гораздо
большее воздействие на существующую действительность,
нежели те политические лозунги, которые содержатся в
ангажированных произведениях Сартра (с ним в
рассматриваемом аспекте Адорно сближает и Брехта). В
противоположность им ангажированпые произведения воспри-
261
нимаются подчас как детская игра, как нечто безнадежно
инфантильное; Кафка и Беккет пробуждают у людей тот
самый экзистенциальный ужас, ужас, пронизывающий все
человеческое существо, о котором авторы вроде Сартра
только говорят, только теоретизируют.
Нетрудно заметить одну существенную особенность
адорновской полемики с Сартром. По форме она выглядит
так, что экзистенциально-онтологической конструкции
Сартра, лежащей в подтексте сартровской концепции
ангажированной литературы, Адорно противополагает
описание фактического состояния дел — реального положения
человека в условиях государственно-монополистического
капитализма. Однако это — лишь первое и достаточно
поверхностное впечатление; более внимательный анализ
адорновских ходов мысли (на фоне всей совокупности
работ Адорно пятидесятых — шестидесятых годов) приводит
нас к заключению, что в основе такого «описания» лежит
определенная концепция человека,— факт, констатация
которого заставляет подозревать, что мы имеем дело не
столько с описанием, сколько с субъективно пристрастным
истолкованием определенной группы явлений. Что же
касается этой концепции, то она, как мы могли убедиться на
основании всего хода нашего изложения, имеет
определенно выраженный «фрейдо-марксистский» характер, то
есть тяготеет к фрейдистскому «мифу» о человеке, его
сущности и месте в космосе, истолкованному, однако, с
помощью (достаточно произвольно выбранных)
марксистских понятий.
Судь адорновской (и хоркхаймеровской) концепции
человека заключается в ее — социологически
зашифрованном! — натурализме. Натурализм этот побуждает Адорно
принимать за «истинно человеческие» качества не
социальные, не культурные, а именно «изначально природные»
измерения человеческого существования, то есть в
конечном счете биологические измерения, измерения человека,
взятого в качестве «природного тела». Приоритет
витально-природного, «телесного» в человеческой сущности,
утверждаемый франкфуртским теоретиком, открывает
исключительно благоприятную возможность для перевода
соответствующей концепции человека на фрейдистский
язык. Правда, некоторым препятствием при этом
оказывается «либерализм» Фрейда, пытавшегося истолковать
человеческую природу как своеобразный компромисс
биологического и социо-культурного начал,— компромисс, не-
262
мыслимый для таких радикально (антисоциально и
антикультурно) ориентированных мыслителей, как Адорно.
Вот здесь-то и приходит на помощь адорновский социоло-
гизированный язык, выработанный па основе
неправомерной абсолютизации марксистского понятия
«отчуждения». «Скорректировав» с помощью этого языка
фрейдистскую терминологию, Адорно (вместе с Хоркхаймером)
изобразил дело так, что все социо-культурное в
человеческой природе представляет собой результат ее —
буржуазно-эксплуататорского! — «отчуждения».
Но таким образом в сферу «отчужденного» (и
следовательно, неистинного) в человеке попало все, связанное с
его индивидуально-личностным аспектом, которым человек
обязан именно своему существованию в
социально-культурном измерении. Так что все лично-индивидуальное уже
с самого начала, так сказать, «по определению» было
обречено в адорновски-хоркхаймеровской концепции, и
обречено безотносительно к
государственно-монополистическому капитализму, второй мировой войне и гитлеровским
лагерям смерти. Акт обособления человека от природы и
его «индивидуации», ввергавшей его в сферу социо-куль-
турного развития,— уже представлял для Хоркхаймера и
Адорно нечто двусмысленное и подозрительное. Личность,
индивидуальность изначально представляли собою нечто
глубоко сомнительное в глазах этих франкфуртских
теоретиков, а крах этих человеческих определений должен был
представляться чем-то само собой разумеющимся и
неизбежным,— предпосылка, заставляющая подозревать в
неискренности Адорно, когда он начинает оплакивать
субъекта, гибнущего в условиях
государственно-монополистической организации общества. Потому-то и возникает
законное подозрение: а не преувеличивает ли Адорно
размеры «краха» субъекта (и всей индивидуально-личностно
ориентированной культуры)? Не принял ли Адорно за
полное уничтожение индивидуальности, личности,
субъективного начала процесс, который действительно достаточно
далеко зашел в этом деле, однако не менее далек и от
своего «конца»? Не слишком ли рано сложил он оружие,
отдавшись на волю коварной логике своих ошибочных
предпосылок, недостаточно критически осмысленного им
«мифа» о человеке?
В самом деле, если рассматривать сам факт
«индивидуации» человека, его превращения в субъекта и личность
как «заболевание» природы в человеке (а именно эта пиц-
263
теанская предпосылка, переведенная на «фрейдо-марк-
систский» язык, лежит в основе адорновской концепции
человека), то нам ничего не остается, как наблюдать
развитие этой болезни вплоть до ее конца — до последних
смертных судорог «индивидуально-личностного» начала.
А в ситуации такого ожидания очень легко принять за
такой «конец» любое из тех мрачных и кошмарных
событий, с какими приходилось сталкиваться человечеству на
протяжении своей трагически-мучительной истории. Эсха-
тологизм «заложен» уже в самом фундаменте адорнов-
ски-хоркхаймеровской концепции человека; и точно так же
как виной этому обстоятельству были умонастроения
Хоркхаймера и Адорно, сложившиеся под впечатлением
разоблачения нацистских преступлений, теоретически
закамуфлированный эсхатологизм франкфуртской
концепции был повинен в том, что эти социальные мыслители
очень уж спешили «покончить» с
индивидуально-личностным принципом человеческого существования. Круг
замкнулся: определенные умонастроения вылились в форму
соответствующей концепции, а она, в свою очередь, делала
все, чтобы поддержать в жизни эти умонастроения,
соответствующим образом «интерпретируя» все удобные для
нее факты и полностью игнорируя «неудобные».
* * *
Мы исказили бы перспективу спора по вопросу «быть
или не быть» литературе (и искусству вообще), если бы
не учли еще одной линии, наметившейся в нем. Линии,
тем более характерной, что ее виднейший представитель —
поэт и публицист Г.-М. Энценсбергер — предлагал ее как
сочетание двух авторитетов, одинаково модных в «новых
левых» кругах. С одной стороны, он взывал к авторитету
Вальтера Беньямина — леворадикального эстетика и
социолога искусства тридцатых годов, от которого, кстати,
вел свою традицию и «сам» Адорно. С другой — обращался
к авторитету популярного канадского «философа массовых
коммуникаций» Маршалла Маклюэна. И все это делалось
для того, чтобы обосновать «вывод», очень
импонировавший экстремистски настроенным Бунтарям против... все
той же духовной культуры...
264
4. КОНЕЦ ПИСЬМЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ?
...Лет десять назад преподаватель литературы одного
из английских университетов рассказал мне
анекдотический случай из своей практики. Пришла как-то к нему на
экзамен студентка и (очевидно, во избежание
недоразумений) с места в карьер заявила, что за истекший год она не
прочла ни одной книги и не собирается делать этого в
дальнейшем.
— Почему? — спросил он, несколько ошарашенный
таким заявлением будущего филолога.
— Да потому,— с митинговым пылом ответила
студентка,— что чтение — это индивидуальная и, значит,
индивидуалистическая форма деятельности. А всякая
индивидуалистическая деятельность—буржуазна. И поскольку
она способствует интеграции индивида в рамках
капиталистического общества. Не желая «играть в игру» с этим
насквозь прогнившим обществом,— продолжала она,
пользуясь хорошо отработанными формулировками и ходами
мысли,— я и некоторые мои товарищи решили
категорически отвергнуть буржуазно-индивидуалистический способ
освоения знаний, каким является чтение книг и журналов.
Мы признаем только непосредственно коллективные
способы постижения науки — диспуты, митинги,
демонстрации и так далее.
Рассказ преподавателя изобиловал юмористическими
подробностями. Событие, послужившее поводом для него,
подавалось как забавный курьез, какими так богата жизнь
студенчества, склонного — как в теории, так и на
практике — ко всякого рода преувеличениям и фантазиям. Мне,
правда, тут вспомнились двадцатые годы с пресловутым
«бригадным методом» обучения, о чем я и сообщил
собеседнику. Но его не тронула эта историческая аналогия, хотя
она и заключает в себе нечто поучительное. Его
гораздо больше интересовала связь упомянутого
анекдотического случая с общим ростом активности студенческой
молодежи и спонтанными поисками ею новых форм
самовыражения и самопроявления, которые имели бы непосредственно
коллективный характер.
С тех пор мне не раз приходилось всггомппать рассказ
преподавателя-англпчапнна. О нем настойчиво
напоминали все более и более угрожающе звучащие филиппики
против культуры, которые — после мая 1%8 года — быстро
перекочевали со стен зданий Латинского квартала па стра-
265
ницы газет, журналов, сборников «нового левого» толка.
А некоторое время спустя меня снова заставила вспомнить
о рассказанном случае статья Г.-М. Энценсбергера,
опубликованная в двадцатом выпуске издаваемого им «Курс-
буха» *. Основным ее тезисом было то же самое
утверждение — о «буржуазности» письменной литературы, как
таковой, апеллируя к которому упомянутая студентка
филфака «саботировала» свой очередной экзамен.
Поставленные в связь друг с другом две,
казалось бы, разнопорядковые вещи — отказ студентки-дбило-
лога читать литературу и теоретическое ниспровержение
письменной литературы известным поэтом и публицистом
Г.-М. Энценсбергером — явно провоцируют на три
умозаключения.
1. В русле молодежного движения протеста трудно
найти такой экстравагантный продукт буйной фантазии,
который не получил бы со временем «теоретического
обоснования».
2. В ходе подобного «обоснования» непременно
обретается определенная идейная традиция, в лоне которой
«теоретически обосновываемое» явление предстает уже
как проявление определенного типа сознания.
3. На фоне этого типа сознания, имеющего не только
исторические, но и духовные корни, данное явление
(скажем, тот же «казус», происшедший на экзамене по
литературе) не представляется уже чем-то случайным,
связанным с мимолетными умонастроениями.
Обо всем этом и пойдет речь дальше.
Упреки Г.-М. Энценсбергера по адресу письменной
литературы суммируются следующим образом. Книга, как
и другие— «старые» (а значит — «устаревшие») средства
коммуникации, например, станковая живопись, «имеет
исключительно классовый характер». «Классовый
характер» писательского труда «не подлежит сомнению даже в
век всеобщего обязательного образования». Письменная
литература вообще возникла и оформилась как орудие
«прогрессивной буржуазии», которое, естественно, должно
потерять свое прогрессивное значение в «позднебуржуаз-
ную» эпоху, когда господствующий класс становится
реакционным.
В аспекте структурном буржуазность книгопечатания
связана уже с тем, что оно представляет собою «моноло-
1 См.: «Kursbuch», 20, 1970, Fr. a. M., 1970.
2ß(i
гичное» средство коммуникации. Книга — как орудие
этого способа коммуникации — изолирует производителя и
потребителя друг от друга, исключает диалог-дискуссию
между ними в коммуникативном процессе. Кроме того,
писательский труд предполагает высокий уровень
специализации, а это углубляет пропасть между
производителями книжной продукции и ее потребителями, порождая
склонность первых к «кастовому мышлению», вызывая у
них иллюзию «избранности», превосходства над вторыми.
С точки зрения содержательной это кастовое мышление
есть не что иное, как результат приспособления
писательского сословия к буржуазному обществу — его нормам и
табу.
Приспособление это предполагает многолетнюю
тренировку, изощренный тренаж — не только духовный, но и
чисто физиологический. Уже сам процесс обучения
литературе, элементарному письму (чистописание) предстает
как с трудом достигаемое освоение «крайне
формализованной техники» — род дрессировки, осуществляемой
буржуазным обществом с помощью школы. Ведь эстетика
письменной литературы выражает явное презрение к
жизни: паузы, запинки, оговорки, повторы —все это
рассматривается как нарушение литературных правил. И в
соответствии с этими правилами дети с малых лет приучаются
к тому, чтобы прикрывать нерешенные проблемы
«защитным валом корректности». Долгие годы учат их
регулированию языковых форм без оглядки на содержание,
замазыванию — с помощью формализованной гладкописи —
реальных противоречий жизни, «буржуазной
рационализации» того, что не может быть рационализовано с
помощью чисто языковых средств. Наконец,
письменно-литературная дрессировка не выдерживает критики и с чисто
физиологической точки зрения. Самый процесс писания
предполагает неестественное («окоченелое») положение
человеческого тела. Это становится особенно очевидным
при сравнении писания с говорением,— пе случайно «все
люди говорят лучше, чем пишут».
Не ограничиваясь критикой письменной литературы с
«классовых», антропологических и физиологических
позиций, Г.-М. Энценсбергер пытается «релятивизировать»
предмет своей критики, рассмотрев литературу с птичьего
полета всемирной истории. «Рассмотренная исторически,
писанпая литература,— констатирует он,— играла
доминирующую роль только в течение нескольких столетий.
267
Сегодня преобладание книги действительно уже как
эпизод. Ему предшествовал несравненно больший временной
период, когда литература была устной; теперь же она
освобождается веком электронных средств массовой
коммуникации, которые возвращают ей тенденцию говорить с
каждым»*. Писанная литература, которая была лишь
эпизодом (обусловленным исторически — и классово и
технически) литературного развития, должна вповь
уступить место устной литературе.
Впрочем, и последняя, в свою очередь, предстает лишь
как «момент» в системе электронных средств
коммуникации — таких, как радио, кино и телевидение, для которых,
по Энценсбергеру, нет насущной необходимости не только
в письменном литературном тексте, но и в литературно
оформленном тексте вообще.
В качестве «момента» системы электронных средств
коммуникации (как опа видится Энценсбергеру) должна
была бы фигурировать — слава богу, «в Будущем» — уже
и не устная литература, а обыденная разговорная речь,
взятая до осознания говорящим ее норм и законов. Это,
кстати, как раз тот момент, когда, как правило, не столько
человек говорит с помощью языка, сколько последний
«глаголет» устами говорящего, сплошь и рядом побуждая
его высказывать совсем не то, что он хотел сказать.
Правда, в аспекте чисто зрелищном человек, беспомощно
блуждающий в дебрях языка и неспособный кратко и точно
выразить свою мысль, являет гораздо более занятную
картину, чем человек, хорошо владеющий языком. И коль
скоро Энценсбергер встал на «зрелищную» точку зрения
телевидения — как «более современного» способа
коммуникации, в отличие от письменной литературы, он,
естественно, и должен был предпочесть первого человека —
второму.
Согласно Энценсбергеру, микрофон и телекамера
«снимают классовый характер способа производства» в сфере
массовой коммуникации. В связи с этим отступают на
задний план все нормативные правила, которые
предписываются «книжной» формой коммуникации: «устное
интервью, спор, демонстрация не требуют и не допускают
никакой орфографии и никакого чистописания. Декорация
1 H. M. Enzensberger. Baukasten zu einer Theorie der
Medien.—«Kursbuch», 20, S. 180. В дальнейшем цит. с. 163—185
этого изд.
268
разоблачает эстетическую гладкость неразрешенного
противоречия как камуфляж». В принципе любой первый
встречный может быть теперь «продуцентом» в системе
коммуникации, и чем меньше он отшлифован «книжной»
культурой, тем лучше: тем интереснее будет наблюдать
его на телеэкране.
Итак, в каком бы разрезе ни брать письменную (и, как
мы видели, не только письменную) литературу, вывод, по
Энценсбергеру, будет одним и тем же. Она обречена, ее
должны вытеснить «более современные» — электронные —
средства массовой коммуникации. «Впрочем,—
спохватывается Энценсбергер,— крайне невероятно, чтобы писание
исчезло в обозримое время как специальная техника. Это
относится также и к книге, практические преимущества
которой для многих целей очевидны, как и прежде. Хотя
она и менее удобна и компактна, чем другие системы
аккумуляции, все же она до сих пор представляет более
простые возможности использования, чем, например,
микрофильм или магнитофонная пленка. Она, возможно, будет
интегрирована как предельный случай в системе новых
средств коммуникации и при этом утратит остатки
культовой и ритуальной ауры».
Эта оговорка не меняет сути дела. Последняя же
заключается в том, что процесс вытеснения «книжной»
системы коммуникации (до степени «предельного
случая») — необходим, в качестве необходимого — истинен, в
в качестве истинного — благотворен, нравственно
оправдан и т. д. и т. п. Ибо все эти определения совпадают друг
с другом, согласно общему представлению Энценсбергера,
как аспекты одной и той же исторической Необходимости.
В ранг же последней он склонен возводить любой факт
нынешней жизни, коль скоро он удовлетворяет требованию
«новизны» и «современности», которые, в соответствии с
его «авангардистской» логикой, сплошь и рядом
оборачиваются «злободневностью» и «сиюминутностью». В таком
виде предстает перед нами общая методологическая
позиция Энценсбергера, хотя сам он далеко не всегда осознает
ее мировоззренческие истоки и возможные «экспликации»
из нее.
Эту свою методологическую позицию Энценсбергер
противопоставляет «новым левым шестидесятых годов»,
которые, по его мпенпю, представляли ретроградно
ориентированную (чтобы не сказать — реакционную) точку
зрения. Они критиковали «новейшие» — электронные —
269
средства массовой коммуникации с точки зрения
«устаревших» — «книжпо-письменных» — средств, тогда как
необходимо было поступать наоборот: критиковать вторые с
точки зрения первых.
И если в результате такого переворачивания точки
зрения ему и удалось вроде преодолеть пессимистические
ноты, которые звучали у «новых левых шестидесятых годов»,
когда они начинали говорить о негативных сторонах
электронных средств массовой коммуникации, то это он сделал
ценой утверждения самого мрачного пессимизма в
отношении литературы и всего того, что можно было бы
назвать «личностным» аспектом коммуникации. Однако боги
явно не приняли этой гекатомбы Энценсбергера:
возвышая «новейшие» средства массовой коммуникации за
счет принижения «устарелых», он сделал гораздо
больше, чем это было нужно для преодоления пессимизма
«новых левых шестидесятых годов», и впал в
противоположную крайность «некритического
позитивизма», если воспользоваться здесь выражением молодого
Маркса.
Ассоциация с Марксовой критикой «некритического
позитивизма» Гегеля возникла здесь не случайно. Маркс
критиковал великого немецкого идеалиста за то, что его
философия с логической необходимостью приходит к
освящению самой убогой «эмпирической реальности». То же
самое происходит и у Энценсбергера, который дает
отставку литературе и возвеличивает электронные средства
коммуникации за то, что они — факт более позднего
происхождения, что за ними — сила. (Хотя — во всяком
случае, в настоящее время — это чисто количественная сила,
которой очень и очень далеко до качественного уровня
«устарелых» средств коммуникации.) И все
положительные моменты, которые он «усматривает» в новейших
средствах коммуникации, по сути дела, дедуцируются из этого
обстоятельства и являются его грубой апологетикой,
полемически противопоставленной гиперкритицизму «новых
левых шестидесятых годов».
Первую (и, пожалуй, важнейшую) особенность
электронных средств массовой коммуникации, решительно
противополагающую их «старым, таким, как книга или
станковая живопись», Энценсбергер видит в их «эгалитар-
ности»: каждый может принять в них участие, их
«продуцентом» может быть любой человек вне зависимости от его
образовательного и культурного уровня. А так как, соглас-
270
но Энценсбергеру, культура и образование имеют
исключительно классовый характер, то можно сказать, что «в
тенденции новые средства коммуникации снимают все
привилегии образования и тем самым культурную
монополию интеллигенции». В этой тенденции новых средств
коммуникации Энценсбергер усматривает причину «рес-
сентимента» — мстительного чувства, испытываемого
«новыми левыми шестидесятых годов» в отношении
«индустрии сознания». Критикуя ее за тенденцию к
обезличиванию и омассовлению, они — по его уверению — защищали
всего-навсего лишь свои узкокорыстные, сословные
интересы. И «чем быстрее они испустят дух, который
стремятся защитить против «обезличивания» и «омассовления»,—
тем лучше». Ибо дух, ориентированный личностно и
сопротивляющийся омассовлению, Энценсбергер не в
состоянии представить себе иначе, чем с эпитетом
«буржуазный».
Вторую положительную особенность новых средств
коммуникации Энценсбергер видит в том, что они
ориентированы «активно, а не созерцательно».
(Соответственно во грехе пассивности и созерцательности уличаются
«книжно-письменные» средства коммуникации.) К
сожалению, он не раскрывает, что означает это утверждение,
хотя как раз оно вызывает едва ли не наибольшее
количество вопросов и сомнений. Существует ведь целая
литература, достаточно убедительно свидетельствующая о том,
что электронные средства массовой коммуникации в
гораздо меньшей степени предполагают активность
воспринимающего, чем это имеет место, скажем, при восприятии
художественной литературы (и даже любого письменного
текста). Для того чтобы прочитать определенный текст,
все-таки нужно сделать над собою известное усилие.
А вот для того чтобы смотреть телепередачу, таких
усилий вообще не нужно: достаточно лишь не закрывать
глаза — все остальное сделает за вас движущееся
изображение. Оно даже зрачками вашими завладеет и будет
«манипулировать» ими независимо от вас. Эти факты нельзя
обойти,— тем более что их как раз и имели в виду те, кого
Энценсбергер объединяет под общей рубрикой «новые
левые шестидесятых годов». Он должен был бы дать этим
фактам свое истолкование, коль скоро они не помешали
ему сделать вывод об «активной» ориентации электронных
средств коммуникации. Или — возможен и такой случай —
он должен был бы дать новое истолкование понятию
271
«активности» и «активной ориентации» восприятия и
сознания вообще.
Третьим принципиально важным преимуществом
новейших средств коммуникации является, по утверждению
Энценсбергера, то, что они ориентированы не на прошлое,
а на настоящее, не на традицию, а на актуальность,
злободневность, на быстротечное мгновение. В этом он видит
«структурную» особенность продукции электронных
средств массовой коммуникации, обеспечивающую ее
коренную противоположность таким продуктам буржуазной
культуры, как книга, станковая картина и пр. Ибо эти
феномены буржуазной культуры (как и буржуазная
культура в целом) отравлены частнособственническими
устремлениями капиталистического общества, стремлением к
«обладанию». По этой причине, полагает Энценсбергер, и в
сфере буржуазной культуры воспроизводилась и
воспроизводится тенденция к созданию продукции, которая
обладала бы свойством «длиться», переживая момент своего
возникновения, выходя за рамки породившей его
актуальности и злободневности. Вообще, согласно энценсбергеров-
ской логике, стремление остановить мгновенье, заставить
его «длиться», увековечив в художественном создании,—
это чисто буржуазное стремление, неразрывно связанное
с жаждою собственности, накопительством и пр. Этому
стремлению, извечно (а не только в условиях
«буржуазного общества») одушевлявшему искусство, творческую
деятельность художников, Энценсбергер противопоставляет
ориентацию на «данный момент», на политическую злобу
дня, предполагающую беспощадную ликвидацию того, что
уже не соответствует такой ориентации в следующий
момент, в условиях «злобы» завтрашнего дня. «Средства
массовой коммуникации,— пишет он,— не производят
никакого объекта, который позволил бы сберечь или возвысить
себя. Они начисто отменяют «духовную собственность» и
ликвидируют «наследство», то есть специфически
классовую передачу имматериального капитала». В этом
отношении обстановка, характерная для их времени, целиком и
полностью противоположна буржуазной культуре, которая
«хочет собственности, следовательно — длительности, в
лучшем случае — вечности».
При этом Энценсбергер не замечает, что, если
продумать эту мысль до конца, ему придется предложить в
качестве идеального человека существо без памяти, живущее
только настоящим,— существо вроде тех, которые грези-
272
лись в кошмарных видениях Оруэллу. И, словно желая
утвердить читателя в этом подозрении, Энценсбергер с
удовлетворением пишет о том, что электронные средства
коммуникации позволяют «осовременить» историю, отдав
исторический материал «в распоряжение современным
целям», то есть, выражаясь языком двадцатых годов,
превратив историческую науку в «политику, опрокинутую в
прошлое».
И хотя он добавляет при этом, что такой подход к
истории приводит к ее «демистификации», к разоблачению
того факта, что «писание истории всегда есть мапипуляция»
(и таким должно оставаться в эпоху электронных средств
коммуникации), эта оговорка не спасает положения, а
только усугубляет его двусмысленность. Перспектива
превращения писания истории в процесс сознательного
манипулирования общественным сознанием с помощью
определенным образом «обработанного» исторического
материала как-то не вызывает энтузиазма.
Но в том-то и заключается особенность позиции Эн-
ценсбергера, что он убежден в неизбежности, а
следовательно — оправданности манипуляторского подхода к
человеческому сознанию в условиях современной системы
коммуникаций. Так что, по его убеждепию, выбирать
можно лишь между манипуляцией ханжеской и
манипуляцией циничной, основанной на «обнажении приема»,
которым пользуется — и будет пользоваться —
манипулятор.
«Всякое употребление средств коммуникации,— пишет
Энценсбергер,— предполагает манипуляцию.
Элементарный опыт производства в области средств коммуникации,
начиная от выбора коммуникативного средства — через
съемку (запись), разрезание, синхронизацию,
смешивание — вплоть до распределения, в целом представляет
собою вмешательство в наличный материал. Свободного
от манипуляции писания, съемки фильма, подготовки
радиопередачи не существует. Поэтому вопрос не в том,
манипулируют ли в области средств коммуникации
или нет, а в том, кто ими манипулирует.
Революционный проект не должен вести к исчезновению манипуля-
торства; наоборот, он должен сделать мапипулятором
каждого».
Книга, станковая картина (и «станковые» средства
коммуникации вообще) не удовлетворяют Энценсбергсра
потому, что, с одной стороны, «манипуляция» там, как
273
правило, скрыта, а с другой — имеет односторонний
характер. Коль скоро книга написана и предложена читателю
в виде завершенного творения, автор может с ее помощью
манипулировать сознанием читателя (схему такого
манипулирования он заложил в этом своем произведении),
тогда как читатель не может сделать этого в отношении
автора.
Словом, кпига, как и любое другое завершенное и
замкнутое произведение, рожденное в системе «доэлектрон-
ных» средств коммуникации, в принципе исключает
взаимность манипуляции. Манипуляция возможна здесь
только в одном направлении — сверху вниз, от
коммуникатора к реципиенту. Что же касается электронных средств
коммуникации, то — в принципе — они допускают и даже
предполагают взаимность манипуляции.
Энценсбергер не скрывает, что он не единственный
автор этой впечатляющей концепции универсального
манипулирования, имеющего быть в «Грядущем» (на
развалинах «книжно-письменной» и иных «станковых» форм
коммуникации и культуры). Свое теоретическое построение
он считает последовательным развитием точки зрения
«лево»-марксистского социолога тридцатых годов Вальтера
Беньямина, изложенной в работе последнего
«Произведение искусства в век технической репродуцируемости
художественных произведений».
Правда, Беньямин не был склонен универсализовать
свою точку зрения, как это делает его последователь. Он
ограничился одной проблемой — проблемой эволюции
изображения в западноевропейской живописи в связи с
развитием техники репродуцирования. В итоге своего
исследования он пришел к выводу 1, что изобразительное
искусство эволюционировало по пути выделения изображения
из целостности религиозного культа и ритуала. Затем — по
мере развития графики и иных форм репродуцирования
изображения — оно обнаружило тенденцию отделения и
от того материала, в котором оно было воплощено, с
помощью которого оно было создано. В конце концов этот
процесс привел к полному освобождению изображения от
всех тех зависимостей, которыми оно было связано в
уникальном произведении искусства живописи. И если
первоначально изображение рассматривалось как нечто «од-
1 Ср.: W. Benjamin. Das Kunstwerk im Zeitalter seiner
technischen Reproduzierbarkcit. Fr. а. М., 1963.
274
нократное», раз и навсегда связанное с той ситуацией,
внутри которой оно возникло (будучи нанесено на стену
здания, холст или лист бумаги), то теперь его можно было
перенести в любую иную ситуацию, нанести на любой
другой предмет — будь это спичечный коробок, конфетная
обертка или кинолента.
Вместе с этим — согласно Беньямину — изображение
(и произведение живописи вообще) окончательно
утрачивало то, что оно несло с собою еще со времени
возникновения в лоне религиозного культа и ритуала. Оно
утрачивало «ауру» — некое «мистическое» сияние,
распространявшееся вокруг него, окружавшее его так же, как
золотой нимб окружал головы святых, изображенных на
иконах. Таким образом, изображение (как и искусство
вообще) окончательно «демистифицировалось». Причем
самым мощным орудием «демистификации» оказался
кинематограф, превращавший любое изображение в нечто
насквозь функциональное (« манипуляторские»
ориентированное, как сказал бы Энценсбергер),— в чистую
производную от того контекста, в каком оно предлагалось
зрительскому восприятию, точнее — от той цели, которую
ставил перед собой кинорежиссер.
Но как раз эта заключительная фаза эволюции
изображения, полностью «демистифицировавшегося» и
освободившегося от всех и всяких связей с религией,
обнаружила — по мысли Беньямина — антиномичность искусства
живописи, да и всего искусства. Оказалось, что искусство
не имеет своего собственного фундамента и представляет
собою нечто в высшей степени субъективное,
поддающееся любому применению. Особенно выразительно это
обстоятельство продемонстрировал как раз кинематограф,
показавший, что изображение — это нечто совершенно
«бессубстанциальное», поддающееся любому
истолкованию в зависимости от условий восприятия, режиссерской
мотивировки, установки зрителя и пр. и пр.
Изображение оказывалось чем-то зыблющимся, фанто-
мальным: оно одновременно существует и не
существует,— потому-то и можно сделать с ним все, что угодно,
превратив его в инструмент любой манипуляции. Не имея
основания в самом себе, изображение (как и вообще
искусство) не могло опереться на эстетику — это постижение
его же собственных законов, то есть законов
балансирования на грани бытия и небытия.4 Да и сама эстетическая
функция искусства, как оказалось, не была решающей:
275
она характеризовала искусство в период переходного,
промежуточного состояния, когда искусство
освободилось от власти религии, но еще не нашло себе нового
господина.
Кто же должен стать новым господином искусства (а
может, уже стал)? Где оно снова обретет наконец свое
«достаточное основание»?
Таким абсолютным господином искусства Беньямин, а
вслед за ним и Энценсбергер, считает политику.
Эстетическая функция искусства, подчеркивает Энценсбергер,
оказалась случайной; она характеризовала искусство в
условиях буржуазно-индивидуалистической эпохи, когда оно
пыталось апеллировать к отдельным личностям и
достигало на этом пути определенных успехов. Теперь же, в
век масс и массовых движений, оно не может найти опору
в этой своей функции, черпать там энергию для
дальнейшего существования; XIX век, рассматривавший эту
функцию искусства как основную, универсальную, в конечном
счете оказался неправ. XX век показал, что базой
искусства, «равномощной» той, что оно имело в религиозном
культе и ритуале, может быть только политика; и,
соответственно, решающей функцией следует считать ту,
которую искусство выполняет в составе массового
политического действия, а не эстетическую.
Поскольку же, развивает эту мысль Энценсбергер,
политика в наш век — это действительно работа с массами,
постольку искусство может сохранить свою реальную роль
лишь в той мере, в какой оно сможет слить себя с самыми
мощными, электронными, средствами массовой
коммуникации. Но это значит, что о судьбе искусства в век
массовых движений и электронных коммуникаций можно
сказать лишь то, что было сказано о судьбе письменной
литературы: искусство подлежит «снятию» в системе
электронных средств коммуникации и сохранится там лишь на
правах «предельного» случая.
«Тенденции,— пишет Энценсбергер,— которые
Беньямин в свое время познал па примере кинематографа и
постиг их теоретически во всей их важности, сегодня
манифестируются вместе со стремительным ростом индустрии
сознания. То, что до сих пор называется искусством, снято
средствами коммуникации и в них. Спор о конце
искусства является праздным, поскольку этот конец не
понимается как диалектический. Художественное
раскрывается как крайний пограничный случай гораздо более всеоб-
276
щей продуктивности, и оно общественно значимо еще
лишь в той мере, в какой оно отказывается от всяких
претензий на автономию и понимает само себя как
пограничный случай... Для эстетической теории это означает
необходимость решительного изменения
перспективы. Вместо того чтобы рассматривать новые средства
коммуникации с точки зрения более старых способов
производства, она должна, наоборот, анализировать с точки
зрения современных условий производства то, что
производится с помощью традиционных «художественных»
средств».
В рамках такого «решительного изменения
перспективы» специфически эстетические проблемы искусства и
литературы «снимаются» — уже совсем не в гегелевском
смысле. Практически вместо рассмотрения этих проблем
мы каждый раз встречаемся с одним и тем же приемом:
Эпценсбергер демонстрирует перед нами нечто вроде
судебного процесса, где в роли обвиняемых фигурируют
искусство и литература, а обвинителями оказываются
электронные средства коммуникации. В самом же оптимальном
случае за «общеэстетическое» решение проблемы выдается
решение специфических проблем кино или телевидения —
на том основании, что в них — в «снятом» виде —
представлены и литература и искусство (а если не представлены —
тем хуже для них). Так выглядит, в частности, решение
двух острейших эстетических проблем современности —
проблемы документализма и проблемы произведения
искусства.
Растерянность критики перед лицом документализма,
пишет Энценсбергер,— это признак того, «насколько силь-
по мышление рецензентов» отстало от «состояния
производительных сил». А между тем именно последнее лишило
зпачения одну из фундаментальнейших категорий
эстетики прошлого — «категорию фикции». Оппозиция
«фикция — не-фикция», по утверждению Энценсбергера, снята
с повестки дня точно так же, как еще более знаменитая
оппозиция «искусство — жизнь». Развитие и
рафинирование техники репродуцирования, ведущее к тому, что
копию все труднее отличить от оригинала, шаг за шагом
превращает проблему «аутентичности» в мнимую, в
псевдопроблему. В рамках подобного отождествления
копируемого и копии «свободный от аппарата аспект реальности
становится напболее искусственным его аспектом». Его
трудное всего воспроизвести, но колг, скоро оп воспроизве-
277
ден — копия оказалась уже неотличимой от оригинала,
последний утрачивает свое «субстанциальное» значение.
«Процесс репродуцирования отбрасывает репродуцируемое
и принципиально изменяет его». Если копия получает
достоинство оригинала, то и оригинал низводится, в свою
очередь, на уровень копии: он превращается в нечто
совершенно искусственное. Иначе говоря, «категорическая
недостоверность распространяется также на понятие
документального», понятие подлинника, оригинала и т. д.
Оригинал оказывается в итоге таким же объектом
манипуляции, как и копия. Л если это так, рассуждает Энценсбер-
гер, то, следовательно, проблема документализма
упраздняет сама себя как бессмысленная.
Что касается искусства в целом, то в нем
рассматриваемый процесс — по Эпценсбергеру — приводит к
разрушению всех традиционных границ и расчленений,—
например, «подтачиваются различия между документальным
и игровым фильмом». Отныне уже нет разницы между
репортажем и комедией. «Факт», показанный с помощью
телекамеры или «сконструированный» так, чтобы его не
отличили от реальности, имеет одну и ту же ценность.
И это, естественно, уже не художественная ценность, не
ценность искусства или литературы. Ибо такая ценность
предполагает различие между «искусственным» и
«неискусственным», между изображением и изображаемым.
В данном же случае это — ценность, определяемая
функционально — той ролью, которую упомянутый «факт»
играет в системе воздействий на массовую публику, эфек-
тивностыо этой роли. Согласно Энценсбергеру, любой
материал, фигурирующий в сфере электронной
коммуникации,— все равно, документальный он или искусственный,
фиктивный,— есть лишь полуфабрикат. И чем
обстоятельнее исследуется происхождение этого материала,
тем больше расплывается различие между
«документальностью» и «фиктивностью». Реальность, которая
демонстрируется с помощью телекамеры, всегда
«выставленная», сконструированная, смонтированная
реальность, с помощью которой «манипулируют» сознанием
зрителя.
Рассуждая таким образом в духе Беньямина, Энценс-
бергер повторяет здесь ошибки своего учителя. Вслед за
последним он рассматривает в качестве единственной
формы достоверности только эмпирически-чувственную
достоверность (уже — зрительно воспринимаемую досто-
278
верность). И как только современные средства
коммуникации, втянувшие эту достоверность в свою орбиту,
обнаруживают ему — кстати, в точном соответствии с
гегелевской «Феноменологией духа» —диалектически
противоречивый, преходящий, условный характер этой
достоверности, Энсценсбергеру (какиБеньямину) начинает
казаться, что рушится принцип достоверности вообще.
Отсюда — полнейший субъективизм и релятивизм Беньямина и
Энценсбергера, спасаясь от которого они готовы ухватиться
за первую попавшуюся соломинку (лишь бы она была
потолще). В качестве такой «соломинки» в их поле зрения
оказывается Политика; она выступает в их рассуждениях
как единственная реальность, a Homo politicus—как
единственно реальный человек. Причем политика берется ими
сугубо субъективистским образом — как реальность,
базирующаяся только на самой себе. Так что субъективизм
(и релятивизм) остается непреодоленным.
К тем же результатам приходит Энценсбергер в
процессе решения проблемы произведения искусства. Здесь
он.также отправляется от «модели», навеянной ему его
собственными размышлениями о перспективах
электронных средств коммуникации (главным образом
телевидения), взятых к тому же только в одном — политическом-
аспекте, в аспекте политического воздействия на массы.
Отправным пунктом в решении упомянутой проблемы
является убеждение Энценсбергера в том, что процесс
коммуникации, осуществляемой с помощью электронных
средств, должен базироваться на непрерывной «обратной
связи», должен быть двусторонним (и многосторонним) в
каждый момент своего развертывания.
Например, телевизионная программа должна быть
построена так, чтобы каждый реципиент мог вторгнуться в
процесс ее демонстрации, внести свои коррективы, сказать
свое «да» или «нет», свое «верю» или «не верю», выступить
с более или менее развернутыми соображениями по поводу
нее. Л из этого следует, что телевизионные программы, как
и радиопрограммы (и, по-видимому, также и
кинофильмы), должны заранее предполагать возможность
зрительского (слушательского) вмешательства в процесс их
реализации, предполагать процесс сотворчества
реципиентов — все равно, конструктивное оно или деструктивное.
Иными словами, программа должна быть
«разомкнута», включать возможность своих продолжений (в самые
неожиданные стороны), то есть она должна быть «серий-
279
ной», и каждая серия должна быть продолжением диалога
между «коммуникаторами» и «реципиентами», постоянно
меняющимися местами. Таким образом, заключает Энценс-
бергер эту свою мысль, программы '«должны
восприниматься не как предмет потребления, но как средство для
их собственного производства». Речь идет о
воспроизводстве программы, осуществляемом путем ее развертывания
в серии на основе «вбирания» в себя результатов своего
собственного воздействия на публику и корректирования
этого воздействия со стороны публики.
Энценсбергер понимает, что все это касается не
«сущего», а «должного», то есть не имеет места в реальности.
И тем не менее из этого своего пожелания он делает
выводы эстетического порядка применительно к проблеме
«произведения искусства», давно уже волнующей умы
теоретиков. Он, естественно, располагает свою позицию в
лагере тех, кто критикует идею целостного
художественного произведения как безнадежно устаревшее наследие
идеалистической философии и эстетики XIX века. Так же
как и для «новых левых шестидесятых годов», от которых
он хотел бы отмежеваться, для Энценсбергера на месте
прежнего художественного произведения сказывается
некоторый набор «реалий», балансирующих между
искусством и не-искусством. Но способ объяснения такого
представления о том, что ранее понималось под произведением
искусства, у него иной. По его мнению, распадение
целостности художественного произведения опять-таки имеет
своей причиной развитие средств массовой коммуникации,
в рамках которой рушится былая «дискретность» предмета
вообще, а потому и произведение искусства не может уже
мыслиться как «дискретный предмет». Оно мыслится
теперь как «открытая форма» — в том понимании
«открытости», которое связывалось с идеей развертывания
программы в серию. С этой же идеей, кстати,
связан и тезис Энцепсбергера о «процессуальности» «открытой
формы».
«Открытая форма» выступает в пределах такого
понимания как некоторый «импульс», посылаемый реципиенту
с целью вызвать его ответную активность. Эта ответная
реакция и должпа, во-первых, обеспечить «процессуаль-
ность» открытой формы, то есть ее дальнейшее развитие,
учитывающее «корректуру» публики, а во-вторых,
наполнение этой формы содержанием, меняющимся от одного
ответного импульса к другому. Поскольку форма «откры-
280
ta» любой ответной реакции, постольку взаимодействие
между «коммуникатором» и «реципиентом» неизбежно
должно оказаться достаточно хаотическим. В этом случае
должно получиться что-то вроде хэппенинга, этого
«меняющегося и смешивающегося шоу». На него-то и
ориентируется Энценсбергер, когда пытается представить, что же
должно получиться в результате неожиданного
пересечения неожиданных реакций и импульсов в лоне
«открытой формы». Сегодняшний хэппенинг, как и вчерашний
дадаизм, «обнаруживает,— по Энценсбергеру,— сознание
того, что монологические средства коммуникации
соответствуют сегодня только остаточной потребительской
стоимости».
Хэппенинг привлекает Энценсбергера как «модель»
идеального сочетания, с одной стороны, абсолютной
спонтанности, ничем не детерминированного волеизъявления
индивидов, а с другой — политической тенденциозности,
призванной в конечном счете выразить единую волю масс.
Он, кажется ему, обещает перспективу слияния
раскаленности массового экстаза и холодной трезвости политики.
Между этими противоположными полюсами не
предполагается опосредствующего звена, да оно и не нужно. Ибо в
общем-то здесь идет речь лишь об одном типе страстей — о
политических страстях, об одном измерении реальности —
политическом измерении. Все представления
Энценсбергера об идеальных способах общения людей в условиях
электронной коммуникации восходят к образу политического
митинга: яростные речи ораторов, выкрики с мест, шум,
свист, топот и т. д.
Энценсбергера влечет, определяя подтекст приведенных
его рассуждений, одна и та же стихия — стихия
политического экстаза, или, если перевести это выражение на язык
потребительского сознания, везде ищущего
«максимализации наслаждения», стихия политического «Оргазма»: ибо
именно так — и только так! — склонны воспринимать
политику представители богемно-люмпенского,
потребительски-гедонистического типа «революционности», в лагере
которых оказался автор рассмотренной здесь статьи. В то
же время здесь нельзя не ощутить чисто анархического
восприятия свободы — этакого «вихря»: «от мыслило
курка», о котором писал В. Маяковский, создавая поэтически
обобщенный образ мелкобуржуазной разбойной стихии;
перед нами очередной «парадокс свободы»: свобода, не
видящая внутренних границ своей спонтанности, полагает их
281
внешне — в данном случае экстаз хочет обрести «форму»,
представив себя как политический экстаз.
Это, кстати, ход мысли и настроения, очень и очень
близкий тому, каким «левый» (сартровский)
экзистенциализм, пытавшийся преодолеть неразрешимые антиномии
своей концепции «абсолютной свободы» индивида, шаг за
шагом двигался по пути приятия маоистской концепции
«культурной революции», что для самого Сартра
обернулось умозаключением о необходимости «ликвидировать»
высокое искусство, в том числе и литературу.
Раздел четвертый
БЕГСТВО ОТ СВОБОДЫ
Нам представляется, что предыдущее рассмотрение
позволяет теперь глубже понять парадоксальную природу
взаимоотпошений между движением «новых левых», с
одной стороны, и «враждебной культурой» — с другой. На
заднем плане этой, не лишенной доли драматизма
коллизии, заключающейся в том, что последняя сперва
использовала движение «новых левых» в качестве
разрушительной силы, а затем просто-напросто поглотила его,
ассимилировав «левый бунт» в рамках своей — к тому времени
уже официально освященной — структуры,— неизменно
маячил один и тот же, внешне ничем не примечательный,
однако вездесущий персонаж: еще в прошлом веке Маркс
назвал его «евнухом промышленности». Случилось так,—
и случилось не без усилий со стороны этого персонажа,—
что движение «новых левых», если взять его со стороны
социальных последствий (бросающих новый свет и на его
природу), стало формой самоутверждения (разумеется,
«революционного») именно
гедонистически-потребительского сознания, нанесшего последний, решающий удар
противостоявшему ему буржуазно-протестантскому
сознанию, соответствующему ранним фазам капиталистического
развития, однако сохранявшему свои, правда, порядком
потрепанные позиции вплоть до середины нашего века.
После того как «новая левая» идеология выполнила
эту свою функцию, обнаружив глубочайшую внутреннюю
связь своей «модели» человека с той, что давно уже лелеял
«евнух» капиталистической промышленности, она стала
быстро утрачивать свой пафос и свою притягательность.
Ведь ее лозунги, звучавшие так «революционно» в начале
движения, в конце его, когда «общественность» была уже
достаточпо хорошо обработана с помощью «новой левой»
фразеологии, были спокойно ассимилированы этим самым
283
«евнухом», эффективно использовавшим их в'целях
активизации и интенсификации потребительской активности
«авторитарного человека» — того самого «конформиста»,
которого «новые левые» неизменно считали самым
заклятым своим врагом. Гедонистически-потребительское
сознание, исподволь нараставшее в культуре Запада, а затем
с шумом и гамом вырвавшееся из тайников
«общественного подсознания» в форме «нового левого» бунта против
«буржуазных табу», в конечном счете предстало, как тому
и следовало быть, уже не в романтическом образе
«бунтаря-революционера», а в облике заурядного функционера
широко разветвленной «враждебной культуры»,—
культуры, созданной по образу и подобию своего нынешнего
потребителя, ставшего агрессивным и склонным к
«экстравагантным» удовольствиям. Симптомом этой метаморфозы
были уже «новейшие умонастроения» конца
шестидесятых — начала семидесятых годов, представлявшие собой
перевод «новой левой» идеологии на язык массового
гедонистически-потребительского сознания,— перевод,
который и был, собственно, процессом «институционализации»
и этих умонастроений, и этого сознания в виде одной и той
же «враждебной культуры», сломавшей — разумеется, на
свой лад — барьеры между массой и элитой.
Так выглядит связь между идеологией «нового левого»
бунта (который свелся в конечном счете к борьбе против
«буржуазных табу» — нравственных и моральных
запретов, касающихся главным образом эротической, вернее —
сексуальной сферы), с одной стороны, и «новейшими
умонастроениями», инициированными на Западе именно этой
идеологией,— с другой. Если первая отразила
заключительный этап борьбы гедонистически-потребительского
сознания против противостоящих ему — гуманистически и
этически ориентированных — традиций западной
культуры, то вторые были связаны с результатами этого
процесса—с институционализацией данного типа сознания в
форме соответствующей ему «враждебной культуры».
В рамках этой общей связи, в одном аспекте
детерминированной общими социально-экономическими тенденциями
государственно-монополистического капитализма, а в
другом (со своей стороны) обусловившей оформление и
утверждение в западном сознании соответствующей «модели»
человека (взятой в соотнесении с определенными
литературоведческими, искусствоведческими и эстетико-социоло-
гическими концепциями, а также в связи с соответствую-
284
щей литературно-художествспной практикой), мы и будем
рассматривать теперь — как идеологию «новых левых»,
так и пришедшие ей на смену «новейшие умонастроения».
При таком подходе неожиданно обнаруживают
внутреннее родство различные течения «молодежной
субкультуры» Запада, резко противопоставлявшие себя друг
другу в момент их «кристаллизации» и последовательно
сменявшие друг друга на протяжении прошлого
десятилетия: хиппи и гаммлеры, битники и «новые левые».
Аналогичным образом обнажают вдруг свою парадоксальную
близость позиции таких различных, на первый взгляд,
властителей дум современной западной молодежи, как
Герберт Маркузе и Маршалл Маклюэп, Норман Мейлер и
Франц Фанон, Сюзан Зонтаг и Ганс Магнус Энценсбергер,
Честер Андерсон и Петер Хандке.
Надо сказать, что это последнее обстоятельство уже
обратило на себя внимание некоторых проницательных
зарубежных авторов: в частности, Мартина Вальзера и
Джона Пассмора. Первый — в статье «О новейшем
умонастроении на Западе» *, второй — в статье «Рай —
немедленно!»2 попытались привести к общему знаменателю ряд
явлений современной интеллектуальной и художественной
жизни капиталистического общества. При этом
«знаменатели» лево-радикалистски настроенного Вальзера и
умеренно-либерально ориентированного Пассмора оказались,
естественно, весьма различными: если первого
интересовала в конечном счете политическая квалификация
анализируемых явлений, то второй ограничивался, как правило,
их этической оценкой. Однако сама постановка вопроса об
«общем знаменателе» оказалась плодотворной в обоих
случаях: она помогла тому и другому объединить в
целостную картину многообразные факты, характеризующие
некоторые общие тенденции западноевропейского
сознания, все более выпукло проступавшие на протяжении
истекшего десятилетия.
Эти тенденции, получившие нынче название
«новейших умонастроений», в общем и целом возникли как
проявление потребительского сознания. Последнее
по-разному выступает на различных уровнях современной куль-
1 См.: Martin Walser. Über die neueste Stimmung in Westen.—
«Kursbuch», 20, 1970, S. 19—41.
2 См.: John Passmore. Paradise now. The Logik of the new
misticism.— «Encounter», 1970, november.
285
туры буржуазного Запада. В процессе проникновения в ее
«верхние» слои оно претерпевает довольно сложные
преобразования. Однако его «центр» — гипертрофированно-
потребительская установка — остается неизменным. Это и
позволяет рассматривать потребительское сознание как
«систему», побуждая искать не только внешние,
номинальные, но и внутренние, органические, связи между самыми
разнообразными его «манифестациями». Проанализировать
пекоторые из взаимосвязей такого рода — в этом и
заключается задача предлагаемого раздела.
Глава первая
ЧЕЛОВЕК, НАСЛАЖДАЮЩИЙСЯ ПРОЦЕССОМ
САМОЛИКВИДАЦИИ
1. САМООТРИЦАНИЕ ЛИЧНОСТИ КАК МИСТИЧЕСКИЙ КУЛЬТ
Попытки связать новейшие умонастроения с
нынешним состоянием капиталистического общества
наблюдаются не только у «сторонних» наблюдателей этого
характерного явления современного западного сознания. Так, Лесли
А. Фидлер, которого М. Вальзер представляет читающей
публике в качестве одного из «пророков» новейших
умонастроений, видит в них «необходимое следствие
индустриальной системы», освободившей молодежь «от работы и
долга». Он рассматривает их как неизбежный результат
«государства благосостояния», делающего «дезангаже-
мент», то есть отказ от всякой «завербованности»,
«последней, еще возможной добродетелью».
Оставляя на совести Л.-А. Фидлера сам способ
истолкования связи новейших умонастроений с «обществом
потребления» (это словосочетание более точно фиксирует
суть дела, чем «государство благосостояния»), равно как
и попытку представить эту связь в качестве фатально
неизбежной, нельзя не согласиться с тем, что она
действительно имеет место. Факт существования такой связи
констатируется уже чисто статистически: чем шире
распространяются тенденции «потребительского общества» на
Западе, тем более широкие слои современного «люмпенства»
(и в частности, тех, кого можно было бы назвать «люмпен-
интеллигенцией») чувствуют себя свободным «от работы
и долга», видя в независимости от каких бы то ни было
287
обязанностей п обязательств — не только политических, по
п моральных — единственно возможную «добродетель».
Но, быть может, еще выразительнее связь «новейших
умонастроений» с «обществом потребления» выступает в
тот момент, когда мы берем не количественный, а
качественный аспект проблемы: то есть сопоставляем углубление
«потребительских» тенденций современного
капиталистического общества, с одной стороны, и специфические
формы «сублимации», «возгонки» грубо-потребительских
устремлений — с другой. Важнейшая черта процесса,
ведущего по пути возникновения, развития и смены
различных форм сублимированного потребительства,
заключается в превращении тривиального стремления к
чувственным удовольствиям (в самом широком смысле слова) в
нечто вроде религиозной веры — веры в божественность
наслаждения, всякого наслаждения, уже по одному тому,
что оно — наслаждение. Причем, религия эта — ее точнее
всего было бы назвать гедонистической религией — имеет,
как мы сможем убедиться, и свое мистическое «ядро», и
соответствующий «эзотерический» культ.
Смысл этого культа получил наиболее точную
формулировку в названии одного из нашумевших спектаклей
«ливинг-театра» — «Рай — немедленно!», который — что
также весьма симптоматично и показательно —
исполнялся совершенно нагими актерами. В словосочетании «Рай—
немедленно!», имеющем форму категорического
требования, важно акцентировать не слово «рай», а слово
«немедленно». «Рай», собственно говоря, и должен возникнуть —
причем как бы сам собой — в том случае, если люди
перестанут «откладывать на завтра» (или даже на следующую
минуту) удовлетворение своей потребности в
наслаждениях.
Насчет того, возможно ли это в принципе, у идеологов
«немедленного рая» нет ни малейших сомнений. Они —
как, например, идеолог и поэт «новейшего умонастроения»
Тули Купферберг — рассуждают при этом следующим
образом. В результате четырех революций — сексуальной,
электронной, художественной и психеделической,
происшедших в середине нашего века в развитых
капиталистических странах, возникли вполне реальные возможности
для удовлетворения всех без исключения человеческих
потребностей в удовольствии. Сексуальная революция
позаботилась о том, чтобы снять все ограничения с
эротической сферы, созданные религиозной традицией, буржуаз-
288
ным правом и буржуазной нравственностью. Психеделиче-
ская революция, связанная с реабилитацией наркотиков,
обеспечивает возможность ликвидации «табу», носителем
которых является индивидуальное человеческое
самосознание, препятствующее человеку в его стремлении
полностью отдаться наслаждению. Художественная
революция, сломавшая устаревший тип человеческого
восприятия, с одной стороны, опирается на первую и вторую
революции, а с другой — углубляет их, открывая новые
возможности наслаждения, таящиеся в сфере искусства.
Что же касается электронной революции, то ее
значение заключается прежде всего в том, что она возвела на
престол Его Величество ТВ. Л вместе с распространением
телевидепия — и здесь мы передаем слово Маршаллу
Маклюэну, па которого опирается Тули Купферберг,—
претерпел глубочайшее из всех возможных преобразований наш
мир в целом. Он воистину вступил в «новый зон»,
поскольку оказались упраздненными даже такие атрибутивные
определения нашего социо-культурного космоса, как
пространство и время. Сокращенный — с помощью вездесущего
ТВ — до предельно малых размеров, опутанный зримыми
и незримыми нервами коммуникаций, наш социо-культур-
ный космос предстает, если верить Маклюэну, в облике
«глобальной деревни» *. А человечество —
соответственно — возвращается в первобытное состояние «племени», не
расчлененного на самосознающих индивидов.
Дело в том, что, во-первых, всемогущее ТВ упраздняет
«письменность, эту специализированную
акустически-визуальную метафору», которая, по Маклюэну, на
протяжении многих столетий определяла и, в известной мере, еще
продолжает определять «динамику западной
цивилизации» 2. Одновременно с письменной культурой устраняется
и индивидуально ориентированное восприятие, и
дискурсивное, логически последовательное мышление.
Во-вторых, ТВ отменяет чувство самотождественности
индивида, а тем самым и личностное самосознание, как
таковое. В наш век — без тени иронии заявляет Маклю-
эн — «становится невозможным занимать определенную
позицию больше, чем на мгновение».
В-третьих, ТВ, освобождающее людей от «архетипов
1 См.: М. McLuhan and ath. The Medium is the Massage. N. Y.,
1967, p. 22.
2 См.: Ibid., p. 125.
10 Ю. Давыдов
289
индивидуального сознания», апеллирует, по Маклюэну, к
«коллективному бессознательному», таящемуся на дне
человеческих душ — под менее глубоким пластом
индивидуально-личностных «архетипов». Тем самым телевидению
удается добиться «единого восприятия и единого
воображения». Причем, кладя конец прекраснодушному толкованию
этого внушительного итога, Маклюэн разъясняет (правда,
в несколько иной связи), что людям сообщается при этом
«глубокое и темное чувство вовлеченности», которое
сродни «восточному типу чувственного опыта» *. Это глубокое
и темное («мрачное») чувство «восточного типа» и
цементирует, очевидно, наступающую «племенную культуру»,
которая, согласно прогнозу Маклюэна, не допустит
«никакого развития индивидуального сознания». Хватит,
порезвились!..
Иными словами, либерализм индивидуального сознания
и личной ответственности, приведший человечество в
тупик, сменяется, согласно пророчеству Маклюэна,
авторитаризмом «коллективного бессознательного», призванного
навести порядок «во человецех», а заодно осчастливить
глупых (потому что сознательных) людей.
Так рассуждает Маклюэн. Купферберг же, ничего не
добавляя к этому по существу, просто надеется,
по-видимому, на то, что отныне открылись неограниченные
технические возможности производства и небывалые
перспективы человеческого общения и обеспечены экономические
условия, при которых человек — уже в нынешнюю
эпоху — мог бы посвятить основное свое время
удовлетворению всех своих желаний, влечений и побуждений.
Эта установка не только объединяет Маклюэна и
идеологию «немедленного рая», как она выразилась в
новейшем умонастроении, то есть умонастроении последних се-
ми-восьми лет. Она связывает Маклюэна и новейшее
умонастроение с аналогичными устремлениями их
предшественников — битников и хиппи.
Согласно Пассмору, слово «битники» вовсе не означает
«ушибленные жизнью», как полагают некоторые
публицисты. «Бит» — это сокращение от beatific, то есть «дающий
блаженство», а битники — это те, кто испытал
предчувствие, предвидение блаженства. Битники — это те, кто
хотели бы остановить блаженный миг, освободив его, самих
1 М. McLuhan. Understanding Media. The Extension of Man.
N. Y., 1964, p. 30.
290
себя, свое сознание и память от всего того, что помешало
бы адекватному переживанию блаженства.
Пассмор приводит в своей статье очень показательное
высказывание Нормана Мэйлера, согласно которому хип-
стер живет «в огромном Настоящем», где нет места ни для
прошлого, ни для будущего, ни для памяти, пи для
«запланированных намерений». Он же приводит слова из книги
Дж. Барта «Джайлз Козел», характеризующие идеал ее
героя: «Быть, быть всегда, пока не останется ничего...
кроме вневременного, безымянного, внепространственного
биения — пульсации Бытия», где понятие «бытия»
оказывается синонимом чувственного наслаждения. Здесь мы
имеем дело с основоположениями мистики современного
гедонизма, согласно которому бытие тождественно
наслаждению, причем не всякому наслаждению, а именно
чувственному, лучше даже физическому. Ибо последнее более
«бытийственно», согласно ярко выраженной
вульгарно-материалистической установке новейшего гедонизма.
В свете этих основоположений гедонистической
мистики становится вполне понятной отчетливо выраженная
враждебность битников, хиппи и пророков новейшего
умонастроения к времени вообще,— враждебность, совершенно
абсурдная на первый взгляд. Ведь время с его жестко
заданным направлением, с его непреодолимым движением от
вчера к сегодня, от сегодня к завтра и т. д. исконно
враждебно стремлению «остановить мгновенье»,— особенно,
если последнее понимается как нечто эмпирически
чувственное, физиологически данное. Вместе с временем уже дана
память о прошлом, забота о будущем, сознание нашей
собственной конечности, смертности,— все то, что, по
мнению идеологов «немедленного рая», искажает
человеческую способность наслаждения.
Отсюда — стремление и само время отнести к сфере
идеологии, «превращенного сознания», к области
порождений больной психики человека, задавленного
многообразными «табу», созданными буржуазной цивилизацией и
«репрессивной», «подавляющей» культурой вообще.
Норман Браун, изложивший в книге «Жизнь против смерти»
рассматриваемое умонастроение как современную форму
религиозности, прямо так и говорит: «Время — это
невроз». При этом Браун опирается на Фрейда и
одновременно полемизирует с ним. От Фрейда здесь — представление
о том, что «подсознание», «оно», руководствующееся
исключительно «принципом наслаждения», не содержит в себе
10*
291
ничего, соответствующего понятию времени. С этим
представлением, кстати, связана и фрейдовская трактовка
мистицизма, являющего собой, по утверждению создателя
психоанализа, не что иное, как восприятие внешнего мира
с точки зрения этого самого «оно», ничего не знающего о
времени и временности. На нее-то и пытается опереться
Норман Браун в своем стремлении «исправить» фрейдизм
в соответствии с требованиями гедонистической мистики.
Браун считает, что традиционный психоанализ не
оставляет никакой падежды на выход человека из состояния
невроза, вызванного навязчивой идеей времени, вбитой в
человеческое сознание «репрессивной культурой» с ее
бесконечными заботами и воспоминаниями. Для того чтобы
вернуться «в простое здоровое состояние, которым
наслаждаются сегодня только животные, но не люди» *,
необходимо пойти но пути, который издавна указывает
мистика,— по пути непосредственного наслаждения, в котором
«не содержится никакого отношения к прошлому или
будущему».
Почему не устраивает Фрейд этого пророка
гедонистической мистики, хотя материал, из которого последний
строит свою концепцию, явно заимствован из
психоанализа? Дело втом, что наряду с «принципом удовольствия»,
которым руководствуется «бессознательное», «оно», Фрейд
постулировал также «принцип реальности», которым
руководствуется наше бодрствующее, «дневное» сознание, наше
«я». Этот второй принцип, согласно Фрейду, формируется
как руководящий принцип сознания по мере того, как
ребенок, первоначально одержимый природным стремлением
к ничем не ограничиваемому удовлетворению своих
влечений, встречал новые и новые препятствия — сначала в
семье и ближайшем окружении, затем — в более широкой
общественной и культурной среде, наконец — в
социокультурном «космосе» в целом. Таким образом, этот
принцип укореняет внутри человеческого сознания требования,
предъявляемые к нему обществом.
Принимая фрейдовский способ описания человеческой
психики, Браун, как и все остальные представители
гедонистического мистицизма, не согласен с оценкой Фрейдом
этих принципов. Стоя на точке зрения культуры, Фрейд
исходит из того, что принцип удовольствия скорее
разрушителен, тогда как принцип реальности скорее созидате-
1 См.: J. P a s s m о г е. Op. cit., p. 3.
292
лен по отношению к культуре, ибо с ним связаны все ее
достижения, вырвавшие человека из животного царства.
Ограничив свое влечение к наслаждениям, человек
получил взамен свободу; отказавшись от того счастья, которое
заключается в абсолютном тождестве животного организма
и всех его инстинктуальных проявлений, опосредовав эти
проявления жизнедеятельности организма культурой,
нравственностью, духовпостыо,— человек завоевал себе
право господства над животным миром и — главное —
открыл перспективу упорядочения Сщ—быть- может, даже
рармЪниэвтгии) взаимоотношений с себе подобными,
обеспечив элементарную безопасность существования,' которую
не могла и не может обеспечить некультивированная
природа. Вот с этим-то и не согласен Браун, стоящий на точке
зрения принципа удовольствия — наслаждения во что бы
то ни стало, чем бы ни пришлось за него расплачиваться.
Принцип реальности, укоренившийся в человеческом
сознании,— вот основное препятствие на пути
утверждения мистического отношения к миру. Он сковывает, он
искажает, извращает, «идеологизирует» естественное
влечение каждого человека к безграничному и безоглядному
наслаждению, которое доступно ныне «только животным»
(да разве еще преступникам, бросившим вызов всеобщему
конформизму и мещанству). Поэтому принцип реальности
должен быть отменен, а если он не согласится добровольно
уйти с исторической сцены — взорван, устранен
«революционным», насильственным путем. Вместе с ним исчезнет
и основная догма человеческого сознания, основной
источник невроза, продолжающегося многие века,— время.
Ибо так говорит Нормап Браун...
Возникает законный вопрос — как это сделать? Как
реализовать эту столь «мистически» звучащую программу на
практике? Оказывается, это не так уж трудно в эпоху,
пережившую «сексуальную, электронную, художественную и
психеделическую» революции.
Сексуальная революция создала уже соответствующую
психологическую атмосферу для ничем не «табуирован-
ных» эротических наслаждений, сломав здесь
«консервативную» установку, связанную с заботой о будущем
(вопрос: «а что потом?») и оглядкой на прошлое (вопрос: «со-
293
ответствует ли это установившимся сексуальным
обычаям?»). Услужливая медицина позаботилась о том, чтобы
освободить сексуальное наслаждение от искажающих и
извращающих его размышлений о потомстве (или
возможных — в случае «мгновенных» связей — венерических
заболеваниях); кстати сказать, в этом же направлении
«работает» вызванная сексуальной революцией тенденция
преодолеть традиционное ограничение сексуальных
отношений взаимоотношениями между противоположными
полами. Между прочим, эта последняя тенденция столь
мощно воздействовала на общественное сознание Запада,
вызвав целый поток сответствующих фильмов и
спектаклей, романов и эссе, медицинских трактатов и философских
трудов, что вопрос о степени «соответствия» тех или иных
сексуальных обычаев — по сути дела — был снят с
повестки дня: и здесь общественное сознание успокоилось на
мягких подушках скептицизма и релятивизма.
То, что у людей, наблюдающих сексуальную революцию
со стороны, но не желающих вступать в конфликт с ее
идеологией, имеет форму скептицизма и релятивизма, у ее
активных защитников выступает — опять-таки (без этого
наш век, оказывается, не может) — в виде новой религии,
новейшей мистики и т. д. Поскольку ни религия, ни
мистика не обходятся без исторических реминисценций, не
обходятся без них и те, кто стремятся подать в этом обла -
чении новейшие сексуальные устремления. Неожиданно
новое толкование получают евангельские слова о том, что
муж и жена являются единой плотью: в духе
современного «юни-секс» это истолковывается так, что мужчины и
женщины (если они хотят «рай — немедленно!») должны
одинаково одеваться, одинаково вести себя, а в
сексуальной сфере быть безразличными к полу партнера *. В том
же плане толкуются воззрения, согласно которым мужчина
и женщина являются лишь различными ипостасями
одного и того же божества. И уж конечно, соответствующую
расшифровку получает концепция «платонической любви».
И теперь уже трудно удивить кого-нибудь на Западе
рассуждениями героини романа Лоренса Ментона «Святые
варвары» и ее друзей — хиппи насчет того, что поскольку
в примитивных формах религий боги были
гермафродитами, постольку люди, желающие уподобиться богам
сегодня, в своих сексуальных связях должны игнорировать раз-
1 См.: J. Passmore. Op. cit., p. 10.
294
личие между полами. Как видим, нынче не так уж трудно
не только спустить на землю «рай» (для этого
достаточно — как иронизирует Пассмор — только «снять штаны»),
но и самому стать богом...
Однако в тот самый момепт, когда сексуальные
отношения начинают рассматриваться как мистический культ,
религиозный ритуал и т. д., тотчас же обнаруживается одно
новое обстоятельство. Если, как иронизировал Гейне, для
добродетели достаточно одного человека, а для греха
нужны, по крайней мере, двое, то для превращения этого
последнего в культовое действо двоих уже явно
недостаточно. Нужен по меньшей мере третий. А еще лучше, если
при сем будет присутствовать четвертый, пятый, шестой
и т. д.,— число определяется в зависимости от того, имеем
ли мы дело с «эзотерическим» («элитарным» — на языке
современной социологии) или «экзотерическим»
(массовым) культом. Вот здесь, именно в этом пункте возникает
в лоне гедонистической мистики потребность в
«коллективе», понятом как некоторое нерасчлененное — стадное —
образование,— как фантастическое «племя», состоящее из
людей, связанных друг с другом совершенно немыслимыми
в прошлом сексуальными отношениями, оставляющими
далеко позади себя примитивный промискуитет (отныне
последний не может уже фигурировать как предельное
понятие для беспорядочных половых отношений).
Это, между прочим, как раз то самое «племя» людей,
погруженных в темную глубину «коллективного
бессознательного», о котором пишет Маклюэн. В этом пункте мак-
люэновская «проба» также поясняет брезжущий смысл
соответствующего понятия гедонистического мистицизма, как
и само это понятие — смысл пророчества Маклюэна.
Главное, что раскрывается в этом сопоставлении,— вторичный,
вспомогательный характер коллективного, племенного
начала по отношению к припципу удовольствия, который и
здесь фигурирует как высший, основной и целеполагаю-
щий. И у Маклюэна, и в гедонистической мистике «племя»
(«род», «община» и пр.) предполагается, в первую
очередь, как средство освободить человека — в коллективном
экстазе — от личностного самосознания, препятствующего
максимализации и интенсификации наслаждения.
Новые мистики заново открыли истину древних
вакханалий, придя к выводу о том, что сексуальные наслажде-
пия, переживаемые «коллективно», «публично»,
многократно усиливаются ощущением «соборности» переживае-
295
мого. Правда, для того, чтобы такое переживание вообще
состоялось, пужпо полностью отказаться от какой бы то ни
было «избирательности» в сексуальной сфере,— от явно
устаревшего стремления видеть в другом человеке нечто
неповторимое и уникальное: индивидуальность, личность.
Гедонистическая мистерия отказывается от всех этих
архаизмов точно так же, как от них отказывается
стандартизированное производство,— с тем, правда, отличием, что
последнее не облекает эту тенденцию в романтические
одежды, не выдает свою работу по обезличиванию
человека за род религиозной деятельности.
«Истину», открытую новыми мистиками, не замедлило
подхватить современное «поп-искусство». Один из
примеров популярного зрелища, вдохновленного
гедонистическим мистицизмом,—мюзикл «Волосы», посвященный
живописанию экстазов «племенной» любви. Как
свидетельствует Пассмор, мюзикл этот являл совершенно
непонятную — для зрителя, не посвященного в тайны новой
мистики,— картину: здесь было трудно отличить, кто
мужчины, а кто — женщины. Однако «посвященному» было все
ясно с самого начала: характер «племенной любви»,
утверждаемый мюзиклом с поистине «революционной»
страстностью, таков, что нет необходимости различать мужчин
и женщин. И даже более того: для удовлетворения
эротических влечений, которые изображаются в «Волосах»,
женщин — согласно Пассмору — вообще не требуется. Во имя
«общины» и «племенной любви» в мюзикле совершается
бунт против женского начала — как разлагающего
непосредственную «коллективность» сексуального общения,
внося в эротическую сферу «незаконный» уже в далеком
прошлом (и тем более «устарелый» в настоящем) момент
индивидуализации, избирательности и т. д. В этом бунте
против специфической, если можпо так выразиться, роли
женщины в сексуальных отношениях участвуют в
«Волосах» и сами женщины. Вместе с мужчинами они одержимы
в этом мюзикле поисками абсолютного единения,
тотальной общины, где все люди мыслят и чувствуют, «как
единое существо». И — никакого тебе разномыслия. Надоело!..
На путях, столь темпераментно указанных «Волосами»,
видится новым мистикам полное и окончательное решение
той проблемы, которая десятилетиями волновала
философов, романистов и кинорежиссеров XX столетия,—
проблемы «некоммуникабельности». Для того чтобы разбить
глухие стены, отделяющие людей друг от друга, исключающие
296
возможности их взаимопонимания,— необходимо им
собраться вместе (в количестве не меньше трех человек)
и... раздеться донага.
Разумеется, получив столь значительную социальную и
идеологическую нагрузку, публичное сбрасывание
человеком своей одежды (совсем недавно это называли
«стриптизом») приобретает — опять-таки — мистически-обрядовое
значение. «Религиозный» смысл этого обряда
исчерпывается следующим рассуждением. Сознание греховности
наготы появилось у человека после его падения,— то есть, если
рассуждать в духе новой мистики, после его
индивидуализации, после его выделения из «тотального единства»
общины. Следовательно, для того чтобы вернуться к
состоянию первобытной невинности, нужно раздеться. В этом
рассуждении не так уж много логики: второе совсем не
«следует» из первого,— зато оно достаточно эмоционально,
а главное — соответствует достаточно широкому (и
модному) умонастроению.
Но главным средством, обеспечивающим
«оптимизацию» общего числа удовольствий, доставляемых мистерией
описанного типа, остается все же сама ее коллективность,
безличность, анонимность. Эта последняя создает ту самую
атмосферу всеобщей безответственности,— возникающую,
кстати, в любой толпе, одержимой опьяняющим чувством
«вседозволенности» (которое легко разрешается в
разрушительное действие),— в эфире которой никакой поступок
не кажется уже недозволенным, коль скоро он совершен
не «мною», не «другим», не «третьим», а «всеми пами
вместе», то есть Никем и в то же время Каждым.
Расшифровать, что означает это «амбивалентное»
чувство, нельзя ипаче, как обратившись к языку искусства,
которое, кстати сказать, неоднократно пыталось
«рефлектировать» на затронутую нами тему. Герой рассказа
Томаса Манна «Смерть в Венеции» испытал однажды
аналогичное чувство. Правда, это, как пишет автор, случилось с его
героем во сне,— но ведь это было давно, в самом начале
века. Тогда еще рассматриваемые здесь эмоции считались
допустимыми лишь для области сновидепий, мифов, да
разве что — для полузапретных произведений искусства.
Вопрос о том, чтобы «слить» это искусство с жизпыо,
вывести его эмоции «на площадь», сделать их «всеобщим
достоянием», тогда еще пе стоял. Но, судя по произведению
Манна, он уже назревал; и наиболее проницательные люди
испытывали глубокую тревогу в ожидании того момента,
297
когда оп будет извлечен из области сновидений и
поставлен как «практическая проблема» дня.
«В эту ночь,— пишет Томас Манп о своем герое
Густаве фон Ашенбахе (писателе
традиционно-гуманистического направления, с полемически ориентированной «класси-
цистской» окраской),—было у него сновидение — если
можно назвать сновидением телесно-духовное событие,
явившееся ему, правда, в глубоком сне, но так, что вне его
он уже не видел себя существующим в мире. Местом
действия была как будто его душа, а события ворвались извне,
разом сломав его сопротивление — упорное сопротивление
интеллекта, пронеслись над ним и обратили его бытие,
культуру его жизни в прах и пепел.
Страх был началом, страх и вожделение, и полное ужаса
любопытство к тому, что должно совершиться. Стояла
ночь, и чувства его были насторожены, ибо издалека
близился топот, гудение, смешанный шум: стук, скаканье,
глухие раскаты, пронзительные вскрики и вой —
протяжное «у»,— все это пронизывали и временами
пугающе-сладостно заглушали воркующие, нечестивые в своем
упорстве звуки флейты, назойливо и бесстыдно завораживающие,
от которых внутри все содрогалось. Но он знал слово,
темное, хотя и дававшее имя тому, что надвигалось: «Чужой
бог». Зной затлел, заклубился, и он увидел горную
местность, похожую на ту, где стоял его загородный дом. И в
разорванном свете, с лесистых вершин, стволов и
замшелых камней, дробясь, покатился обвал: люди, звери, стая,
неистовая орда — и наводнил поляну телами, пламенем,
суетой и бешеными плясками. Женщины, путаясь в
длинных одеждах из звериных шкур, которые свисали у них
с пояса, со стоном вскидывая головы, потрясали бубнами,
размахивали факелами, с которых сыпались искры, и
обнаженными кинжалами, держали в руках извивающихся
змей, перехватив их за середину туловища, или с криками
несли в обеих руках свои груди. Мужчины с рогами на
голове, со звериными шкурами на чреслах и мохнатой
кожей, склонив лбы, задирали ноги и руки, яростно били в
медные тимпаны и литавры, в то время как упитанные
мальчики, цепляясь за рога козлов, подгоняли их увитыми
зеленью жезлами и взвизгивали при их нелепых прыжках.
А вокруг стоял вой и громкие клики — сплошь из мягких
согласных с протяжным «у» на конце, сладостные, дикие,
нигде и никогда не слыханные. Но здесь оно полнило собою
воздух, это протяжное «у»,— точно трубил олень, там и
298
сям многоголосо подхваченное, разгульно ликующее,
подстрекающее к пляске, к дерганию руками и ногами. Оно
никогда не смолкало. Но всё пронизывали, надо всем
властвовали низкие, влекущие звуки флейты. Не влекут ли
они — бесстыдно, настойчиво — и его, сопротивляющегося
и сопричастпого празднеству, к безмерности высшей
жертвы? Велико было его омерзение, велик страх, честное
стремление до последнего вздоха защищать свое от этого
чужого, враждебного достоинству и твердости духа. Но гам,
вой, повторенный горным эхом, нарастал, набухал до
необоримого безумия. Запахи мутили разум, едкий смрад
козлов, пот трясущихся тел, похожий на дыхание гнилой
воды, и еще тянуло другим знакомым запахом: ран и
повальной болезни. В унисон с литаврами содрогалось его
сердце, голова шла кругом, ярость охватила его,
ослепление, пьяное сладострастие, и душа возжелала примкнуть к
хороводу бога. Непристойный символ, гигантский,
деревянный, был открыт и поднят кверху: еще разнузданнее
заорали вокруг, выкликая все тот же призыв. С пеной у рта
они бесновались, возбуждали друг друга любострастными
жестами, елозили похотливыми руками, со смехом, с
кряхтеньем вонзали острые жезлы в тела близстоящих и
слизывали выступавшую кровь. Но, покорный власти чуждого
бога, с ними и в них был теперь тот, кому виделся сон.
И больше того: они были он, когда, рассвирепев, бросались
на животных, убивали их, зубами рвали клочья
дымящегося мяса, когда на изрытой мшистой земле началось
повальное совокупление — жертва богу. И его душа вкусила
блуда и неистовства гибели» !.
Достаточно сравнить это изображение «племенной
любви» с тем, что дается в мюзикле «Волосы» (и в целом
ряде других произведений, авторы которых зажимают нос
при одном упоминании о «поп-искусстве»),— чтобы
представить себе дистанцию, пройденную — в данном
измерении — западноевропейским сознанием. Все то, что
вызывало у манновского героя ужас и омерзение (хотя — будем
справедливы — и не утрачивало от этого своей
притягательности), сегодня живописуется самыми что ни на есть
розовыми красками. «Чужой бог» Густава фон Ашенбаха
перестал быть чужим, отталкивающим и устрашающим,
оказавшись единственным божеством эпохи
универсального потребительства. И, кстати, смысл идеологии «пемедлен-
1 Томас Манн. Собр. соч., т. 7. М., 1960, с. 517—519.
299
ного рая» в том и заключался, чтобы снять какое бы то ни
было напряжение между человеком и его новым богом,
доказать, что он вовсе не «чужой», а «свой».
2. «НЕОАВАНГАРДИЗМ» И ЛСД - ДВА НОВЕЙШИХ НАРКОТИКА
Читатель, по-видимому, обратил внимание на то, что в
процессе вовлечения манновского героя в
вакхически-дионисический экстаз весьма существенную роль играли
«воркующие, нечестивые в своем упорстве звуки флейты,
назойливо и бесстыдно завораживающие, от которых внутри
все содрогалось», но которые настойчиво и неуклонно
влекли Густава фон Ашенбаха, «сопротивляющегося и
сопричастного празднеству, к безмерности высшей жертвы»,—
то есть, если рассуждать в духе Манна, к отказу героя от
своего «я», к его. самоотождествлению с неистовствующей
толпой людей и животных, составляющих пьяный хоровод
«чужого бога». Манн был прав и как художник, и как
психолог: простого присутствия человека в толпе еще
недостаточно для того, чтобы он целиком и полностью отрекся
от сознания и самосознания, растворившись в
«коллективном бессознательном», дарующем «рай — немедленно!».
Для этого нужна еще помощь искусства, причем — далеко
не всякого. А того, которое было бы сродни упомянутой
флейте. Или литаврам, заставившим — в унисон с ними —
содрогнуться сердце респектабельного Ашенбаха, так что
голова его закружилась и все его существо охватила
ослепляющая ярость, пьяное сладострастие и неистовое желание
«примкнуть к хороводу бога» (последний фигурировал в
его помрачепном сознании уже без отстраняющего слова
«чужой»).
Надо сказать, что все это отлично представляют себе и
провозвестники гедонистической мистики. И как раз по
этой причине среди «четырех революций», сделавших, по
мнению Тули Купферберга, возможным «рай —
немедленно!», была названа, как мы помним, и художественная
революция. В итоге этой революции искусство превратилось,
если верить пророкам нового умонастроения, в один из
наиболее мощных способов «преодоления»
индивидуального сознания и погружения человека в коллективный орги-
азм. Тем самым искусство вышло за свои собственные
пределы и превратилось в нечто большее, чем то, чем оло
было раньше,— скажем, в рамках гуманистической
культуры. Это обстоятельство дает возможность поэту Честеру
300
Андерсону возводить одну из тенденций популярной
джазовой музыки — так называемую «рок-музыку» в ранг
некоторого универсального принципа современности,
который «не ограничивается только музыкой» i.
«Рок» предстает в изображении Честера Андерсона как
некоторый мистический феномен, не поддающийся ни
определению, ни типологизированию. Оп представляет собою
то, что можно было бы назвать обыкновенным чудом
нашего века. Ибо, например, композитор, осознавший это
чудо и овладевший им, мог бы играть «телом слушателя, как
покорной гитарой». Именно «телом», а не душой, так как
в последней нет необходимости: принцип «рока» — это
способ приведения в движение человеческих тел, минуя их
души, во всяком случае — обходя сознание индивида и
воздействуя прямо и непосредственно на то, что лежит
«под» сознанием. Причем, это не только более
«эффективно» с точки зрепия возможностей воздействия на человека'
(и — в перспективе — управления движениями его тела),
но и доставляет ему гораздо более сильные наслаждения,
чем в случае «опосредованного» воздействия —
проходящего через сознание и отнесенного к его самосознанию,
«я», свободному решению и т. д.
Характерно, что представления идеологов новейшего
умонастроения о том, чем должно быть искусство в
условиях электронной цивилизации, в большинстве случаев
развивается в духе сказанного по этому поводу Маклюэ-
ном. При этом совсем не обязательны прямые
заимствования: достаточно тождества некоторых исходных посылок,
чтобы мысль различных людей двинулась в аналогичном
направлении. А это тождество — налицо. Во-первых, в
русле новейшего умонастроения, так же как и в маклюэ-
новской «философии коммуникации», предполагается
отключение личностного самосознания индивида и
погружение его в экстаз «коллективного бессознательного».
Во-вторых, в обоих случаях наблюдается склонность к чисто
физиологическому истолкованию этого экстаза — в
противоположность «эфемерности» сублимированных,эмоций,
вызываемых традиционным искусством.
Эта последняя тенденция вполне определенно
намечена уже в рассуждениях Маклюэна о «почти физическом»
воздействии на человека телеизображения,
«вовлекающего» его в оргийную стихию иррационального, бессознатель-
* M. W а 1 s е г. Op. cit., S. 28.
301
ного. Особенно же симптоматичным образом эта
тенденция проявилась в маклюэновском стремлении совершить
«переоценку» человеческих чувств, возвысив — в
качестве истинной модели человеческой чувственности —
чувство осязания, поскольку оно менее сублимировано ( = менее
духовно) и, стало быть, находится в более близких
отношениях с «бессознательным». Современный
мистик-гедонист хотел бы ослепнуть, но не для того, чтобы «умным
зрением» проникнуть в суть вещей, как стремился
Демокрит — ослепивший себя, согласно преданию, а для того,
чтобы познать мир «на ощупь» — безотносительно к
зрительной и слуховой «идеологии», безотносительно к
пространственно-временной перспективе.
Сказанное бросает дополнительный свет на
знаменитую маклюэновскую тавтологию: «средства связи — это
сигнал» (или: «средства сообщения — это сообщение»),
позволяя понять ее более или менее рационально. Этот
тезис означает требование перенести внимание с того, что
творится на экране телевизора и постигается сознанием
зрителя как осмысленный ряд взаимосвязанных
предметов, на то, что произойдет с человеческим сознапием, если
этот ряд перестанет быть осмысленным, то есть место
воздействия на постигающую способность человека займет
простая «бомбежка» экрана его сознания некоторыми но
поддающимися осмыслению раздражениями — «чистыми
сигналами», не несущими никакого «сообщения», кроме
самого факта «сообщения».
Первое, что достигается таким способом,— это
превращение аудио-визуального комплекса раздражителей в
нечто, физиологически гораздо более реальное, чем то, что
представлял собой этот комплекс при условии ориентации
на осмысляющую, постигающую, словом — духовную
способность человеческого сознания. Ибо, коль скоро
сознание здесь отключается, в упомянутом аудио-визуальном
комплексе не остается ничего, кроме «несублимированно-
го», то есть не перенесенного в духовное, идеальное
измерение человеческого существования «пучка воздействий»
на нервные окончания зрительного и слухового
анализаторов, не предполагающих никакой «разрядки». В этом
случае действительно обеспечивается нечто вроде низведения
более одухотворенных чувств — зрительного и
слухового — на уровень менее одухотворенного — осязательного и
соответствующих ему «прямых контактов» с предметом,
воздействующим на человека.
302
В итоге воздействия на нервно-физиологическую
структуру человека, не получающего никакой «разрядки»,
никакого перенесения в духовный план — постижения и
осмысления источника этого воздействия (или того, о чем
«сигнализирует» это воздействие), индивид в самом деле
приводится в некоторое «возбужденное», чаще всего
«раздраженное» — ибо неосознанность источника возбуждения
имеет свойство раздражать людей — состояние, когда он
знает, что ему что-то нужно сделать, но никак не может
взять в толк, что же именно. Чаще всего это раздражение
выливается в столь же неопределенное (а потому тем
более угнетающее) чувство тревоги, реже — нервической
«радости», каждую минуту грозящей сорваться в
истерику,— психиатры называют это «эйфорией». Как видим,
процесс вызывания активности человеческого подсознания
с помощью телевидения (несколько модернизированного
в маклюэновском духе) выглядит как попытка «заразить»
зрителя чем-то вроде психического заболевания — скажем,
«фобии».
«Патологические случаи фобий — навязчивого страха и
т. п.,— пишет основоположник советской психологической
школы Л. С. Выготский,— пепременно связываются с
определенными представлениями, в большей части
абсолютно ложными и искажающими действительность, и находят
таким образом свое «душевное» выражение. Так, больной,
страдающий павязчивым страхом, в сущности говоря,
болен чувством — у него беспричинный страх, и уже потому
его фантазия подсказывает ему, что все за ним гонятся и
его преследуют. И у такого больного мы находим как раз
обратную последовательность событий, чем у здорового
человека. Там — сперва преследование, затем страх, здесь —
сперва страх, затем вымышленное преследование» *.
Причем, как известно, порой в состоянии фобии достигается
столь глубокая степень «вовлеченности» больного в
«бессознательное», что он уж ни о чем, кроме своих страхов,
не в состоянии и думать. Кстати, эти состояния больного
далеко пе всегда безопасны для окружающих. Психиатрия
зарегистрировала немало случаев убийств на почве
«фобий».
Говорят, физиологам удается вызвать нечто вроде
«фобий» — состояний беспричинного страха — у мышей:
путем прямого воздействия электрическими импульсами на
1 Л. С. Выготский. Психология искусства. М., 1968, с. 264.
303
отдельные участки головпого мозга. Строго говоря, это —
то же самое, чего хотел бы добиться с помощью
телевидения и «холодного» искусства Маклюэн. Правда, он
рассчитывает на то, что «глубокое и мрачное» чувство
вовлеченности в «коллективное бессознательное» доставит
человеку новые сильные ощущения — из числа полузабытых
«гуманистически-индивидуалистической» цивилизацией.
Интересно было бы спросить у мыши, подвергнувшейся
уже аналогичному эксперименту,— испытала ли она при
этом удовольствие? А если да, то было ли оно как раз тем
удовольствием, о котором следует мечтать современному
человеку как о состоянии райского блаженства? К
сожалению, взыскующие «рая —немедленно!» не хотят ждать
ни секунды. И наводить научные справки им некогда.
Время, затраченное на раздумья,— украдено у наслаждения.
А это ныпче — самый большой грех.
В свете сказанного становятся более понятными слова
Маклюэпа о том, что стремление современного
телевидения выработать художественные формы, подобные
театральной или кинематографической, является
консервативным, архаичным, так как единственно истинной
перспективой ТВ является комикс, телереклама и т. п. Дело в
том, что, уподобляясь театру и кино (да и более
«традиционным» искусствам), ТВ стремится к тому, чтобы показать
на плоскости экрана некоторую осмысленную реальность,
совокупность взаимосвязанных предметов и их движений,
доступных рациональному постижению и предполагающих
таковое. Речь идет о действии на человека на уровне его
сознания,— причем так, как действует на человека внепт-
пий мир, социальный космос (кстати, по этой причине и
был он назван «миром сознания» немецкими
философами). Речь идет о «коммуникации» на уровне идеальной
предметности — той, что выстраивается на экране
телевизора и — соответственно — в поле сознания
воспринимающего, зрителя. И подобно тому, как в самом
художественном произведении эта предметность выступает как нечто
целостное и осмысленное лишь в свете определенных
идеалов автора, его «ценностей», так и в процессе восприятия
этого произведения эстетическое переживание приобретает
тот или иной характер в зависимости от соотнесения
упомянутой «предметности» с идеалами и «ценностями»
воспринимающего,— соотнесения, которое осуществляется
активной деятельностью его «я», самосознания. Вот эту
самую структуру, характерную для всего «традиционного»
304
(или «горячего» — сообразно маклюэновской
терминологии) искусства, и имеет в виду Маклюэн, когда говорит о
том, что художественная структура кино и театра
утратила «способность воздействия на современное сознание и
восприятие» *.
Маклюэн хочет сказать, что «устарел» способ
воздействия — от сознания к сознанию, предлагая вместо него
более «прямое» и «эффективное» воздействие — от
подсознания к подсознанию. Точнее же — от сознания (лукавого,
манипуляторского сознания) «коммуникатора» к
подсознанию ничего не подозревающего «реципиента». Иначе
говоря, свободному взаимодействию самосознающих
индивидов, личностей предпочитается манипуляция ими при
помощи определенным образом направленного
«раздражения» их психофизиологических структур.
Кстати сказать, все это — уже не «личная» точка зрения
Маклюэна. Она начинает встречать то, что на
дипломатическом языке называется «пониманием», в
руководящих кругах западноевропейского телевидения. А в
соответствии с этим получает уже новое звучание,— не мак-
люэновски-брутальное, а успокаивающе-лирическое: «Не
передаются ли теперь огромные тени на пещерных
стенах — эти простые символы добра и назидания — самыми
легковесными и презираемыми средствами? —
риторически вопрошает один из респектабельных поклонников
Маклюэна.— Не лучше ли всего сущность человека
выражается в «фоновом подсюжете» рекламы, в стереотипных
пьесах и других видах массового развлечения? Не
вступили ли мы на единственно правильный путь, по которому
человечество может прийти к миру? Можно ли представить
себе, что то, о чем политики пе смели и мечтать, будет
осуществлено предпринимателями зрелищного бизнеса?..» 2
Но самое интересное здесь то, что приведенное
рассуждение Уильяма Блюма непосредственно соседствует,
представляя фбою логический вывод из него, со следующим
тезисом относительно того искусства, которое несколько
лет назад с почтительным придыханием называли
«элитарным»: «Первым делом надо признать те искусства,
которые идут в ногу со временем... Студент из кинофильма
«Блоу-ап» говорит: «Я не знаю, что все( это значило, по
1 M. M с L u h a п. Understanding Media, p. 202.
2 Уильям Блюм. Коммуникативный вирус.— В кн.:
«Проблемы телевидения и радио». М., 1971, с. 154. Далее цит. с. 152—154
этого изд.
305
это было великолепно!» Научитесь вести себя хладнокров-
по и забудьте «охи» и «ахи». Привет вам, «хэппенинги»,
до свиданья, структура. Забросьте прямую линию, идите в
лабиринт. Ура фрагментации, долой форму! Здравствуйте,
новые идолы, прощай, старая символика. Старое искусство
с его «смыслом» теряет силу, и даже если оно нам нужно,
мы не придаем ему прежнего значения».
Если бы автору этого темпераментного пассажа
сказали, что все это означает оправдание тенденции
«самоликвидации» искусства, если связывать со словом
«искусство» некоторое осмысленное содержание, а не «темнить»,—
то он определенно ответил бы по-маклюэновски: «Да, а
что?» Если неминуемо грядет «абстрактный мир безликих
масс», то для чего ему «личностно» ориентированное
искусство? Если, «безусловно, единый характер, массовость
телевизионной информации ведут к нивелировке людей»,
то зачем нужно искусство, апеллирующее к человеческой
индивидуальности? Если современность «наносит
серьезный удар логическому делению на то, что мы знаем, и то,
во что нам следует верить»,— то зачем сохраняться
искусству, пытающемуся «осмыслить» бессмысленное.
И не только Уильям Блюм ответит
спокойно-ироническим «Да, а что?» в ответ на вопрос: не присутствуем ли
мы при «самоликвидации» искусства, отражающей процесс
уничтожения индивидуального самосознания, принципа
личности в условиях «позднебуржуазной цивилизации» —
явно «уставшей» от себя. Если не спокойно-иронический,
то — во всяком случае — спокойно-академический ответ
подобного рода мы получим из целого ряда
искусствоведческих трактатов, в которых мирно повествуется об
«орфическом» начале, возродившемся в современном
искусстве,— то есть о неуклонном (а потому — оправданном,—
как же иначе?) стремлении искусства разорвать себя на
клочки, бросив их в беснующуюся публику — с тем, чтобы
ее оргиазм достиг наивысшего накала. Напомним, что
подобного рода орфический акт был показан в упомянутом
фильме Антониони,— там, где модный эстрадник в
завершение концерта разбивает свой инструмент и бросает его
в осатаневшую толпу поклонников (кстати, вся она
состояла из тех, кого несколько лет назад было принято
величать «элитой»).
Впрочем, дело не в инструменте. В общем,
раскраивание рояля или разламывание гитары о коленку — вещь
более или менее невинная сама по себе (особенно если это
306
требуется, так сказать, «по ходу пьесы»),—хотя
неприятная, как неприятен всякий акт разрушения, особенно —
если последнее при этом «эстетизируется». Суть в том, что
в этом случае мы имеем дело с поверхностной
символизацией более глубокого процесса — процесса реального
саморазрушения искусства, которому «надоели» окольные
пути воздействия на человека, пробуждающие в нем те
самые «добрые чувства», о каковых говорил некогда
Пушкин. Той самой гитарой, что некогда услаждала слух
человека, гитарист норовит теперь бить людей «по мозгам» —
благо, они изнывают при этом от экстатически-оргиастиче-
ских мук, ревя «осанну» обожаемому мучителю.
Не самоотречение ради чего-то высшего, чем она, а,
наоборот, отречение от него ради нее, ради ее «игры в любовь
с самой собою», как сказал бы Гегель,— вот что нужно
этой толпе, одержимой дионисическим экстазом.
Переживание того, что «мистическое таинство», «немедленный
рай» творится пе в трансцендентной сфере, пе в идеальном
измерении искусства, а в ней самой, взятой «как она есть»,
в ее одержимости бесами вожделения и похоти,— вот
какого переживания взыскует эта толпа, ломая искусство,
как детскую игрушку, не дающую ей удовлетворения.
* * *
Если теперь бросить самый общий взгляд на описанные
нами тенденции искусства, одержимого «орфическим», так
сказать, пафосом самоликвидации, то нетрудно будет
увидеть ту идеальную модель, к которой опо тяготеет ныне,
выходя за собственные пределы. Эта модель — наркотики,
вернее, тот способ, каким они воздействуют на человека,
облегчая ему «отключение» от забот, от пространства и
времени, от личностного самосознания, от «я», то есть обеспечивая
для него «рай — немедленно!». Так что упомянутый нами
выше Честер Андерсон совсем не случайно объединил
искусство (разумеется, соответствующее электронной
цивилизации) и наркотики в рамках своего «рок-феномена»,
выражающего основное устремление молодого «рок-поколения».
«Рок» — это очень важный аспект современной
гедонистической мистики, в пределах которого раскрывается
наркотический момепт искусства и «эстетический» момент
наркотического опьянения. Более того: «рок» — это
принципиально важное ответвление гедонистической мистики,
307
обнаруживающее тенденцию превратиться в
самостоятельную религию, которая грозит подчинить себе наиболее
существенные элементы новейшего умонастроения. Ибо
здесь рассмотренная нами «художественная революция»
соединяется с «психеделической», и эстетические способы
деперсонализации индивида, интуитивно нащупываемые
орфически-дионисическим искусством, приводятся в связь
с научно выверенными приемами ликвидации личностного
начала индивида с помощью самых современных
достижений психофармакологии.
Эта весьма многозначительная связь современной
мистики с современной наукой, которая в одном (а может, и
не одном) из своих аспектов идет на откровенный союз с
самым двусмысленным мистицизмом, превращая его в
новейшую разновидность «черной магии», и дает адептам
«рока» ощущение причастности к некоей «тайне» XX
столетие, "имеющей явно религиозный смысл. ' Как пишет
Алан Трахтенберг — автор статьи с примечательным
названием «Культура и бунт», слово «рок» приобрело ныне
мистически-религиозное значение. «Практикующие рок не
ограничиваются более развлечением, они — гуру» *, люди,
несущие миру новое откровение, новый тип сознания и
поведения. Поэтому все, что опи делают, предаваясь оргиа-
стическим танцам или «общему трипу» (коллективному
потреблению наркотиков, дающих глубокое опьянение,
полное отключение от сознания), имеет характер
религиозного культа, мистического ритуала. Соответственно
переосмысляется и значение исполнения «рок-музыки». Как
пишет тот же Трахтенберг, теперь ее исполнители
поощряются не просто за более или менее виртуозное
«возбуждение ритма и звука». Нет, речь идет ныпче о гораздо
большем — о мистической «миссии освобождения»',
осуществляемой эстрадными музыкантами, в свете которой и само
исполнение, и его восприятие переживаются как
«молебен», точнее — род религиозно-революционного действа.
Для того чтобы «освободить» человека от его сознания,
также требуется, как видим, революционный акт.
Честер Андерсон пазывает «рок» музыкой сознания2.
Многие другие представители этого движения постоянно
говорят о его «религиозном ядре» 3. Один из наиболее вид-
1 А. Trachtenberg. Culture and rebellion. Dilemmas of
radical teachers.— «Dissent», 1969, nov.-dec. p. 502.
2 См.: M. W a 1 s e г. Op. cit., S. 28.
3 См.: Ibid.
308
пых теоретиков новейшего умонастроения — Фидлер —
называет поклонников ЛСД и других наркотиков «новыми
иррационалистами», «святыми нарушителями
спокойствия» 1. Другой идеолог новейшего умонастроения —
Р.-Д. Брипкман — считает их предтечами будущих
«космонавтов внутреннего». Леонард Коген прославляет их в
качестве «новых иудеев». Нет недостатка и в попытках
теоретического оправдания и обоснования психеделиче-
ской «космонавтики». Бринкман говорит, например, о том,
что наркотики способствуют «расширению сферы
сознания» 2, вводя в обиход сознания также и бессознательное,
прибавляя к «уму» еще и «безумие». Он совершенно
серьезно утверждает, что по этой причине все, «усиливающее
безумие»,— вполне законно, «легитимно», и мы должны
исходить из этого3.
Но, разумеется, наибольший вес среди всех этих
обоснований и оправданий имеют те, что находятся в струе
современного гедонистического мистицизма, прокламируя
наркотики в качестве самого прямого и эффективного
способа достижения «немедленного рая». По этой причине
наиболее впечатляющими (а потому — убедительными)
аргументами в пользу употребления наркотиков являются
рассуждения насчет того, что «паркотики усиливают
чувство общности» (слова, принадлежащие поэту Ал. Уотсу) ;
что они устраняют тенденции сознания, «парализующие
нежность», и тем самым «помогают мужчинам и женщинам
вступать в ассоциации, основанные на физических знаках
привязанности»; что они вообще способствуют тому, чтобы
объединения людей принимали форму «ритуалов, танцев,
игры», словом — всего, символизирующего «любовь,
связывающую членов данной группы» — см. модель,
предложенную в мюзикле «Волосы». Причем, как и следовало
ожидать, учитывая ныпешнюю моду, эта функция
наркотиков подается как «антибуржуазная», направленная
против индустриального общества. Ведь в этом обществе
никто не может позволить себе «свободные эротические
контакты», тогда как «паркотики, снимая запреты, делают
подобные контакты доступными и тем самым
способствуют образованию общности» 4.
* См.: I b i d.
2 См.: Ibid.
3 См.: Ibid.
* Ibid., S. 29.
309
Есть, наконец, еще один способ обоснования «психеде-
лической революции», ликвидирующей последние
«буржуазные табу», которые еще преграждали путь наркомании
(хотя бы в сфере официального сознания). Он, этот способ
обоснования, наиболее выразительно предстал в статье
Петера Стаффорда «Наркотики, рок и революция». «Мой
тезис,— пишет автор,— заключается в том, что психеделиче-
ские драже имеют общественное значение первого ранга и
что они с течением времени (и в течение, я полагаю, не
более пяти — десяти лет) полностью преобразуют
нынешнюю политическую реальность» 1. Стаффорд считает, что
если, скажем, какой-нибудь фабрикант употребляет
наркотики, то можно быть уверенными— «знание», которое он
получил «в процессе своего трипа», со временем
реализуется и в его деятельности. И, таким образом, в конечном
счете изменится и вся социальная реальность,
преобразованная наркоманами в совершенно новый мир.
Сегодня «психеделическую революцию» оправдывают
представители самых различных оттенков
полуинтеллигентского сознания — от «эзотерически» ориентированных
мистиков, зашифровывающих вульгарно-потребительскую
суть наркомании с помощью мифологем цзен-буддизма, до
политически настроенных публицистов, связывающих с
распространением наркотиков перспективу разложения
«буржуазного „я"». Причем действительно не так уж
трудно найти нечто общее, объединяющее всех этих апологетов
«психеделической революции»: враждебность к
личностному началу человеческого существования, к
индивидуальному самосознанию — с его извечным влечением к
свободе и независимости человека 2.
1 Ibid.
2 Со всеми приведенными выше любопытно сопоставить еще
одну характеристику наркотиков (равно как и попыток возвести
их в своего рода мистический культ). Она принадлежит Томасу
Манну, который совершенно недвусмысленно высказался по
интересующему нас вопросу в связи с романом О. Хаксли «Врата
восприятия». «Это,— пишет Манн,— последнее и я чуть было не сказал:
самое дерзкое порождение хакслиевского эскапизма, который
никогда не нравился мне в этом писателе. Мистика была еще хоть
в какой-то мере почтенным средством. Но что он теперь дошел
до наркотиков, я нахожу просто скандальным. У меня совесть
уже нечиста, когда я теперь принимаю вечером немного секонала
или фанодрома, чтобы лучше спать. Но приводить себя днем в
состояние, в котором все человеческое мне безразлично и я впадаю
в бессознательное эстетическое самоупоение, было бы мне
отвратительно. А он рекомендует это всему миру... Это... совершенно
310
И, наконец, с какими бы способами обоснования
наркомании мы ни встречались в настоящее время, нам пе уйти
от того факта, что речь идет о наркотиках, которые, кроме
всего прочего (стимуляция эротического влечения,
облегчение сексуальных «форм общения», освобождение
индивида от «капиталистической эксплуатации» со стороны
его «буржуазного „я"» и т. д.), должны и сами по себе,как
выражается Вальзер, «приносить наслаждение,
максимальное наслаждение» *,— неизмеримо большее, чем то, что
способен пережить человек, оставаясь в здравом уме и
трезвой памяти.
В любом учебнике психиатрии можно прочитать, что
наркотики, например морфин, способный погрузить
человека в вышеупомянутый «трип»,— производят на
индивида «эйфоризирующее действие», давая ему «ощущение
общего физического и психического комфорта» 2 (комфорт —
очень подходящее слово!). Правда, затем наступает
похмелье (на языке психиатрии оно называется
абстинентным состоянием), при котором «отмечается крайняя
раздражительность, взрывчатость, гневливость и агрессивность» 3.
Но если вовремя употребить соответствующую дозу
морфина (которая все время возрастает в связи с повышением
«толерантности» организма, привыкающего к этому
наркотику) , то это состояние пройдет и снова наступит
блаженный миг наслаждения «физическим и психическим
комфортом».
В общем, суть «психеделического» состояния —
наслаждение и еще раз наслаждение, «максимализируемое»
путем отключения высших душевно-духовных функций
человека. И что бы там ни говорили по поводу
«антибуржуазности» наркомании, как бы ни обосновывали ее «левые»
или «правые», политически или мистически
ориентированные защитники,— все это лишь различные способы
оправдания гедонистического культа, представляющего собою
«эзотерическое» ядро потребительской идеологии середины
XX века.
безответственная книга, которая может только усилить оглупление
мира и его неспособность проявить разум перед лицом смертельно
серьезных вопросов времени» (цит. по кн.: С. Апт. Томас Манн.
М., «Молодая гвардия», 1972, с. 340).
1 M. W а 1 s е г. Op. cit., S. 29.
2 В. M. Банщиков, Т. А. Невзорова. Психиатрия. М.,
1969, с. 131.
3 Там же.
Глава вторая
ГЕДОНИЗМ И ЖЕСТОКОСТЬ
1. «НЕДЕРЖАНИЕ ВЛЕЧЕНИЙ»
Начав с характеристики мистического ядра «новейших
умонастроений» современного Запада, мы исподволь
перешли, как видим, к характеристике этих умонастроений в
более широкой социальной связи, в связи с тенденциями
«общества потребления» и вызванными им «революциями» —
сексуальной, художественной и психеделической. Теперь
же попытаемся представить эти умонастроения в виде
целостной картины психического состояния их
носительницы — «полуинтеллигенции» (и тяготеющих к ней
социокультурных групп). Если же при этом наша картина будет
смахивать па клиническую картину своеобразного
психического заболевания (эпидемического характера),— то
здесь уж не наша вина.
Действительно, сказанное выше позволяет сделать
вывод о том, что в качестве решающей тенденции «общества
благосостояния» выявилась тенденция
гипертрофированного потребительства, вызвавшего в известных кругах что-
то вроде психической болезни, связанной с «недержанием
влечений», нежеланием помедлить с удовлетворением
первого же из возникших побуждений — хотя бы на одну
минуту. Речь идет о состоянии, очень напоминающем
состояние капризного ребенка, склонного впадать в истерику,
топать ногами, крушить окружающие предметы, бить своих
родителей,— если ему «тут же!» не купят понравившуюся
игрушку.
312
Кстати сказать, если обратиться к тому, что психиатры
назвали бы «аиампезом» * описанного синдрома 2, станет
очевидно: у тех взрослых, которые страдают (точнее —
наслаждаются) ныне «недержанием влечений»,— по
крайней мере, у наиболее активных поептелей новейшего
умонастроения,— аналогичные симптомы наблюдались с
раннего детства. Более того: эти явно ненормальные
проявления как бы «культивировались» все время детства —
папами и мамами, бабушками и дедушками. Ведь
последние, хлебнув горя и трудностей в период войны и
послевоенной разрухи, а затем достигнув относительного
благосостояния, всю последующую жизнь были озабочены
только одним: чтобы существование их детей и внуков не
отягощалось никакими заботами, чтобы ни в чем не было
им «отказа».
Но если малолетний несмышленыш просто требует
«дай!» и начинает бушевать на глазах смущенных
родителей, спешащих удовлетворить его «законное желание», то,
повзрослев, он стремится превратить этот жест в норму
поведения, обосновывая ее в меру своего
интеллектуального развития. Когда же при этом обнаруживается, что и
другие представители его поколения склонны
аналогичным образом осмыслять этот жест, то последний
возводится уже в ранг символа, исполненного высшего смысла,
превращается в символ целой «субкультуры», скажем —
«молодежной субкультуры», как выражаются ныне
западные социологи (констатируя факт возрастающего влияния
«полуинтеллигептского сознапия» на те круги молодежи,
которые еще не успели приобщиться к культуре, хотя уже
считают себя связанными с нею «статусным» образом).
Вот здесь-то и возникает идеологизация инфантильного
жеста и инфантильности вообще. Отсюда — стремление
«вернуться в детство», характерное для новейшего
умонастроения. Отсюда — желание «только детские книги
читать, только детские думы лелеять», говоря словами поэта.
Правда, «детские думы» воспринимаются нынче в сугубо
эротическом аспекте, так что ребенок, в новейших
психоаналитических интерпретациях его души (оставивших
далеко позади себя явно устарелого Фрейда), выглядит, под-
1 Анамнез — медицинский термин, произведенный от греч.
анамнезис (воспоминание): описание прошлого состояния
больного, сделанное по его воспоминанию.
2 Синдром — совокупность симптомов того или иного
заболевания.
313
час многоопытным сексоманом. Зато «детские книги»
широко читаются и обильно цитируются представителями
новейшего умонастроения. Особенно повезло в этом
отношении Милну — автору действительно первоклассных
детских книг, конечно же, пе имеющих никакого отношения
к новейшему умонастроению. Цитатами из книг автора
«Винни-Пуха» изобилует запрещенный — по причине
сугубой порнографичности — роман Ричарда Фарины «Так
долго был па дне, что, мне кажется, был выше всех». Здесь
с помощью милых фраз, вырванных из уст Винни-Пуха и
«всех остальных», обживается действующими лицами
романа поголовная наркомания, принцип наслаждения
любой ценой, возведенная в мистический культ
сексуальность и пр.
Тот же самый архетипический жест «дай!» лежит и в
основе ряда феноменов «поп-культуры». Речь идет о тех
звездах «молодежной субкультуры», которые воплотили
упомянутый жест в целостный образ «современного»
поведения и жизнечувствования. Нынешний эстрадный певец
(или музыкант-исполнитель) — это жрец культа
«неудержимых влечений», изнемогающий от переполняющего его
экстаза, от распирающих его «витальных сил» и
неспособный противостоять ни одному из своих — «мгновенных» —
порывов. Ту же самую роль играют и многие кинозвезды,
чьи экранные роли, а также роли, исполняемые в
«личной жизни» — для печати и телевидения,— суть
иллюстрации «неудержимости» их разнообразных
влечений.
Отсюда различные сенсационные высказывания
(точнее, возгласы) сегодняшних провозвестников новейшего
умонастроения, вроде выкрика Бринкмана — того самого,
что грезит о «космонавтах внутреннего»,— призвавшего к
«пулемету» против, критики 1. В этом ряду находится
фраза модного ныне композитора Джона Кейджа насчет того,
что «лучше быть брутальным, чем равнодушным», а
также его слова о том, что он хотел бы «отсечь» «грязные
руки», запачкавшие красоту. Сюда же относится широко
известный словесный пассаж немецкого драматурга Петера
Хандке, выразившего желание собрать в кучу все «левое
дерьмо и правое дерьмо», прибавить к нему «либеральное
дерьмо» и «швырнуть на них бомбу» — слова, сказанные
1 См.: М. Walser. Op. cit., S. 24. Далее цит. с. 22—24 этой
работы.
314
по поводу манифестации, помешавшей Хандке досмотреть
фильм. Накопец, довольно выразительным завершением
этого ряда оказывается рассуждение Бринкмана (в
предисловии к изданной им антологии, посвященной новейшим
тенденциям в американском искусстве) относительно того,
что американцы слишком мало демонстрируют в
искусстве силу, насилие, что они еще не стряхнули с себя робость,
отвращение перед лицом силы. Причем хорошим
пояснением к этому рассуждению является помещенный в
антологии портрет Гитлера с крупной надписью под ним:
«Welcome back» *.
Надо сказать, что возникновение в связи с
характеристикой новейшего умонастроения словечка «Gewalt»,
очень удачно выражающего на немецком языке всю
двусмысленность силы-насилия, ни в коей мере не случайно.
Такие теоретики новейшего умонастроения, как,
например, Фидлер, которого никак нельзя упрекнуть в
неосведомленности относительно его важнейших тенденций, на
первом месте среди трех основных «элементов» последнего
называют «вестерн», символизирующий нынешнее
влечение к насилию, жестокости и прочей «брутальпости». Если
взять новейшее умонастроение, как оно представлено в
современной литературе, то в нем, по Фидлеру, можно
будет выделить три элемента: «Вестерн, научная
фантастика, порнография», и три агрегатных состояния:
«Сновидение, галлюцинация, экстаз». Об этом же свидетельствует и
мода на «театр жестокости», возродившаяся в последние
годы в театральном искусстве Запада и проникшая в
киноискусство, как свидетельствует новейшая продукция
западного кинематографа.
Возникает, однако, вопрос: как примирить эту, явно
определяющую ныне тенденцию с тем хиппистски-битниче-
ским «тоном любви», который, казалось бы, лежит в самом
истоке новейших умонастроений, образуя их «мистическое
ядро»? Нет ли здесь антагонистически неразрешимого
противоречия? И не представляется ли «вестерп» — элемент
новейшего умонастроения — извращением его истинного
пафоса? Для нас рассмотрение всех этих аспектов общего
вопроса о «вестерн»-элементе в составе новейшего
умонастроения представляет тем больший интерес, что
позволяет глубже проанализировать описанный синдром «недер-
1 Это можно перевести как «Добро пожаловать» или «Приходи
обратно».
315
жания влечений», взятый в его динамике, в его
двузначности или, как бы сказал Фрейд, «амбивалентности».
Есть огромный соблазн попытаться объяснить
неожиданное возникновение в рамках новейшего умонастроения
гаммлеровской «вестерн»-интонации ненависти и
жестокости, утвердившейся в диссонирующей (и
компрометирующей) близости с хишшетски-битническим тоном любви
и нежпости, по аналогии с двумя фазами наркотической
интоксикации, описанными нами,— эйфорически-радуж-
ным состоянием опьянения, исполненным дружелюбия и
неразборчивого сексуального влечения, и
депрессивно-раздражительным состоянием абсциненции, отмеченным
крайней агрессивностью, взрывчатостью и гневливостью.
Это, однако, был бы слишком легкий способ расправиться
с проблемой, загнав ее на чисто психологический
(психопатологический) уровень.
Мы ближе подойдем к решению интересующей нас
проблемы, поднявшись с психологического уровня ее анализа
на социальпо-психологический, если снова вспомним одну
особенность коллективного экстаза, ориентированного на
«устранение» индивидуального сознания. Как
неоднократно отмечалось в соответствующей литературе, такого рода
«дионисический восторг» изначально амбивалентен,
двусмыслен: его участники одержимы одновременно двумя
противоположными устремлениями — «мазохистски»
окрашенным, побуждающим каждого отказаться от самого
себя, и явно «садистским», заставляющим всех участников
«вакхического действа» с яростью обрушиваться на того,
кто и в этой ситуации пытается сохранить свою личность,
чувство ответственности, свободу индивидуального
решения и способность к критической оценке происходящего.
Между прочим, именно с этой амбивалентностью связан
общеизвестный «эффект стаи», свойственный различным
«неформальным общностям» — подростковым и
юношеским содружествам, «мафиям» и пр., которые выдвигаются
новейшим умонастроением в качестве идеальной модели
человеческого общения. Суть этого «эффекта» — в
парадоксальном сочетании величайшей самоотверженности
участников «стаи», сплошь и рядом выливающейся в
патологические демонстрации этого самоотречения
(самоистязания — нанесение себе увечий, отрубание пальцев,
ушей и пр.), с предельным садизмом по отношению ко
всем тем, кому не удалось адаптироваться в рамках этой
«общности». А это возможно лишь путем изощреннейшей
316
«самонивелировки», последовательного отказа от своего
«я», носителем которого может быть отныне лишь вся
«стая» в целом либо тот, кому она доверила свою
«персонификацию»,— Вожак: быть личностью — только его
привилегия, и он тщательно блюдет ее.
Надо сказать, что этот самый садизм явно
«функционален» — с точки зрения «социализации» участников
неформальной общности «мафийного» типа, с точки зрения
«сплочения» их в лоне «мафии». Уже древние мистерии
отчетливо выявили то обстоятельство, что для поддержания
напряжения, электризующего толпу и сплавляющего ее в
некоторую целостность, «общность», необходим ритуал
жертвоприношения и — соответственно — жертва, которая
нужна отнюдь не только для задабривания божества,
возвышающегося над толпой, но и для ублаготворения тех
«хтонических богов», которыми одержима она сама («отцы»
христианской церкви предпочитали называть их бесами).
Всеобщая любовь (если называть так, вслед за
гедоническими мистиками, беспорядочные половые отношения),
которой сопровождались дионисические мистерии,
предполагала, как видим, и некий — далеко не всегда
символический — акт ненависти,— и чем менее символичным был
этот акт, тем более мощным был следующий за ним
восторг коллективной любви. То же самое можно сказать и о
«мафиях»: судебная практика знает массу случаев, когда
вожак заставляет участников мафии совершать
бессмысленные убийства, «функция» которых только в том, чтобы
теснее связать всех круговой порукой, причем последняя,
как правило, переживается всеми именно как
«дружба-любовь».
Наконец, если иметь в виду «общности»,
сцементированные дионисийским экстазом, с необходимостью
предполагающим «отключение» индивидуального сознания и
высших психических функций индивидов вообще, то
придется согласиться с тем, что гаммлеровский «тон садизма»,
так сказать, «функционален» здесь еще в одном
отношении. Поскольку «свято место пусто не бывает», на место
«отключенных» ценностей человеческой культуры и
духовности приходят иные ценности — «витальные»,
измеряемые мерой «недержания» первых попавшихся (скажем —
возникших в подсознании) влечений и решительностью —
то есть «брутальностью» — их самоутверждения. Однако
эти «хтонические» ценности могут—не то что утвердить,—
просто продемонстрировать себя только за счет принесения
317
в жертву кого-либо, не отличающегося соответствующей
«витальностью».
«Витальность», вырвавшаяся за пределы
ограничивающего ее, личностного самосознания, может
демонстрировать себя лишь в форме силы-насилия: физического
принуждения в отношении других — менее мощных (или менее
раскованных) носителей аналогичной «витальности». В
общем, непосредственное физическое насилие — это
логический предел (или, если хотите, идеал), к которому столь же
спонтанно, сколь и неумолимо влечется всякая
демонстрация самодовлеющей «витальности».
Этот способ вовлечения в «общение» (толкуемого
теперь как «витальная», физическая близость) заменяет — в
лоне неодиописийского устремления — явпо устаревшие
формы воздействия на людей: обаяние личности,
убедительность аргументации, благородный пример,
нравственное воодушевление и т. д. Особенно выразительным
образом этот способ «вовлечения» демонстрируется искусством,
тяготеющим к неодионисизму, например, театром,
строящим свои спектакли по образу и подобию «хэппенингов».
Здесь совершаются прямые нападения на публику: актеры
толкают зрителей, осыпают их конфетти (а иногда и
менее приятными вещами), садятся на них, бросают в них
различные предметы и т. д. и т. п. И вее это — из неверия в
способы воздействия на человека, апеллирующие к его
сознанию.
2. «ПОЛИТИЗАЦИЯ» ЭРОТИКИ
ИЛИ «СЕКСУ Л Л ИЗ АЛИЯ» ПОЛИТИКИ?
Произведения искусства, в той или иной мере
оказавшиеся в русле неодионисийского устремления, со всей
убедительностью свидетельствуют о том, что для
художников Запада не остались тайной двусмысленные механизмы
вовлечения людей в экстатические «общности» с помощью
растормаживания мазохистских и — главное — садистских
инстинктов толпы. Однако эти же произведения — с той же
мерой убедительности свидетельствуют и о том, что очень
многие из художников новейшего умонастроения не могли
противостоять искушению воспользоваться этими
механизмами в своем творчестве, хотя это неизбежно должно было
обернуться «эстетизацией» упомянутых инстинктов —
вознесением их в измерение искусства без какой бы то ни
было «сублимации» (поскольку последняя исключается но-
318
вейшим умонастроением как нечто «буржуазное»). Не
могли же они противостоять искушению по той причине, что
очень уж велик был соблазн почувствовать себя демоном-
искусителем, управляющим человеком, дергая за нити его
«расторможенных» инстинктов. К тому же истинный
смысл такого соблазна каждый соблазнившийся легко мог
скрыть от самого себя рассуждениями на тему о том, что,
дергая за нити «расторможенных» влечений, можно
вывести человека (причем пе одного, а «массу» людей) «на
путь истинный» — поступая как хороший кукловод,
создающий с помощью своих абсолютно послушных ему
марионеток великолепный спектакль, истинное произведение
искусства, подлинное воплощение Добра и Красоты.
Отсюда — появление в западном театре и
кинематографе целого потока фильмов и спектаклей, исполненных
вроде самых благородных намерений — скажем, намерения
разоблачить фашизм, заклеймить американские злодеяния
во Вьетнаме, выразить солидарность с колониальными и
зависимыми народами, борющимися за независимость, и
т. д. и т. п.,— однако привлекающих для осуществления
этих возвышенных целей по меньшей мере двусмысленные
средства, находящиеся в разительном противоречии с
целями. «Тон любви», лежащий в основе намерений и целей,
утверждается средствами «вестерна» и «театра
жестокости»: путем развязывания весьма опасных инстинктов
публики, сознательно превращаемой в толпу, одержимую
садо-мазохистскими побуждениями. Ибо именно на путях
развязывания этих побуждений видится ныне генеральный
путь «вовлечения» публики в происходящее на сцене или
на экране.
На это обстоятельство обратили внимание многие
критики и публицисты. Не прошло оно и мимо уже
упоминавшегося нами немецкого романиста Вальзера, в этом пункте
явно отдавшего дань традиционному гуманизму. Говоря о
тенденции провозвестников новейшего умонастроения
культивировать «зло для самонаслаждения» (что, кстати,
ни в коей мере не противоречит и мистике современного
гедонизма, призывающей к наслаждению — «любой
ценой!»), Вальзер отмечает, что таким образом лишь
воспроизводятся — но уже в виде эстетизированного культа —
«антагонизмы» современного буржуазного общества. Когда
же это «зло для самонаслаждения» облекается в форму
фильма, прославляющего деятельность вьетнамских
партизан — как это было в одной из лент Годара, то получается
319
лишь увеличение общей суммы упомянутого «зла» (и
соответственно—садистского «самонаслаждения»). Ибо
Годар, как пишет Вальзер, ссылаясь на Шеллемона, не может
ответить «на насильственную деятельность буржуазии»
ничем, кроме «повторения этого насилия в тонко
отработанном сценарии» *. Единственно осмысленной реакцией
па это умножение насилия на насилие может быть только
чувство «омерзения», над которым, по Вальзеру, «здесь
никто не поднимается» 2.
Однако именно это обстоятельство как раз и делает Го-,
дара приемлемым для теоретиков повейшего
умонастроения — таких, как Фидлер. В данном случае он может
позволить себе несколько отойти от обычной для него
аполитичности и порассуждать насчет «актуального
перефункционирования» культа насилия, связанного с
«вестерн-образцом», в соответствующее лево-радикальным веяниям
времени прославление Гевары или вьетнамских патриотов.
И сделать это он может с тем большей легкостью, что, как
пишет Вальзер, в подобного рода
«перефункционированиях» в копечном итоге так и остается неясным — во имя
чего же совершается насилие 3. В результате стремление к
«злу для самонаслаждения» остается в явном выигрыше.
Все остальное оказывается простым средством,
инструментом ублаготворения садистских влечений.
Примерно то же самое можно было бы сказать и о
фильме «Марат/Сад», поставленном по пьесе Петера Вайса
«Преследование и убийство Марата, представленное паци-
ентами сумасшедшего дома в Шарантоне в режиссуре
маркиза де Сада». Слова Марата насчет «улучшения» мира,
возглас его сподвижника Жака Ру, призывающего людей
осмысленно выбирать, «куда идти», и прочие разумные
призывы — все это тонет в атмосфере безумного экстаза,
созданной в фильме, а главное — эта атмосфера настолько
заражает зрителя, что его «сознание» целиком отдается на
милость его «коллективному бессознательному»,
влекущему к наслаждению безумием разрушения, экстазом
насилия, яростью садизма и пр. Словом, общее количество зла
и насилия в мире не только не уменьшается от таких
фильмов, рожденных благородным желанием посильнее
разоблачить зло и насилие, но явно увеличивается.
1 M. W а 1 s е г. Op. cit., S. 25.
2 Ibid.
3 См.: Ibid.
320
— Да, à что? — ответит нам последовательный жред
гедонистического культа.—Зато явно увеличивается общее
количество наслаждения в мире. Ведь к ограниченному
кругу «наслаждений любовью» мы прибавляем теперь
неограниченную сферу «наслаждений ненавистью»,
насилием, злом. И почему мы не должны делать этого, коль скоро
принцип наслаждения является высшим и абсолютным?
— Л ведь правда,—начинаем мы сомневаться (явно
берет верх интеллигентская склонность во всем видеть
«эту проклятую неизвестность»).— С какой стати должны
мы дискриминировать экстравагантные — скажем,
садистские — наслаждения? Не есть ли это ограничение
человеческих возможностей? Не отрезаем ли мы человеку путь
к наивысшим, невероятным, божественным
наслаждениям? Да и кто там различит — где любовь, а где ненависть,
где самоотверженность, а где мазохизм, где садизм, а где
разумное принуждение? И если, черт возьми, для
величайшего экстаза нужен акт величайшего садизма, то почему
бы не пойти и на это? Неужто ради обогащения
человеческой чувственности нельзя пожертвовать «слезой
ребенка»? Тем более, что буржуазная цивилизация проливает
их, что говорится, целыми морями...
Этот отрывок из гипотетического диалога между
уверенным в себе жрецом гедонистического культа и
интеллектом, склонным входить в положение оппонента вплоть
до потери своей собственной точки зрения, не так уж и
гипотетичен. Подобные теоретические ситуации
достаточно часто возникают на страницах
либерально-гуманистически ориентированных западных журналов,— в
особенности в тот момент, когда вчерашний мистик-гедонист (а
заодно поклонник цзен-буддизма, Кришнамурти и Бодп-
сатвы) неожиданно предстает в модернизированном
облике одетого в кожаную куртку нового левого экстремиста —
с пластиковой бомбой в руках и с лозунгом немедленного
соединения сексуальной и политической революций на
устах. Когда культ наслаждения соединяется с культом
«революционного насилия», социальная революция
понимается как хэппенинг, а моделью соединения. искусства
и бунта оказывается образ рояля, установленного на
баррикаде, с пианистом, наяривающим непременный «рок»,—
у некоторых либерально-гуманистически настроенных
интеллектуалов наступает очевидная психическая сшибка.
Сшибка эта аналогична той, что — рассказывают
физиологи — наступает у собаки, если ее сначала обучают
И Ю. Давыдов
321
по-разному реагировать на круг и овал, вырабатывая
соответствующий условный рефлекс, а затем пачинают
придавать овалу форму, все более близкую к кругу. Говорят,
что бедная собака в итоге такого «жестокого
эксперимента» вообще перестает различать между кругом и овалом и
начинает одинаково волноваться при виде как того, так
и другого. Рассказывают также, что уже обезьяна,
которую попытались поставить в ситуацию подобного же
эксперимента, отказалась от предложенных ей «правил
игры» и просто плюнула в лицо экспериментатору,
попытавшемуся спутать ее «представления» о том, что является
круглым, а что нет. Но, быть может, то, что рассказывают
насчет обезьяны, это миф, выдающий желаемое за
действительное. Во всяком случае, люди, оказавшиеся в
аналогичной ситуации, гораздо реже следуют здесь примеру
своего ближайшего предка, чем примеру собаки. Они
склонны принимать как нечто, достойное глубоких
раздумий, совершенно абсурдные «правила игры»,— скажем,
игры в моральный релятивизм,— а затем в
недоумении разводят руками (жест, выражаемый поразительно
удобной фразой, свидетельствующей об очевидном
глубокомыслии произносящего ее: «Все это — гораздо
сложнее»).
Что же касается тенденций современного западного
искусства, развивающихся в русле новейших
умонастроений, то для их теоретиков и практиков столь
парадоксальное сочетание наслаждения одновременно с «сексуальной
революцией» и политическим экстремизмом,
«художественной революцией» и «революционным» насилием,
«психе делической революцией» и террористическими акциями
оказалось поистине освобождающим открытием,
предлагающим новые, невиданпые ранее перспективы. Элемент
жестокости, садизма и прочей «брутальности», внесенный
в размагниченную сферу «наслаждения любовью» и
связанных с нею удовольствий, электризует всю эту сферу,
сообщая сексуальным играм несвойственную им ранее
значительность.
Элемент садистского извращения и жестокости,
введенный в область секса, нейтрализовал его примитивно-
порнографический аспект, сделал порнографию как бы
уже и не порнографией, по крайней мере — лишил ее
прежней несерьезности и банальности. Все, что было
легкомысленного и пошлого в прежней порнографии,
отброшено в качестве достояния «глупеньких любовных исто-
322
рий». Истинная порнография (чуть было не сказал —
порнография в высшем смысле) — это нечто совсем иное.
«Сегодня,— пишет Фидлер,— мы требуем феллаций,
извращения, бичевания, чтобы быть уверенными в том, что имеем
дело с порнографией, а не с какими-то глупенькими
любовными историями» *.
Вальзер толкует нынешнюю склонность новейшего
умонастроения к порнографии как выражение
наличествующего в обществе «недостатка удовлетворения»2. Однако
этот способ истолкования садистских тенденций не
объясняет ни того, о каком «недостатке удовлетворения» идет
речь, пи того, почему он должеп компенсироваться
именно в форме садистской, а не «тривиальной» порнографии.
Приведенная фраза Фидлера, свидетельствующая о
стремлении тех, кто почувствовал сегодня пристрастие к
порнографии, «осерьезнить» ее, дабы она приобрела более
«респектабельный» вид, гораздо ближе к сути дела, чем
вальзеровский перевод этой фразы на язык вульгарной
социологии. И, кстати, как свидетельствуют фидлеровские
рассуждения насчет Годара, именно это стремление с
необходимостью влекло провозвестников новейшего
умонастроения на путь своеобразного сочетания секса и
политики, точнее — политизации сексуальных отношепий и,
соответственно, «сексуализации» политических (и даже
социально-экономических) отпошепий.
В основе этого сочетания — лежит истолкование
политики исключительно в аспекте насилия, более того —
насилования (различия между демократической
либеральной и фашистской политикой при этом полностью
снимаются). Для представителей новейшего умонастроения, в
общем-то весьма далеклх от реальной политики,
последняя — коль скоро они вынуждены ее касаться, в
соответствии с духом времени и просто «новой левой» модой,—
предстает как простая метафора изнасилования и
садизма. Причем,— пусть не будет здесь недоразумений,—
последнее совсем не обязательно выступает у них под знаком
«минус»: реабилитация садизма в интересах «осерьезни-
вания» сексуальных игр повлекла за собой его
реабилитацию и в качестве инструмента политической игры
(вспомним «Маленького солдата» Годара). Ну, а стоит
только совершить изначальный акт отождествления,—
1 M. W а 1 s е г. Op. cit., S. 28.
2 Ibid.
11*
323
представив слово «насилие» в двузначности его
политического и сексуального смыслов,— как все остальное пойдет
само собой: сексуальные отношения окажутся
политическими, политические — сексуальными, словом —
искомое объединение политической и сексуальной
«революции» становится фактом (по крайней мере — фактом
новейшей западной кинематографии).
Надо сказать, что поначалу это «открытие» произвело
большое впечатление: оно, казалось, давало искусству
общепонятный — и к тому же сильно действующий —
язык, на котором наконец можно было обсуждать самые
злободневные политические темы. И, разумеется, немало
людей искусства взялись за разработку этой «золотой
жилы», одушевленные самым благородным намерением:
разговаривать с людьми о самых широких общественно-
политических проблемах, опираясь на их интимный опыт
«сексуальных общений». Не удержался от искушения
испробовать свои силы на этом поприще и такой крупный
кинорежиссер, как Лукино Висконти,— о чем
свидетельствует его знаменитый фильм «Гибель богов». Причем
как раз этот не без таланта сделанный фильм, если
иметь в виду его чисто профессиональную сторону,
отчетливо обнаружил всю двусмысленность «игры» на сек-
суализации политики и политизации сексуальных
отношений.
Очевидно, Висконти полагал, что ему откроются новые
возможности разговора с широкой публикой на тему о
разложении капитализма и вырождении его в фашизм,
если он персонифицирует всю глубину этого вырождения
в образе некоторого «исчадия капиталистического ада»,
совершающего все известные медицине (и мифологии)
сексуально-патологические «акции»: растление сестры-
подростка, изнасилование малолетнего ребенка, соитие с
матерью (на фоне которых, кстати, гомосексуальная оргия
штурмовиков Рема, расстрелянных затем по приказу
Гитлера, выглядит воистину как луч света в темном царстве) ;
разумеется, все это сопровождается убийствами,
самоубийствами, отравлениями, расстрелами и т. д.— в духе
того самого сочетания сексуальных извращений, садизма
и политического насилия, о котором говорилось выше.
Конечно — все это производит, как говорится, мощное
воздействие на зрителя. Конечно, объектом воздействия
(точнее было бы сказать — «агрессии») оказывается не
сознание зрителя, а его «подсознание», его «витальная струк-
324
тура». И, конечно же, результат этого воздействия, его
«суммарный итог» оказывается совсем не тем, какого хотел
достичь Висконти, намеревавшийся до основания
развенчать капитализм и фашизм, а также соответствующее
им «превращенное сознание», буржуазную идеологию,—
как она предстает в нашем столетии.
В связи с фильмом Висконти (как и аналогичными
произведениями, несущими на себе явные следы влияния
новейших умонастроений) небезынтересно было бы
привести одно примечательное рассуждение Руссо, имеющее,
как это ни парадоксально, гораздо большее отношение к
пашей современности, чем к тому, что происходило во
времена автора «Новой Элоизы». Хотя, впрочем, и тогда
происходили события, имевшие гораздо более далеко
идущий смысл, нежели это могло бы показаться на первый
взгляд.
«Посмотрите,— пишет Руссо,— большинство пьес
французского театра: почти во всех вы найдете
отвратительных чудовищ и страшные поступки, которые
способны, если угодно, сообщить пьесе интерес и дать повод
проявить себя, но безусловно опасны тем, что они приучают
глаза народа к ужасам, которых он вовсе не должен был
бы знать, и преступлениям, которых не должен был бы
предполагать возможными. Готовы чуть ли не обелить
кровосмесительницу и преступницу, проливающую кровь
невинных,— Федру, Сифакс, отравляющий жену,
младший Гораций, закалывающий сестру, Агамемнон,
приносящий в жертву дочь, Орест, убивающий мать,— все они,
несмотря ни па что, остаются персонажами,
привлекающими к себе сочувствие. Прибавьте к этому, что автор,
чтобы заставить каждого говорить согласно его
характеру, вынужден вкладывать в уста злодеев их правила и
принципы в пышной одежде красивых стихов,
произносимых тоном внушительным, сентиментальным, в назидание
публике.
...Один убивает отца, женится на матери и
оказывается братом своих детей. Другой добивается того, чтобы сын
убил отца. Третий заставляет отца выпить кровь сына.
Невольно вздрагиваешь при одной мысли об ужасах,
которыми угощают французскую сцену, чтобы позабавить
народ, самый кроткий и человечный, какой только есть на
земле! Нет... я утверждаю, призывая в свидетели ужас
зрителей: побоища гладиаторов уступали в варварстве
этим страшным зрелищам. Правда, там текла кровь, но
325
там не загрязняли своего воображения злодеяниями,
заставляющими содрогнуться самое природу.
К счастью, трагедия в том виде, как она есть, до такой
степени далека от нас и выводит перед нами такие
гигантские, такие напыщенные, такие химерические
существа, что пример их пороков столь же мало заразителен,
сколь пример их добродетелей полезен, и чем меньше
она старается учить нас, тем меньше приносит нам
вреда» 1.
Бедный, наивный, прекраснодушный Руссо! С
такими-то вот филиппиками набрасывается он па современные
ему постановки классических трагедий, в которых аптич-
пый способ «возгонки», «сублимации» (и в конечном
счете — преодоления) запрещенных обществом влечений
помножался на «сверхсублимированный», исполненный
рационалистической риторики вкус французского
образованного общества второй половины XVIII века. Даже в
них, точнее — в повышенном иптересе к ним чудятся ему
роковые предзнамеповапия (которые внимательный
наблюдатель мог бы усмотреть и в самом руссоизме). А что
бы он сказал по поводу нынешней тенденции «рассубли-
мирования» искусства — с тем, чтобы прямо вызывать в
публике эмоции, аналогичные живописуемым в
художественном произведении? И как бы оцепил он — на фоне этой
тенденции — попытку Вископти «просветить массы»
относительно истинных механизмов капитализма и
фашизма путем «рассублимирования» инстинктов, «табуировап-
ных» буржуазным обществом?!
Если уже тогдашпее состояние искусства побудило
Руссо размышлять насчет возможности вообще обойтись
без искусства, то на какие раздумья навела бы его
сегодняшняя тенденция нове-йшего умонастроения в
искусстве? Впрочем, перспектива ликвидации искусства не
пугает уже нынешних художников Запада: ведь многие излшх
осознают свою деятельность именпо как «преодоление»
искусства — путем слияния его с политикой (обязатель-1
но — политическим насилием), с бунтом (понятым как
сексуально-политический оргиазм) и т. д. И если в этом
деле им поможет какой-нибудь новый Наполеон,
осуществивший на практике идею своего предшественника
(кстати, заимствованную у Руссо), что лучшее зрелище для
1 Ж.-Ж. Руссо. Письмо к д'Аламберу о зрелищах.—Избр.
соч. в 3-х тт., т. 1. М., 1961, с. 90—91.
326
народа — это военный парад, то они, вероятно, будут
только благодарны ему. Наконец-то будет покончено со
всякими окольными путями растворения искусства в
жизни...
3. КОНЕЦ АНТИУТОПИИ
Один из «мастодонтов» гуманистической культуры —
Алан Трахтенберг — обращает внимание на тот
примечательный факт, что сегодняшние носители «миссии
освобождения» \ подвизающиеся в роли звезд «молодежной
субкультуры», выдвигают в качестве революционного, все-
изменяющего требования то, что давно уже «требует» от
своих членов «общество потребления», возбуждая в них
«растущую жажду того же», что хотел бы, чтобы они
возжаждали, нынешний «евнух промышленности». Иначе
говоря, ныпешние ниспровергатели «буржуазных табу»
ломятся в открытую дверь,— акт, который может
оказаться вполне «функциональным» в определенном
смысле — скажем, если в эту дверь слишком уж медленно и
лениво входят. И какими бы мистическими
рассуждениями, какими бы социологическими выкладками, какими бы
соображениями «политической целесообразности» ни
обосновывалась ныне необходимость ломиться в открытую
дверь, ими не скрыть от более или менее трезвого
наблюдателя того простого обстоятельства, что дверь... открыта.
И открыта довольно давно.
Однако наблюдателей описываемого процесса,
стоящих на гуманистических позициях, встревожила не
столько эта тенденция смыкания новейшего умонастроения с
банальным потребительством массового общества, хотя
она имеет (и об этом еще пойдет речь) далеко идущие
последствия; и не столько непроизвольная
«самомистификация» молодежного движения протеста, говорящего
обратное тому, что оно делает, и делающего
противоположное тому, что говорит,— хотя в эту ахиллесову пяту
движения и направляется ныне основная масса
критических стрел. Волнует этих наблюдателей нечто другое
(тоже, впрочем, лежащее на поверхности), а именно —
изменение идейно-политической атмосферы,
общественно-политического климата радикального движения развитых
капиталистических стран совсем не в том направлении,
1 См.: А. Тг а с h t e n b е г g. Op. cit., p. 502.
327
которое ожидалось в связи с первыми выступлениями
«новых левых», породившими, как известно, много
радужных надежд в среде прогрессивно настроенной
интеллигенции.
Дело в том, что в русле новейшего умонастроения
возобладал тот самый тон, который отмечался некоторыми
авторами еще в связи с тенденциями гедонистической
мистики (явно «косившей» на отнюдь не либеральный
«Восток»): полное отсутствие какого бы то ни было интереса
к «демократическим институтам или процессам
демократизации» 1. Надо сказать, что этот «тон» явился следствием
далеко не только одной политической наивности
гедонистических мистиков, увлекшихся восточными
способами обоснования своих экстатических устремлений.
Отсутствие интереса к судьбам демократических свобод в
XX веке было связано у них с отсутствием интереса к
личности, личностпо ориентированному самосознанию, ко
всему тому, что принесла в этой связи гуманистическая
культура и в область философии, и в область политики,
выдвинув принцип свободы личности как высший и
основополагающий.
Как отмечал Пассмор, для гедонистической мистики
характерен «отказ от свободы и ответственности ради
мистического идеала единения» 2 — единения во вселенском
экстазе. Отказ этот оправдывается нынче тем, что раз
люди испытывают восторг, когда они, взявшись за руки,
распевают песни, раз они готовы пожертвовать всем ради
этого «чувства общины, чувства жизни», то нечего
отвлекать их от этих — единственно реальных — переживаний
набившими оскомину «фразами XIX века о демократизме
и свободе», превратившимися к тому же в прикрытие
корыстных интересов властей предержащих. Это, как
замечает Пассмор,— умонастроение, находящееся в опасной
близости с «позицией фашистов». И хотя он не намерен
исходить из того, что «романтические бунтари» — это
«фашисты в джинсах», поскольку у сегодняшних
бунтарей существует почти патологическое недоверие к
«принципу лидерства», тем не менее он не исключает
возможности эволюции рассматриваемого умонастроения по
направлению к самому банальному фашизму. Во всяком
случае, Пассмора весьма и весьма настораживает кокет-
1 J. P a s s m о г е. Op. cit., p. 10.
2 Ibid.
328
ничание современных мистиков (особенно — из числа
«косящих» на Восток) своей «моральной и политической
безответственностью», а также тот общеизвестный факт,
что «ведущие представителя современного движения
цзен чрезвычайно легко становятся убежденными
фашистами».
Аналогичную тенденцию зафиксировал, как мы
помним, Мартин Вальзер в связи с другим элементом
новейшего умонастроения — культом пасилия и жестокости,
парадоксальным (а может, не так уж и парадоксальным)
образом сочетающимся с апологетикой «психеделической
революции» и «легитимизацией безумия». Это сочетание
настолько поразило Вальзера, что он пришел к
следующему умозаключению: «...в этом новейшем умонастроении
создается препарат сознания для новейшей формы
фашизма» *. Причем этот вывод относится не только к
Бринкману, поместившему в своей антологии портрет
Гитлера (как своего рода «пощечину общественному
вкусу», в данном случае — антифашистской традиции,
приведшей к «овнутренению» отвращения перед насилием),
но и к Фидлеру, хотя он — по словам Вальзера — и
«гнушается фашизмом». «С каждой экскурсией вовнутрь в
нем,— пишет Вальзер, имея в виду любого участника
нынешней «психеделической революции»,— отмирают
демократические возможности и возрастает возможность к
противоположному — то есть фашизму». Свидетельством
их отмирания является принципиальный отказ идеологов
новейшего умонастроения (и его «рядовых носителей»)
различать между демократией, либерализмом и
фашизмом, которые «уравниваются» друг с другом па том
основании, что и то, и другое, и третье — политика и пытаться
отличить их друг от друга — все равно что пытаться
отличить желтого черта от синего, синего — от оранжевого.
Свидетельством же нарастания противоположных — то
есть фашистских — возможностей является тенденция
новейшего умонастроения оценивать эти политические
альтернативы, теперь как бы «уравненные» друг с другом, на
основании иных критериев, находящихся «за пределами
политического разума и рациональности», как это
получается у Бринкмана.
Наконец, та же самая тенденция была отмечена Трах-
тепбергом в связи с политически ориентированным ответ-
1 M. W а 1 s е г. Op. cit., S. 36. Далее цит. с. 24, 36.
329
вленпем новейшего умонастроения — движением
молодежи, протекающим в рамках «субкультуры протеста», в
русле современного «стиля отрицания». Трахтенберг
(подобно ряду других преподавателей-радикалов,
сохранивших свои гуманистические позиции перед лицом
новейшего умонастроения) полагает, что, вступив в связь с
«массовой культурой» потребительского общества, моло-
дежпое движение протеста заразилось органическим
конформизмом, свойственным этой культуре. Этот скрытый
конформизм, освящающий в молодежном движении лишь
те импульсы, что продуцируются «обществом
потребления», должен с неизбежностью извратить первоначальные
устремления молодых радикалов, повернув их на
скользкую тропку политического авантюризма, заведя в тупик
бессмысленного «бунта», не представляющего собой ре-
альпой альтернативы существующему порядку. В ходе
этого «бунта» может всплыть на поверхность — и
получить официальное признание властей предержащих —
лишь то (и только то), что «поздпекапиталистическая
цивилизация» воспроизводит как свое «общественное
подсознание», то есть все, что гуманистически
ориентированные радикалы давно уже пазывают «скрытым
иррационализмом» американского (и буржуазного вообще) образа
жизни. Такова точка зрения Трахтенберга, получающая в
последпие годы все более широкое распространение в
кругах, оппозиционных новейшему умонастроению и
политике, стилизованной в духе этого последнего.
«...Их отрицание,— пишет оп о молодых
экстремистах,— припимает форму, которая может в конечном
счете лишь укрепить институты, которые они хотят пнзверг-
нуть. Прославление поп, например, наводит на мысль
о том, что насколько молодежь чувствует себя
отчужденной от своего общества, настолько она у себя дома в своей
(поп.— Ю. Д.) культуре»1. Многие признаки —в
частности, нетерпимость студентов-экстремистов, их
отвращение к теории, их презрение к духовной культуре
вообще, их склонность довольствоваться лозунгами вместо
трезвого размышления, экстазом вместо систематической
конструктивной деятельности,— все они побуждают
Трахтенберга сделать вывод, что «неожиданно конформизм
проявился в самом лагере мятежа» 2. Словом, как пишет
1 А. Trachtenberg. Op. cit., p. 502.
2 Ibid., p. 504.
330
он, «существует причина для опасений и для критики в
той степени, в какой студенческий радикализм
отклоняется от демократического и социалистического мышления и
поворачивает в направлении «антикультуры», которая
захватывает многих американцев» *.
Но, пожалуй, самой симптоматичпой (и самой
опасной) особенностью идейно-политической атмосферы,
сложившейся под влиянием новейшего умонастроения,
является то, что печальные констатации описаппого типа,—
кстати, не такие уж редкие на страницах прогрессивной
печати,— не производят необходимого впечатления на
тех, кому они адресованы. Поколение, родившееся после
второй мировой войны и зпакомое с фашизмом и гитле-,
ровскими лагерями смерти только по книгам и
телефильмам, обнаружило явную склопность быстрее, чем
следовало бы, «пресыщаться» рассуждениями своих
школьных учителей о свободе и демократии, гуманизме и
человеческом достоинстве,— тем более, что «отцы»
основательно позаботились о том, чтобы эти идеалы оказались в
разительном несоответствии с действительностью. Что же
касается идеологов новейшего умонастроения, то опи в
полной мере использовали ситуацию «пресыщепия
демократией» для снятия вопроса об этой последней с повестки
дня. И теперь в ответ на упрек в антидемократизме, в пе-
дооценке прав личности, в стремлении подчинить
индивида «тотальпости», явно толкуемой в духе Муссолини и
Гитлера, от молодых гедонистов или экстремистов можно
услышать маклюэповское: «Да, а что?»
Конечно, часто эти слова говорятся молодыми лишь
для того, чтобы сильнее эпатировать своих «ипституацио-
нализировапных отцов». Однако то, что сегодня
оказывается модпой именно эта, а не ипая форма «эпатажа»,—
знаменательно само по себе. Этот факт ярче многих
других свидетельствует о том, что сегодня можно говорить
о «конце антиутопии», связанной, между прочим, со
стремлением развенчать перспективу безличного, «стад-
пого» будущего, которую многие годы прокламировали
многочисленные фальсификаторы идеи социализма,
начиная Сорелем и Муссолини, Шпенглером и Гитлером.
Сложилось умонастроение, в рамках которого подобного
рода фальсификации уже не пугают пи в теоретическом,
ни в практическом отношениях. Более того, перспектива
» Ibid., р. 502.
331
«успокоения» человека, «уставшего» от своего «я», в
темном, но комфортабельном лоне «коллективного
бессознательного»,— эта перспектива выступает подчас как
вожделенная и имеет не так уж мало поклонников. Об этом
свидетельствует, например, число почитателей Маршалла
Маклюэна.
Имя этого пророка «коллективной бессознательности»
совсем не случайно всплыло в нашем изложении в связи
с проблемой «конца антиутопии». Ибо не кто иной, как
Маклюэн, первым провозгласил этот «конец», сделав это
с присущей ему откровенностью и
широковещательностью. В манере своих обычных «проб» Маклюэн заявил
однажды, что «навязчивый страх перед 1984 годом
(«1984»—название одной из антиутопий Оруэлла) не
только нелеп, но и старомоден». Пророк знал, чем взять
свою паству: боязнь выглядеть «старомодными» побудила
довольно многих полуинтеллигентов тут же согласно
закивать головами, отказавшись от вчерашних «клише»
розово-либеральной окраски. «Проба» оказалась весьма
эффективной: у Маклюэна нашлось множество
подражателей, объявивших опасения, вызвавшие к жизни
различные антиутопии (Хаксли, Оруэлла, Бредбери и других),
совершенно напрасными, а главное — несвоевременными,
устарелыми, провинциальными и пр. Эти подражатели
позаботились и о том, чтобы не было никаких
недоразумений относительно пафоса, вдохновляющего
Маклюэна в его борьбе против различных «старомодных»
страхов.
Так, уже упоминавшийся нами Уильям Блюм
разъясняет — «тем, кто боится гибели „индивидуума"» (пришла
наконец пора заключить это устарелое слово в кавычки),—
что «в основе «зондажа» Маклюэна лежит абстрактный
мир безликих масс — мир прекрасной общности,
блаженства и бескорыстного служения ближнему» 1. «Здесь не
может быть двух мнений,— категорически утверждает
он.— Маклюэновская племенная деревня и бессловесный
мир, возможно, уже подступает к нам, и если это так, то
средства связи ускоряют пришествие этого нового
мира» 2. «Видимо,— снова и снова варьирует он
полюбившуюся ему мысль,— этот мир означает закат
индивидуальности, ибо во всех современных странах машины
1 «Проблемы телевидения и радио», 2, с. 152.
2 Т а м ж е, с. 153.
332
непрерывно определяют наиболее разумные пути развития
общества».
Однако подобные формулировки Маклюэна и его
последователей не должны удивлять пас, если вспомнить
их предпосылки, не так уж далекие от предпосылок тех,
против кого непосредственно и были направлены
знаменитые антиутопии XX столетия. Гораздо удивительнее то,
что они воспроизводятся теоретиками, стоящими, казалось
бы, на диаметрально противоположных позициях и
склонных критиковать Маклюэна во многих других
отношениях. Особенно интересны в этом отношении рассуждения
Г.-М. Энценсбергера, который, подобно Маклюэну,
пытается преодолеть страх перед «монолитной индустрией
сознания», разрушив «ужасную картину Джорджа Ору-
элла». Ибо оказывается, что, несмотря на
противоположность политических позиций, он движется при
рассмотрении «электронных средств коммуникации» в том же самом
русле, которое прорыл Маклюэн.
Поражает уже стремление Энценсбергера толковать
«электронную революцию» в аспекте «эмансипации» от
времени, а тем самым — и от традиции, истории и т. д.,
благодаря которому энценсбергеровская мысль полностью
замыкается в горизонте общей маклюэновской тенденции
и новейшего умонастроения вообще. Близость
Энценсбергера этой тенденции и этому умонастроению выступит
еще более отчетливо, если мы вспомним об энценсберге-
ровской идее хэппенинга,— политического хэппенинга,
актуальности и злободневности которого он готов
пожертвовать всем: и культурной традицией, и исторической
преемственностью, и ощущением историчности
человечества.
Итак, снова «хэппенинг». Он явно поразил
воображение тех, кто в той или иной мере оказался под влиянием
новейшего умонастроения. Для мистиков-гедонистов, как
мы помним, «моделью», к которой тяготел «хэппенинг»,
как к своему идеалу, было беспорядочное половое
общение наших первобытных предков, истолкованное в
аспекте «инфантильной» сексуальности. На следующем этапе
развития этого умонастроения эта «модель» была овзрос-
лепа и осерьезнена с помощью привнесения в этот «тон
любви» — обертона жестокости и садизма, в результате
чего идеал, к которому тяготел отныне «хэппенинг»,
больше приближался к дионисийской мистерии, взятой в не
слишком идеализированных ее изображениях. Наконец,
333
теперь, в изображении Энценсбергера, в качестве
идеальной модели «хэппенинга» выступает митинг, причем
взятый в наиболее хаотичной — анархической — его форме,
когда каждый норовит залезть на трибуну (вне
зависимости от того, есть ли ему что сказать или пет), слышатся
яростные возгласы ораторов (которых не то слушают, не
то нет), выкрики с мест, топот, свист и прочие проявления
стихийности и спонтанности. Это — тоже своеобразный
«рай — немедленно!», ибо результат подобной активности
может быть лишь минимальным (в такой обстановке
трудно принять трезвое решение, а потому лучший вариант —
это когда оно вообще не принимается), и в определенном
смысле этот экстаз имеет цель в самом себе. О нем также
можно, наверное, было бы сказать словами персонажа из
«Блоу-ап»: «Я не знаю, что все это значило, но это было
великолепно!»
Таково одно из важнейших условий, при котором
представители новейшего умонастроения (и те, кто по тому
или иному стечению обстоятельств оказались в его
«попутчиках») готовы отказаться от страха перед той
перспективой, относительно которой предупреждали авторы
«антиутопий». Ибо хотя эта перспектива и оказывается
вполне реальной для сегодняшнего Запада, «хэппенинг»,
воскрешающий первобытные формы экстаза, обещает
сделать ее привлекательной, во всяком случае — не такой
«скушной», как опостылевший позднебуржуазный
«истеблишмент».
— Но ведь Гитлер попытался однажды реализовать
аналогичную перспективу. И всем известно, чем это
кончилось.
— Да, а что? Ведь прежде, чем это «кончилось»,
сколько было экстазов, мистерий, «хэппенингов»! Может, игра
стоит свеч?
ЭПИЛОГ. ТЕНЬ ВЕЛИКОГО ИНКВИЗИТОРА
Если попытаться теперь выделить самую общую
тенденцию, которая вновь и вновь воспроизводится в рамках
новейшего умонастроения (как в
гедонистически-мистическом, так и в левоэкстремистском его вариантах), то ее
можно будет резюмировать в двух словах: бегство от
свободы. Речь идет о свободе в том ее гуманистическом
понимании, которое было выражено в формуле авторов
«Манифеста Коммунистической партии»: «свободное раз-
334
витие каждого является условием свободного развития
всех» S поскольку — как разъясняется этот тезис в «Лнти-
Дюринге» — «общество не может освободить себя, не
освободив каждого отдельного человека» 2. Вот от этой-то
проблемы свободы каждого человека, взятого в отдельности, в
качестве «вменяемой» личности, в качестве разумного
существа, способного «принимать решения со знанием
дела» 3, и пытаются уйти пророки новейшего
умонастроения. Этой перспективе противополагается маклюэновская
перспектива «счастья» людей (всех вместе, скопом, собор-
по и стадно) в лоне «коллективного бессознательного», в
атмосфере «дионисийского экстаза», в принципе
исключающего свободу личности и вообще какую бы то ни было
« индивид у ацию ».
При виде этой тенденции невольно складывается
впечатление, что теоретики и практики новейшего
умонастроения решили продемонстрировать миру тот вариант
человеческого «развития», который в «поэмке» Ивана
Карамазова отстаивал Великий Инквизитор. «У нас же,—
пророчил этот удивительный персонаж, созданный
воображением Достоевского и фантазией его героя,— все
будут счастливы и не будут более ни бунтовать, ни
истреблять друг друга... О, мы убедим их, что они тогда
только и станут свободными, когда откажутся от свободы своей
для нас и нам покорятся... Свобода, свободный ум и наука
заведут их в такие дебри и поставят перед такими чудами
и неразрешимыми тайнами, что одни из них, непокорные
и свирепые, истребят себя самих, другие, непокорные, но
малосильные, истребят друг друга, а третьи, оставшиеся,
слабосильные и несчастные, приползут к ногам нашим и
возопиют к нам: «Да, вы были правы, вы одни овладели
тайной его (имеется в виду тайна Христа, возвестившего —
по Достоевскому — «свободную веру».— Ю. Д.), и мы
возвращаемся к вам, спасите нас от себя самих»...» 4.
Если сравнить эти слова с тем, что, например, мы
слышали из уст Маклюэна и Блюма, то последние предстанут
перед нами в своем истинном облике — в роли жалких
эпигонов Великого Инквизитора. Ведь их «пробы» и «зон-
дажи» — не что иное, как плагиат, бесталанные вариации
1 К. Маркс и Ф. Энгельс. Соч., т. 4, с. 447.
2 Т а м же, т. 20, с. 305.
3 Там же, с. 116.
4 Ф. М. Достоевский. Собр. соч. в 30-ти тт., т. 14, Л., 1976,
с. 235.
335
основной идеи персонажа, родившегося в разгоряченном
мозгу Ивана Карамазова,— идеи, согласно которой сделать
людей счастливыми можно, только лишив свободы каждого
из них. «...Ибо,— согласно Великому Инквизитору,—
ничего и никогда не было для человека и для человеческого
общества невыносимее свободы» !, и человек не хочет ничего
иного, как поскорее освободиться «от великой заботы и
страшных теперешних мук решения личного и
свободного» 2, и «нет у человека заботы мучительнее, как найти
того, кому бы передать поскорее тот дар свободы, с
которым это несчастное существо рождается» 3. Как видим, эти
слова гораздо точнее и глубже передают задушевные
мысли Маклюэна, Блюма и других идеологов «бегства от
свободы», чем это могли бы сделать они сами.
Впрочем, нужно быть справедливыми и учесть, что эти
последние находятся в гораздо более сложном положении,
чем их предтеча. С тех пор, как Достоевский поведал нам
задушевные мысли Великого Инквизитора, на
политической арене появлялось немало его последователей,
пытавшихся «освободить» людей от их «постылой свободы», сняв
с их сердец «столь страшный дар, принесший им столько
муки» 4, и взяв на себя «командование парадом», если
говорить уже более прозаическим языком — языком
незабвенного Остапа Бендера. Результаты этих попыток были
столь ужасающи, что сама мысль о возможности
появления политических авантюристов типа Гитлера и
Муссолини до сих пор вызывает у большинства людей ненависть
и омерзение. По этой причине нынешним продолжателям
дела Великого Инквизитора приходится действовать по-
новому, подавая идею «освобождения» людей от свободы
так, чтобы она не вызывала у них ассоциации с
определенными политическими персонажами.
Задача формулировалась теперь так: необходимо найти
некоторое существо, которое смогло бы выполнить все
функции Великого Инквизитора,— то есть, «став во главе»
людей, согласилось бы «выносить свободу и над ними
господствовать» 5, неся на себе «проклятие познания добра
и зла» 6 и определяя эти понятия в зависимости от полити-
1 Ф. М. Достоевский. Собр. соч. в 30-ти тт., т. 14, с. 230.
2 Т а м ж е, с. 236.
3 Т а м ж е, с. 232.
4 Там ж е, с. 234.
5 Т а м ж е, с. 231.
«Тамже.с. 236.
336
ческой целесообразности,— однако при этом пе
вызывало бы нездоровых ассоциаций персонального порядка и
вообще не характеризовалось бы никакими
«личностными» качествами, было бы абсолютно анонимным
существом. Как мы помним, Маклюэну удалось-таки решить
эту задачу, приведя в сугубый восторг всех своих
поклонников. На пост, оставленный Великим Инквизитором и
скомпромитировавшими себя его преемниками, была
предложена вполне импозантная и в то же время совершенно
анонимная персона — Электронно-вычислительная
Машина. Решение выглядело одновременно и поражающим
воображение, и «научно обоснованным», ибо — как не без
удовольствия писал популяризатор маклюэнизма Блюм —
«совершенно очевидно, что наш общественный выбор все
сильнее зависит от того, как высший разум думающей
электронно-счетной машины запрограммирует наш образ
действия и нашу реакцию на действия других» !, а стало
быть (не будем повторять уже цитированные пассажи), в
индивидуальном, личностно ориентированном выборе уже
нет никакой необходимости, тем более что вообще
наступил «закат индивидуальности», который есть
одновременно восход «коллективного бессознательного».
Как видим, принцип, предложенный Великим
Инквизитором и уже «проигранный» (в обоих смыслах этого
слова) Гитлером и Муссолини, не меняется. Ибо
«общественный выбор», а заодно и всякое свободное решение (о
чем уже говорилось выше) «изымаются» у людей и
передаются «существу», стоящему над ними. Это «существо»
принимает на себя «бремя свободы», даруя за это людям
счастье «коллективной бессознательности», отмеченной —
как мы помним — эмоциями «восточного типа». А будет ли
этим «существом» новый Гитлер или
электронно-вычислительная машина, размером, скажем, с холодильник (дабы
при случае можно было бы посадить ее за стол
заседаний) — это в общем-то детали. Ведь Гитлер также был
прежде всего «политической машиной», а уже потом —
человеческим существом, одержимым различными
шизофреническими комплексами. Причем, эти последние, как
показывают историки, были в достаточной мере
«функциональны» с точки зрения существования человека под
фамилией Гитлер в качестве безличной политической маши-
1 «Проблемы радио и телевидения», 2, с. 153.
12 Ю. Давыдов 337
ны. Ибо как раз с помощью этих параноидальных «идей»
политической машине под модной вывеской «Гитлер»
удавалось создавать «дионисийский экстаз» у тех самых
людей, которые лишались элементарнейших человеческих
свобод и прав, переживая это обстоятельство как самое что
ни на есть истинное освобождение.
Иначе говоря, политическая машина под фамилией
Гитлер сочетала в себе две функции, являющиеся
необходимыми также и с точки зрения Маклюэна — Блюма.
Одна из них — «вычислительная» — с помощью которой
рассчитываются политические варианты и формулируются
политические цели. Другая — «воодушевляющая», с
помощью которой люди «вовлекаются» (вспомним маклю-
эновское значение этого слова) в политику,
функционирующую — в этом ее аспекте — уже как область
«коллективного бессознательного». Известный американский
социолог и политический мыслитель Гарольд Лассвел
назвал первую из этих функций «кредендой», вторую — «ми-
рандой», имея в виду, что в одном случае речь идет об
апелляции к разуму, во всяком случае — к трезвому
«политическому рассудку», а в другом — к чувствам, к
воображению людей и — в частности — к их «политическому
предрассудку». Как известно, по мнению некоторых —
отнюдь не либеральных — политических теоретиков,
основная причина краха гитлеровской Германии усматривается
именно в упомянутом слиянии «креденды» и «миранды» в
рамках одного и того же политического механизма: не будь
этого, можно было бы сохранить «креденду» национал-
социализма, принеся в жертву его «миранду» — вместе с
параноиком Гитлером.
Вот так, как бы резюмируя основной урок, вытекающий
из этой «истории», Блюм (точно следуя здесь за Маклюэ-
ном) предлагает разделить эти функции, передав их
различным «политическим машинам» — счетно-решающему
устройству и Его Величеству ТВ. Вторая из этих машин
будет царствовать, обеспечивая людям наслаждения
«коллективной бессознательностью» и выполняя при этом роль
режиссера (вспомним роль модных эстрадных певцов на
концертах «поп-музыки»). Первая же будет управлять,
решая за людей, «уставших» от свободы, проблемы добра
и зла, общественного выбора, политической ориентации
и т. д. и т. п. «Задача машины,— пишет Блюм,— помочь
человеку в его усилиях сохранить «креденду», совершенно
необходимую для стабильности общества, правопорядка и
338
прогресса...» 1 Однако из других высказываний Блюма и
Маклюэна мы хорошо представляем себе «цену» этой
помощи: машина соглашается оказать ее только в том
случае, если ее хозяин (теперь уже «бывший»)
последовательно отказывается от всех своих личностных функций,
передавая их своей помощнице. Ну, а после того, как это
произойдет,— кто там разберет, где есть «правопорядок», а
где нет, что такое «прогресс», а что такое «реакция», и
сколько будет стоить упомянутая «стабильность общества» — в
пересчете с долларов на число человеческих жизней. И тут
уж ничего не останется, как снова поверить Машине,
которая даст на этот счет «исчерпывающую информацию», о
которой люди, погруженные в нирвану «коллективного
бессознательного», разумеется, тотчас же забудут.
В свете этого разделения «креденды» и «мирапды»
нетрудно представить себе, какова роль других
представителей новейшего умонастроения в реализации
предначертаний Великого Инквизитора. Гедонистические мистики
реализуют тот аспект проекта Великого Инквизитора,
который выражен в следующих его словах: «...Стадо вновь
соберется и вновь покорится, и уже раз навсегда. Тогда
мы дадим им тихое, смиренное счастье, счастье
слабосильных существ, какими они и созданы. О, мы убедим
их наконец не гордиться... докажем им, что они
слабосильны, что они только жалкие дети, но что детское счастье
слаще всякого» 2. Нынче, как мы видели, для
доказательства этого тезиса существует целая система аргументации,
начиная извлечениями из восточных мудрецов (некоторые
из них доказывают, что на пути «назад» лучше даже не
останавливаться в фазе детства, а пойти дальше —
перевоплотиться в цветок или камень, окаменеть) и кончая
цитатами из «Винни-Пуха». Так что идея насчет того, что
«детское счастье слаще всякого», явно получает
«поддержку общественности».
Что же касается тех представителей новейшего
умонастроения, которые намерены «подсластить» это и без
того приторное («слаще всякого») «детское счастье»,
присовокупив сюда удовольствия, связанные с жестокостью
и садизмом, сексуальными извращениями и политическим
насилием, то их роль несколько иная. Более озабоченные
тем, чтобы приобщить к своему вакхическому хороводу
1 «Проблемы радио и телевидения», 2, с. 151.
2 Ф. М. Достоевский. Собр. соч. в ЗО^ги тт., т. 14, с. 236.
12*
330
других, они разрабатывают инструментарий
целенаправленного воздействия на человеческое сознание, с тем чтобы
«помочь» человеку освободиться от своего «я», от чувства
самодостоверности личности даже в тех случаях, когда
сам он и не очень-то этого хочет. Здесь уже нет расчета
на то, что человек только и думает, как бы ему убежать
от своей «постылой свободы»,— в отличие от Великого
Инквизитора, явно обнаружившего в данном пункте
известное «прекраснодушие» и политическую близорукость.
Тем не менее манера поведения этих людей,
стилизующих протест и превращающих его в «протест ради
протеста», явно подтверждает некоторые прогнозы Великого
Инквизитора. Это ведь те люди, о которых он говорил, что
«хоть они и бунтовщики, но бунтовщики слабосильные,
собственного бунта своего не выдерживающие» 1. Ибо
бунтовать ради бунта могут только люди с рабским сознанием,
то есть люди, неспособные предложить реальную
альтернативу существующему и находящиеся потому в реальной,
хотя и негативной зависимости от него. И превращение
«бунта» в самоцель — это лишь наглядное свидетельство
того, что люди не знают (а потому и не хотят знать) «а что
потом?», что же должно последовать «за» бунтом: вот
почему они должны стремиться «продлить» мгновенье
бунта,—тем более что он к тому же дает еще и некоторые
острые ощущения.
И не исключена возможность, что именно такие
«бунтари» поступят опять-таки сообразно с пророчеством
Великого Инквизитора: «Они станут робки и станут смотреть
на нас и прижиматься к нам в страхе, как птенцы к
наседке. Они будут дивиться и ужасаться на нас и
гордиться тем, что мы так могучи и так умны, что могли усмирить
такое буйное тысячемиллионное стадо. Они будут
расслабленно трепетать гнева нашего, умы их оробеют, глаза их
станут слезоточивы, как у детей и женщин, но столь же
легко будут переходить по нашему мановению к веселью
и к смеху, светлой радости и счастливой детской
песенке» 2.
О последнем, как можно предположить, позаботится
Его Величество ТВ, которое Маршалл Маклюэн привел на
помощь Великим Инквизиторам будущего...
1 Ф. М. Достоевский. Собр. соч. в 30-ти тт., т. 14, с. 233.
* Т а м же, с. 236.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
1. НОВЕЙШИЙ АНТИГУМАНИЗМ И СУДЬБЫ РЕНЕССАНСНО-
ИНДИВИДУАЛИСТИЧЕСКОЙ «КОНЦЕПЦИИ ЧЕЛОВЕКА»
Пытаясь вскрыть корни «новейших умонастроений»,
религиозно ориентированный мыслитель Доменак
обращает внимание на поразившее его обстоятельство:
развернутое «наступление на гуманизм», осуществляемое
широкими кругами «гуманитарной» интеллигенции, имеет
место только в «высокоразвитых демократических обществах
Запада», то есть в капиталистических странах, вступивших
в фазу так называемого «общества потребления»;
интеллигенция других стран не проявляет склонности
подключаться к такому «наступлению» (более того — она,
напротив, склонна толковать в гуманистическом духе даже
вышеупомянутые антигуманистические тенденции,
придавая им принципиально иное значение в контексте своих
проблем,—факт, порождающий многочисленные
аберрации как теоретического, так и идеологического порядка).
Отсюда французский философ-персоналист делает вывод,
что поражающее сторонних наблюдателей стремление
«западной цивилизации» отказаться от своих собственных
принципов, во-первых, явление чисто западного порядка,
а во-вторых, отражает совершенно определенную фазу в
эволюции капиталистического Запада: а именно ту фазу,
которая получила название «общества изобилия», или
«общества потребления», и характеризуется определенными
сдвигами как в области техники и экономики, так и в
социальной и политической сферах, грозящими изменить весь
облик традиционных «либеральных демократий».
341
Акцентируя «целый комплекс» причин, вызвавших в
«западной цивилизации» (в частности, во Франции)
влечение к разрушению и ликвидации принципов, лежащих в
ее фундаменте — таковыми он считает именно принципы
широко понятого «гуманизма», Доменак, однако,
вычленяет из этого «комплекса» причины духовного порядка,
выдвигая их на передний план. И это совсем не потому, что
он якобы отрицает воздействие человеческого бытия на
сознание индивидов; нет, он учитывает это воздействие и
соглашается с известным французским феноменологом
(ныне — неотроцкистом) Дюфреном, согласно которому,
«прежде чем прийти к мысли о смерти человека, наша
эпоха пережила эту смерть» — Дюфрен, как и Доменак,
имеет в виду гитлеровские лагеря смерти и геноцид, голод
и бедность в развивающихся странах, угрозу уничтожения
всего человечества в атомной войне и пр. Однако
французский персоналист вполне справедливо полагает, что
причина и следствие могут меняться в «тотальности»
исторического процесса; и мысль о «конце человека», возникшая
под впечатлением кошмаров, творимых во времена
господства в Европе национал-социалистских режимов, может
получить тенденцию к «самодвижению», способствуя
«дегуманизации» человека в новых условиях, наступивших
уже после краха этих режимов. Так оно, по мнению До-
менака, и случилось: идеология «антигуманизма»,
утвердившаяся в «современных индустриальных обществах»
Запада, по-своему продолжает дело «ликвидации
человека», поставленное на практическую почву фашизмом.
В культуре и жизни активно утверждается то, что
теоретические предшественники современного
«антигуманизма», быть может, констатировали (правда, проявляя здесь
гораздо больше энтузиазма, чем требовало при этом
простое чувство такта) лишь как «прискорбный факт».
Нужда была возведена в добродетель.
Глядя на нарисованную Доменаком картину кризиса
буржуазной цивилизации, переросшего в кризис западной
культуры, повернувшейся против самой себя, против своих
собственных фундаментальнейших предпосылок, пельзя не
признать, что картина эта очень близка к оригиналу. Здесь
трудно возражать автору статьи, хотя многое можно было
бы добавить и уточнить; сомнение в правильности его
теоретических выкладок возпикает в совсем другом пункте —
там, где Домепак приступает к истолкованию этой
(повторяем: вполне реалистической) картины, к выяснению кор-
342
ней происходящего сегодня, которые уходят в толщу
западноевропейской культурной традиции. И вот здесь мы
должны вспомнить о характерном для автора статьи (как
и для всего течения «христианского гуманизма»)
сплавлении двух различных — по своему конкретному социально-
историческому содержанию прямо-таки исключающих
ДРУГ друга — понятий: «христианства» и «гуманизма».
Дело в том, что как раз поэтому доменаковское
представление об исторических корнях современного кризиса
западной культуры как бы двоится. В одном случае он
прямо утверждает, что причина этого кризиса в
иссыхании христианских истоков культуры Запада, из которых
последняя, по его мнению, и черпала свои принципы,
идеалы и ценности. Но в другом случае (в особенности — в
тот момент, когда заходит речь о конкретных проявлениях
современного кризиса) обнаруживается, что причину
кризиса он, по сути дела, усматривает в исчерпании «ре-
нессансного образа» человека, ибо принимает за чистую
монету то, что говорят о «конце человека» именно
теоретики, отправляющиеся от упомянутого «образа» как от
фундаментальной предпосылки и в принципе не
предполагающие возможности иного человеческого образа. Вот
у него и получается, что конец христианства оказывается
одновременно и концом гуманизма (как в широком
метафорическом, так ив узком конкретно-историческом
смысле), а конец гуманизма (в обоих смыслах, причем
так часто сменяющих друг друга, что невозможно
установить, какой же из них имеется в виду в каждый данный
момент) — в то же самое время и концом христианства.
Чувствуя, что здесь что-то не так, Доменак пытается
убедить читателя в существовании своеобразного
«родства» христианства и гуманизма,— «родства», если
и не «заданного» изначально, то, уж во всяком
случае, обретенного исторически — в ходе послеренессан-
сной эволюции европейской культуры. Он считает, что в
XVIII веке произошел разрыв с ренессансным 1
гуманизмом и возник новый — «реформированный» — гуманизм
эпохи Просвещения, который, согласно утверждению
Доменака, был уже не столь чужд и враждебен
христианству, как «переформированный». Но, не говоря уже о
1 Понятие «Ренессанс» Доменак принципиально толкует в
самом узком смысле, отрывая его — в противоположность, например,
Бердяеву — от последующей истории нового времени.
343
том, что этим еще отнюдь не снимается вопрос о «части»
гуманизма, оставшейся «переформированной», возникает
и другая проблема: а не оказался ли в результате
упомянутого «реформирования» внутренне раздвоенным и
«гуманизм эпохи Просвещения»? Не получилось ли так, что
одна из его тенденций по-прежнему тяготела к традиции
«переформированного» Ренессанса (так что последний
продолжался и в Просвещении), а другая была, так
сказать, «утихомирена» в русле христианства (что и
положило начало «христианскому гуманизму»)? Одним
словом: не продолжали ли «ренессансный гуманизм» и
христианство противоборствовать на протяжении всего
нового времени? Положительный ответ на эти вопросы
напрашивается тем более, что, согласно представлению самого
Доменака, гуманизм, который возник в «контексте»,
бывшем наполовину языческим, а наполовину христианским
(не точнее ли было бы сказать о «компромиссе» между
языческим принципом гуманизма и христиански-суерде-
вековым принципом, что было следствием «равновесия
сил»?), к началу XVIII столетия вылился в чисто
атеистическую доктрину.
Очевидно, одним из источников иллюзий
«христианских гуманистов» доменаковского типа явилось то, что
они исторический компромисс язычески-гуманистического
и христиански-средневекового способов истолкования
человека и человеческой личности,— компромисс,
отражавший слабость нового устремления, начавшего пробивать
себе дорогу, а не его силу,— приняли за принципиальную
возможность «сочетания» этих двух исключающих друг
друга подходов к человеку. Потому-то Доменак и не
хочет замечать того, что, набрав силу, ренессансно-бур-
жуазный гуманизм с абсолютной необходимостью должен
был отбросить всякую мысль о компромиссе с
христианством и принять форму атеизма — все более и более
последовательного и« далеко идущего,—то есть в конечном
счете форму даже не «а-», но «антитеизмаъ (как это и
случилось у Сартра и Камю, Беккета и Ионеско, Р. Барта и
М. Фуко, Леви-Стросса и «новых левых»,—
принадлежащих, в этом смысле у к одной и той же линии — линии
развития ренессансно-буржуазного гуманизма вплоть до
перехода в свою собственную противоположность: в
идеологию «конца» человеческой личности).
Разумеется, при желании спор атеизма (а точнее —
awrw-теизма) и христианства можно считать происходя-
344
щим «па общей почве»: ведь предмет спора один и тот
же — бог, он и есть та «общая почва», по поводу которой
скрещиваются мечи радикально противостоящих друг
другу мировоззрений. И тогда можно будет утверждать,
как это и делает Доменак, что даже наступление на
христианство таких антихристиан, как, скажем, Фрейд и
Сартр, совершалось «во имя христианских ценностей».
Более того, в этом случае можно попытаться отделить овец
от козлищ, представив сартризм как «еще гуманизм», а
абсурдную драматургию как «уже антигуманизм». И все
это — только с той целью, чтобы уйти от неумолимого
вывода, согласно которому именно буржуазный гуманизм (в
точном ренессансно-индивидуалистическом понимании
этого слова, которое, оказывается, оставалось
доминирующим на всем протяжении «послеренессансной» истории)
на определенной стадии своего развития переходит в
собственную противоположность, ибо вывод этот должен был
бы заставить автора статьи отказаться от самого себя:
отделить от слова «гуманизм» эпитет «христианский».
В противоположность тому, что думает Доменак,
линия, развивающаяся в западной культуре XX века под
знаком идеи «конца человека» (начиная с авангардизма
начала нашего столетия и социологизированного
фрейдизма Вильгельма Райха — через сюрреализм Андре Бретона
и театр жестокости Антонена Арто — вплоть до
неофрейдизма Лакана, структурализма Р. Барта и «варварства
коитркультуры» !), не столь уж радикально
противоположна принципам ренессансно-индивидуалистического
гуманизма. Ибо в основе, в глубочайшем фундаменте
упомянутой «идеи» лежит именно возрожденческий «образ
человека» — ренессансно-индивидуалистическая «модель»
личности.
Не видя представителей этого типа личности «окрест
себя» (а такой личности действительно уже пет и в
крайнем случае она встречается в виде пародии — либо
комической, либо устрашающей — на саму себя), современные
буржуазные «возрожденцы» и пришли к выводу о крахе
личностного принципа, личностного начала вообще. И в той
мере, в какой они стали отправляться от этого вывода как
от постулата, не подлежащего никакой критике, как от
«абсолютной достоверности» (вспомним «негативный
абсолют» Адорно), эти буржуазные «возрожденцы» превра-
Выражение Доменака.
345
тились в антигуманистов не только в Доменаковом, но и
в более точном смысле этого слова. Более того: они
неизбежно оказались нигилистами, поскольку в основу своих
рассуждений положили «ничто» («негативный
абсолют») — отсутствие или (оно же, но взятое в активной,
агрессивной своей ипостаси) отрицание всего
человеческого, личностного. Нужда, превращенная в добродетель,
превратилась в панацею от всех бед и «нужд».
И вот в этом пункте произошло то, что стало источником
еще одной Доменаковой иллюзии. Представители
современного антигуманизма, превратившиеся (в качестве
отчаявшихся, но не раскаявшихся буржуазных «возрожденцев»)
в нигилистов, начали абсолютизировать свое отрицание
личности, ибо всякое единство, всякая
самотождественность личности представляются им как нечто «насквозь»
мещанское, своекорыстное и т. д. По этой причине, уже
начиная с идеологов «хиппизма» пятидесятых годов (если
не вспоминать об их более ранних предшественниках в
этом вопросе — сюрреалистах двадцатых годов),
современные антигуманисты выдвигают в качестве «врага
человечества № 1» — принцип «я», принцип «лица» вообще (если
воспользоваться термином, характеризующим более
широкое понимание личности, чем возрожденческое), призывая
совершить против него «величайшую революцию» — с тем
чтобы утвердить на его месте безличный принцип,
фрейдовское «оно» *, причем утвердить не «вне» человека, а
именно «внутри» — в душе каждого, так, чтобы
человеку уже некуда было деться от торжествующей
Анонимности.
Вот это объединение в рамках общего
антигуманистического потока противников «ренессансного» образа
личности и противников самого личного принципа, как
такового,— при их постоянном «взаимопревращении»,— и
вызвало у христианских мыслителей типа Доменака ложный
вывод о том, будто бы в XX веке вновь возникла реальная
почва для «слияния» гуманистических и христианских
устремлений.
Применительно к нашему времени аргументами в
пользу реалистичности этой перспективы для Доменака
выступают два (в общем-то достаточно очевидно противоречащих
1 Кстати, между фрейдовским «оно» (es) и хайдеггеровским
«мап» — принципом толпы — дистанция не столь велика, как это
может показаться: и тут и там — безличностное начало.
346
друг другу) момента: во-первых, тот факт, что сегодня
христианская церковь и в особенности католицизм
апеллируют к гуманистическим принципам, тогда как атеизм,
вернее — антитеизм, выступает с антигуманистических
позиций; во-вторых, то, что, по мнению французского
философа, в настоящее время теоретические споры между
христианами и марксистами затихают, и более того:
обозначилось «нечто вроде единого фронта христиан и
марксистов в защиту традиционных ценностей, культуры, труда,
нации, семьи» *. Однако, уже не говоря о том, что защита
упомянутых «традиционных ценностей» отнюдь пе озпа-
чает для марксистов перехода на христианские позиции
(«неудобный» для Доменака факт, свидетельствующий о
том, что атеизм и в наше время не всегда выступает с
антигуманистических позиций), французский персоналист пе
учитывает еще одного существенного момента.
Дело в том, что марксизм опирается отнюдь не на одну
только «ренессансную» модель личности. Через
ассимилированную им традицию «критически-утопического
социализма», восходящего, в свою очередь, к
социально-критическим устремлениям греческой античности, а также
через поиски изначальных форм человеческой
коллективности, новый импульс которым дал Льюис Генри Морган
своей книгой «Древнее общество» (1877), марксистское
учение об обществе приходит к гораздо более всеобщей
модели личности, нежели
возрожденчески-индивидуалистическая и буржуазно-гуманистическая. В этом смысле
Доменакова ссылка на марксизм совсем ничего не говорит
в доказательство его тезиса о возникновении общей почвы
у христианства и гуманизма. Для обоснования этого своего
тезиса Доменак должен бы сослаться на гуманистическую
традицию в более точном и определенном смысле этого
слова, исключающем его метафорическое употребление —
как синоним «человечности» вообще.
В этом случае Доменака ожидает глубокое
разочарование. Ибо всякое определение смысла понятия «гуманизм»
окажется его ограничением и отрицанием (в соответствии
со спинозовским: «Всякое определение есть отрицание») —
и не только в логическом, но и в конкретно-историческом
смысле этого слова. В самом деле, даже если «преодолеть»
узкоренессансное понимание гуманизма, возведя его к
античным — эллинистически-римским — истокам, то и то-
1 J.-M. Domenach. Op. cit., p. 22.
347
гда историческое содержание этого понятия окажется
ограниченным, так сказать, с обоих концов. С одной
стороны, очевидно, что в античности гуманизм никак не мог
смыкаться с христианством, которое было скорее
альтернативой гуманистической версии «очеловечения», чем ее
союзником,— и, стало быть, терпят крах усилия Доменака
(и всех «христианских гуманистов» персоналистической
ориентации) «сомкнуть» христианство и гуманизм в
начальном, отправном пункте, «в глубине времен». А с
другой стороны, и не менее печально (во всяком случае, для
вышеупомянутой перспективы, намеченной французским
персоналистом) обстоит дело и в конечном,
заключительном пункте эволюции гуманизма — сперва
эллинистически-римского, затем ренессансного, то есть в XX столетии.
Ибо, как это ни парадоксально, но «новейшей»,
«современной» формой этого
(эллинистически-индивидуалистического и буржуазного) гуманизма на Западе оказывается в
наш век не что иное, как антигуманизм Макса Эрнста и
Вильгельма Райха, Антонена Арто и Жан-Поля Сартра,
Беккета и Роб-Грийе, Р. Барта и М. Фуко, Маркузе и
идеологов «контркультуры» — всех тех, кого автор статьи
с полным правом причисляет к общему
атеистически-нигилистическому течению, делая некоторые (и совсем не
убедительные) оговорки для одного лишь Сартра.
Не говоря уже о том, что атеизм упомянутых
представителей рассматриваемого течения (превратившийся
теперь в последовательный анти-теизм. — с богоборческой
тенденцией превратиться в религию Небытия, Отрицания)
уходит своими корнями в «атеистическую доктрину»
XVIII века, которую сам же Доменак, в свою очередь,
выводит из гуманизма, в пользу выдвинутого здесь тезиса
говорит и другое обстоятельство. Речь идет о том — уже
фиксированном нами — факте, что теоретические
представители западного антигуманизма XX столетия настолько
обусловлены, настолько связаны, настолько порабощены
ренессансной индивидуалистической «концепцией
личности», что скорее готовы сжиться с представлением о
«тотальной ликвидации» личностного начала вообще (и,
«сжившись», даже попытаться извлечь для себя из этого
вывода кое-какую пользу), чем отказаться от этой
концепции ради иного, более широкого, всеобщего и
универсального понимания личности.
Больше всего об этом последнем обстоятельстве
говорит приверженность современных западных антигумани-
348
стов припцппу «безгранпчпой самореализации» —
самореализации во что бы то ни стало, которым европейская
культура обязана именно ренессансно-индивидуалистиче-
скому гуманизму. Увидев абсолютный предел своих
возможностей (в смысле безмерной и безграничной
«самореализации» во что бы то ни стало), отчаявшиеся «возрожден-
цы» XX века попытались тем не менее найти способ их
осуществления. Встав па новый путь «сжигания» того,
чему поклонялись, они обрели таким образом желанную
перспективу «самоосуществления» — реализуемого со всей
ренессансной безмерностью и безграничностью. То, что
стало невозможным осуществлять в положительной
форме—в форме культурного творчества на путях развития
традиций Ренессанса, теперь осуществляется негативным
образом — путем разрушения культуры Запада, все более
и более глубокой деструкции идеалов и ценностей,
лежавших в ее основании. Антигуманизм оказывается, стало
быть, буржуазно-ренессансным гуманизмом, изменившим
теперь свой вектор на противоположный и — превратив
культуру в антикультуру — совершающим отныне свое
движение как бы в «обратном порядке»: «Ночь. Улица.
Фонарь. Аптека.—Аптека. Улица. Фонарь».
Это движение вспять, кстати, изначально
провоцировалось лежащим в основе «возрожденческого
гуманизма» — языческим натурализмом; так что и в данном
пункте современный западный антигуманизм совсем не
порвал с возрожденческой традицией, а только «дал волю»
тому, что, как тютчевский «хаос», неизменно «шевелилось»
в ее подпочве, давая знать о себе только «по ночам».
Не диалектический «возврат» к прошлому, с тем
чтобы — «на повом витке спирали» — реализовать в свете
новых возможностей то, что сохранилось как
неосуществленная возможность в прошлом (делая это последнее
живой загадкой и животворной тайной для позднейших
времен) ; не творческий диалог настоящего с прошлым,
которое потому и живо для нас, что еще не исчерпано
нами, еще участвует в нашем определении сегодняшних
перспектив,— а нечто совсем, принципиально иное:
ликвидация сегодняшнего, чтобы вернуться к вчерашнему,
уничтожение вчерашнего, чтобы добраться до
позавчерашнего, и т. д. и т. п.— вот путь современного
антигуманизма, который, как видим, продолжает дело
капиталистической «цивилизации» по разрушению культуры
Запада.
349
2. «ВРАЖДЕБНАЯ КУЛЬТУРА» И «ОБЩЕСТВО ПОТРЕБЛЕНИЯ»
Постоянные обращения Доменака к представителям
антихристианского и в то же время антигуманистического
ответвления немарксистской критики капиталистической
цивилизации освобождают нас от необходимости подробно
характеризовать эту версию современной западной
антибуржуазности. Двигаясь шаг за шагом к заключению об
«исторической исчерпанности» личностного начала в
современную эпоху и начиная от этого вывода свое
«ретроспективное» (чтобы не сказать — ретроградное) движение,
нигилистически настроенные критики капитализма с
логической неизбежностью приходят к тому, что еще молодой
Маркс назвал «казарменным коммунизмом». И к ним
остается приложимым все то, что было написано им об
этом «грубом коммунизме»: «Этот коммунизм,
отрицающий повсюду личность (подчеркнуто Марксом.— Ю. Д.)
человека, есть лишь последовательное выражение частной
собственности, являющейся этим отрицанием» 1.
Возникает, однако, другой вопрос: почему, по каким
причинам это, согласно Марксу, примитивное и
«совершенно непродуманное» представление возродилось и
приобрело характер весьма широкого интеллектуального поветрия
именно среди тех «мастеров культуры»
капиталистического Запада, которых Доменак назвал «наиболее
законченными и утонченными» ее представителями? Или, если
ставить этот вопрос шире,— но уже не в только что
рассмотренной нами — культурно-исторической, а в более
конкретной — социально-исторической и социологической
плоскости,— какова социальная природа кризиса культуры
Запада, вызванного возникшими в ее лоне
антигуманистическими и нигилистическими устремлениями? По каким
социально-историческим причинам эта культура
поворачивается против самой себя, поразительно напоминая
античного стоика, кончающего жизнь самоубийством (если,
правда, он решился бы вдруг продемонстрировать —
«городу и миру» — это самоубийство как «хэппенинг») ?
Как свидетельствует поток соответствующей
литературы в Западной Европе и США, вопрос этот начинает
волновать и профессиональных социологов. Они все чаще
пытаются истолковать этот кризис, сам факт
существования которого уже не вызывает у них сомнений, в своих
1 К. M а р к с и Ф. Э н г е л ь г. Соч., т. 42, с. 114.
350
специфических понятиях. Наибольший интерес вызывает
попытка дать социологическую интерпретацию кризиса
культуры Запада, предпринятая Дэниелом Беллом
—известным американским социологом, одним из «соавторов»
модной ныне концепции «постиндустриального
общества» 1. Белл характеризует кризис культуры Запада как
выражение и одновременно фермент общего кризиса
капитализма2. Обратим внимание: обо всем этом говорит
человек, отнюдь не являющийся марксистом, а, наоборот,
пытающийся найти «альтернативу» учению
марксизма-ленинизма 3.
В первую очередь бросается в глаза то, что в каком-то
отношении Белл смотрит на ситуацию, сложившуюся в
культуре капиталистического Запада в связи с
нарастанием в ней нигилистических (антигуманистических и
антикультурных) тенденций, еще более мрачно, чем Доменак.
Белл полагает, что речь идет уже не просто о тенденции
внутри западноевропейской культуры — «модернистской»
(с начала двадцатых годов) и «неомодернистской»
(сначала шестидесятых), а о целой самостоятельной культуре —
в отличие от традиционной, и чтобы четче обозначить ее
вектор, он называет ее «враждебной культурой». Эта
последняя, согласно глубокому белловскому убеждению, уже
одержала полную победу над традиционной западной
культурой; в этом смысле «авангардизм» уже не существует в
качестве одного из течений в культуре — все равно, идет
ли речь о «модернистской» или «неомодернистской» его
форме, ибо — по Беллу — вся культура стала
авангардистской. Авангардистская «враждебная культура» замещает
традиционную; ее главенствующая роль в социальных
изменениях становится общепризнанной. Что же касается
официальной буржуазной культуры, то она, по
утверждению Белла, уже не в состояпии противостоять
«враждебной культуре», не может противопоставить ей нечто более
или менее значимое. Этот процесс произошел отнюдь не
только в так называемой «высокой» (или «элитарной»)
культуре; согласно белловскому впечатлению, поборники
1 См.: D. Bell. The coming of post-industrial society. A venture
in social forecasting. N. Y., 1973.
2 Кстати, именно по этой причине Белл предпочитает говорить
о «социо-культурном кризисе», а не просто о кризисе культуры
капитализма.
3 С точки зрения политической Белла следует отнести к
умеренным либералам с известным тяготением к консерватизму.
351
«враждебной культуры» сумели распространить свое
влияние и на широкую институциональную сферу культуры:
издательства и журнальные редакции, музеи и картинные
галереи, театры и киностудии, наконец, нашли выход в
университеты — к массовой студенческой аудитории. В
самом точном смысле современный авангардист на Западе
уже перестал быть «гонимым одиночкой» или
«непризнанным гением»; он оказался представителем
господствующей, хотя и «враждебной», культуры,— ситуация,
бросающая на его «революционность» и «нонконформизм» тень
глубокой двусмысленности.
Явно преувеличивая «успехи» — в общем-то не очень
симпатичной ему — «враждебной культуры», Белл говорит
о победе «модернистского движения» не только над
культурой Запада, но и над «буржуазным обществом» в целом.
«Модернистское движение» привело к господству
«враждебную культуру», получившую право отрицать это
общество и признанную в этом своем праве, хотя, как это
специально подчеркивает Белл, такое изменение соотношения
сил (культуры и антикультуры) отнюдь не повлекло за
собой изменепия в социальной и политической структуре
капиталистического Запада.
Социальные причины этой своеобразной победы
«модернистского движения» Белл связывает с тем, что вместе
с общим ростом численности интеллигенции,
обслуживающей сферу «производства культуры», прежние
изгои-авангардисты предстали как целый «класс». Этот «класс»,
согласно Беллу, и пришел если не к власти, то, уж во
всяком случае,— к «доминирующему влиянию» в области
«культурной индустрии» и массовых коммуникаций,
наложив на них печать своей собственной — модернистски-ая-
тибуржуазной, богемно-«антимещанской» — идеологии.
Важнейшая особенность этой идеологии заключается
в том, что с самого начала (то есть с самых первых шагов
«модернистского движения») она предлагала себя как
альтернативу религии, более того — как единственно
возможную в наш век форму религиозности: а«ш-теистической
•религиозности, утверждающей себя на трупе «умершего
бога» 1. В этом смысле рассматриваемая идеология пред-
1 Самоутверждение модернизма осуществлялось по старому
принципу: «Король умер —да здравствует король!», «Бог
умерла здравствует Бог!» (с тем, правда, уточнением, что на место
Бога теперь ставился «ппти-Бог» (рапыпе его называли
Антихристом).
Х»2
ставляет собой осуществленную пародийным образом (и,
быть может, только так вообще и осуществимую)
реализацию двух идей XIX века: сенсимонистской идеи замены
религии искусством и, в той мере, в какой религия
заключает в себе нравственное содержание, этического —
эстетическим; и романтической идеи, согласно которой
эстетический способ постижения является самым высоким, а
следовательно, художник представляет собою наиболее
адекватного представителя (и носителя, и «олицетворите-
ля» — в самом своем облике и образе жизни) Истины в
самой последней инстанции.
И действительно: по мере того как число «мастеров
культуры» (а проще — функционеров «культурного
производства») стало измеряться сотнями тысяч и даже
миллионами и, соответственно, богемный образ жизни перестал
быть чем-то исключительным, став образом жизни
«многих, слишком многих» из обслуживающего персонала
капиталистической «индустрии культуры», модернистское
умонастроение начало восприниматься на религиозный
манер. Распространенность модернистского умонастроения
в художественной и околохудожественной среде
переживалась многими как несомненность принципов, лежащих в
его оснрве, как их «абсолютная достоверность»: модернизм
становился предметом веры и миссионерских устремлений,
«институционализированной» формой, в какую отлился
этот своеобразный тип антитеистической религиозности, и
стала «враждебная культура» !.
Богом этой новой религии с самого начала было — и до
сих пор остается — Отрицание (нет Бога кроме Отрицания,
и художник-авангардист — Пророк его). Неизменной
тенденцией авангардистского Отрицания была
«глобализация», абсолютизация последнего. Однако время от времени
Отрицание «конкретизируется», замыкаясь на различных
объектах: то на «мещанстве» и «мещанской цивилизации»
вообще (отсюда — авангардистская «война на
уничтожение» с публикой, представляющейся воплощением
«Мещанина», «Обывателя» и т. д.); то на «массе» и «массовом
обществе» (отсюда — борьба авангардистов с «Толпой»,
доведенная до подозрения в «массовости» всех, кто имеет
склонность собираться в числе больше трех,
гипертрофированная до отрицания всех межчеловеческих связей) ; то
1 Этот термпп Белл заимствует у Л. Триллпнга (см.: L. Т г i 1-
I i n g. Beyond culture. N. Y., 1965, p. XIII).
353
•на «отчуждении» и «отчужденном мире» (отсюда — битва
авангардизма, мало-помалу переходившего от своей
«модернистской» стадии к «неомодернистской», со всем, что
принимает форму «предмета», более или менее
законченного «образа», более или менее устойчивого «правила» и
т. д.; ибо все это подозревалось в «отчужденности», то
есть — «буржуазности»); то на «атомизации» и «атоми-
зированном обществе» (отсюда — бунт «постмодернистов»
против всех форм индивидуализации личности, за
которыми усматривался «буржуазный индивидуализм»; против
личностного начала вообще, которое представляется
отныне чем-то тождественным «буржуазному принципу»;
против всего, что отличается от «принципа коллективности»,
непосредственно-коллективных, вне- и безличностных
способов человеческого общения). Иначе говоря, при всех
своих мнимых конкретизациях, авангардистское
отрицание неизменно оказывалось настолько абстрактным, что
превращалось в «отрицание вообще» или, пользуясь
ленинским выражением, пустое, «зряшное отрицание» К И это
вовсе не покажется случайным, если все время помнить,
что здесь мы имеем дело с обожествленным (то есть уже
абсолютизированным) отрицанием, для которого
существенно не само отрицание в том или ином случае, а именно
явление Отрицания, переживаемое как явление Бога:
бесконечного — в конечном, трансцендентного — в
имманентном.
Но если Отрицание, взятое в качестве высшей цели
авангардистов, в качестве их идеала,— Божество (в модусе
созерцания оно выступает как Небытие, Ничто), то это же
самое Отрицание, взятое в активной, деятельной форме
(как стремлепие к Ничто, процесс приближения к
Небытию), есть служение этому Божеству, ритуал, в котором
утверждается его Абсолютность: доказывается, что все
подлежит разрушению, что все можно и должно
разрушить. Вот почему, в отличие от иных сколько-нибудь
широких и устойчивых духовных устремлений, известных
европейской культуре, авангардизм (а это — тоже
достаточно широкое и устойчивое устремление, уже хотя бы
потому, что ему — немногим менее ста лет, а количество его
поклонников на Западе исчисляется сотнями тысяч)
характеризуется не тем, что он создал, а тем, что он подверг
разрушению: устранил, ликвидировал, отверг, разоблачил,
1 См.: В.И.Ленип. Поли. собр. соч., т. 29, с. 307.
354
опозорил и т. д. и т. п. Основной «миф модернизма»,
сложившийся уже в первой четверти XX века, покоился на
идее «тотального разрушения» — чаще всего она
осознавалась авангардистами как идея «тотальной (или
«перманентной») революции», но нередко выступала и в своем
чистом виде — как служение Ничто, Небытию и пр. В
живописи это негативистское устремление привело к
разрушению перспективы и самого принципа «фигуративности»;
в музыке — к ликвидации тональности и временной
последовательности вообще; во всех искусствах — к
«размыванию» границ жанра и «развенчанию» идеи более или
менее целостного художественного произведения; в
эстетическом сознании в целом — к дискредитации ценностного
подхода: предпочтения высших ценностей — низшим,
истинного — неистинному, доброго — злому,
прекрасного — безобразному; в сознании, как таковом,— к
устранению самого принципа «я» (самости, личности, лица) как
того центра, ядра сознания, на основе которого, собственно,
и происходит упорядочивание, иерархизация «мира
сознания».
Нетрудно заметить, что в качестве «жертвенного
тельца», предназначенного на заклание во славу этого
свирепого Божества, и у «модернистов и у «неомодернистов»
фигурирует одно и то же: культура Запада, принципы,
лежащие в ее основании, ее высшие ценности. Они — и мы
специально подчеркиваем это — гораздо шире принципов,
лежащих в основе того, что обнимается названием
«буржуазной цивилизации» и даже «цивилизации вообще», но
что авангардисты пытаются все же подвести под эти
понятия. Ибо речь идет о тех «высших свойствах человека»
(«личное достоинство, красноречие, религиозное чувство,
прямота, мужество, храбрость» и т. д.), которые, согласно
Марксу, солидаризирующемуся здесь с Морганом,
возникли задолго до вступления европейцев в фазу
«цивилизации», образовав «общие черты» человеческого характера 1.
Против этих «высших свойств человека» вот уже более
ста лет ведут борьбу авангардисты и их предтечи из
прошлого века, «рационализируя» ее для себя (и тем скрывая
от себя ее истинную суть) как борьбу против «буржуазной
цивилизации» и т. д. Однако именно в этом не отдает себе
отчета Белл, загипнотизированный «антибуржуазными»
филиппиками модернистов и неомодернистов, а потому
1 См.: К. Маркс и Ф. Энгельс. Соч., т. 45, с. 261.
355
придающий гораздо большее значение, чем следует,
именно «вербализованной» стороне их устремлений — этой
надводной части айсберга.
Впрочем, и в белловском описании картина предстает,
как мы видели, довольно устрашающая. В самом деле,
«модернистское движение», утвердившее в культуре
капиталистического Запада свою «секуляризованную религию»,
институционализированную в качестве «враждебной
культуры», ввергло, согласно Беллу, в состояние
перманентного кризиса и все капиталистическое общество, взятое в
его социально-экономическом и политическом измерениях.
Дело в том, что в этих измерениях общество может
нормально функционировать лишь при условии, если там
установлен хотя бы элементарный порядок, или иначе:
если там люди ведут себя как ответственные индивиды
(личности), наделенные здравым умом и трезвой памятью.
Но вот в «третьем» измерении этого же общества — в
сфере культуры, оказавшейся под влиянием авангардистской
«религии»,— пробили себе дорогу совершенно иные
«нравы»: принцип порядка (даже элементарного)
ликвидирован здесь «как класс» — по причине его «отчужденной»,
«репрессивной», «эксплуататорской» сущности, а здравый
смысл и трезвая память подвергнуты остракизму как
очевидный признак «индивидуализма», «конформизма» и
всякой иной «буржуазности».
Основная черта этой авангардистской перспективы
человеческого существования — волюнтаризм, утверждаемый
в противоположность традиционной европейской идее
примата разума над волей, ведущей свое начало еще от
Платона и Аристотеля. В тесной связи с авангардистским
волюнтаризмом, утвердившимся как единственно
допустимый стиль мироощущения и поведения в сфере
«враждебной культуры», находится экстатизм — стремление
«освободиться» от всех и всяких ограничений, налагаемых на
человека не только конкретными социальными условиями,
но и «социальностью» вообще.
Нетрудно понять, в каком глубочайшем контрасте
оказываются устремления, господствующие, согласно Беллу,
с одной стороны, в социально-экономическом и
политическом, а с другой — в духовно-культурном «измерении»
современного капиталистического общества. «Враждебная
культура», занимающая доминирующие позиции в этом
последнем измерении, предстает буквально как иррацио-
налистический «антимир» в мире «формальной рацио-
356
нальности», как «анти-разум» в мире «технического
разума», а если взять вопрос шире — в глобальном масштабе —
как «телемская обитель», где буквально, а не
метафорически «все дозволено», в мире всевозможных (часто —
неизбежных) ограничений и нужды, где подчас не дозволяется
даже элементарно необходимое. Кстати, вот этого —
глобального — фона, на котором высветляется суть лозунга
экстатически утверждающей себя «вседозволенности», и не
учитывает Белл,— что сразу же (и коренным образом)
ограничивает его критику «враждебной культуры».
Дело в том, что рассмотренная вне этого фона
современного мира в целом — с нищетой и голодом
развивающихся стран, с реальной угрозой «исчерпания» природных
ресурсов и т. д., авангардистская «антикультура»
предстает гораздо более «антибуржуазной» чем это есть на самом
деле. И действительно: в ситуации гипертрофии принципа
«формальной рациональности», порождающей иллюзию
всесилия «технического разума» (как это имеет место в
развитых капиталистических странах), иррационалистиче-
ский бунт против «рациональности» вообще, «разумности»,
как таковой, может еще представляться оправданным —
как более или менее понятный «перехлест» в критике
«буржуазной рациональности» и «буржуазного разума»
(хотя, разумеется, упомянутые «формальность» и
«техничность» отнюдь не тождественны «буржуазности»).
Но все это станет на место, если этот «бунт» взять на
более широком фоне современного мира, который (как
это, собственно, всегда было) страдает — увы! — не
столько от «избытка» рациональности и разумности, сколько от
их недостатка, от отсутствия элементарной разумности в
отношениях между народами и государствами, в
отношениях людей друг к другу и к природе,— очевидный факт,
получающий каждодневное подтверждение в «локальных»
войнах и «глобальных» политических кризисах, в голоде и
нищете населения развивающихся стран, в дичайшей
нерациональности использования мировых природных
ресурсов. В этом втором случае модернистский и
неомодернистский «бунт» не только против «рациональности» и
«разумности» вообще, но и против элементарных норм и правил
межчеловеческих взаимоотношений, против всего,
вносящего хоть какой-то порядок в отношения людей друг к
другу и к природе, предстает уже не как «антибуржуазная
революция», а как нигилистическое отрицание принципов
человечности вообще, лежащих в основе не только евро-
357
пейской, но и любой другой культуры, роднящих
европейскую культуру со всякой иной — в самых глубоких
истоках человеческого существования.
«Антибуржуазность» авангардистской
«антикультуры»— это взгляд на современный капитализм «изнутри»:
с точки зрения одной из последних фаз его эволюции —
так называемого «общества потребления»; с позиций той
уникальной (и, по-видимому, кратковременной)
исторической ситуации, когда культуре было «разрешено»
конституироваться в рамках этого общества в качестве
своеобразного «царства вседозволенности» — этого современного
варианта «телемской обители», где каждый может поступать
по правилу: «делай что хочешь!», не задумываясь над
«буржуазно-мещанским» вопросом: «а что потом?» (ведь
«потом» — это область времени, а время для обитателей
«царства вседозволенности» — это невроз). И совсем уж
нетрудно заметить глубокую внутреннюю связь (почти
тождество) между гедонистическими наклонностями,
которое современное капиталистическое общество пытается
культивировать у потребителей (не у производителей! —
в том-то и суть «общества потребления», что люди входят
в него лишь одной своей «половиной»), и гедонизмом,
возведенным в мистический культ (причем дело здесь не
обходится и без кровавых жертв), который является
единственным принципом жизни и деятельности в сфере
«враждебной культуры» с ее гипертрофированным
антипротестантизмом.
Эту связь Белл вообще упускает из виду, что делает его
анализ тем более ограниченным, чем более он претендует
на социологичность, то есть на анализ социальных
аспектов определенных идей и умонастроений (последний,
очевидно, должен включать не только анализ их «функции»,
но также исследование той «почвы», на которой они
произросли и которая их питает). Вступив около двадцати лет
назад в фазу «общества потребления» (граница которой
все более четко обозначается нынешним экономическим и
энергетическим кризисом, углубляющимся на наших
глазах), государственно-монополистический капитализм
вынужден был сочетать дальнейшее развитие производства,
происходившее на основе универсализации принципа
«формальной рациональности», с активной стимуляцией
потребления, принимающего — там, где оно становится
«безмерным» (уже освобожденным от природной «меры»,
однако еще не обретшим «меру» нравственную) — совер-
358
шенно иррациональное содержание. Поскольку же каждый
человек, коль скоро он трудится, есть одновременно и
производитель и потребитель, постольку стало усугубляться,
грозя конфликтом, напряжение между этими двумя его
ипостасями: закованный в железные оковы «формальной
рациональности» в качестве производителя, он становился
склонным ко всякого рода «иррационализму» в качестве
потребителя. Такова была социальная почва, на которой
произошло не только отмеченное Беллом превращение
модернизма в неомодернизм (со свойственным ему
стремлением реализовать как «стиль жизни» и «норму поведения»
все те потребности и влечения, которые были «открыты» в
подсознании человека модернизмом, а главное,
«узаконены» в качестве «эстетического феномена»), но и
завоевание «враждебной культурой» доминирующих позиций в
духовно-культурной сфере капиталистического Запада.
Неомодернизм шестидесятых годов выступил в
ситуации «общества потребления» как орудие окончательного —
«тотального» — освобождения буржуазного индивида от
остатков «протестантской этики» (да и всякой этики
вообще), которая все еще мешала превращению его в
абсолютно пластичного потребителя. Неомодернистский переход
от «оправдания жизни» в качестве «эстетического
феномена» (как это было в модернизме, отправлявшемся здесь от
Ницше) к ее «оправданию» на уровне инстинктов; от
«проигрывания» этой установки лишь в области
воображения и фантазии — к «действенному самовыражению»
авангардистски ориентированного индивида в самой
реальности,—вполне соответствовал современным
устремлениям «евнуха промышленности».
Стремление «враждебной культуры» внедрить в
«сознание масс» «богемные стили жизни», пользуясь
«гигантским экраном средств массовой коммуникации»,
находящихся в их распоряжении; «искоренить» привычные
«модели поведения» — во имя «свободы инстинктов» и их
ничем не ограниченной «самореализации» и т. д.—отнюдь
не находится в противоречии с «потребительским»
аспектом государственно-монополистического капитализма,
находящегося в фазе «общества потребления», хотя и
противоречит его «производственному» аспекту. Одним словом,
в своем антикультурном и нигилистическом устремлении
«враждебная культура» противоречит современному
капиталистическому обществу ровно в той мере, в какой оно
противоречит самому себе — пе больше п не меньше; в
359
этом смысле она — совершенно точный слепок с него: это
даже не негатив, а двойник современной буржуазности.
Иными словами, рассмотренная нами версия
немарксистской критики капитализма не содержит никакой
альтернативы ему и не выходит за его пределы. Ей предстоит
разделить его судьбу, точнее — судьбу той (достаточно
четко ограниченной— «в горизонте» энергетического
кризиса) кратковременной фазы его эволюции, которая была
названа совершенно гедонистическим образом: «общество
потребления». И любопытно: гибнет эта версия критики
капитализма вместе с ренессансно-ипдивидуалистическим
принципом, гротескной реализацией которого являются и
«общество потребления», и «судьбически» связанная с ним
«враждебная культура», принципом «безмерного» и
«безграничного» развертывания индивида, взятого во всей его
партикулярности. Ибо становится очевидным: по мере
такого «самоосуществления» индивида неизбежно
утрачивается то, на основе чего, собственно, и должно
происходить это «самоосуществление»: личность индивида, взятая
не обособленно, не в форме знаменитой
позитивистски-буржуазной «робинзонады», а в соотнесении с высшими
человеческими ценностями, со всем тем духовным
содержанием, которое делает человека воистину человеком.
* * *
Подведем итоги. Вступление капитализма в свою
высшую и последнюю — государственно-монополистическую
фазу вызвало кризис буржуазного индивидуализма. Одной
из первых попыток преодолеть этот кризис, которая на
самом деле свидетельствовала лишь о его углублении,
была попытка Ортеги-и-Гассета, стремившегося спасти
индивида (истолкованного в духе ренессансно-романтической
традиции), противопоставив его в качестве «элитарного»
человека «массовому», возведя непреодолимый барьер
между «массой» н «элитой». Движение западноевропейской
мысли на протяжении последней четверти века (1950—
1975 гг.) связано с осознанием неприемлемости
перспективы, предложенной испанским философом, со
стремлением как-то преодолеть (или, по крайней мере,
скорректировать») одиозные тенденции ортегианской элитарности
и пндивидуалпзма и в то же время с неспособностью
сделать пто сколько-нибудь удовлетворительным образом.
360
Призыв Гвардини, стремившегося вывести «проблему
человека» за пределы индивидуалистической ренессансно-
романтической традиции (введя ее в русло традиционного
католицизма), не был услышан западной интеллигенцией:
ей не импонировала перспектива спасения «лица» ценой
утраты личности. Не удалась и попытка Марселя
примирить католическую традицию с ренессансно-романтической:
идея «деградации человека», равно как и связанный с нею
эсхатологизм отнюдь не способствовали этому. Л у Лдорно,
связавшего ренессансно-романтическую традицию с
авангардистской, идея «конца человека», под знаком которой
шла эволюция сознания западноевропейской буржуазной
интеллигенции в середине нашего века, была осознана в
ее реальном содержании — как балансирование на грани:
между индивидуальностью п ее отрицанием. Однако и эта
форма «саморасстригания» буржуазного индивида, его
отречения от своих, так сказать, «онтологических»
характеристик представлялась все менее удовлетворительной по
мере того, как государственно-монополистический
капитализм принимал форму «общества потребления»: ведь
всякая «индивидуация» полагает известный предел
потребительной активности, точно так же как
индивидуальное самосознание ограничивает влечение человека к
«экстравагантным» наслаждениям, сужая тем самым рынок
сбыта «евнухов промышленности» («внутренний» рынок,в
глубочайшем смысле этого слова). Так возник конфликт
между «не до ликвидированным» буржуазным индивидом и
«евнухом» капиталистической промышленности,
расширившей свои производственные возможности и тем больше
нуждавшейся в абсолютно пластичном потребителе.
Буржуазный интеллигент, измученный метаниями
между утверждением собственной индивидуальности и ее
отрицанием (в полном соответствии с адорновским
изображением), недолго противостоял «дионисийским»
соблазнам, о которых ему пели сирены «общества потребления».
Ведь для того, чтобы ему открылись новые горизонты
неизъяснимых наслаждений, нужно было заплатить совсем
немногим: отделаться от опостылевшего «я», порвать с
принципом индивидуального самосознания. Акция,
выглядевшая тем более импозантно, что ее уже поспешили
разукрасить в самые что ни на есть «революционные» тона,
причем и сама «революционность» была подслащена
соблазнительными рассуждениями «о сексуальной
революции». Вот почему в шестидесятых годах мода на баланси-
361
рование между индивидуальностью и се отрицанием так
быстро сменилась модой на ее простое «брутальное»
отрицание— безо всякого интеллигентского сбалансирования».
Но как только эта мода утвердилась в буржуазном
интеллигентском сознании, наконец-то обнаружилась
«тайна» всего предшествующего теоретического движения (в
особенности — на «франкфуртской» его стадии).
Разговоры о «конце человека», об «агонизирующем человеке», о
крахе «принципа индивидуальности» и т. д. вдруг
обнаружили свое поразительное сходство с тем, что говорил в
«Докторе Фаустусе» Черт накануне окончательного
«соблазнения» молодого композитора — Адриана Леверкюна.
Причем теперь-то и раскрылась «последняя тайна» и
самого этого Черта: он оказался совсем не демонической
фигурой, а обыкновенным «евнухом промышленности», к
тому же сильно потрепанным с тех пор, как о нем впервые
заговорил Карл Маркс.
СОДЕРЖАНИЕ
Предварительные замечания 3
Часть первая
ОТ «ЗАКАТА ЕВРОПЫ» К «КОНЦУ УТОПИИ»
Введение. По свидетельству очевидца 29
РАЗДЕЛ ПЕРВЫЙ. ПРЕОДОЛЕН ЛИ ЧЕЛОВЕК? ... 44
Глава первая. Перспектива и бесперспективность
«фаустовской души» . • 44
1. Буржуазный индивид перед лицом краха
традиционных идеалов 44
2. «Фаустовский человек» при свете «заката
Европы» 59
Глава вторая. «Смерть бога» и «агония человека» . 77
1. «Человек без личности» 77
2. «Агония человека» 93
3. Моральный эстетизм или эстетствующий
морализм 106
РАЗДЕЛ ВТОРОЙ. ПО ТУ СТОРОНУ ОТЧАЯНИЯ . . . 120
Глава первая. Буржуазный индивид «после заката
Европы» 120
1. Между индивидуальностью и ее отрицанием 120
2. Падение индивида и крах западной культуры 132
3. Самоубийство искусства как моделирование
процесса ликвидации индивида 146
363
Глава вторая. «Прорыв» в доиндивидуальное
состояние , 155
1. «Человек вожделеющий». («Левый» фрейдизм
и «общество потребления») 155
2. Маркузеанский вариант «лево
»-фрейдистского «мифа» о человеке 172
3. Фантазия как орудие устранения
индивидуальности 183
Заключение 188
Часть вторая
ОТ «КОНЦА УТОПИИ» К КОНЦУ АНТИУТОПИИ
Введение. «Новые левые» и «общество потребления» 195
РАЗДЕЛ ТРЕТИЙ. БУНТ «НА ДНЕ» ОТЧАЯНИЯ ... 218
Глава первая. Восстание против «принципа
индивидуальности» 218
1. Искусство как способ изгнания личности из
самой себя 218
2. Неомарксистский нигилизм и литературное
левачество 237
3. Франкфуртская критика концепции
ангажированной литературы 253
4. Конец письменной литературы? 265
РАЗДЕЛ ЧЕТВЕРТЫЙ. БЕГСТВО ОТ СВОБОДЫ ... 283
Глава первая. Человек, наслаждающийся процессом
самоликвидации ..... 287
1. Самоотрицание личности как мистический
культ 287
2. «Неоавангардизм» и ЛСД — два новейших
наркотика 300
Глава вторая. Гедонизм и жестокость 312
1. «Недержание влечений» 312
2. «Политизация» эротики или «сексуализация»
политики? 318
3. Конец антиутопии 327
Эпилог. Тень Великого Инквизитора 334
Заключение 341
1. Новейший антигуманизм и судьбы ренес-
сансно-индивидуалистической «концепции
человека» 341
2. «Враждебная культура» и «общество
потребления» 350
Давыдов Ю. H.
Д 13 Бегство от свободы. Философское
мифотворчество и литературный авангард. М., «Худож. лит.»,
1978. 365 с.
Ю. Н. Давыдов — известный знаток новейших
западноевропейских философских и литературных течений — в этой новой
книге исследует философские истоки литературного
авангардизма. Философия Ницше, Фрейда, Шпенглера, знаменующая
кризис буржуазного гуманизма, спекуляции Сартра, Маркуэе,
Адорно и других модных философов нашего времени
рассмотрены автором в их логическом развитии к неоавангардистскому
нигилизму — сплошному отрицанию культуры, выдаваемому за
некую революцию плоти и духа.
„70202-235 0,,„0 8И
Д 244-78
А028(01)-78
Юрий Николаевич Давыдов
БЕГСТВО ОТ СВОБОДЫ
Философское мифотворчество
и литературный авангард