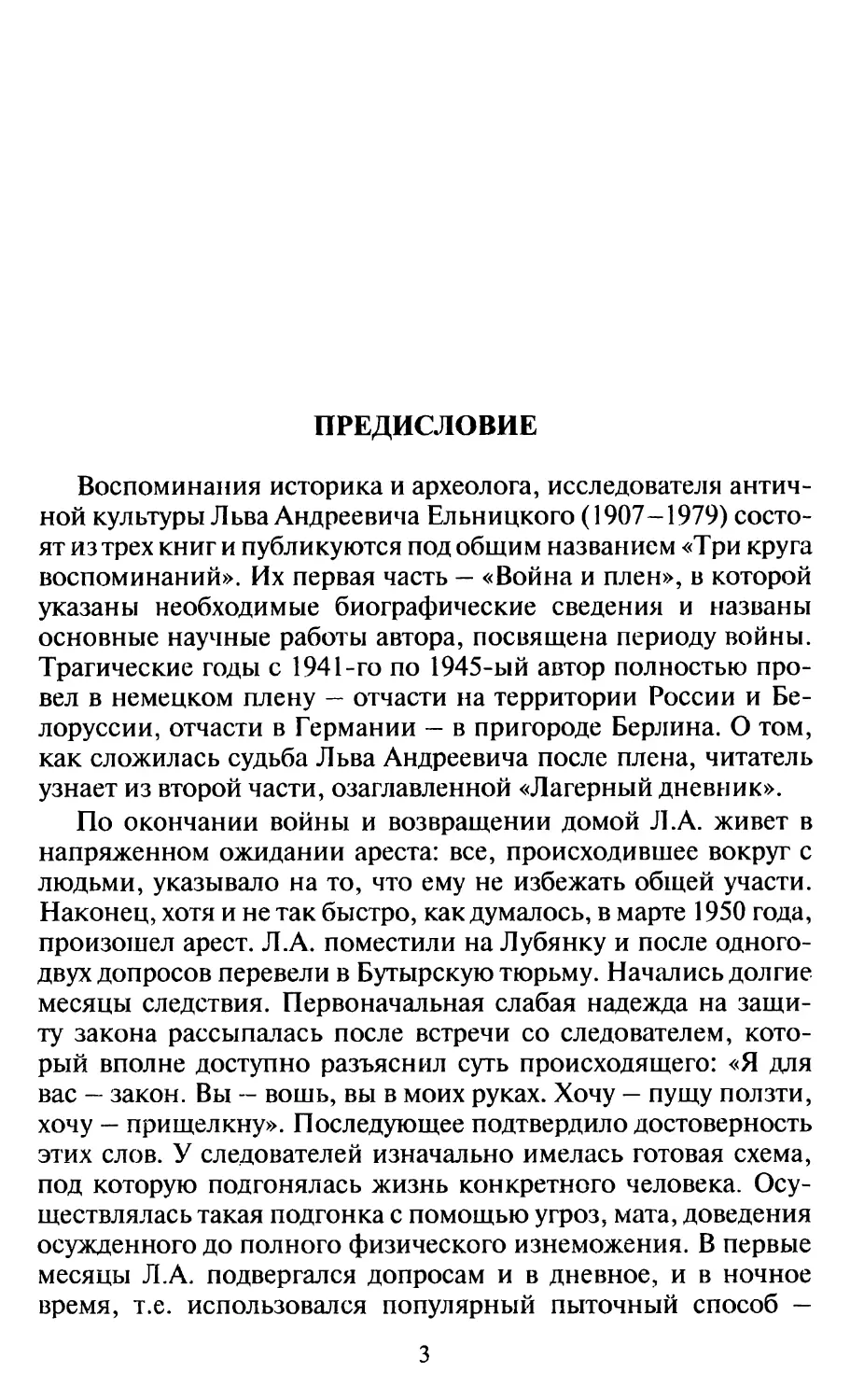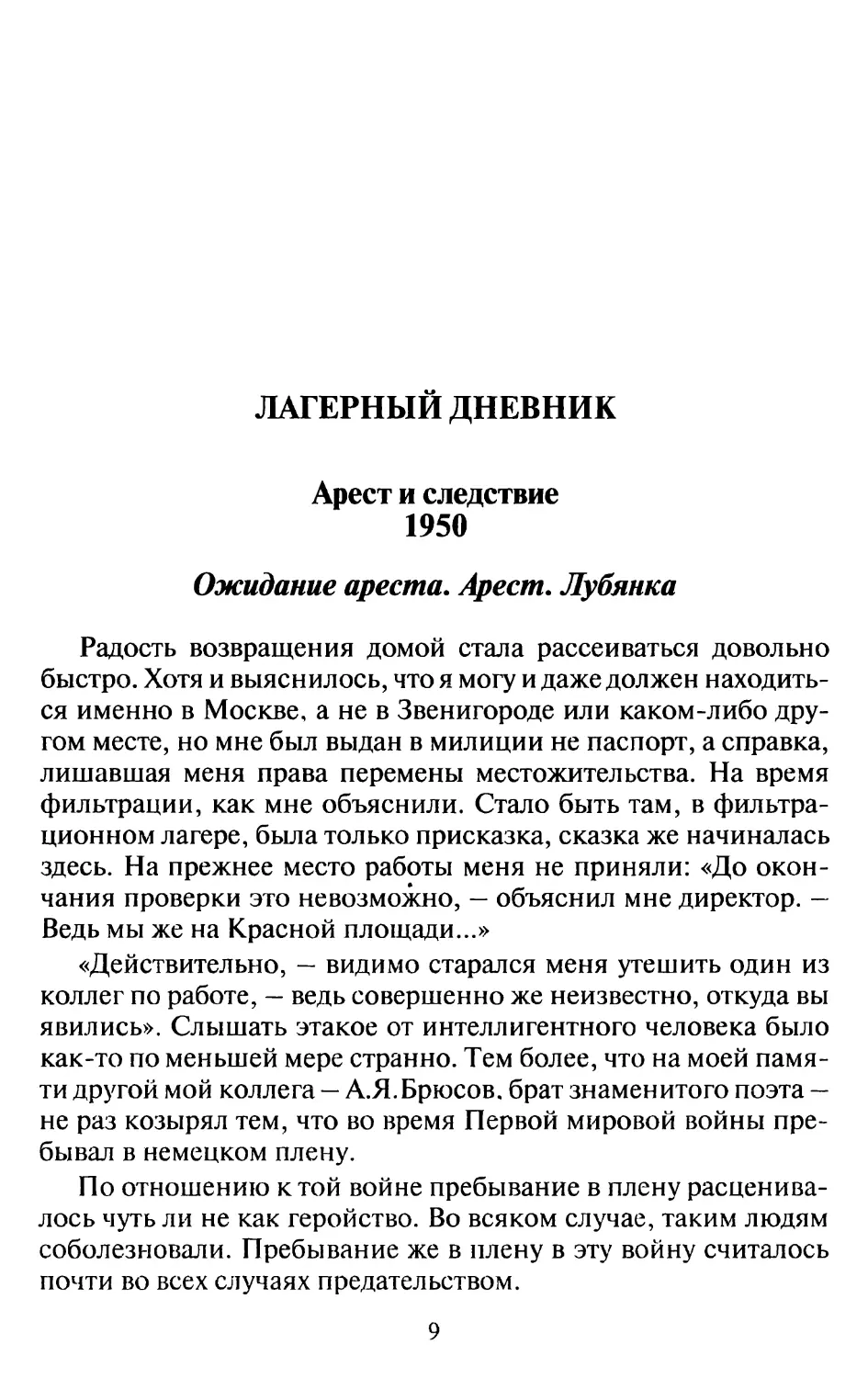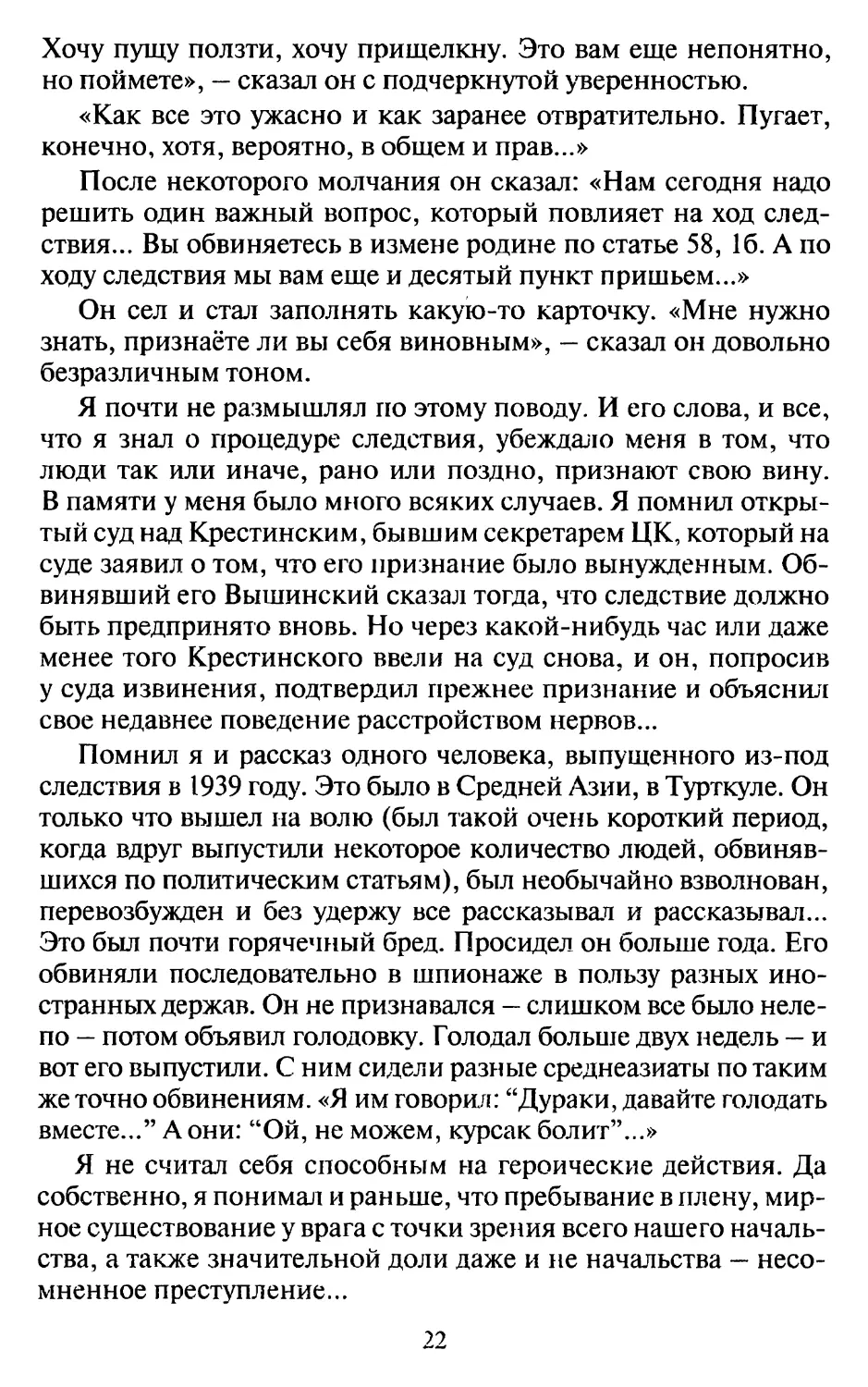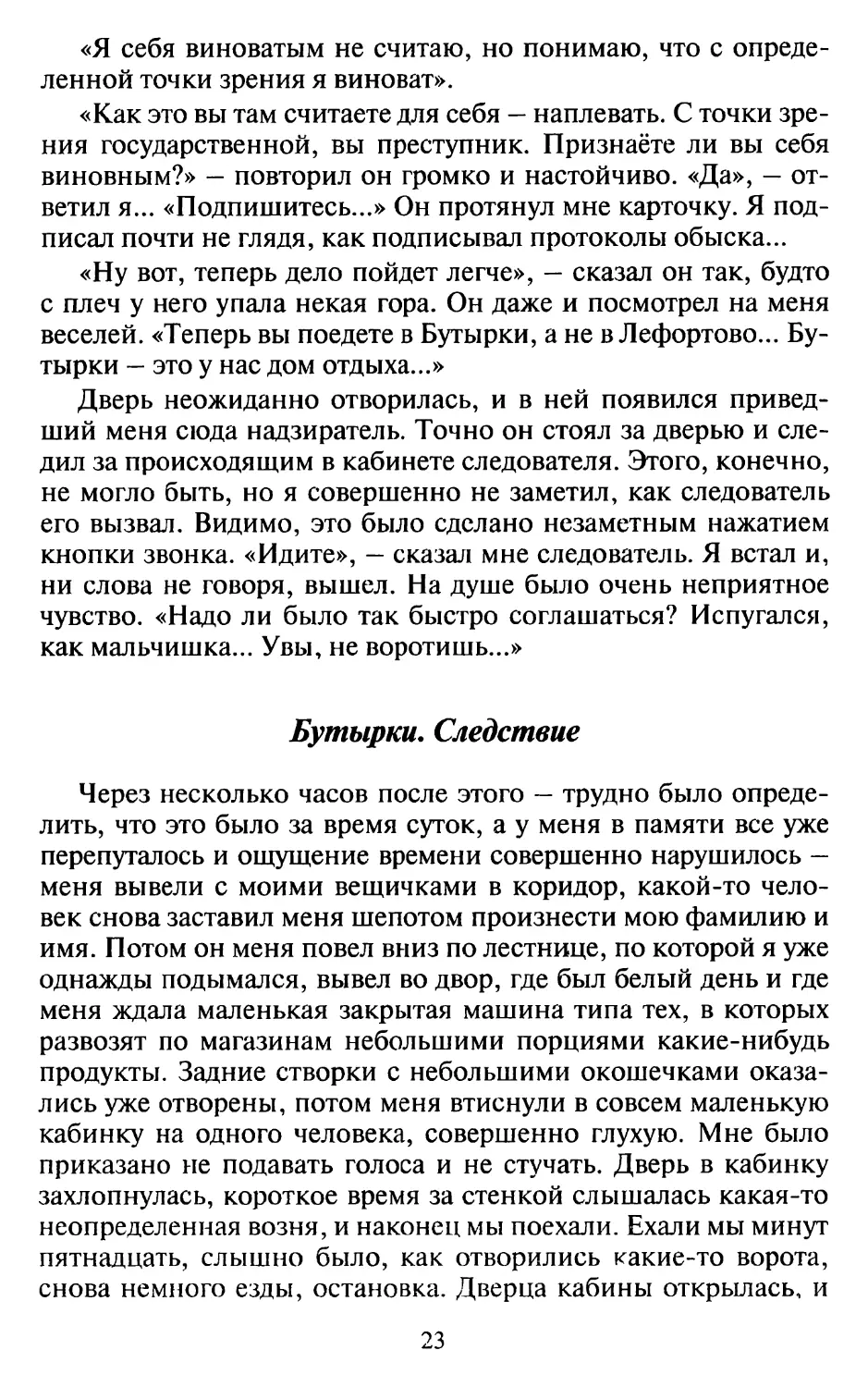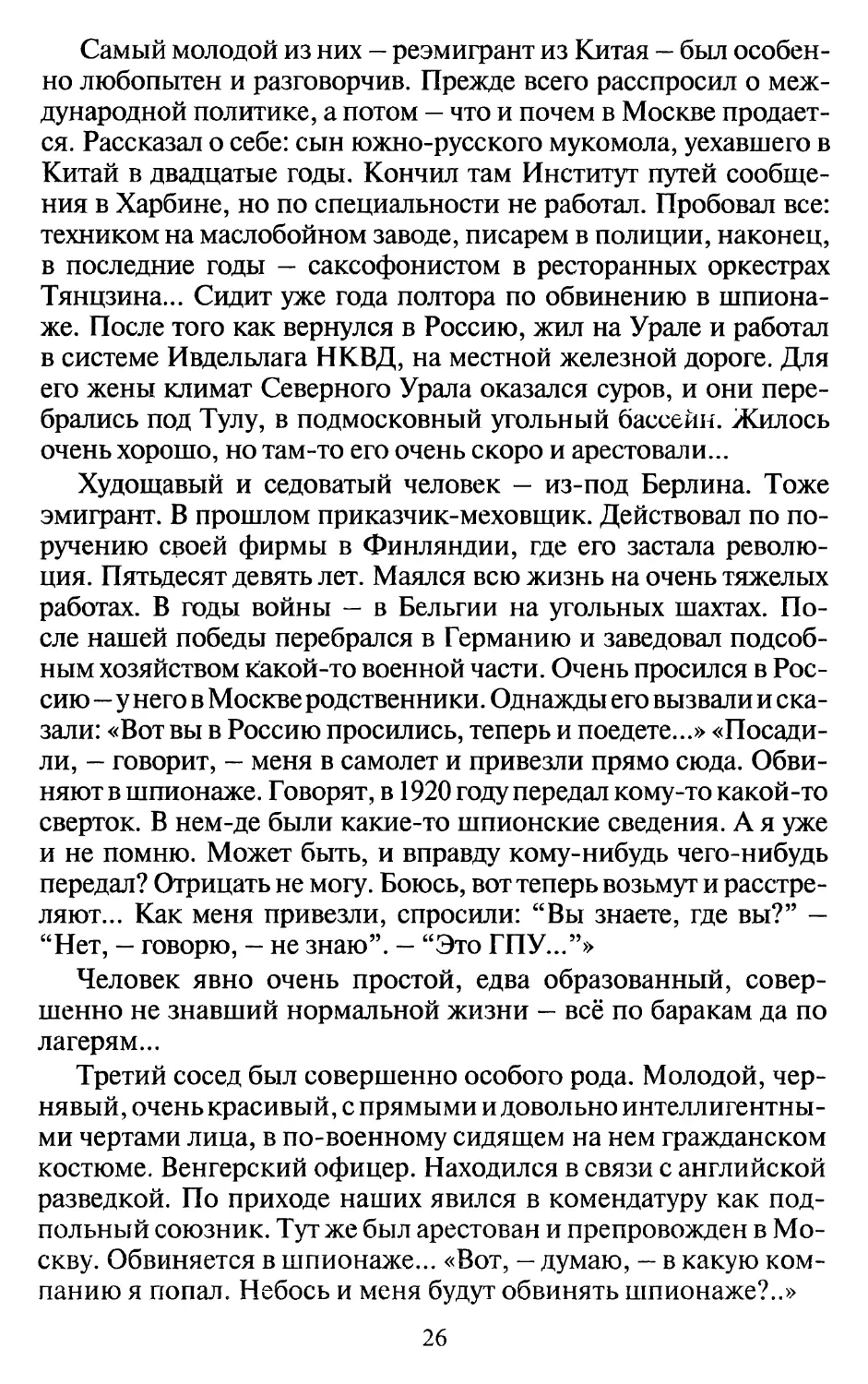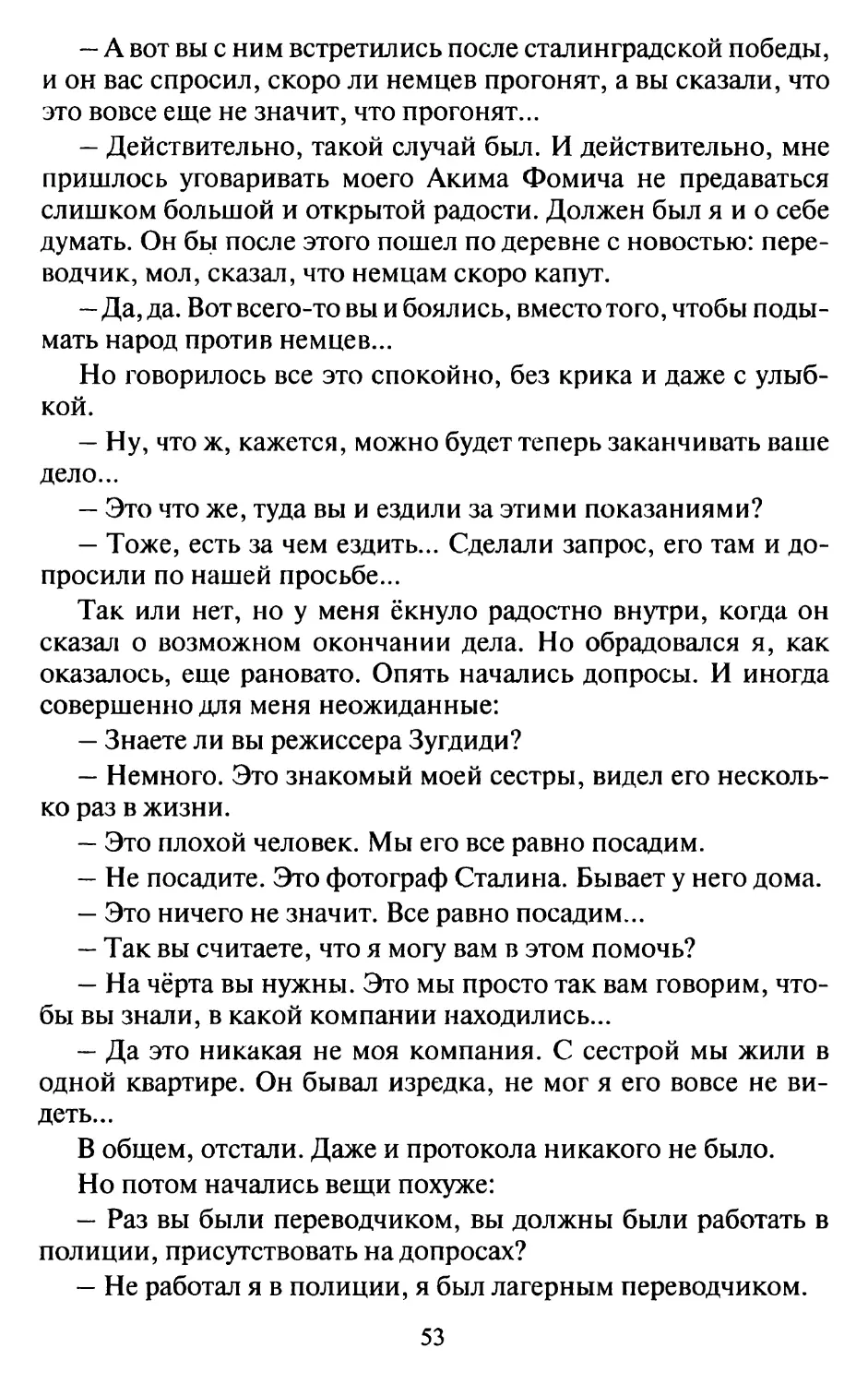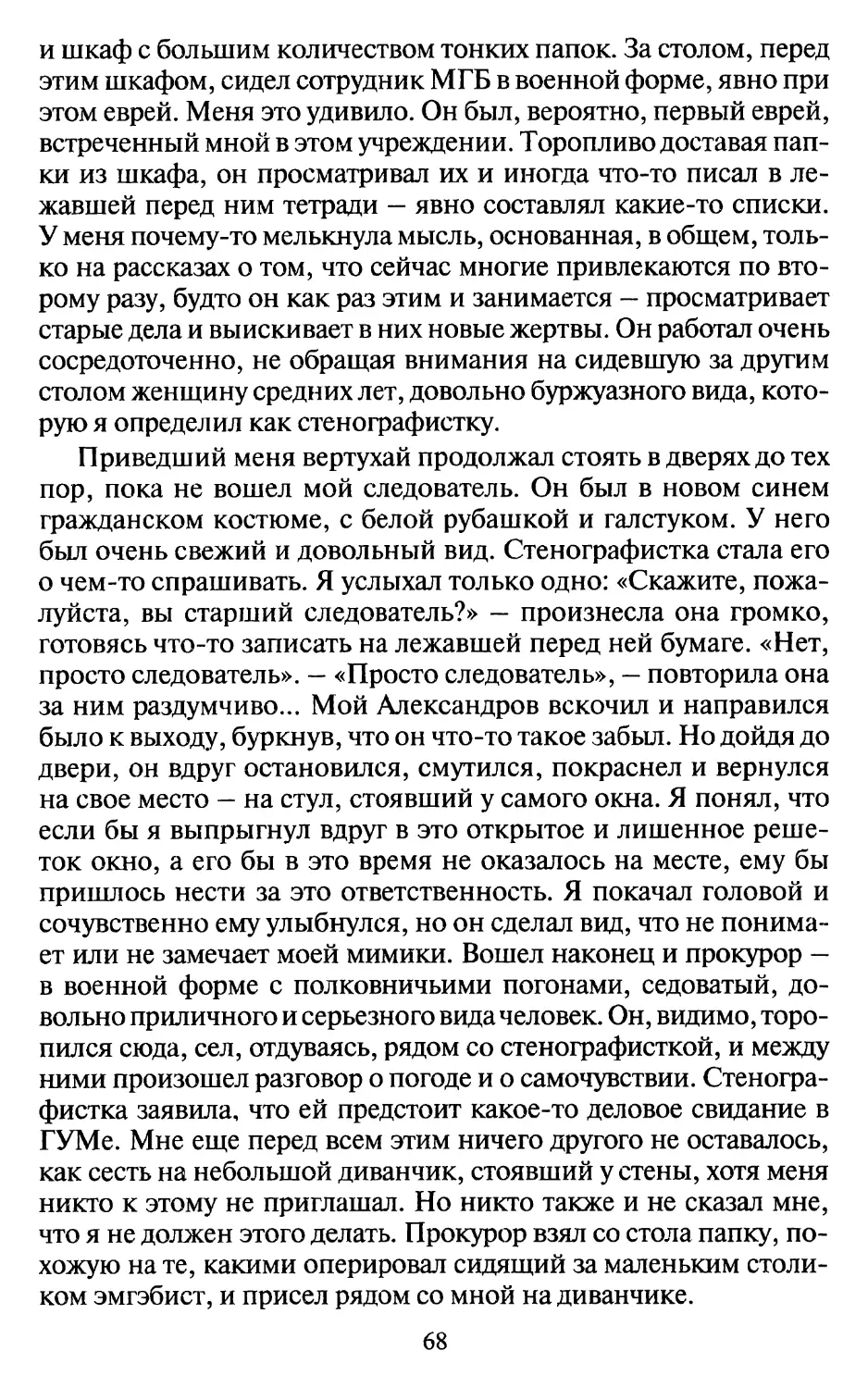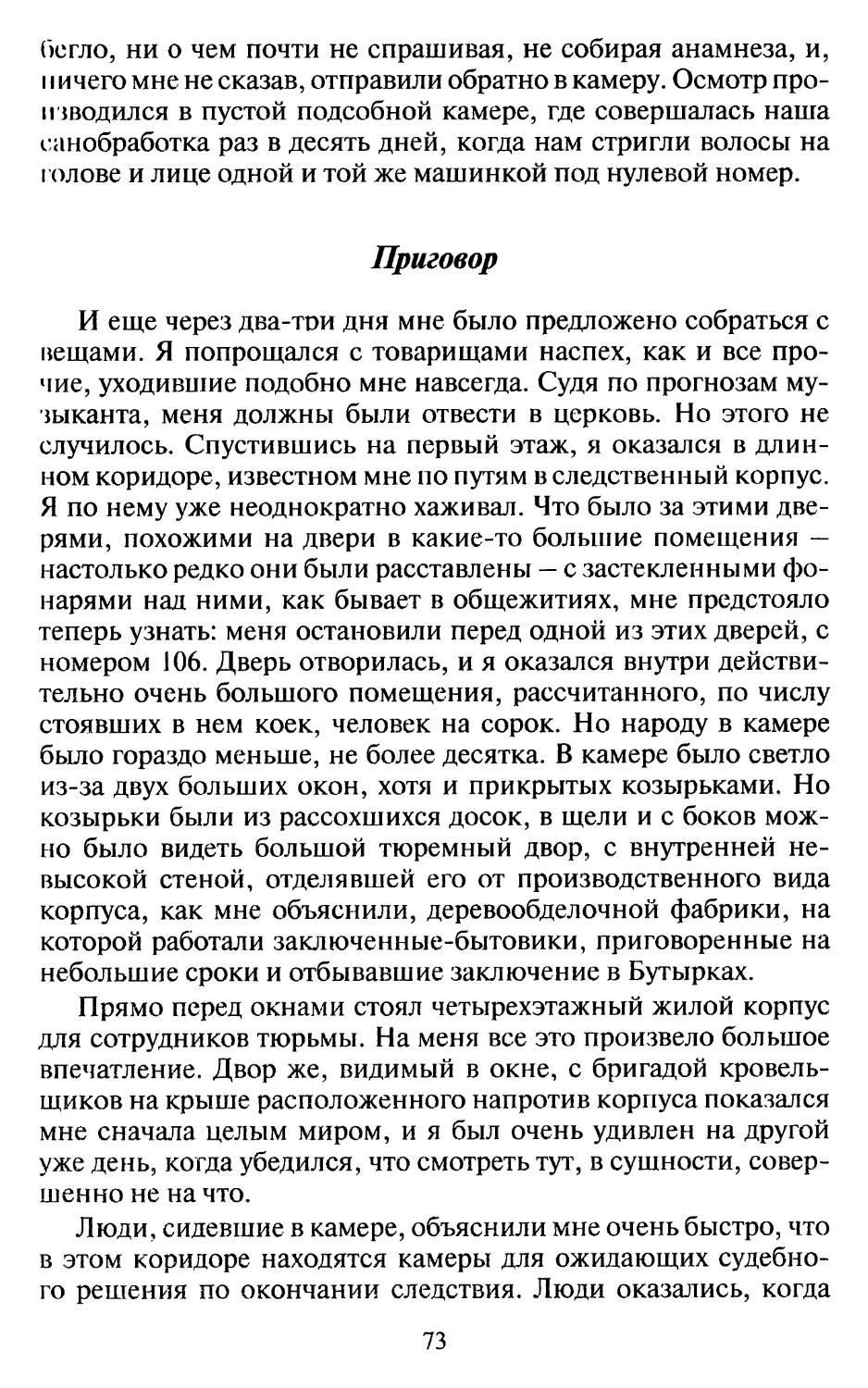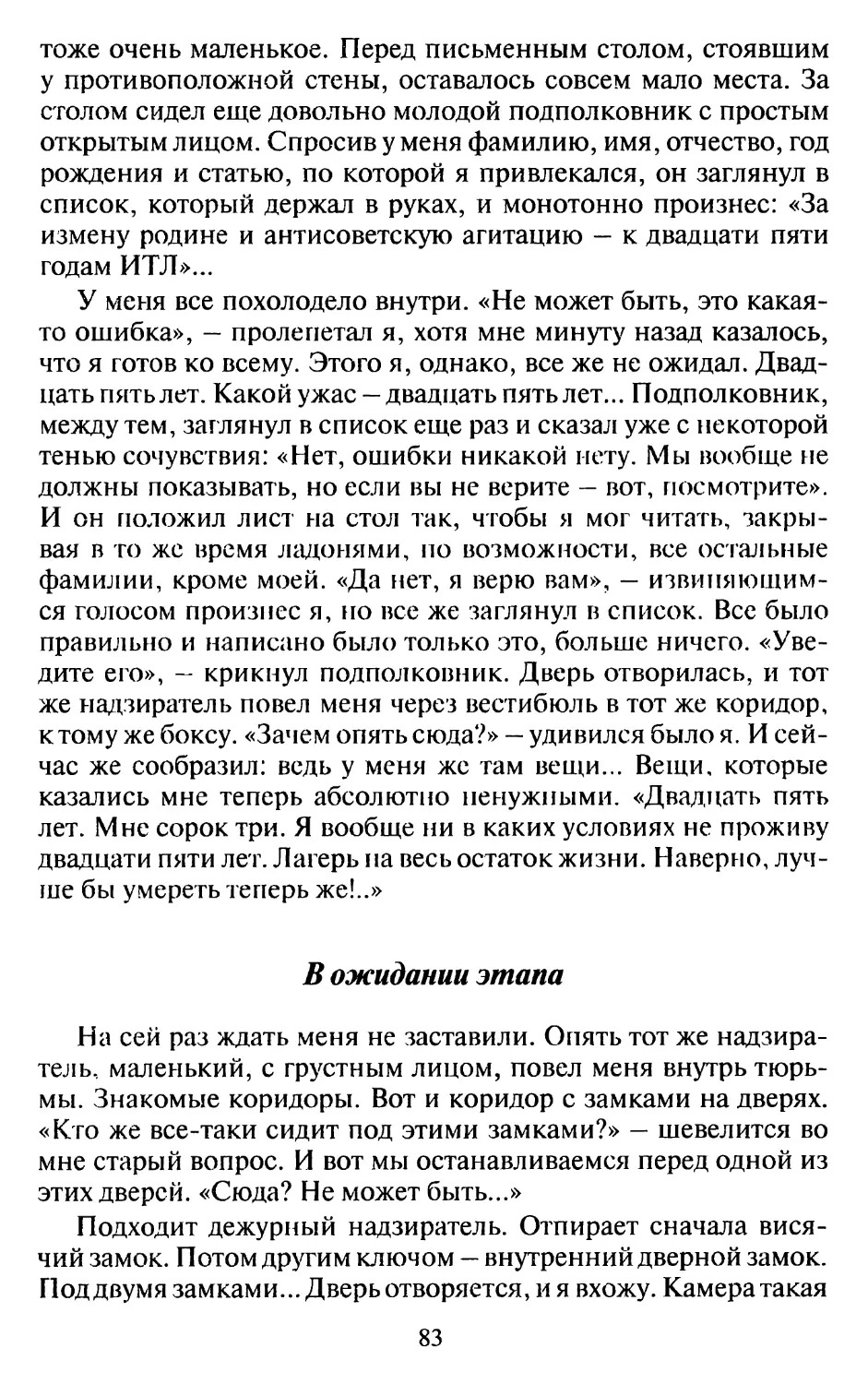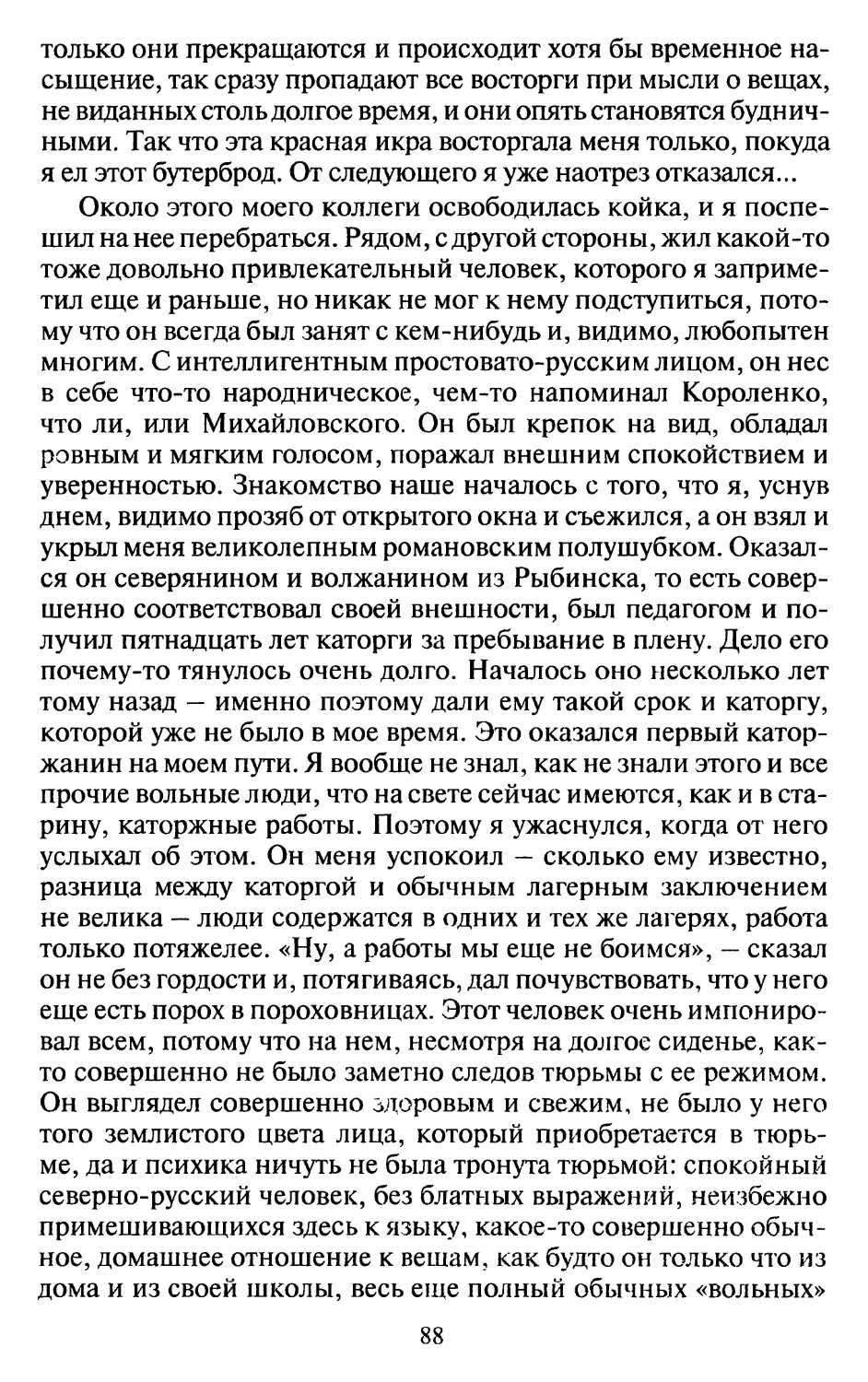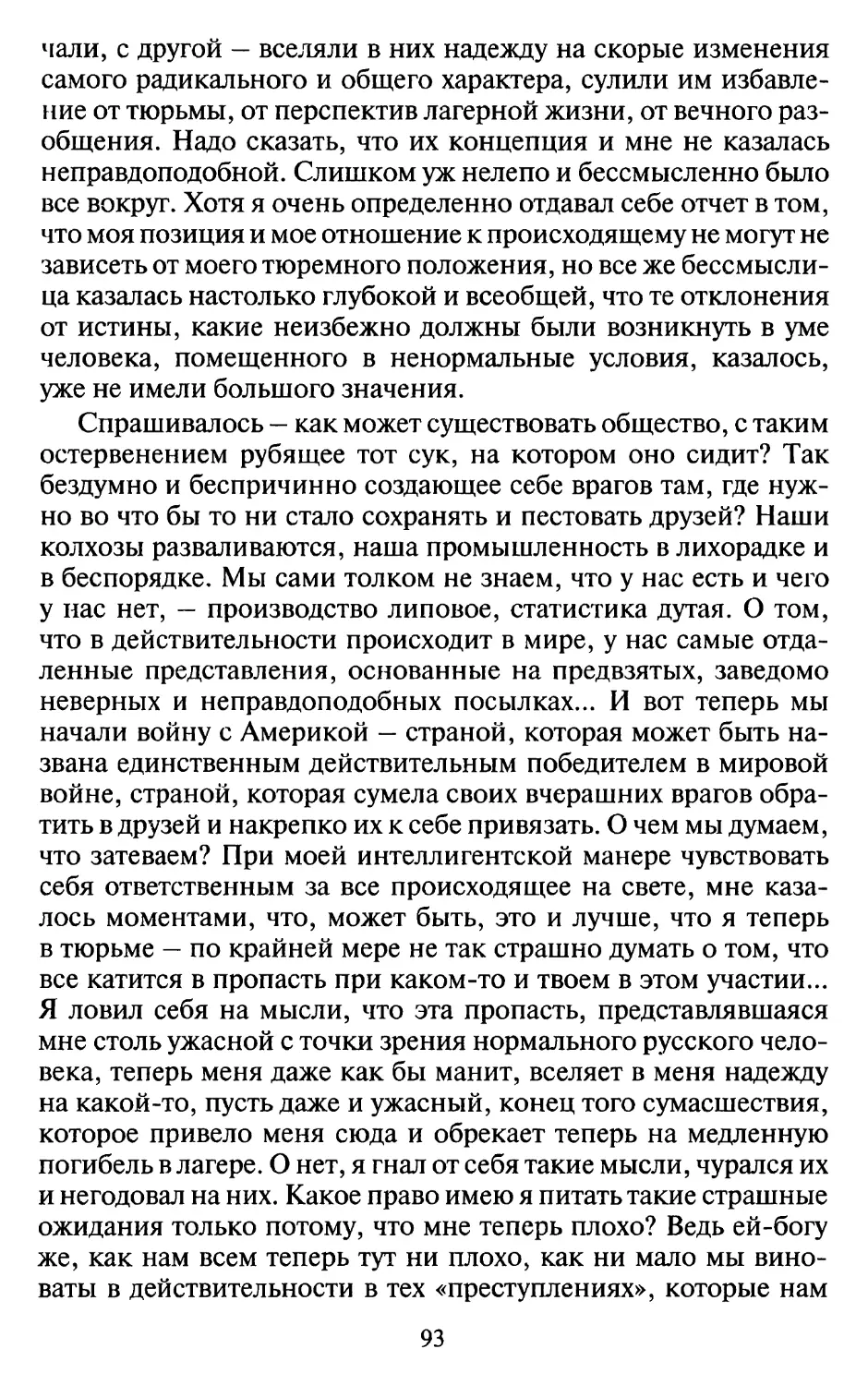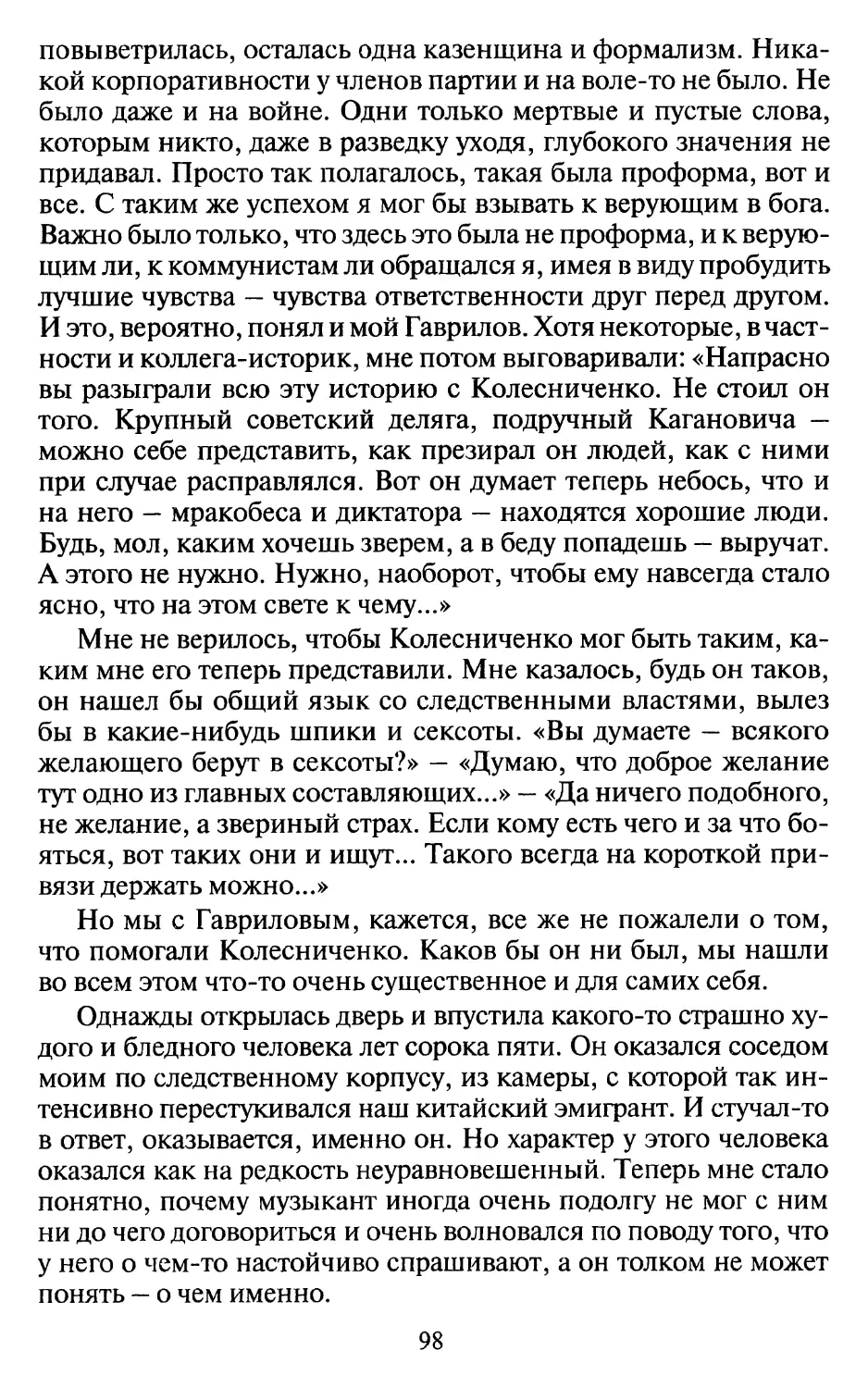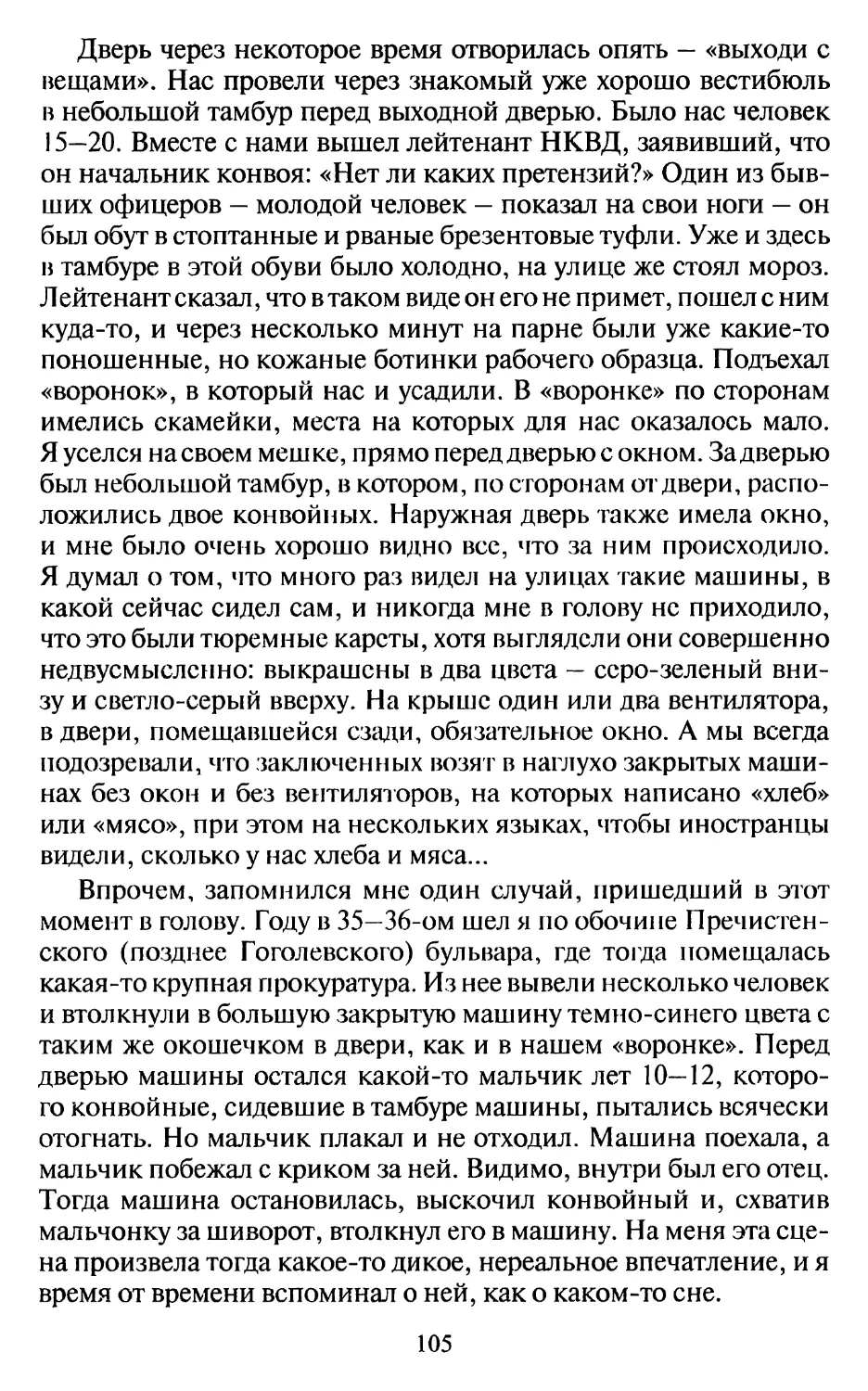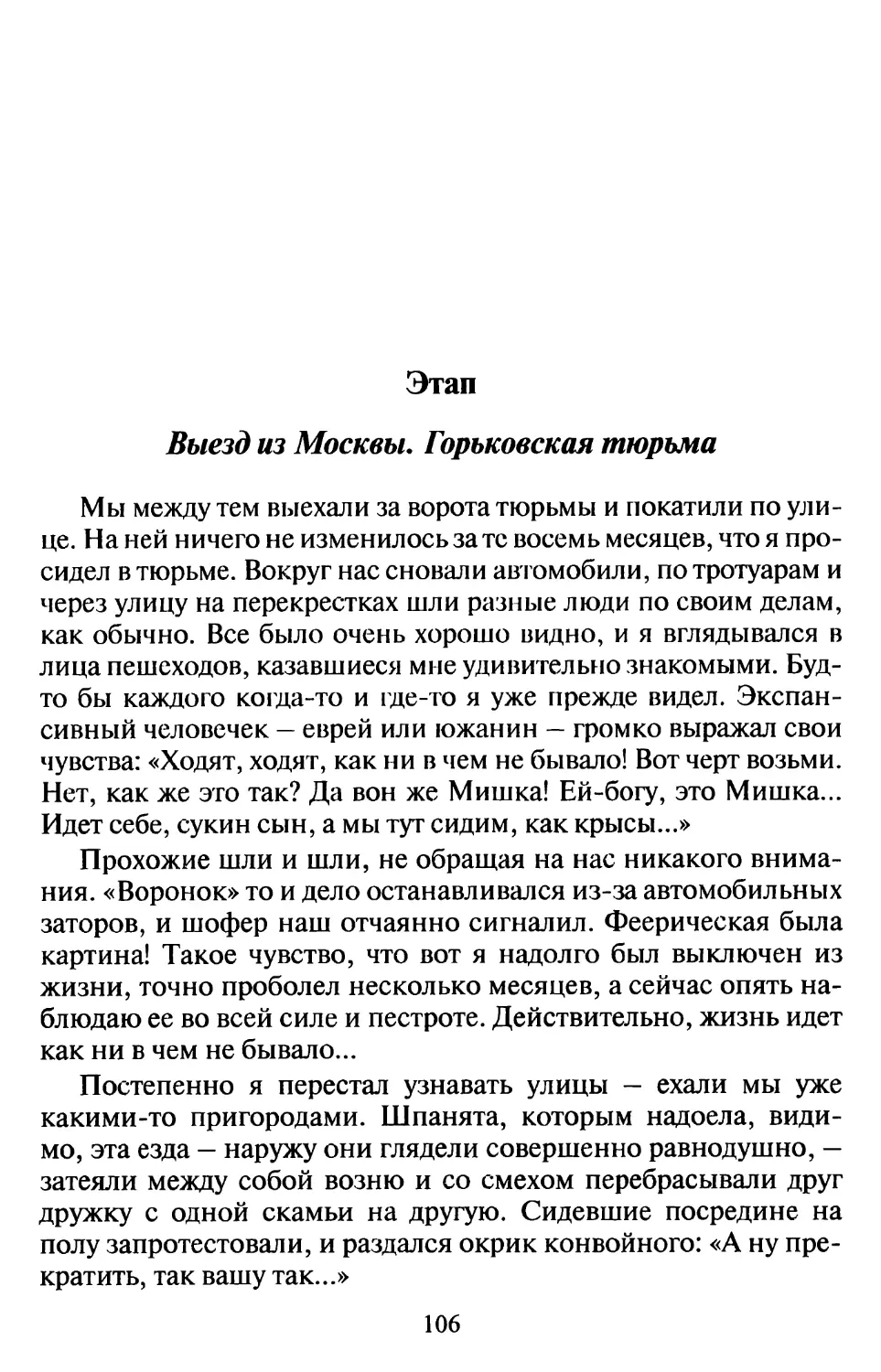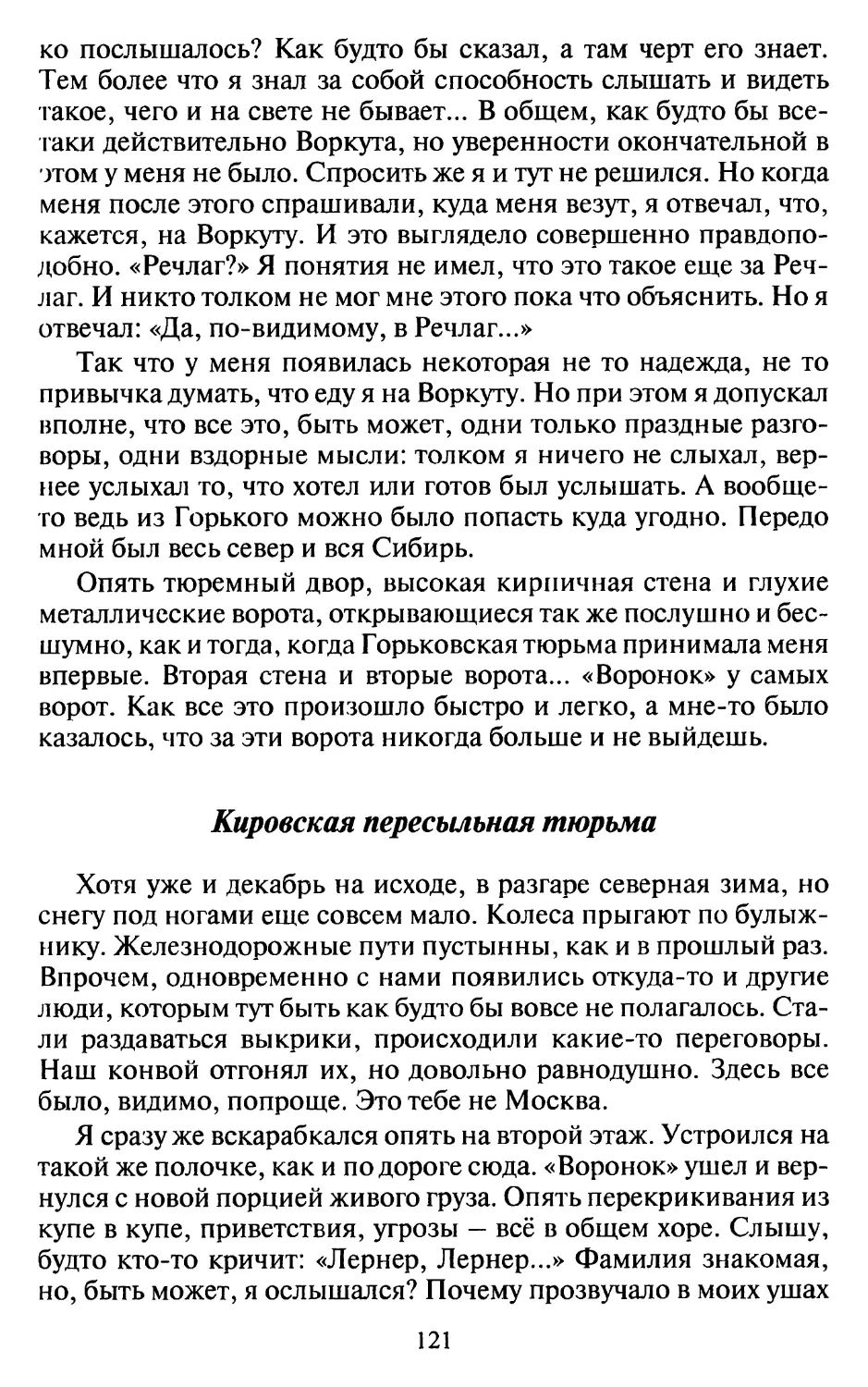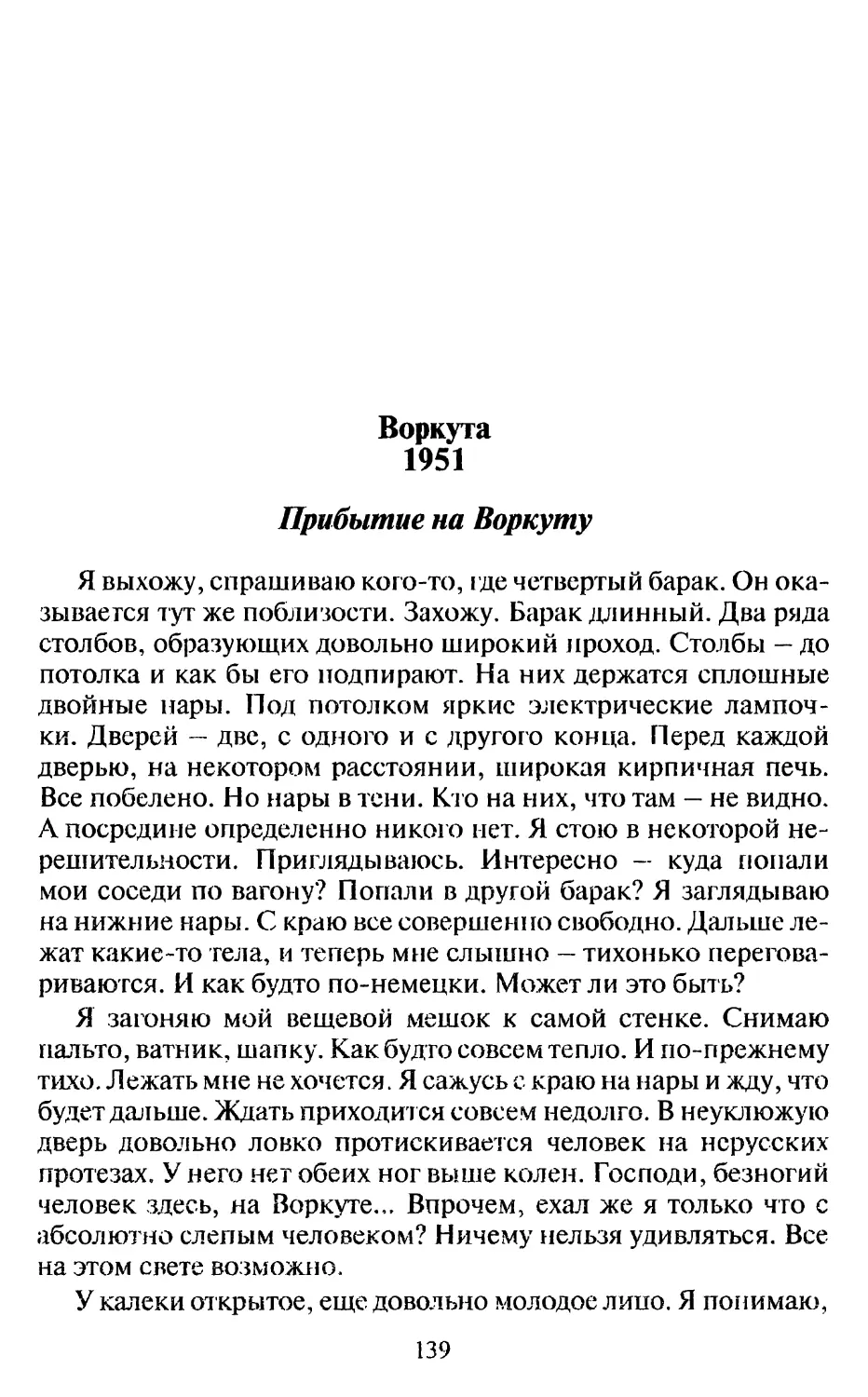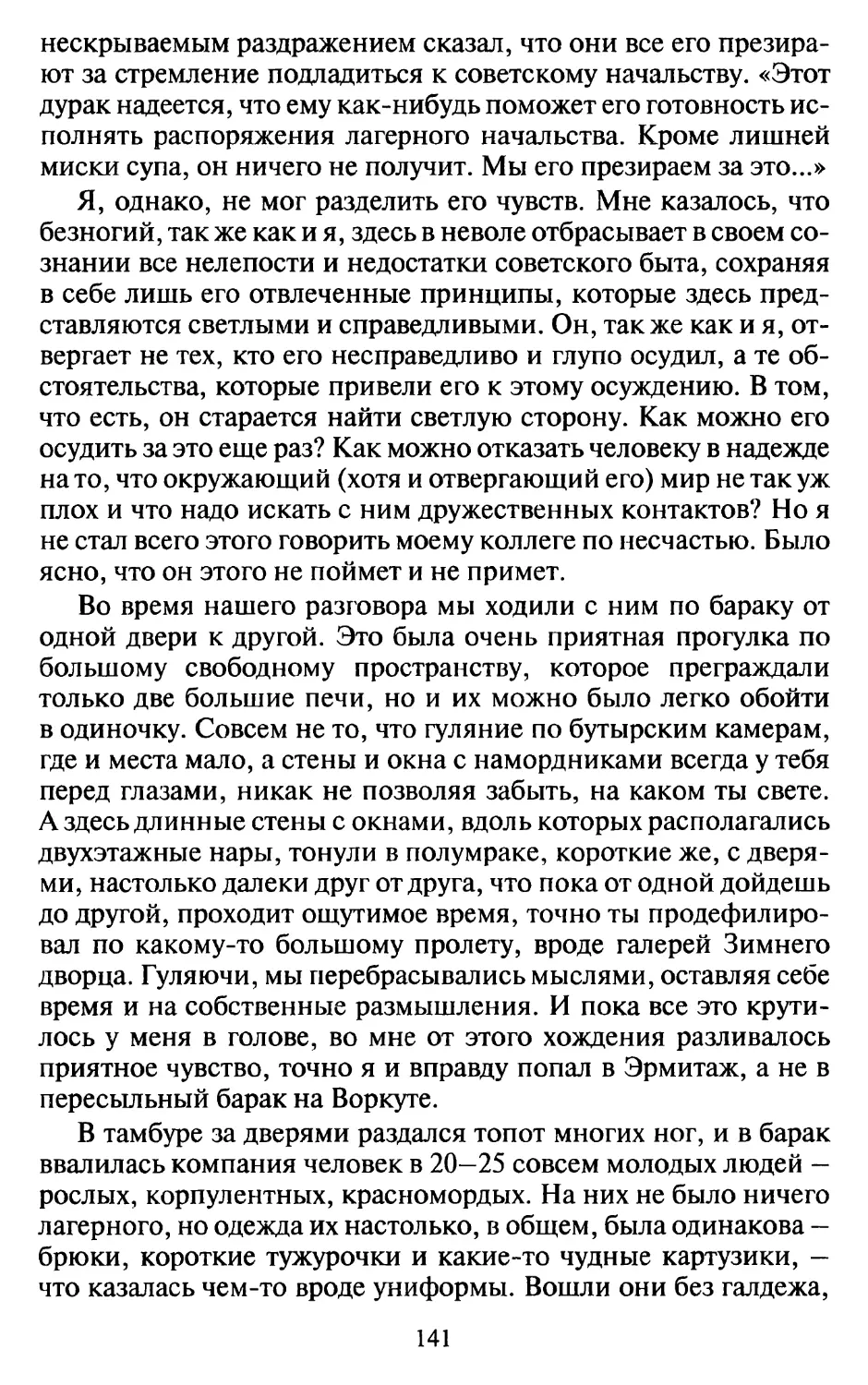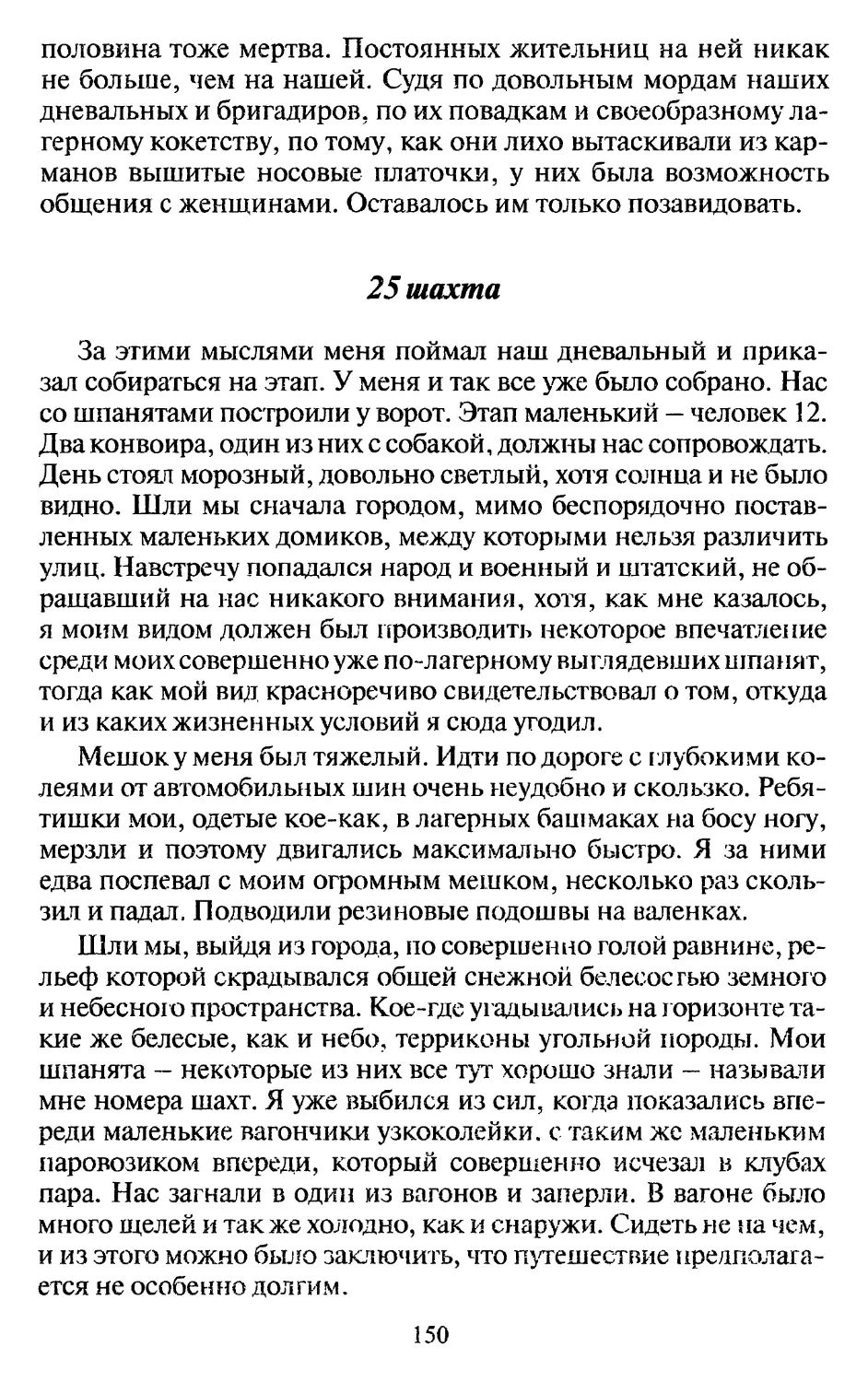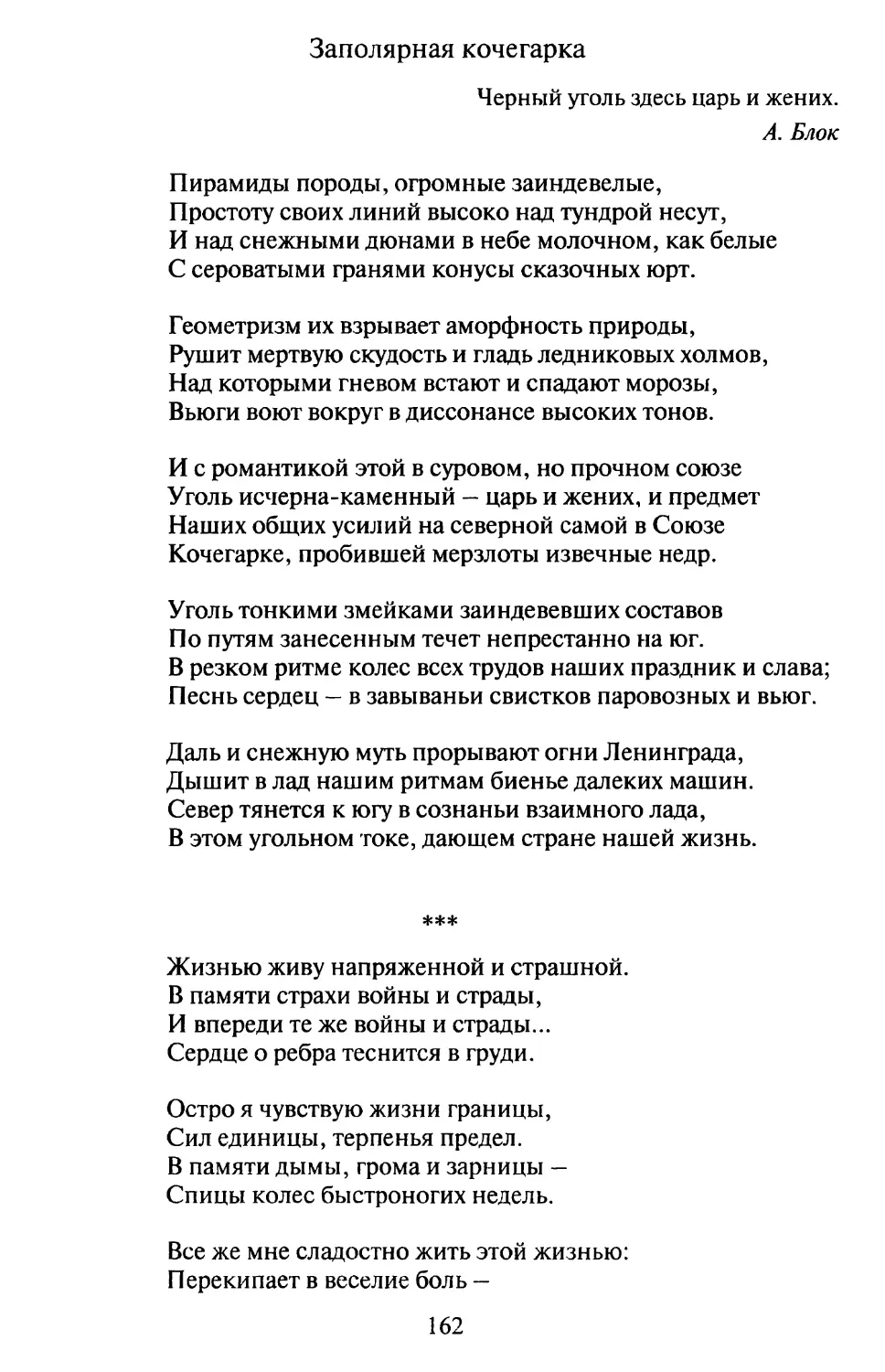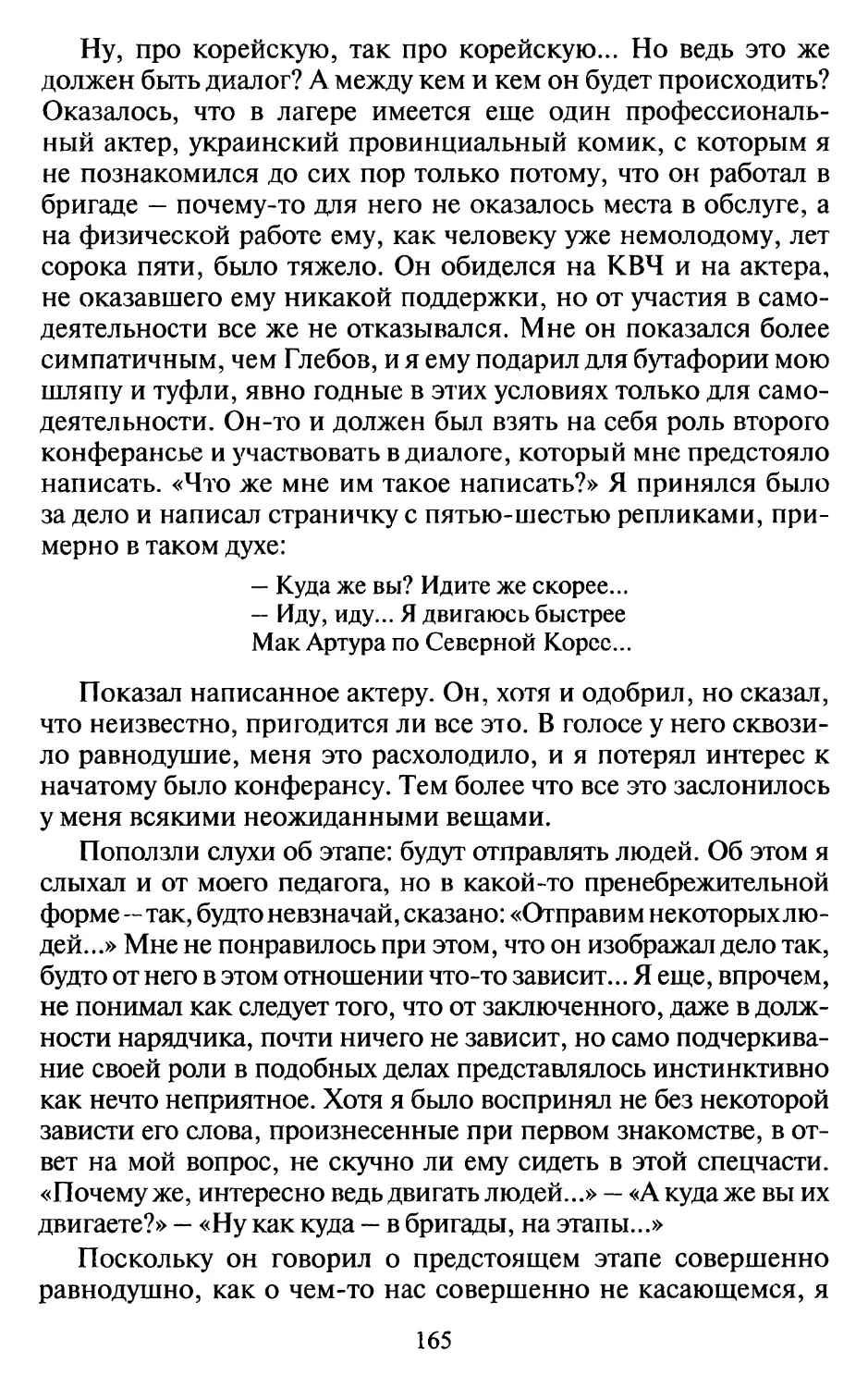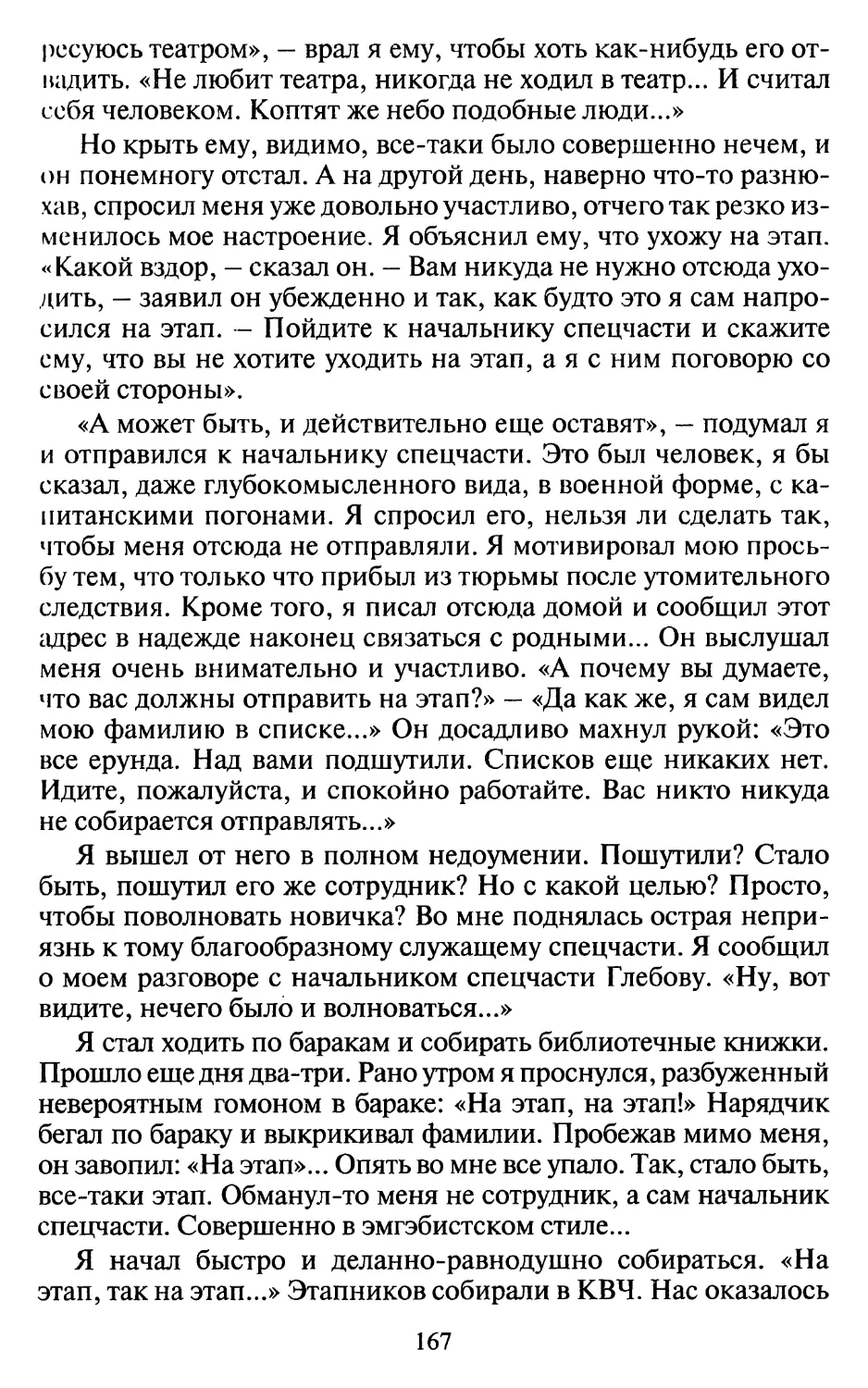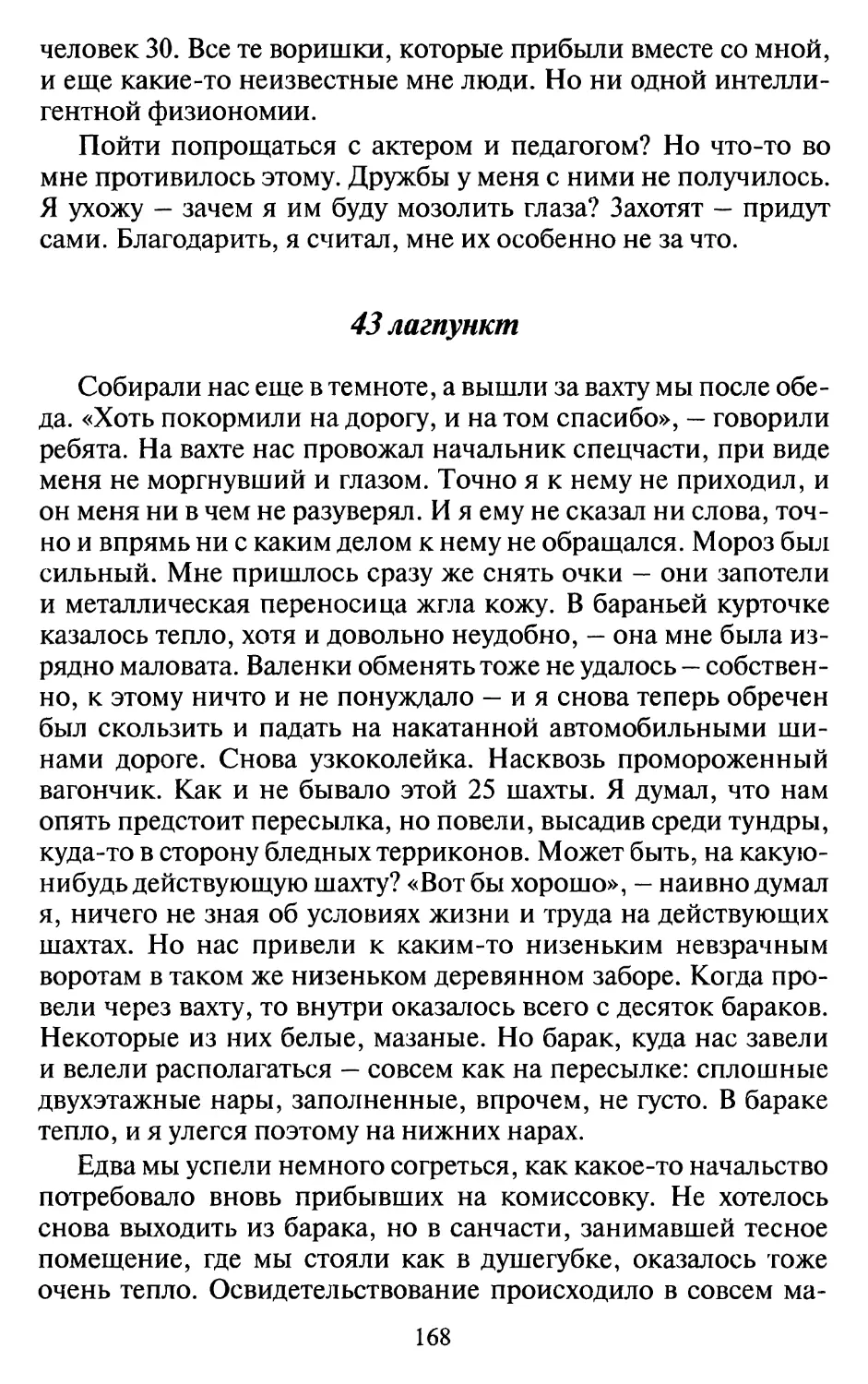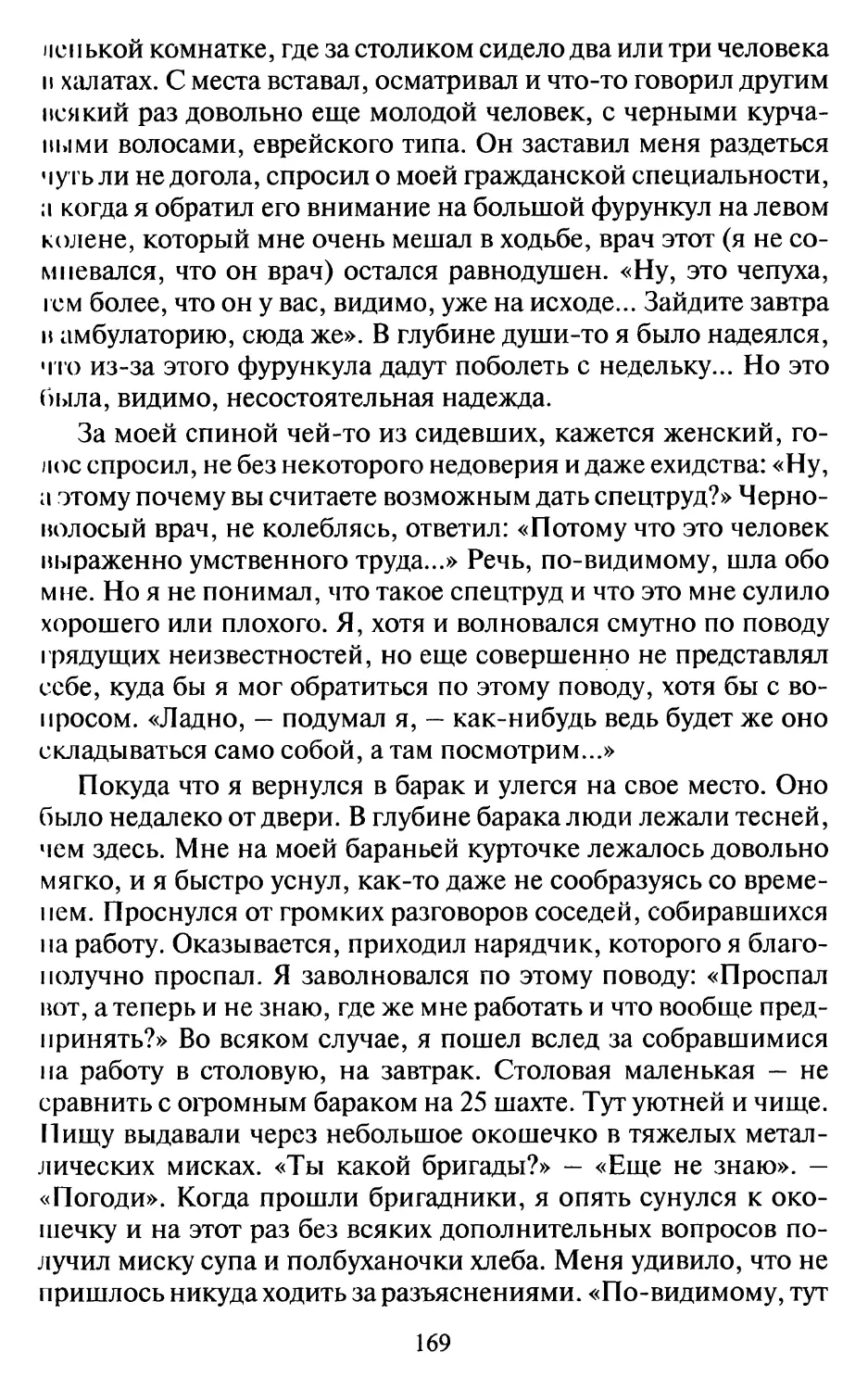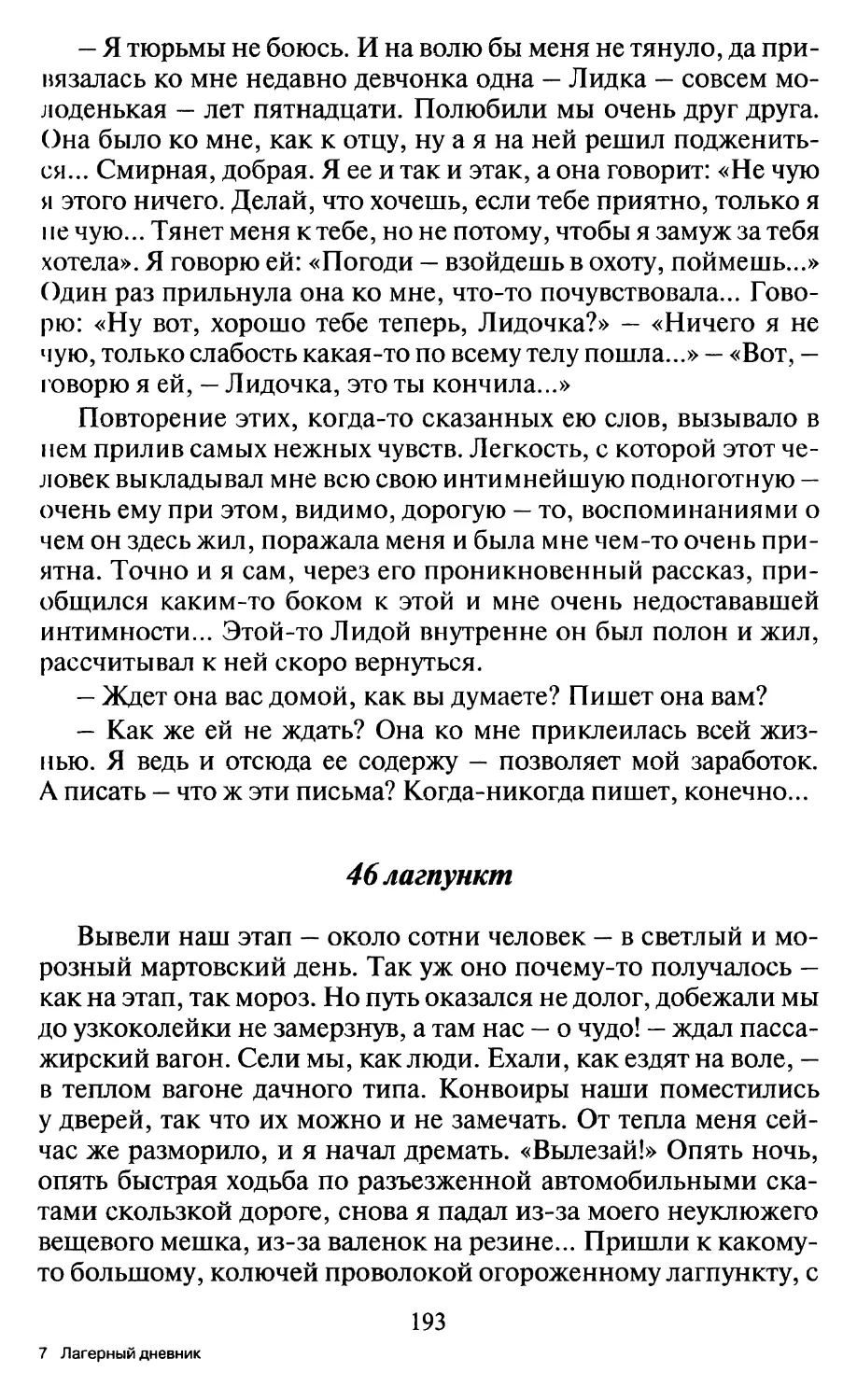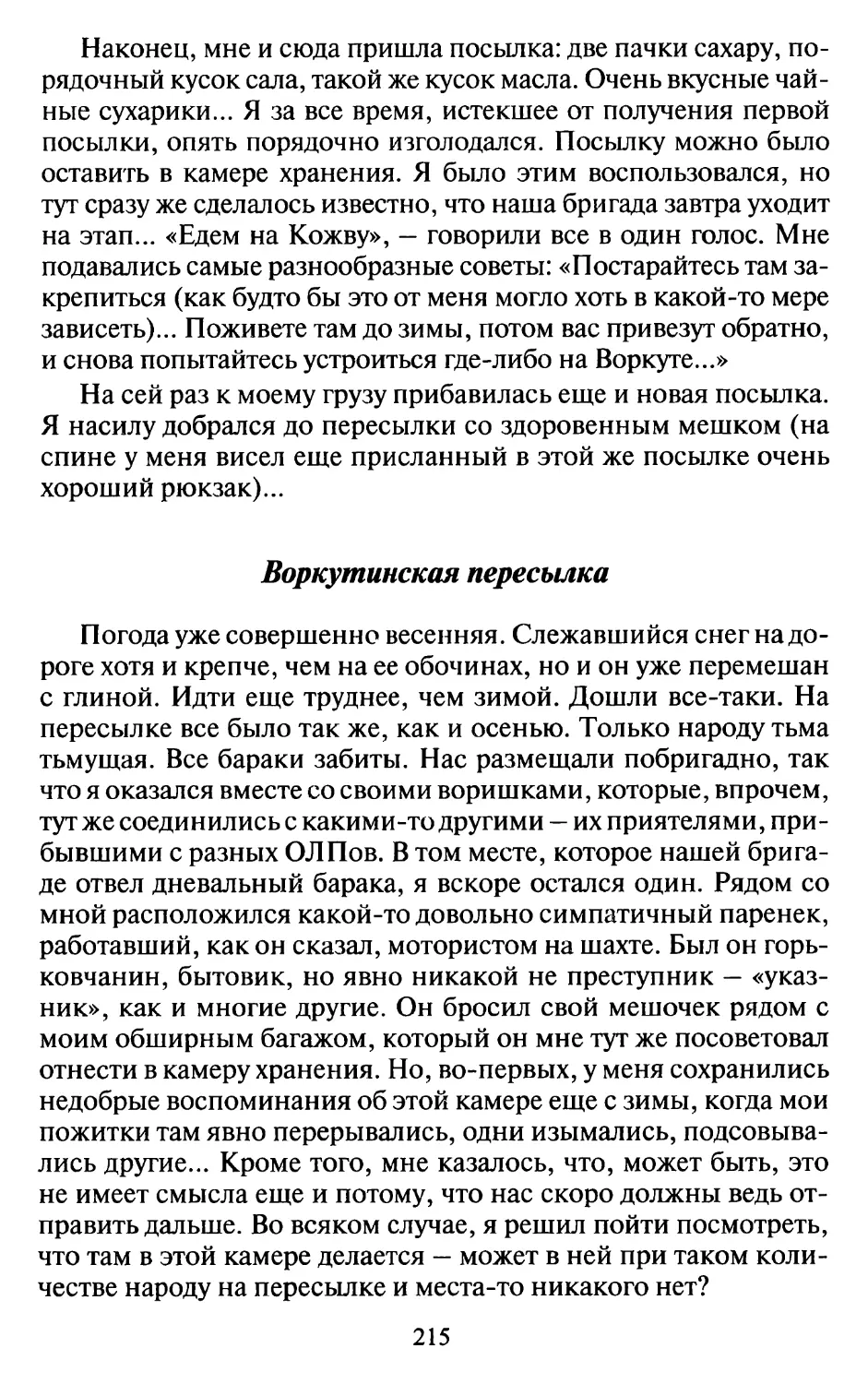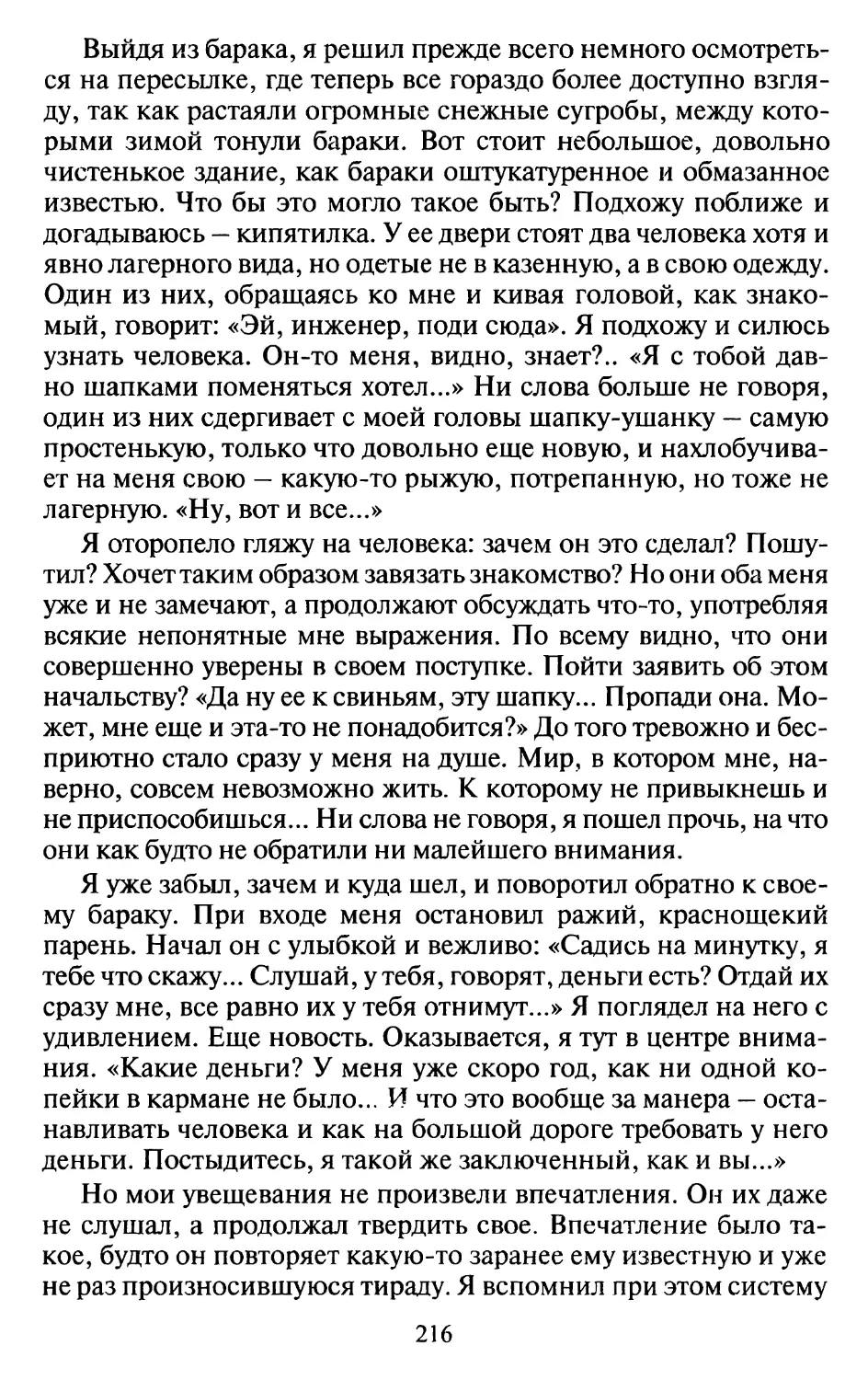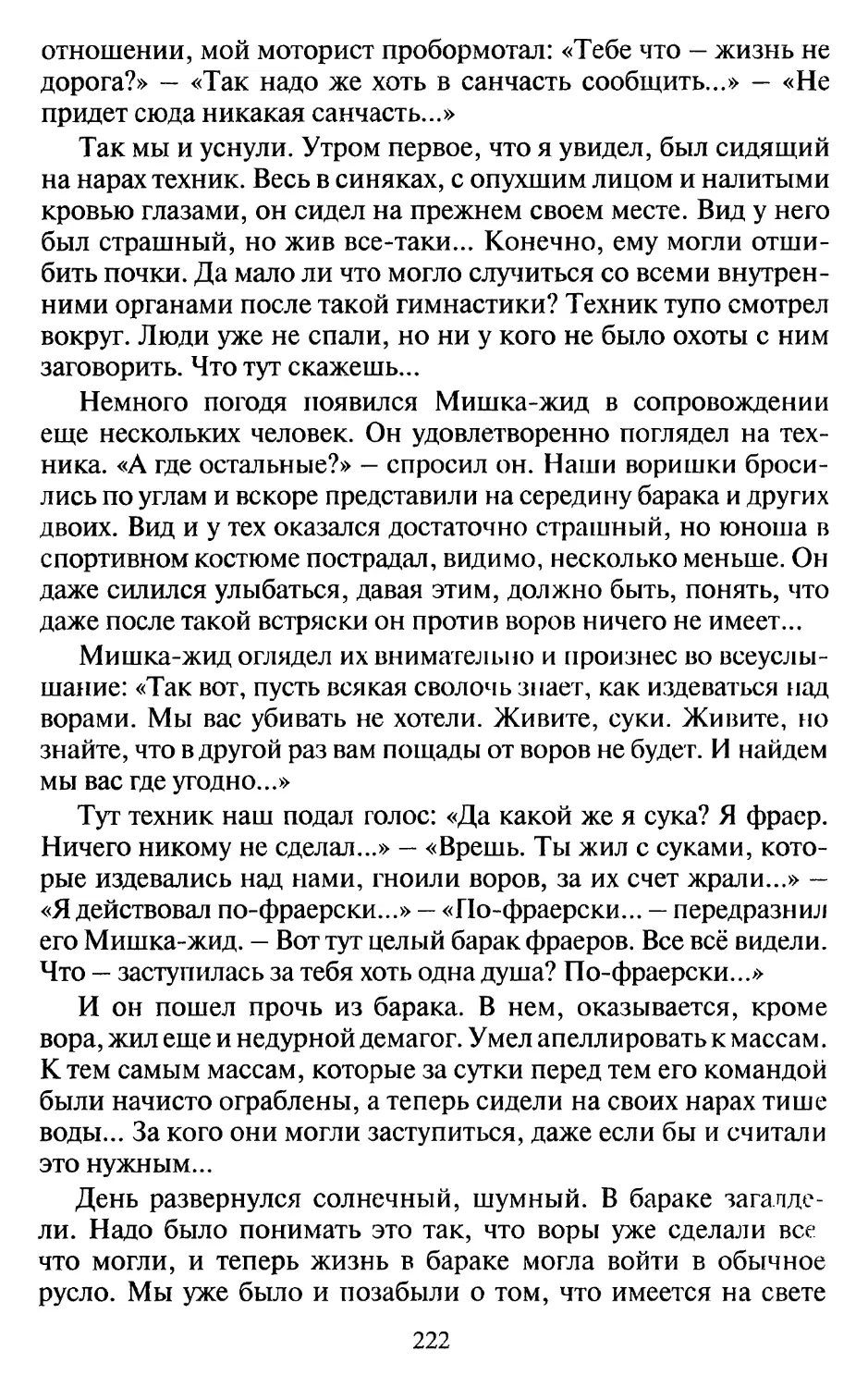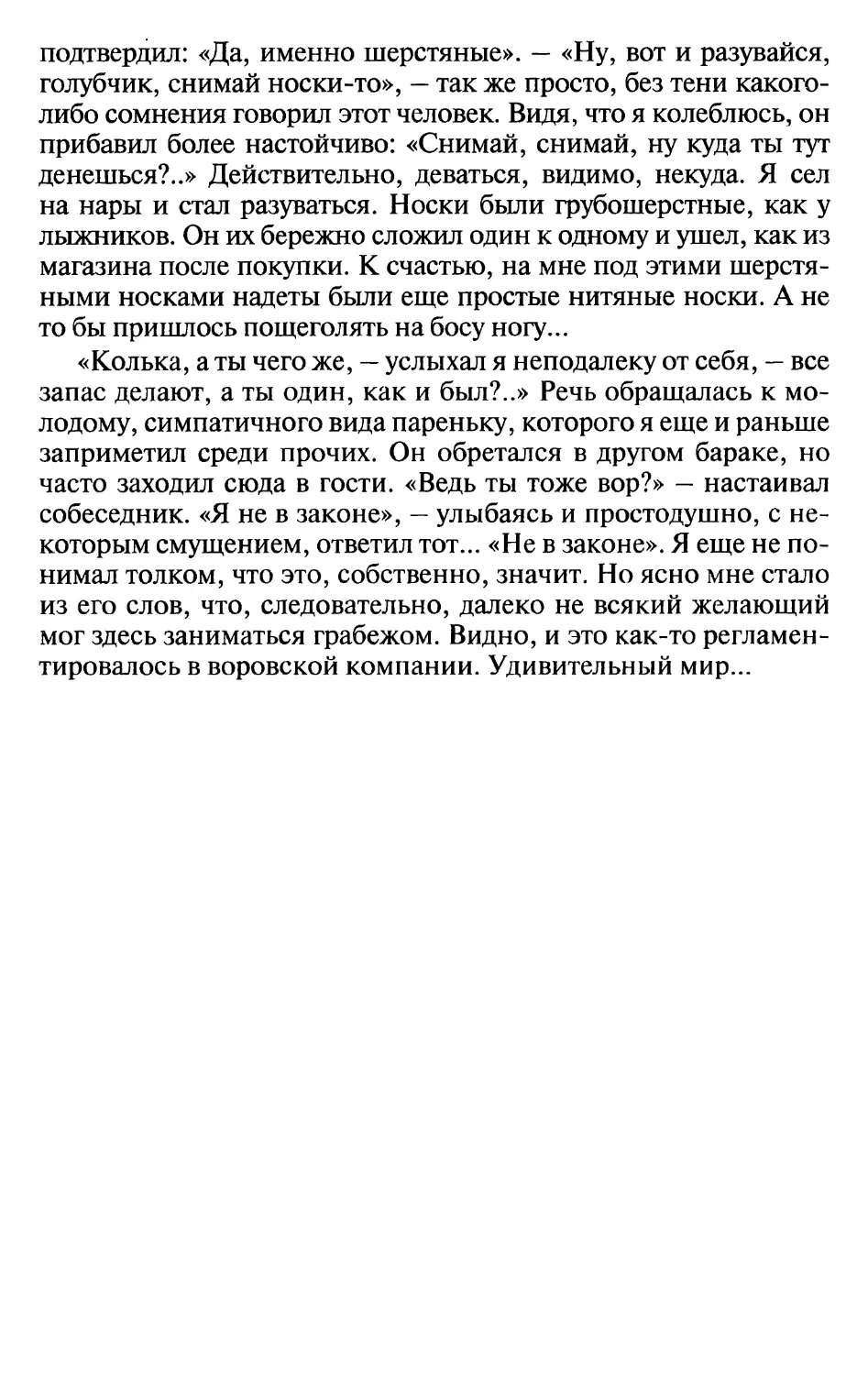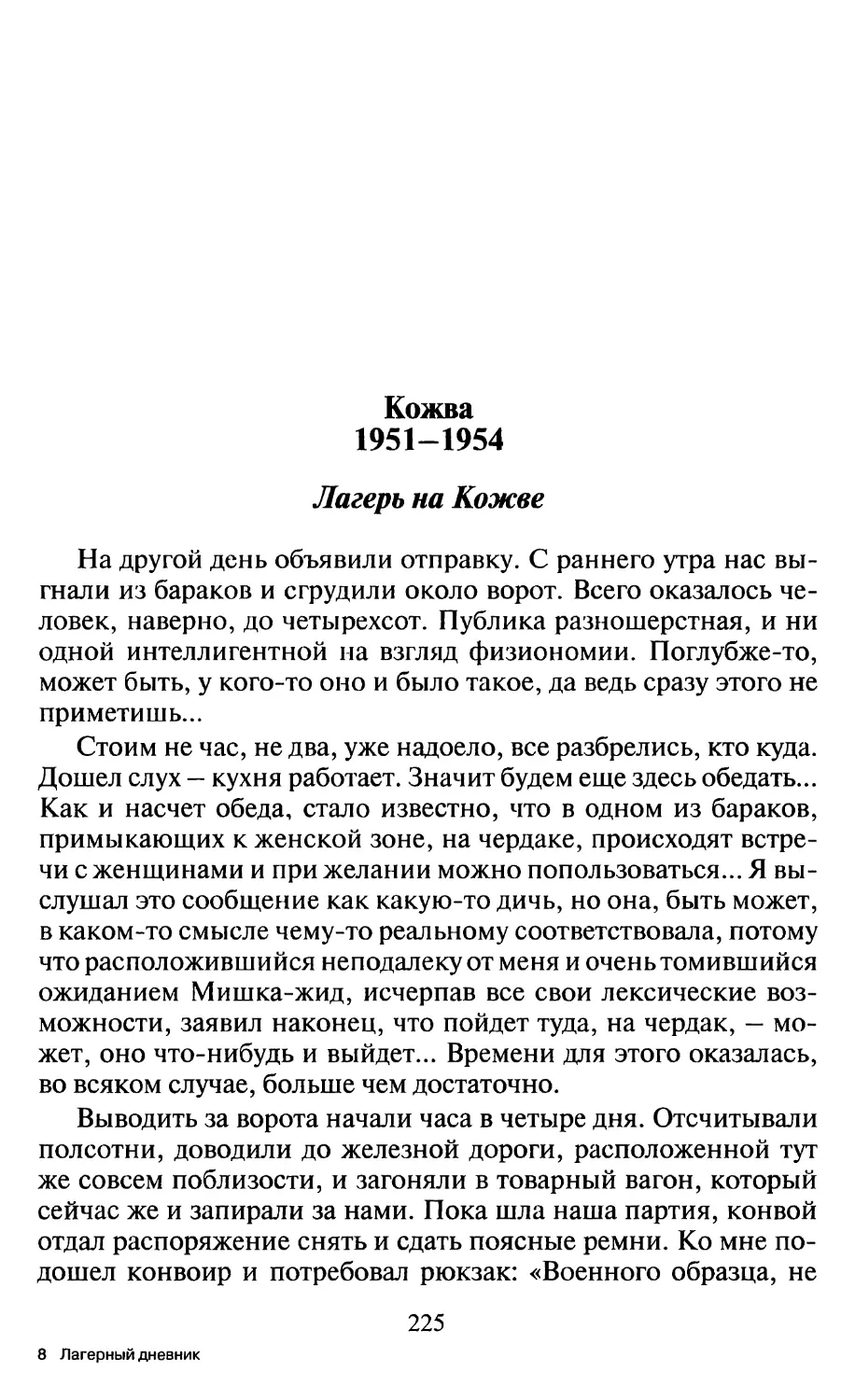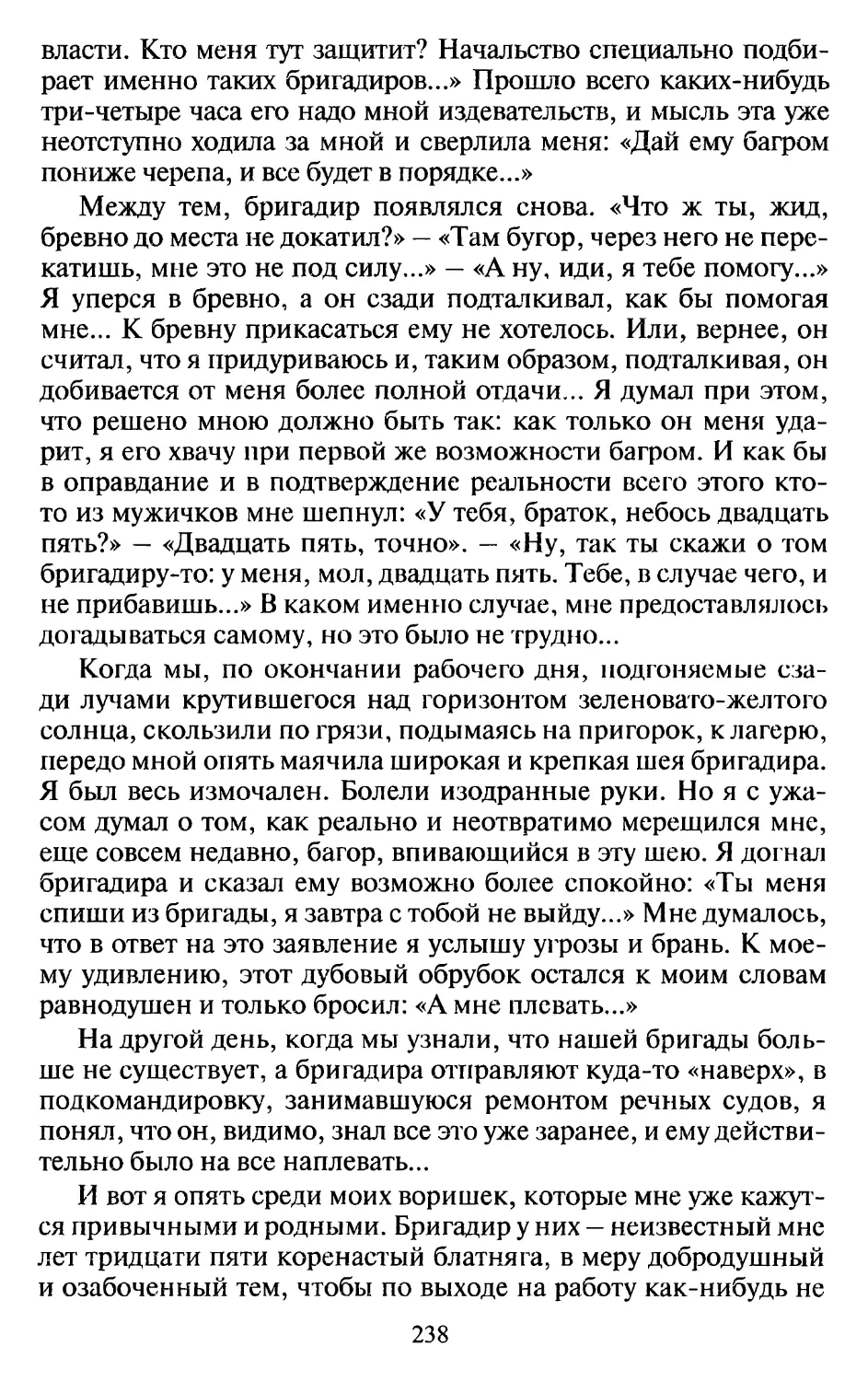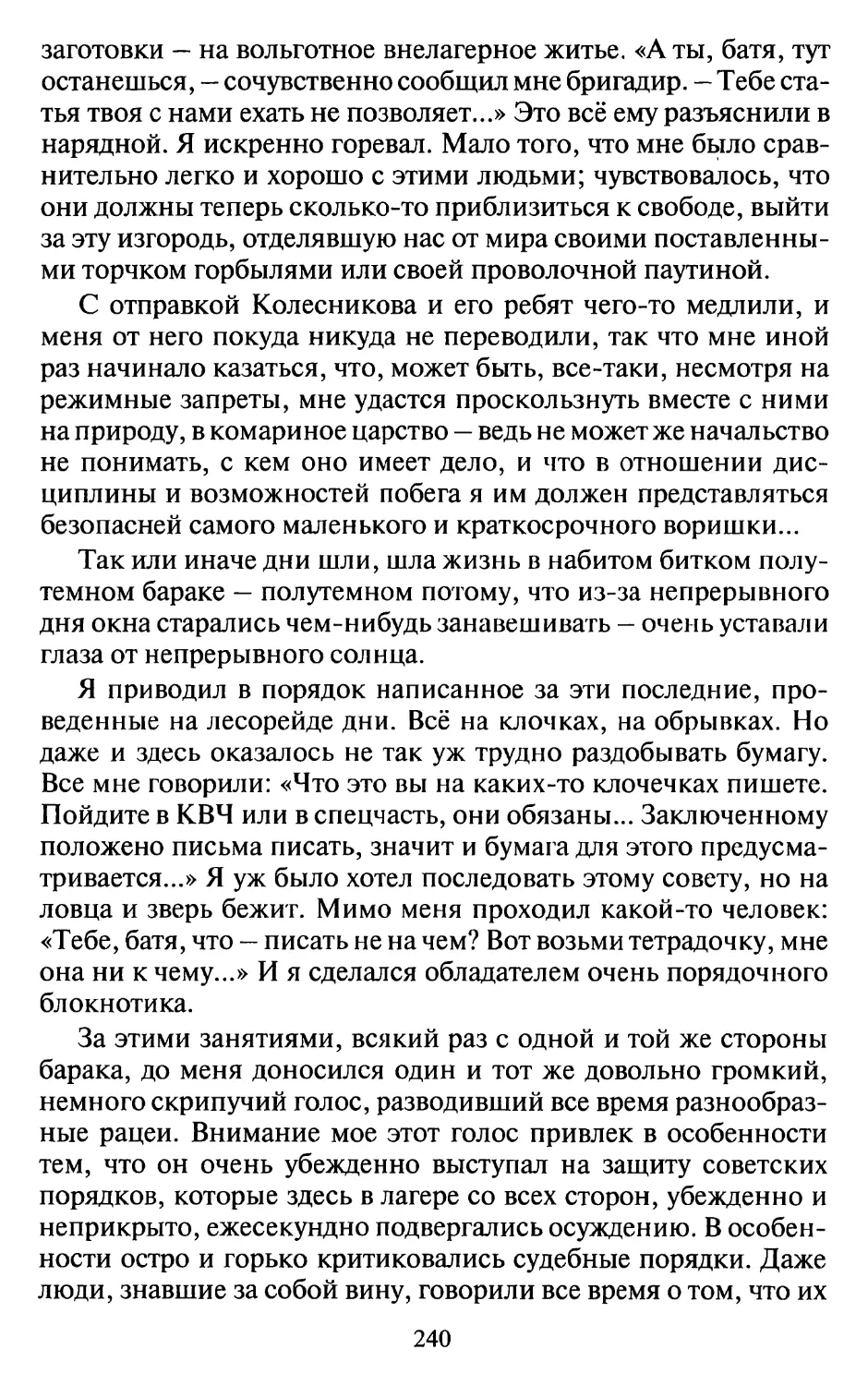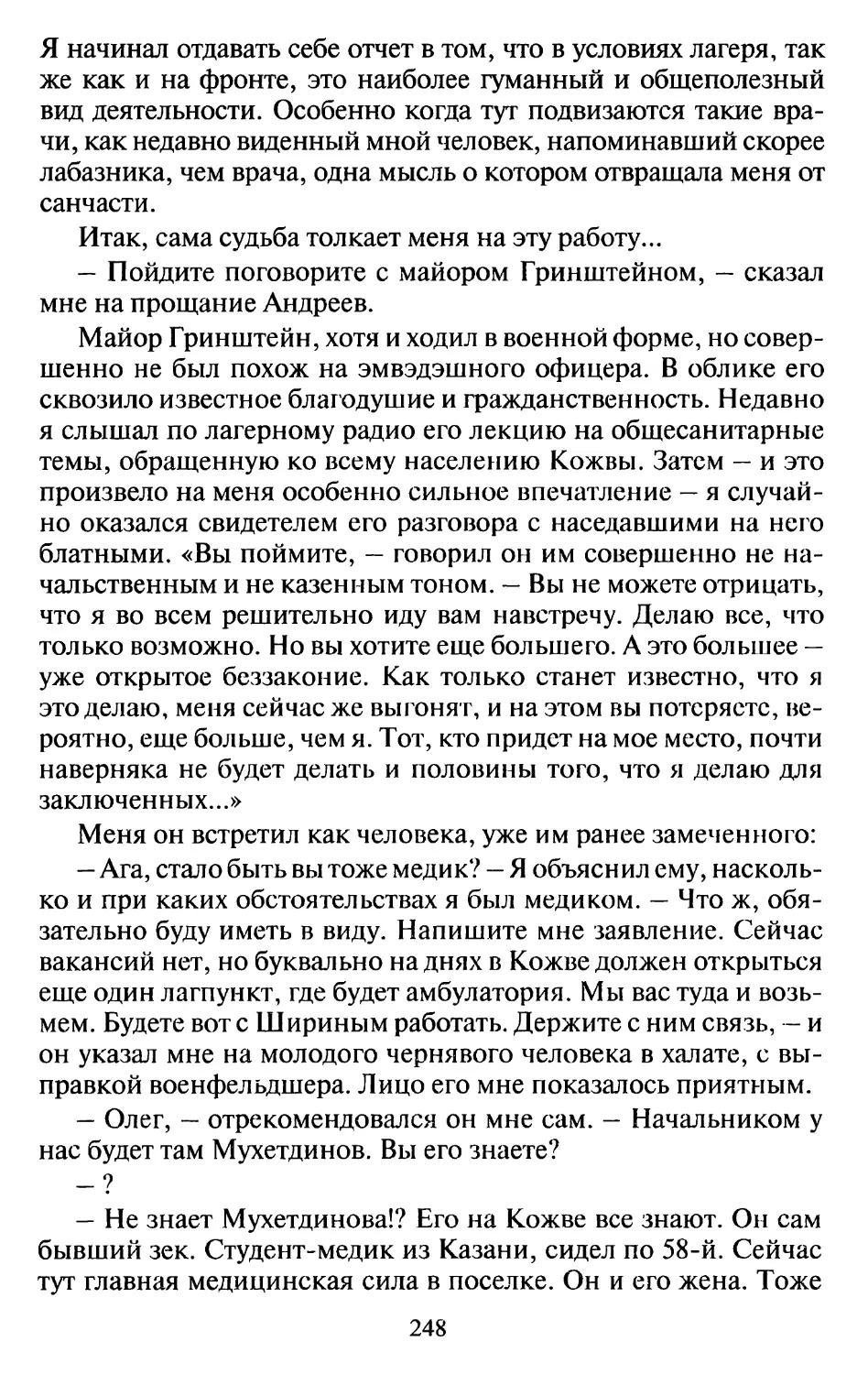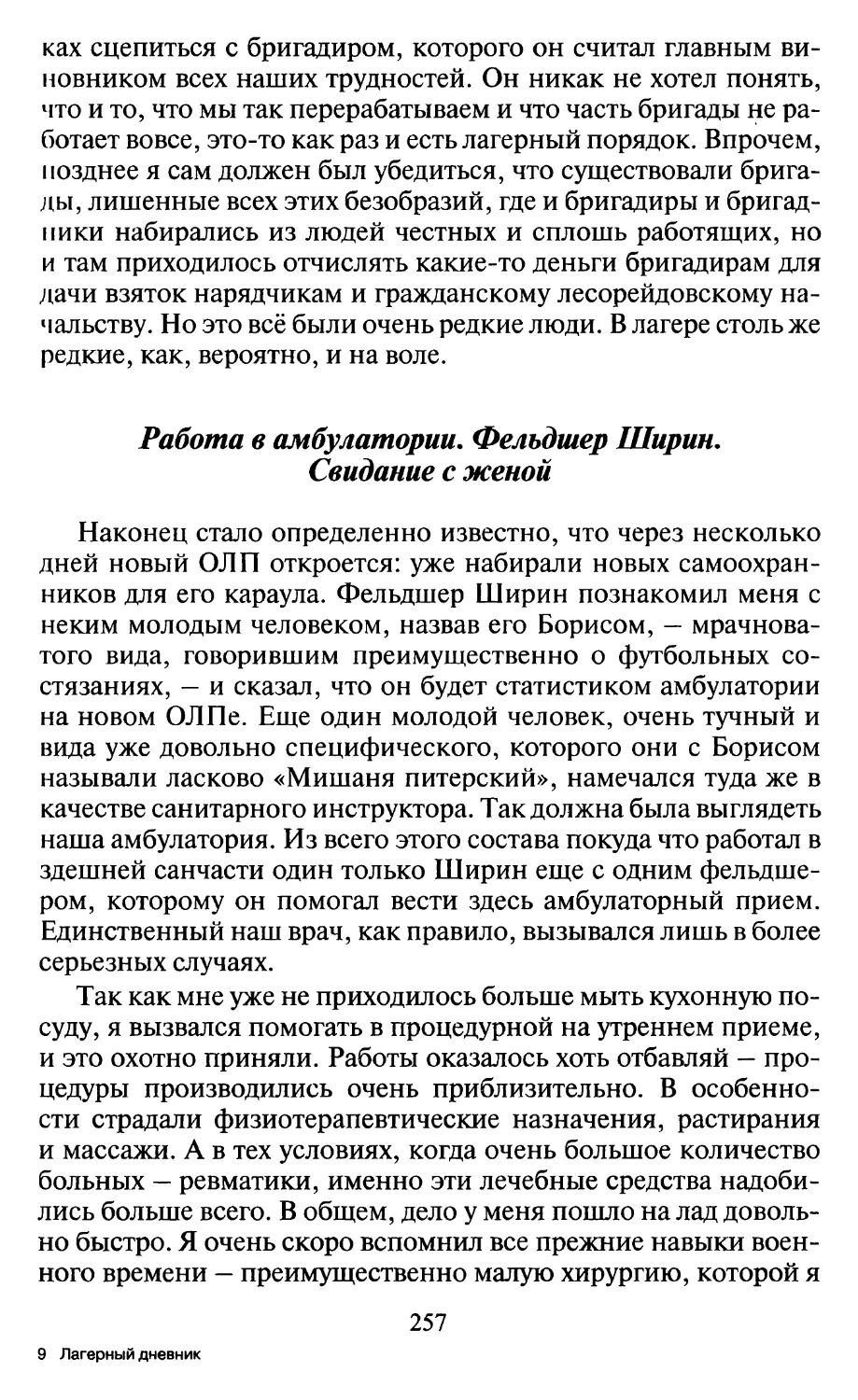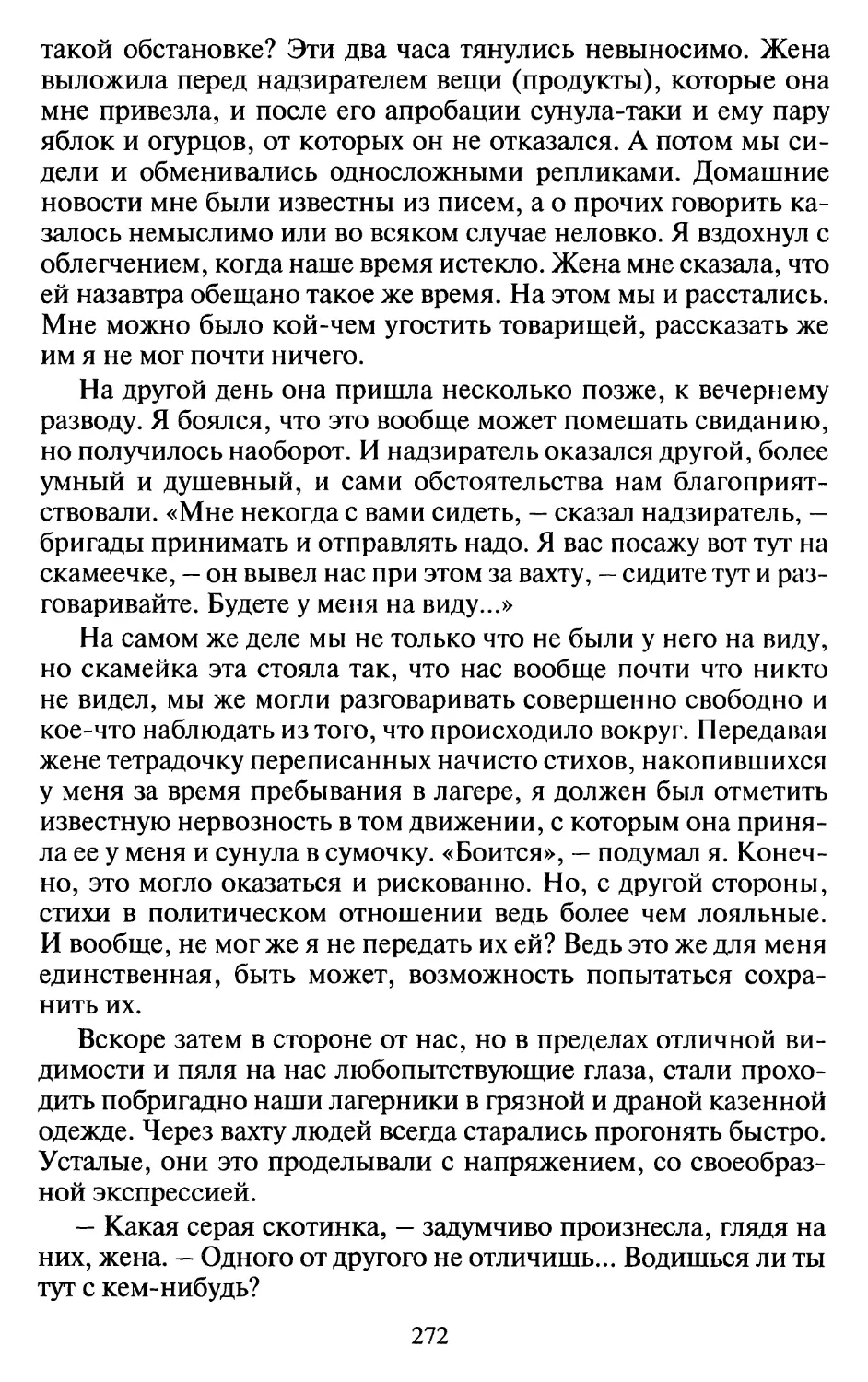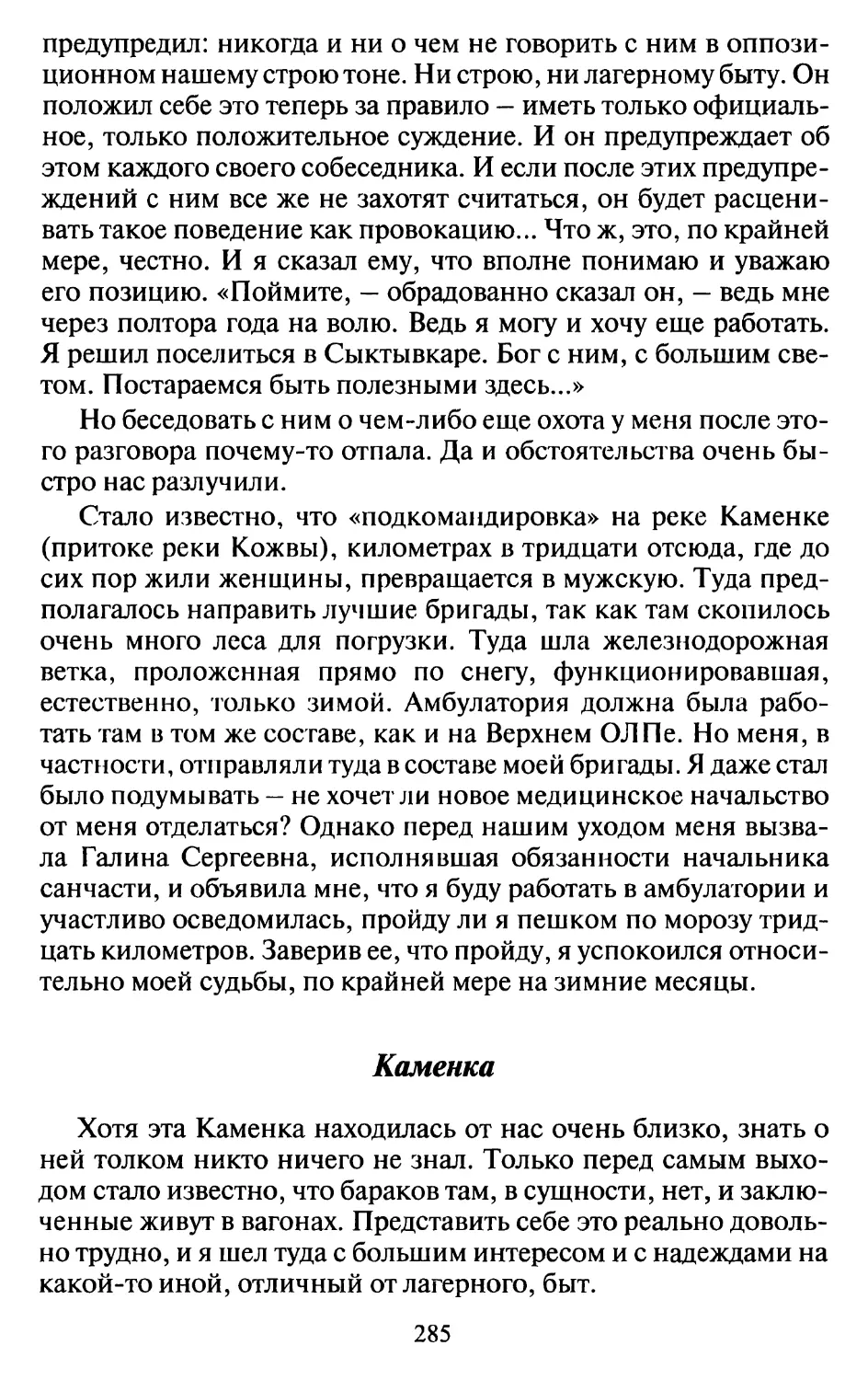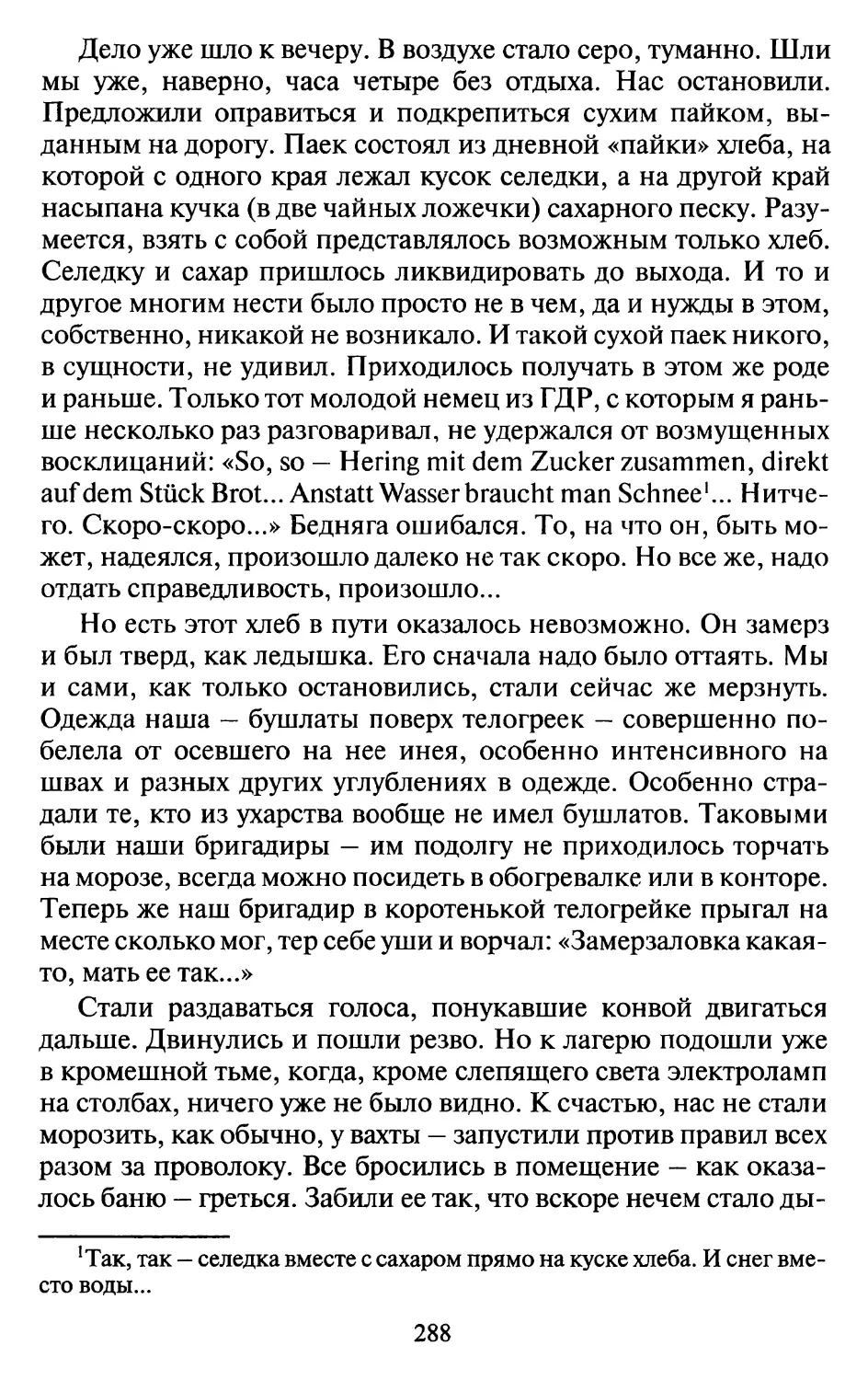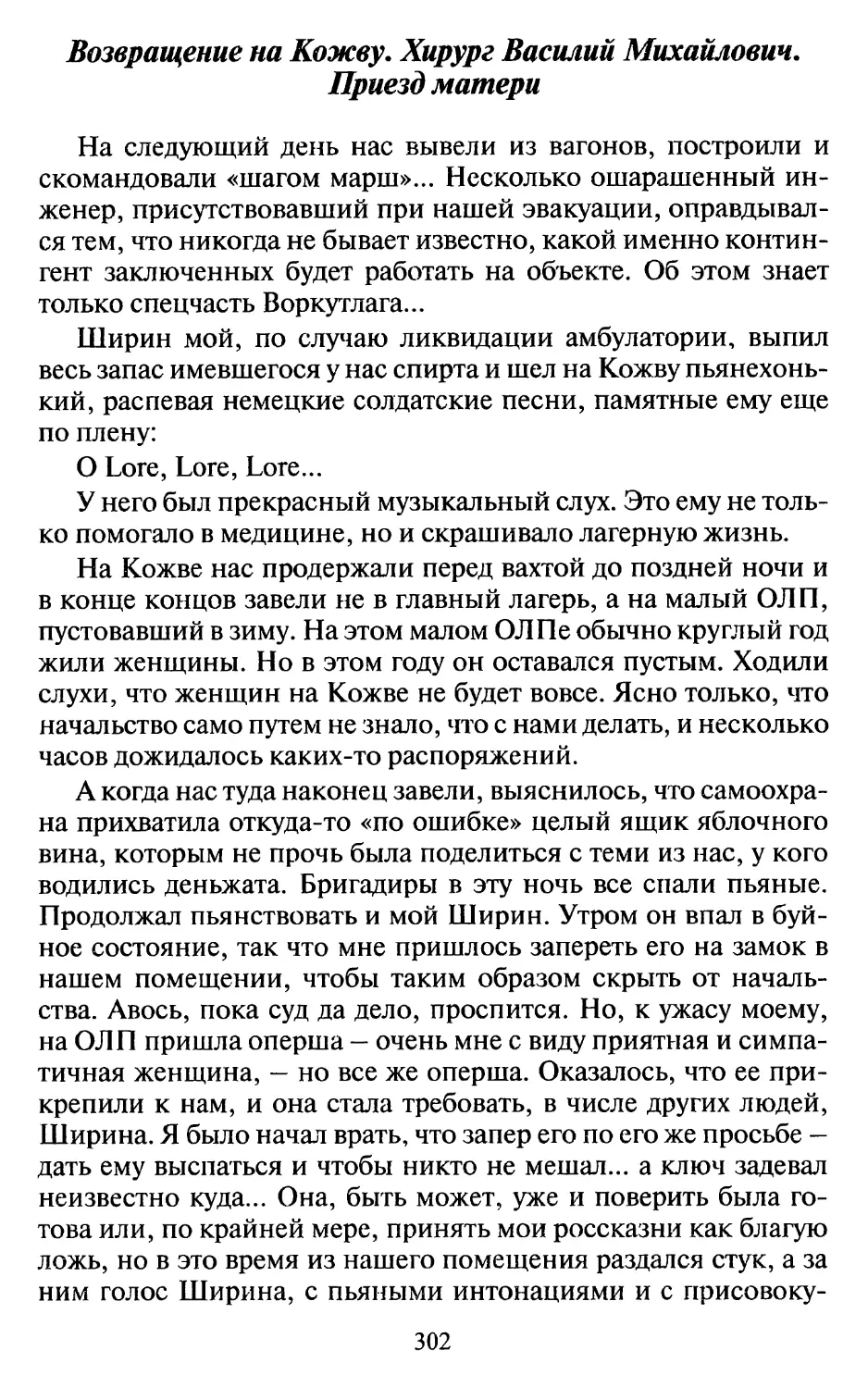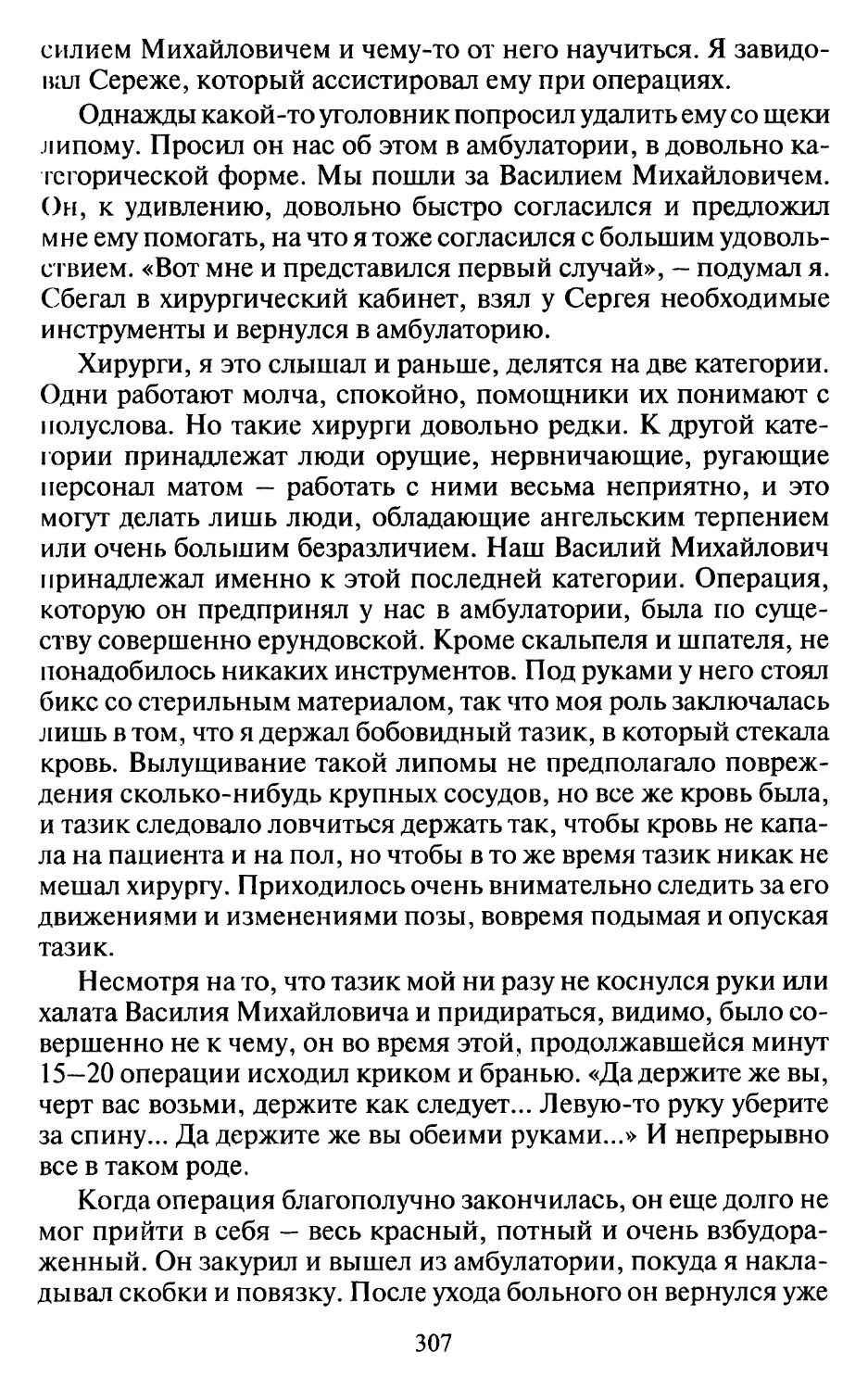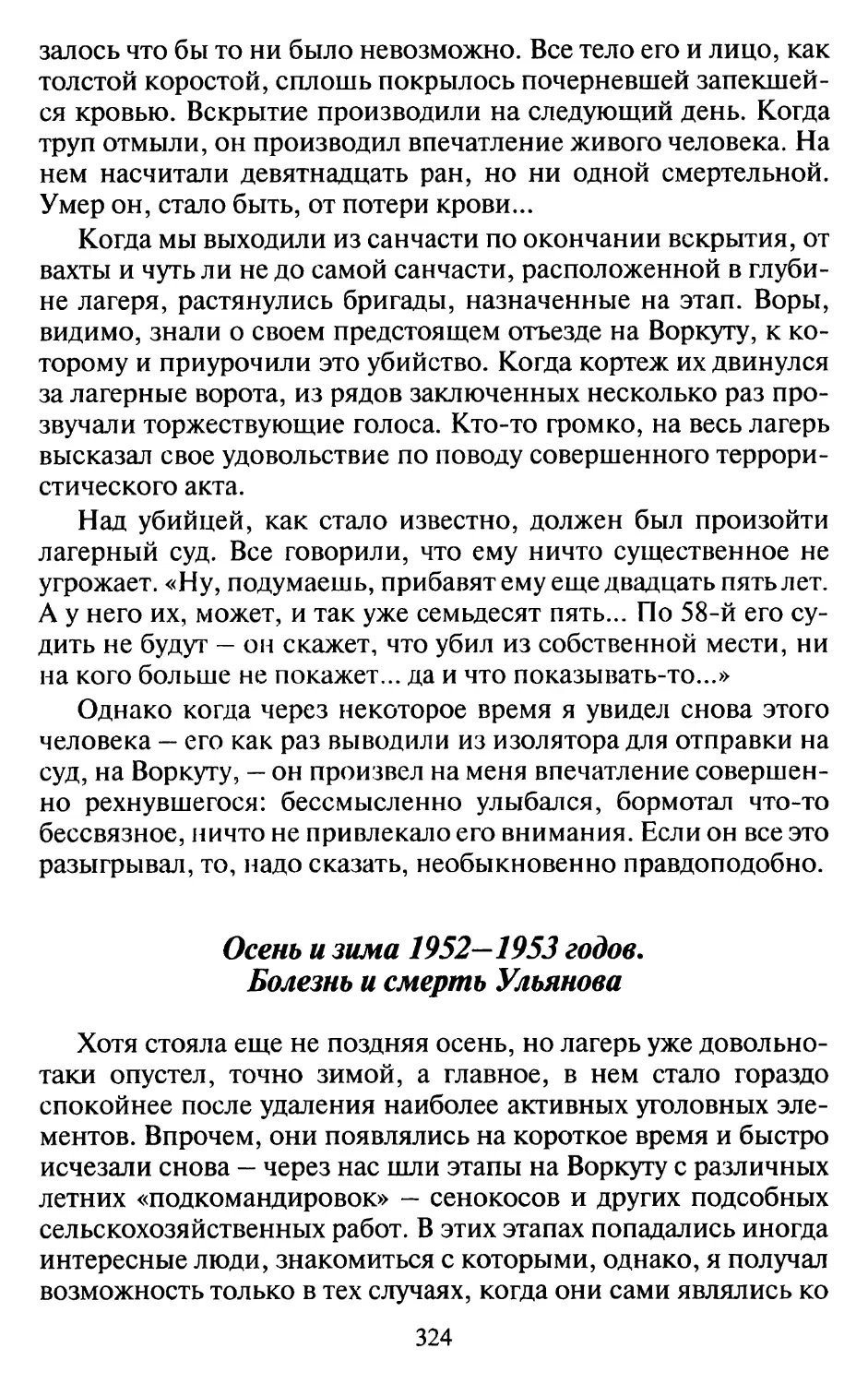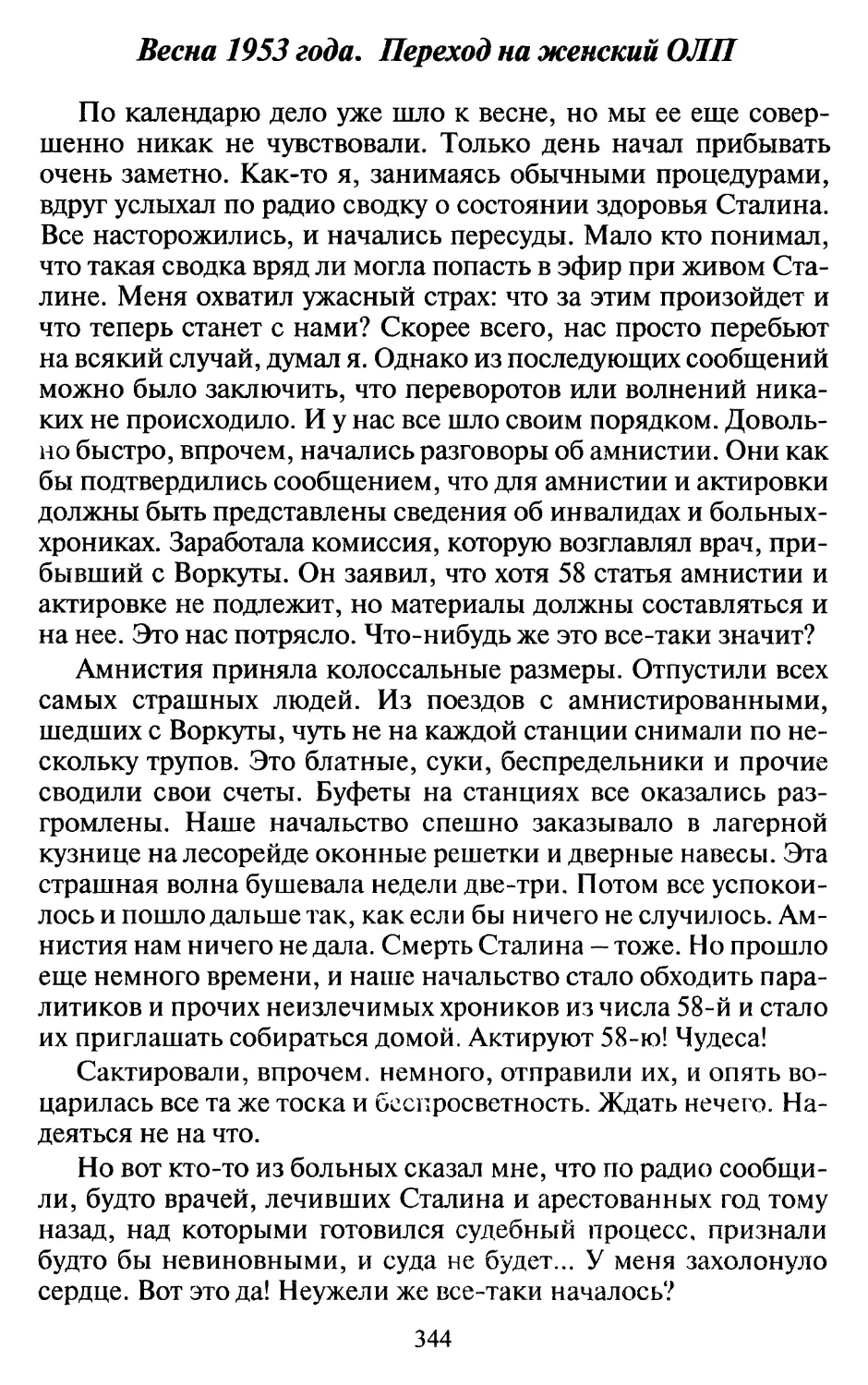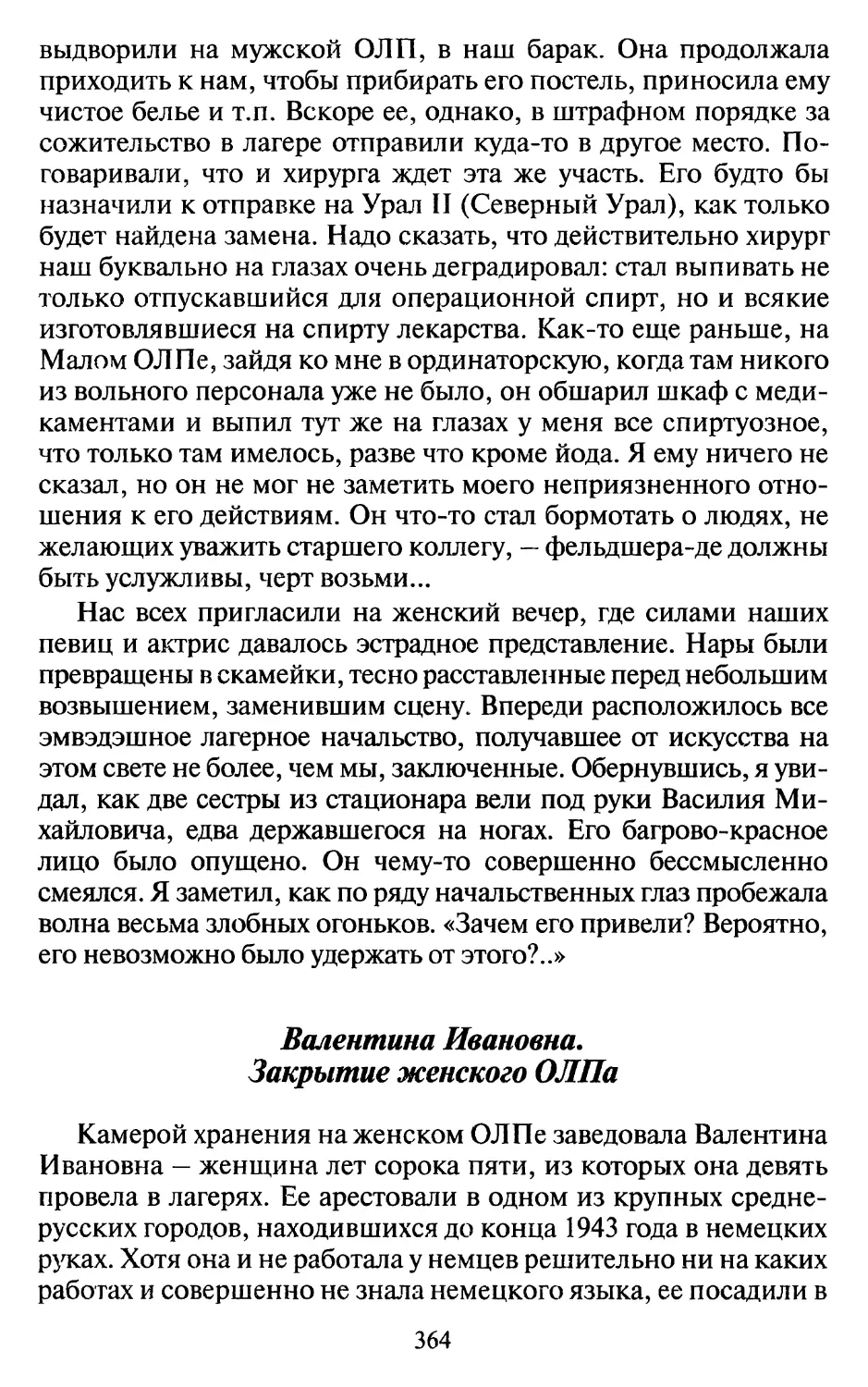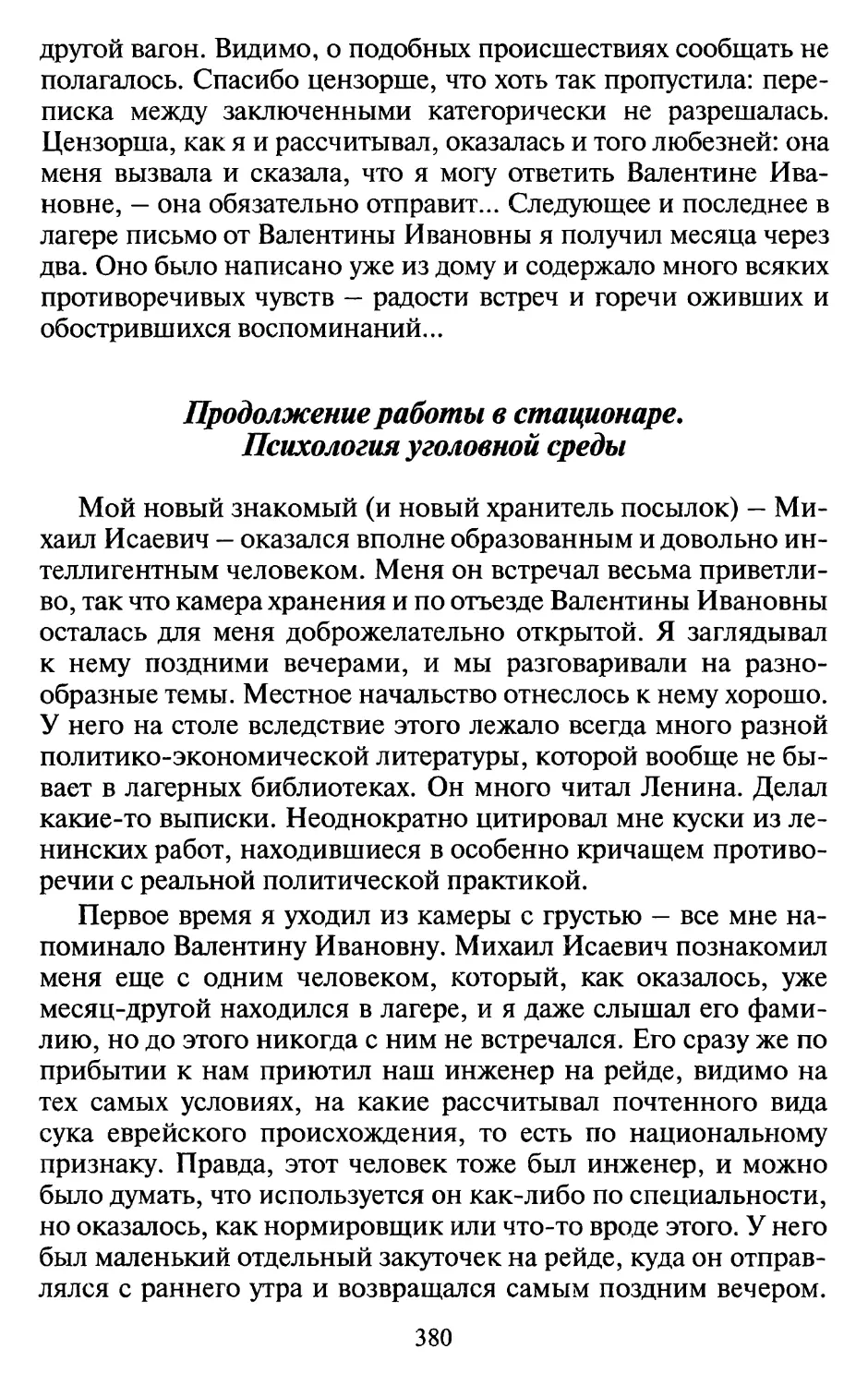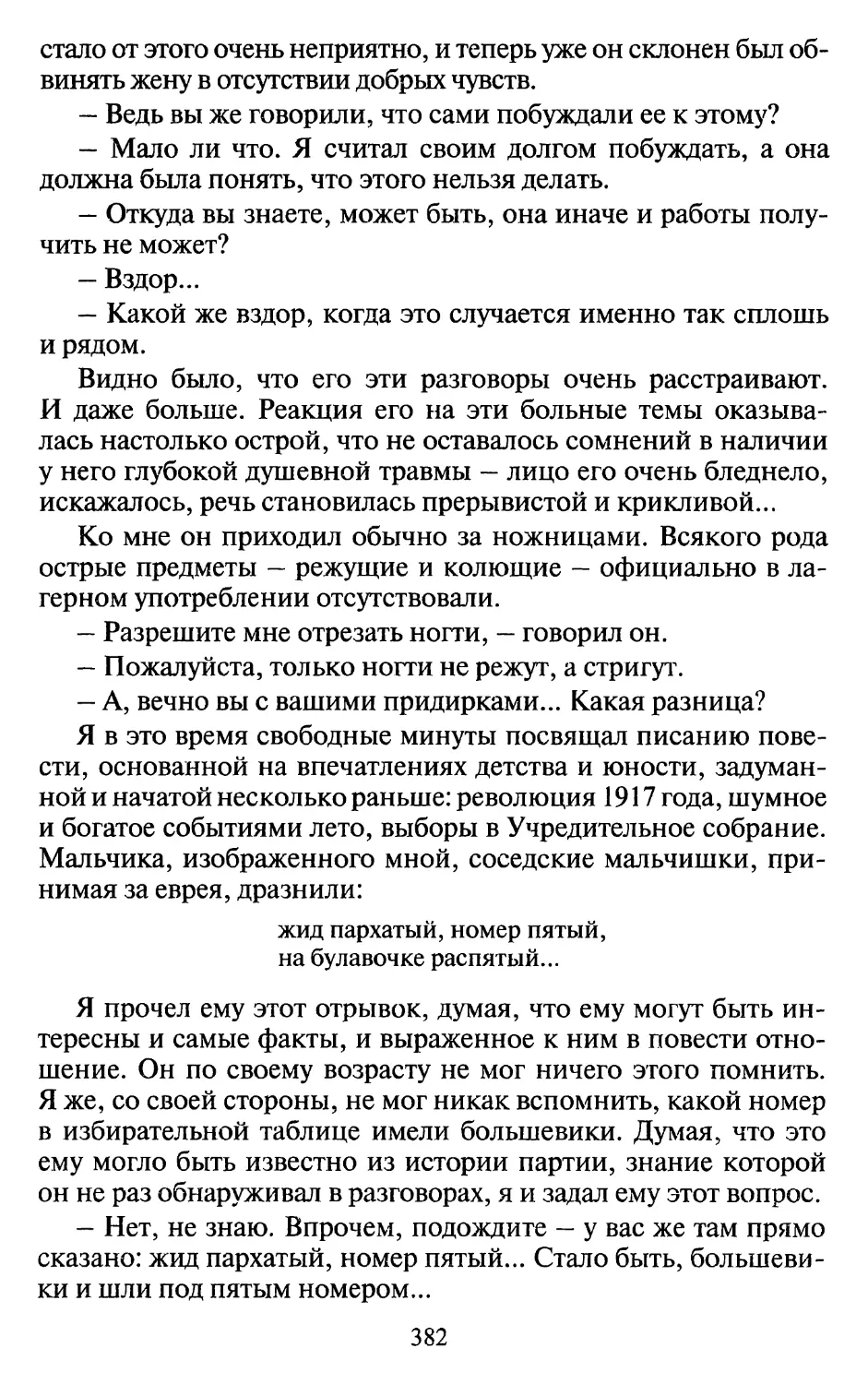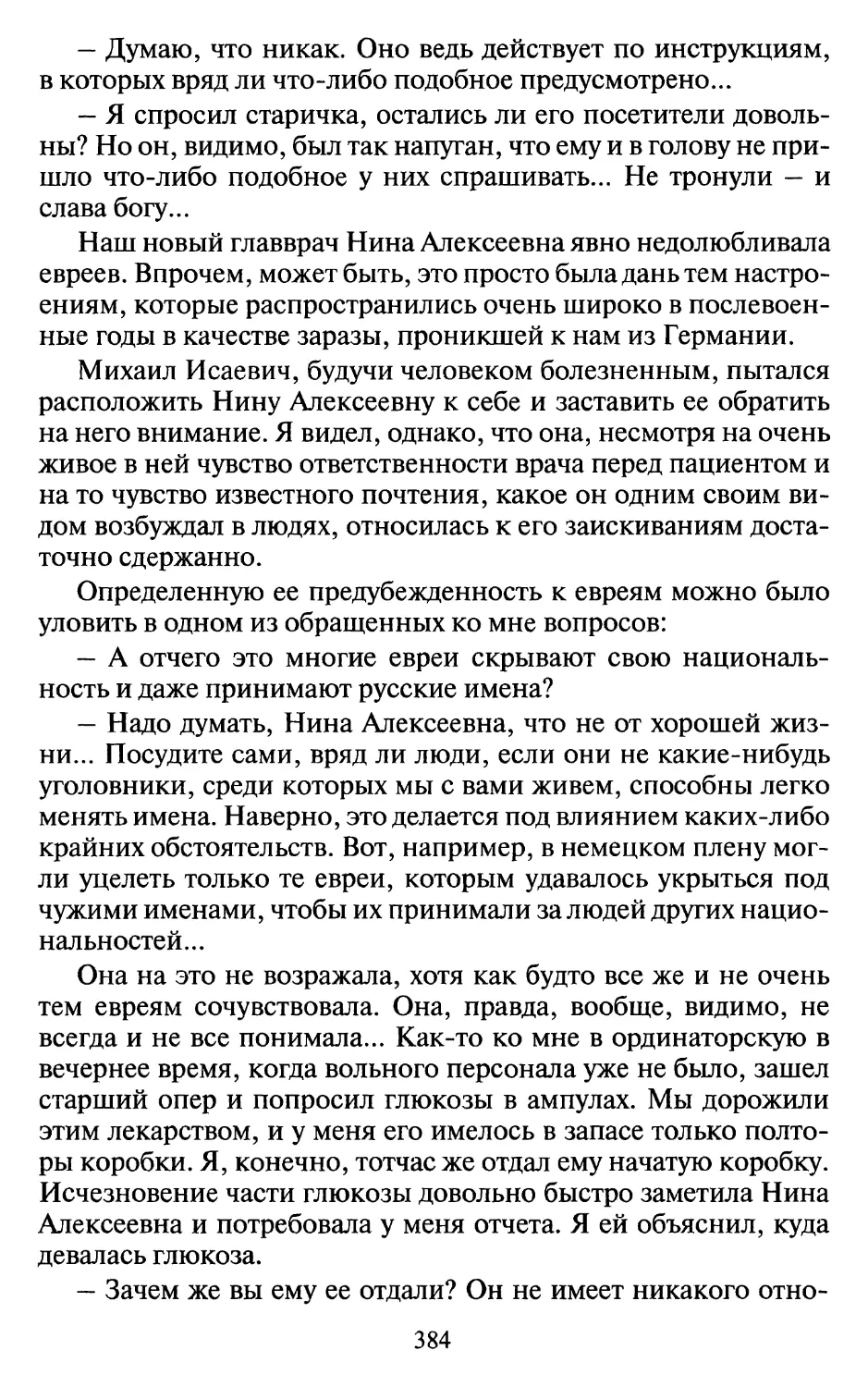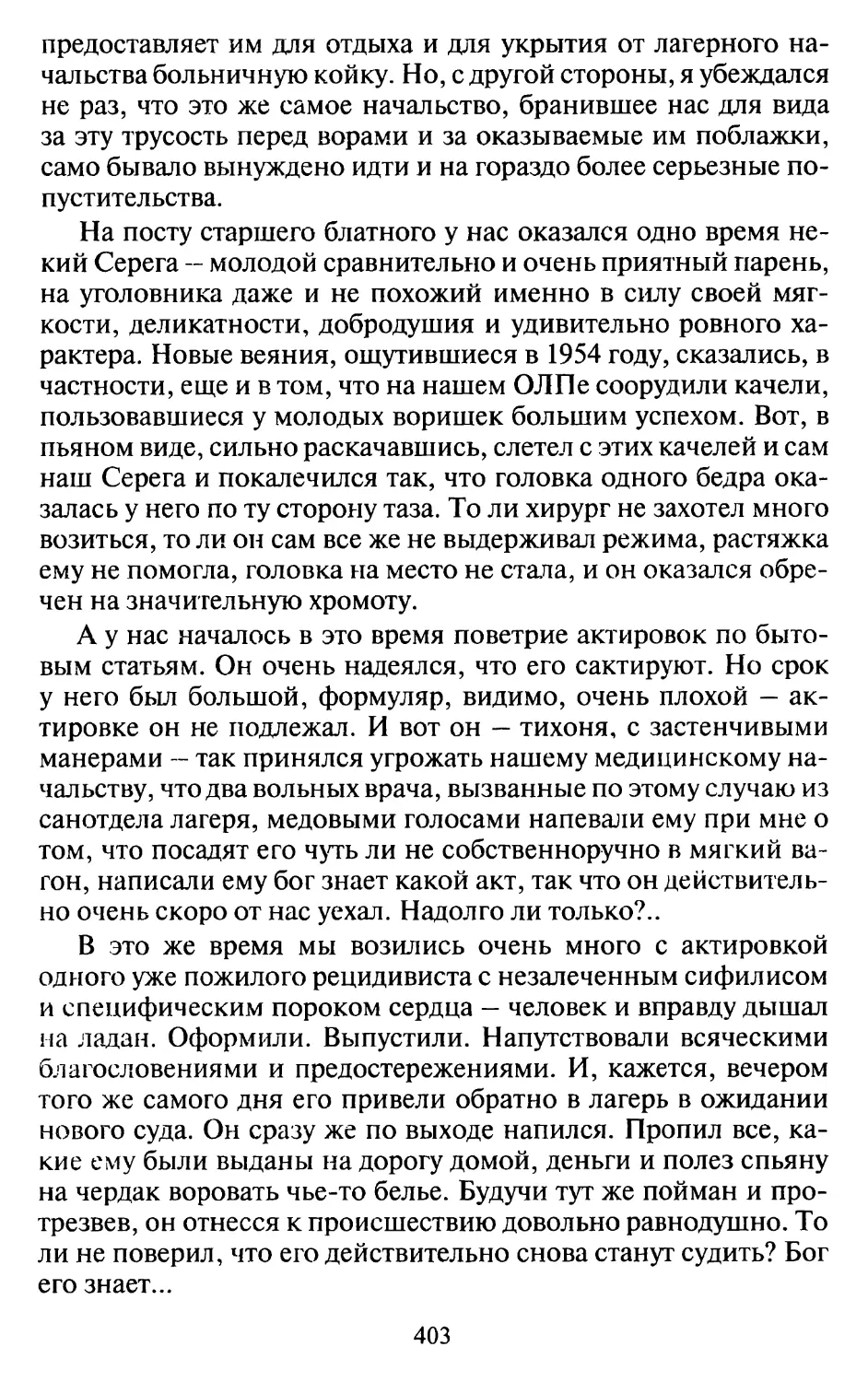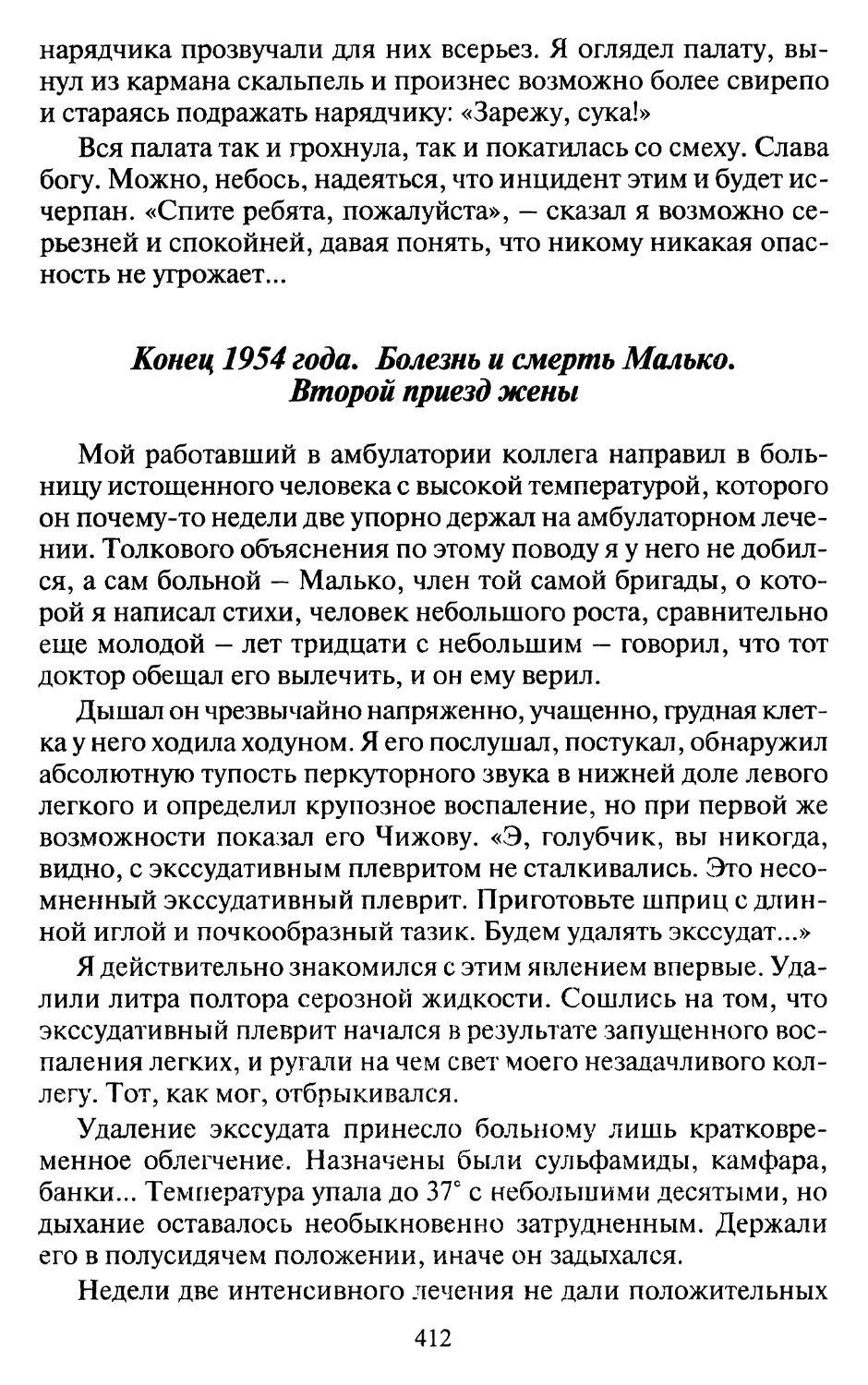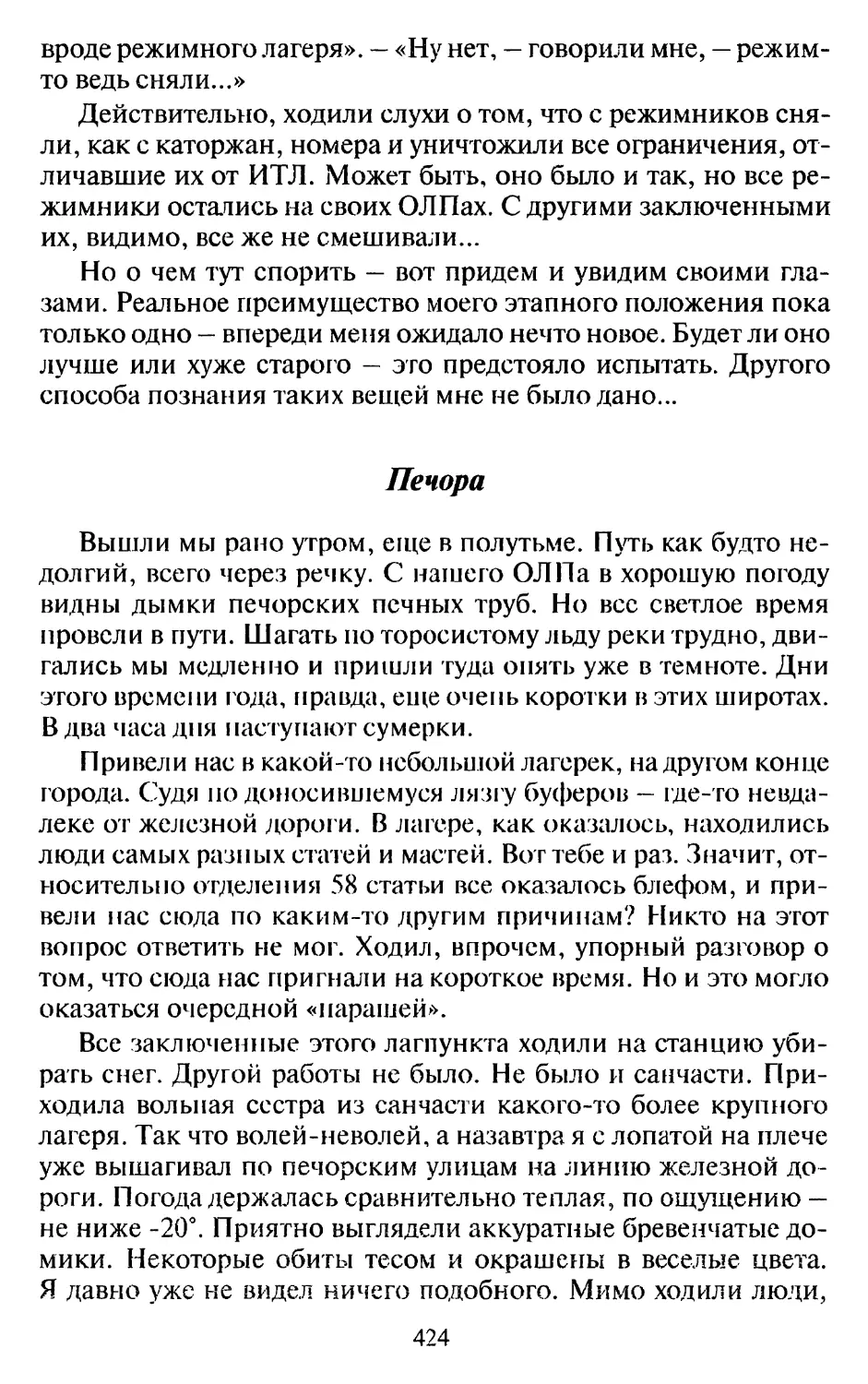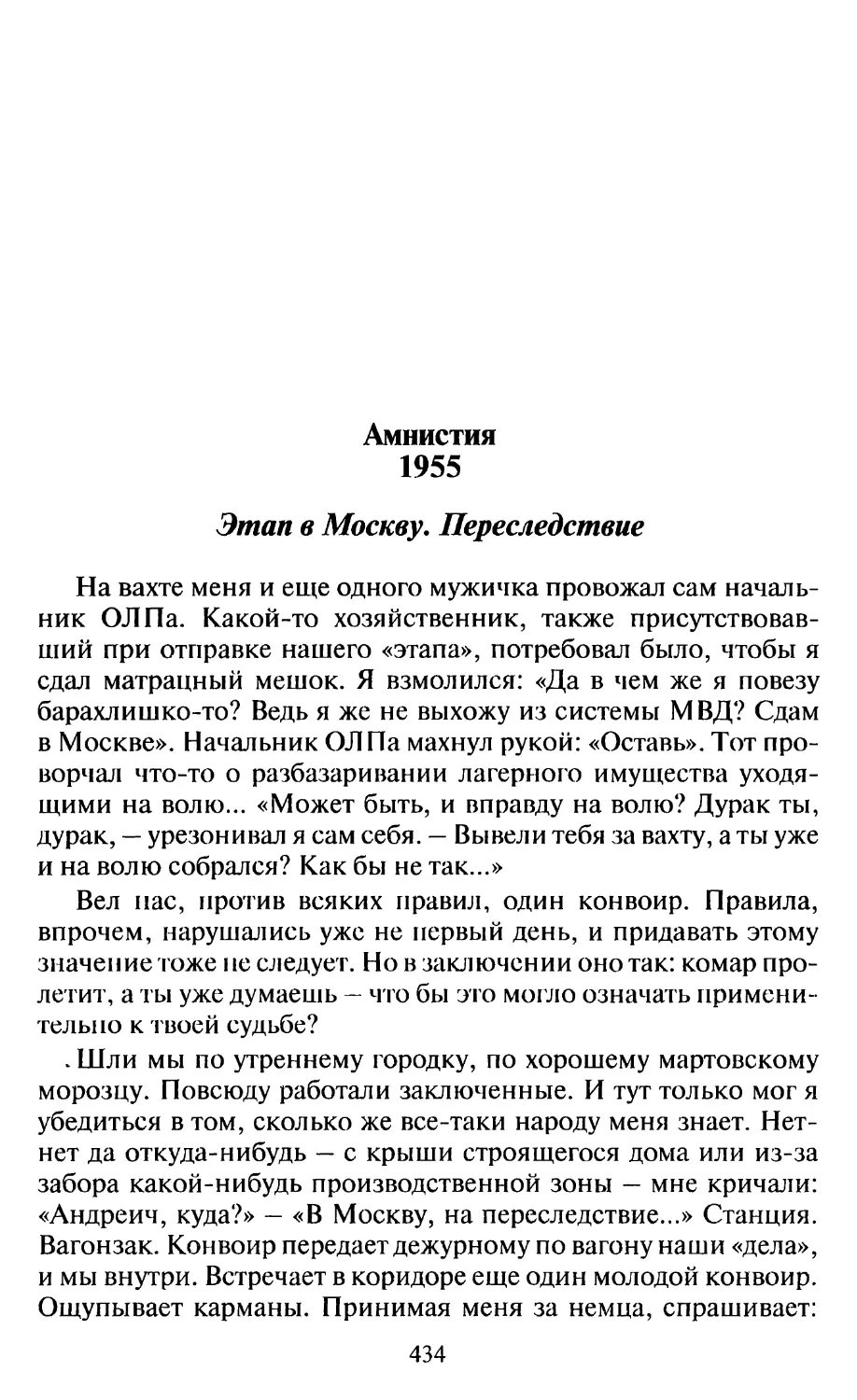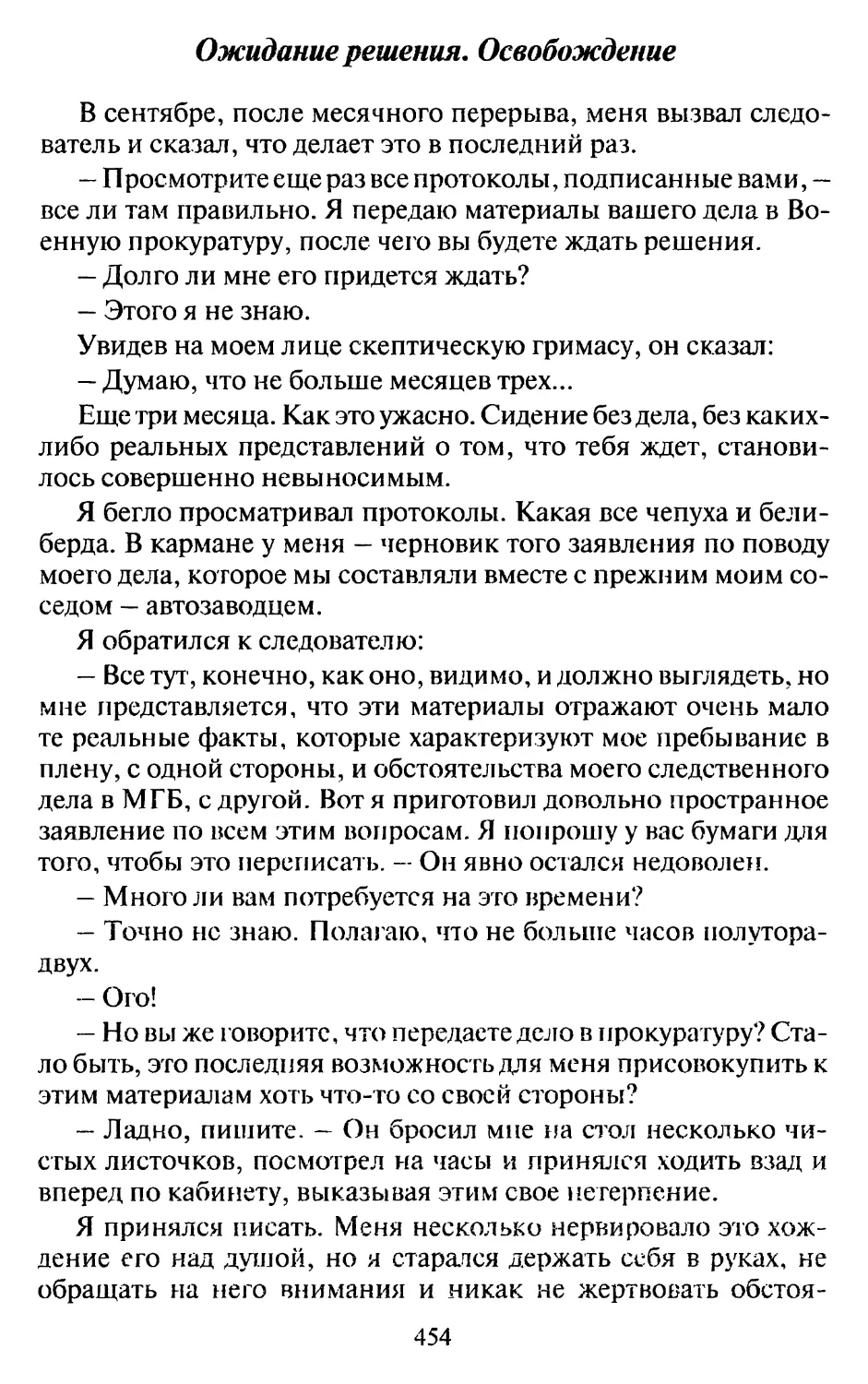Автор: Ельницкий Л.А.
Теги: русская литература художественная литература историческая литература
ISBN: 978-5-7784-0432-8
Год: 2013
Текст
Лев Ельницкий
Три круга воспоминаний
ЛАГЕРНЫЙ ДНЕВНИК
ЛАГЕРНЫЙ ДНЕВНИК
Лев Андреевич Ельницкий (1907-1979) - историк античности; в 1930-е годы он работал в Историческом музее. В 1941 году Ельницкий вместе с другими сотрудниками музея ушел на фронт в составе московского народного ополчения и вскоре попал в плен. После возвращения он был арестован и пробыл в лагере шесть лет.
Во втором томе воспоминаний автор подробно и предельно откровенно рассказывает об аресте и заключении в советском лагере.
УДК 821.161.1-94
ББК 84(2Рос=Рус)6-44
Е57
Подготовка текста Андрея Елъницкого Оформление Л. Митич
Е 57 Лев Ельницкий. Три круга воспоминаний. Лагерный дневник/Лев Ельницкий. — М.: Аграф, 2013. — 464 с. — ISBN 978-5- 7784-0432-8
Лев Андреевич Ельницкий (1907—1979) — историк античности. В 1930-е годы он работал в Историческом музее. В 1941 году Лев Андреевич вместе с другими сотрудниками музея ушел на фронт в составе московского народного ополчения. Вскоре его часть оказалась в окружении и он попал в плен. Всю войну он находился в немецком плену. Вернулся домой только в конце 1945 года. После войны большая часть советских солдат, побывавших в плену, подверглась репрессиям. Ельницкий был арестован в начале 1950 года и пробыл в лагере 6 лет.
Его воспоминания много лет пролежали в домашнем архиве и только сейчас выходят в свет. Они состоят из трех томов. В первом рассказывается о войне и пребывании в немецком плену. Второй том посвящен аресту и заключению в советском лагере. И третий расскажет о судьбе Ельницкого в науке.
Эта книга написана предельно искренно и проникновенно, она не оставит равнодушным ни одного читателя.
УДК 821.161.1-94 ББК 84(2Рос=Рус)6-44
ISBN 978-5-7784-0432-8
©Ельницкий А.Л., 2013
©Издательство «Аграф», 2013
ПРЕДИСЛОВИЕ
Воспоминания историка и археолога, исследователя античной культуры Льва Андреевича Ельницкого (1907-1979) состоят из трех книг и публикуются под общим названием «Три круга воспоминаний». Их первая часть — «Война и плен», в которой указаны необходимые биографические сведения и названы основные научные работы автора, посвящена периоду войны. Трагические годы с 1941-го по 1945-ый автор полностью провел в немецком плену — отчасти на территории России и Белоруссии, отчасти в Германии — в пригороде Берлина. О том, как сложилась судьба Льва Андреевича после плена, читатель узнает из второй части, озаглавленной «Лагерный дневник».
По окончании войны и возвращении домой Л.А. живет в напряженном ожидании ареста: все, происходившее вокруг с людьми, указывало на то, что ему не избежать общей участи. Наконец, хотя и не так быстро, как думалось, в марте 1950 года, произошел арест. Л.А. поместили на Лубянку и после одного- двух допросов перевели в Бутырскую тюрьму. Начались долгие месяцы следствия. Первоначальная слабая надежда на защиту закона рассыпалась после встречи со следователем, который вполне доступно разъяснил суть происходящего: «Я для вас — закон. Вы - вошь, вы в моих руках. Хочу — пущу ползти, хочу — прищелкну». Последующее подтвердило достоверность этих слов. У следователей изначально имелась готовая схема, под которую подгонялась жизнь конкретного человека. Осуществлялась такая подгонка с помощью угроз, мата, доведения осужденного до полного физического изнеможения. В первые месяцы Л.А. подвергался допросам и в дневное, и в ночное время, т.е. использовался популярный пыточный способ —
3
не давать осужденному спать. При таком ведении следствия Л.А. сразу понял, что неизбежно (и другого пути нет) признать и подписать выдвинутые против него обвинения, какими бы фантастическими они ни представлялись. Главное, чтобы в его «дело» не были вовлечены имена других людей. И хотя формулой «измена родине» изначально определялось «преступление» Л.А., все же он был потрясен и раздавлен, когда после восьми месяцев следствия увидел в полном объеме папку со своим «делом», состоящим из шести-семи бумажек-протоколов. Этого оказалось достаточно, чтобы некий мифический орган — Особое совещание — вынес нешуточный вердикт: «приговорить к двадцати пяти годам исправительно-трудовых лагерей». Без предъявления серьезных фактов, без какой-либо их документации Особое совещание щедро назначало осужденным огромные сроки, будто речь шла о детских забавах, а не о человеческих жизнях. Л.А. в первый момент не мог поверить в реальность вынесенного приговора. Зная, что в его возрасте он ни в каких условиях не проживет двадцати пяти лет, Л.А. понял, что лагерь обеспечен ему до конца жизни.
За месяцы, проведенные в Бутырках, перед Л.А. прошли десятки и десятки людей, с которыми он сидел в разных камерах или сталкивался при других обстоятельствах. При разнице социального положения и уровня образования их объединяло одно — никто не был оправдан, никто не был отпущен на свободу. Л.А. убеждался, что его история не исключительна; как и другие, он втянут в бесперебойную работу неизвестного механизма, действующего в угоду какому-то смыслу. Но какому?! Возникали мучительные вопросы, на которые не было ответов. Почему этот ужас происходит в России? Почему в государстве только одна машина работает безупречно — та, которая занята планомерным уничтожением собственного народа? И как в этих условиях оправдать собственную жизнь, как найти в ней смысл?
Можно утверждать, что в условиях лагеря менялось мироощущение автора воспоминаний. Сначала ему близка идея жертвы, когда человек (=интеллигент), осужденный на заключение и изгнание, принимает свой страшный жребий, обеспечивая тем самым свободу оставшихся на воле других людей. Эта мысль о необходимой жертве, лишенная, впрочем, всякого религиозного привкуса, дополняется позднее другими соображениями: жить можно только в лагере, иначе неизбежно принятие на себя ответственности за все, что происходит на свете, 4
и за то, например, что так много других людей сидят в лагерях. В дальнейшем у автора возникает потребность принять свою судьбу с доверием и примириться с той самой действительностью, которая сделала его изгоем. Годы, проведенные на севере, не только не сломали и не озлобили Л.А., но способствовали утверждению лучших возможностей его личности: благородной уравновешенности поведения; всегдашней потребности трудиться, включая неизбежные тяжелые физические работы; стремления к преодолению себя в постоянных духовных возрастаниях (в активной деятельности ума и чувства).
Плотность текста «Лагерного дневника» удивительна. Л.А. видел свою миссию в том, чтобы описать в подробностях ту особую реальность, в которой он оказался после тюрьмы. В условиях постоянного насилия над личностью складывался причудливый мир, в котором, помимо общего для всех «закона решетки», существовали и другие неписаные правила. Среди лагерного населения воры (вообще уголовный элемент) всегда преобладали над другими категориями осужденных. Воровской закон чаще всего имел больший вес и значение, чем официальные правила. В воспоминаниях запечатлено множество лиц, оказавшихся в зоне авторского внимания. Среди них представители лагерного начальства, лагерной обслуги, воровские характеры разного масштаба, и главное — индивидуальные истории зэков — людей разного социального статуса. Автор пишет об отношениях воров и так называемых «сук» (бывших воров, нарушивших воровской закон и вступивших в контакты с официальной властью), воров и осужденных по 58-ой статье, воров и лагерного начальства. Описаны лагерный быт, психология и поведение как отдельных людей, так и целых групп. Впечатляют картины кровавых расправ над «суками», вообще воровского произвола в отношении всей лагерной массы. Авторская манера письма, простая и будничная, только подчеркивает ужасы лагерного бытия.
В условиях лагеря Л.А. испытал на себе разные виды трудовой деятельности, как, например, разгрузка гравия на железной дороге или выкатка и погрузка леса. Однако и здесь, как и в начале войны, более всего занимался он медицинской практикой в качестве фельдшера. Этим диктуется еще один важный пласт воспоминаний — многообразные портреты представителей медперсонала и больных. Читатель найдет в «Дневнике» описание того, как протекали разные болезни - распознанные 5
и неугаданные, как вели себя больные люди в тех или других обстоятельствах. Подобный аспект, явно важный для автора, не делает содержание «Лагерного дневника» маргинальным, т.к. болезни лишь обостряют, придают большую наглядность общим человеческим проблемам. В любом случае и в деятельности этого рода проявились важнейшие качества автора: стремление облегчать боль и страдания людей, ухаживать за ними (часто делать то, что вызывает у неподготовленного человека брезгливое чувство) и внимательно вглядываться в человеческую душу. По отношению к натуре Л.А. его занятия: перевязывать раны, останавливать кровь, готовить лекарства — вплоть до вскрытия трупов — воспринимаются символически. Он хотел быть и сделался «лекарем жизни», врачевателем ее недугов.
В воспоминания о лагере автор не включил ни одного своего стихотворения, которых так много в первой части, посвященной войне. Между тем в условиях лагеря было написано более 50 стихотворений. На вопрос, почему в данном случае автор пренебрег поэзией, трудно ответить. Мы (родственники) отобрали из огромной массы поэтических текстов немногие и по собственному разумению включили их в «Лагерный дневник» в подходящих местах. Видимо, нужно сказать об отличиях этих стихотворных произведений от написанных в годы войны. Военные стихи прежде всего раскрывали внутренний мир отдельного человека в его индивидуальном трагизме. В лагерных стихах человек нередко отсутствует, либо представителем лирического «я» выступает объективированный исторический или мифологический персонаж. Видимо, автору казалось, что личный опыт конкретного человека в новых обстоятельствах не представляет интереса. Во многих стихах главным персонажем является величественная природа Севера («Северный Урал», «Перед глазами строгая гравюра», «Тучи», «Неистощимый оптимизм»...). Л.А. отбывал лагерный срок в районе Воркуты и Печоры — местах, расположенных за полярным кругом. С ними связаны представления не только о снегах, холоде и непроходимых лесах; существует точка зрения, что на Севере, в условиях холода и мрака полярной ночи, люди могут получить более глубокое духовное знание. Здесь, несмотря на лагерные бараки, возможно созерцание бесконечности снежных пространств и переживание парадоксального чувства свободы, вопреки вышкам и проволочным заграждениям. Достаточно далеко от этих мест поднимаются горные кряжи Северного Урала, 6
и если зимой, во время полярной ночи, они похожи на далекие облака, то летом открываются виды на горный пейзаж. Эти скалистые вершины, как пишет автор, несут в себе что-то до такой степени первобытное и дикое, безжизненное и неприступное, что при их виде в груди возникает мистический трепет.
Возможность прямых соприкосновений с природой, ощущение близости неисчерпаемых богатств земных недр воспринимались творческим сознанием автора как паломничество к истокам, к вечному: небу, снегам, смерти, наконец. Природа в ее нетронутости и девственности представала как бесконечное поле для приложения человеческих сил, для разнообразной человеческой деятельности, как будто история человечества начиналась заново. Так, в стихотворении «Заполярная кочегарка» речь идет о добыче угля, этого северного золота. Можно представить, что в мифологические времена в заполярных местах росли роскошные леса, которые в результате таинственных природных процессов превратились в залежи каменного угля. Уголь в его сказочных метаморфозах, обладающий свойством собирать и поддерживать жизнь, и является героем этого торжественного по своим ритмам стихотворения (едва ли не оды). В другом случае (стихотворение «Северный Урал») автор обращается к мифу о Золотом веке человечества, цивилизации гипербореев. Уральские горы предстают в нем сказочными Рилеями, за которыми живет гиперборейский народ, «не знающий нужды-невзгоды, ни диких войн, ни страшных тюрем». Вместе с тем для лагерных стихов характерны слишком прямолинейные переходы от природно-сказочных мотивов к социальным представлениям современности. В стихотворении «Бригада» жизнь человека, насильственно лишенного дружеских и сердечных связей, принадлежит новой общности — бригаде. И в психологии, и в совместных действиях людей проявляется коммунизм не как идея, а как принцип существования. Автор активно обращается к сакральной лексике советской эпохи, как будто непрестанно спорит с теми, кто обвинил его в предательстве родины и писании антисоветских стихов.
Л.А.Ельницкий был освобожден по амнистии через два года после смерти Сталина, проведя в заключении шесть лет. Однако «Лагерный дневник» не имеет финального катарсиса. Л.А. подвергся переследствию, которое происходило на Лубянке и мало чем отличалось от первоначальной процедуры вынесения приговора. Повторились допросы; нашли единственного 7
свидетеля «предательской» деятельности Л.А. — агентурного работника МГБ, т.е. человека, выполнявшего специально порученное ему задание. И на переследствии Л.А. поражали грубость, бессодержательность и тенденциозность составляемых протоколов: учитывалось только то, что могло рассматриваться как обвинение. По-прежнему подследственный воспринимался как человек ненадежный, потенциальный предатель и преступник, которого необходимо уличить, поймать, загнать в ловушку. Снова целый год Л.А. провел в тюрьме, в обстановке тягостной неизвестности. В конце концов его не освободили, не оправдали, а просто выставили глубокой ночью за ворота тюрьмы. И он вышел, «совершенно не чувствуя радости первых минут свободы...»
* * *
О судьбе Л.А.Ельницкого в науке читайте в третьей части воспоминаний — «На паперти храма науки» — последней книге трилогии. В настоящее время книга готовится к печати.
Л. М. Ельницкая
лагерный дневник
Арест и следствие
1950
Ожидание ареста. Арест. Лубянка
Радость возвращения домой стала рассеиваться довольно быстро. Хотя и выяснилось, что я могу и даже должен находиться именно в Москве, а не в Звенигороде или каком-либо другом месте, но мне был выдан в милиции не паспорт, а справка, лишавшая меня права перемены местожительства. На время фильтрации, как мне объяснили. Стало быть там, в фильтрационном лагере, была только присказка, сказка же начиналась здесь. На прежнее место работы меня не приняли: «До окончания проверки это невозможно, — объяснил мне директор. — Ведь мы же на Красной площади...»
«Действительно, — видимо старался меня утешить один из коллег по работе, — ведь совершенно же неизвестно, откуда вы явились». Слышать этакое от интеллигентного человека было как-то по меньшей мере странно. Тем более, что на моей памяти другой мой коллега — А.Я.Брюсов, брат знаменитого поэта — не раз козырял тем, что во время Первой мировой войны пребывал в немецком плену.
По отношению к той войне пребывание в плену расценивалось чуть ли не как геройство. Во всяком случае, таким людям соболезновали. Пребывание же в плену в эту войну считалось почти во всех случаях предательством.
9
У меня был знакомый, попавший в плен в бессознательном состоянии, с глубоким ранением лица. Месяца через три по моем возвращении стало известно о его аресте... И с тех пор все чаще и чаще стали доходить вести о людях, арестованных за пребывание в плену. Одна знакомая, потерявшая таким образом вернувшегося было домой мужа, высказала мысль, что постепенно пересажают всех бывших военнопленных... Она себя этим как бы утешала, а мне это слышать было теперь горько и страшно, хотя в Германии я всячески готовил себя именно к этому.
Послевоенная жизнь налаживалась очень медленно. Некоторое время я пробавлялся случайными литературными заработками (главным образом по линии Совинформбюро, где участвовал в сборе материалов для подготавливавшегося Ню- ренбергского процесса, и потом что-то из отобранного мной цитировал в своей речи Руденко), пока наконец, уже в 1946 году, не возобновился наш журнал по древней истории и я не устроился там на внештатную литературно-редакторскую работу. Ответственный редактор А. В. Мишулин встретил меня вопросом, прошел ли я госпроверку. Я было ответил утвердительно. Но взяв в руки мой документ, он объяснил мне лишний раз, что проверка только еще начинается...
Первые год-полтора я каждый день ждал ареста. Возвращаясь домой из Ленинской библиотеки в двенадцатом часу ночи, я смотрел, не стоит ли эмочка против наших ворот. И когда там бывала какая-нибудь машина, сердце у меня падало.
Очень не ладилась моя семейно-домашняя жизнь. Жена и дети от меня отвыкли, я их не понимал. То и дело испытывал огорчения от разных задевавших и ранивших меня еще и раньше замечаний и предположений. Время было очень голодное. Карточек у меня, ввиду моего нештатного положения, не было. Денег нам, несмотря на то, что я зарабатывал довольно много, ни на что не хватало. Самый близкий мне человек — не родная, но воспитавшая и очень любившая меня мать — постарела, стала какой-то растерянной, от меня отстранившейся и все внимание отдававшей нашим детям. Я очень старался со всем этим примириться, привыкнуть, но не всегда и далеко не во всем это получалось. Инстинктивно я искал людей, побывавших на войне, многое понимавших, с ними казалось мне как-то легче.
Встретился с вернувшимся, кажется, еще даже раньше меня Вороновым, с которым расстался при въезде в Рославль в самом начале плена и которого считал самым симпатичным и 10
близким себе человеком из всех, с какими познакомился на войне. Встретился и... испытал некоторое разочарование. Он был (как будто немного деланно) весел и жизнерадостен. Пригласил меня на концерт Грига (которого я не любил) и познакомил там со своим товарищем по плену, библиографом Ленинской библиотеки. Через некоторое время этот человек сообщил мне об аресте Воронова и о том, что дело его будет рассматриваться в суде. ...А еще через некоторое время меня остановила в библиотеке женщина, сотрудница, назвавшаяся женой этого человека и рассказавшая мне, что ее мужа как свидетеля по делу Воронова вызывали на допрос, с которого он не вернулся... «Получила бумажку с уведомлением о его смерти в результате сердечного приступа... Он никогда не жаловался на сердце», — прибавила она. В ее словах и движениях ощущались истерика и отчаяние... Она допытывалась, что я об этом думаю. Ей почему-то хотелось, чтобы я сказал ей что-либо существенное, высказал бы какое-то предположение, что ли, обо всем случившемся... А мне было в этот момент так страшно, как если бы речь шла о каком-то ужасном бандитском нападении, от которого некуда спрягаться. Я ничего ей не мог сказать. Говорил почему-то, что я едва знаю ее мужа — и действительно, я почти что не знал его, - а ей это было, видимо, вдвое мучительно, и она принимала это за попытку уйти, отстраниться от происшедшего несчастья... Я кое-как от нее отбился, стыдясь самого себя и испытывая животный страх перед будущим...
В это время у меня уже, кажется, был настоящий паспорт. Милицейский оперуполномоченный, к которому я ходил каждые три месяца продлевать мое временное удостоверение, долго листал взад-вперед картотеку, потом по^сал мне руку и сказал не глядя: «Чего уж там... идите получайте пятигодичку...»
Так что, несмотря на все ужасы окружавших меня арестов и исчезновений, действовали и противоположные факторы. Я постепенно начал было успокаиваться и в 1949 году почти уже не думал о возможности моего ареста. Во всяком случае, стало казаться, что если это и произойдет, го уже не в связи с моим пленом.
А между тем в 1948 году произошло одно очень серьезное обстоятельство, которому я, видимо, не придал всего необходимого значения... Как-то раз в библиотеку прибежала моя жена с расстроенной, испуганной физиономией и протянула мне повестку, напечатанную на машинке, на клочке простой 11
бумаги. Повестка была без почтовой марки, доплатная, и содержала приглашение в какую-то районную прокуратуру (не нашего района) на сегодняшний именно день. Поэтому жена так и разволновалась — как бы, мол, не просрочил, чтобы за это одно не пришлось расплачиваться.
Я попросил ее приготовиться ко всему, впрочем она и сама уже пребывала в ожидании всего самого худшего, и отправился по указанному в повестке адресу. Оказалось это в каком-то огромном новом доме с большим и темным подъездом. Спрошенный мной в самом уже подъезде какой-то человек мрачно кивнул на одну из дверей и обвел меня испытующим взглядом: «Здесь, здесь...»
Отворив дверь, я сразу же натолкнулся на часового, который не пустил меня дальше. По предъявлении моей повестки он стал звонить по внутреннему телефону, а потом закрыл передо мной дверь, сказав, чтобы я ждал. Через некоторое время явился еще один человек, тоже в военной форме, предложил мне войти и повел по коридору, все двери которого были закрыты портьерами. Мы вошли в небольшую комнату, где за столом сидело три или четыре офицера в форме МГБ — майоры и капитаны. Они о чем-то громко, не обращая на меня внимания, разговаривали. Когда меня заметили, один из майоров, с худым, нервическим, но очень неинтеллигентным лицом предложил мне сесть и сразу же протянул мне маленькую фотографию, с довольно неотчетливым мужским лицом, к тому же довольно замусоленную: «Знаете ли вы этого человека? Он ссылается на вас, как на свидетеля по совместному пребыванию в плену в Минске...»
Хотя изображение было неотчетливо, но я представил себе почему-то совершенно определенного паренька, который в полушутливом тоне как-то раз определил мою шинель как офицерскую. «Эх, Лев Андреевич, сразу ведь видно, что были вы политработником, чего от своих-то скрываете?..»
Я ответил майору, что по такой фотографии опознать человека не берусь, но минских товарищей по плену как будто бы более или менее всех помню — было их немного, — так что если бы мне его представили, то опознал бы наверно... Майор резким движением руки, сопровожденным каким-то досадливым восклицанием, отверг это предложение. Не помню, задавали ли мне какие-либо вопросы другие люди из числа сидевших за столом, но если задавали, то они не касались уже человека на фотографии. О нем речи вообще больше не было. Тут из-за 12
моей спины вышел еще какой-то новый человек в штатском, с живым и умным лицом, сразу же засыпавший меня вопросами о пребывании в плену. Вопросы были толковые, последовательные, позволившие ему быстро восстановить мой пленный путь. Иногда он не давал мне закончить ответ и переходил к следующему вопросу. В самом начале разговора он потребовал у меня паспорт, во время допроса внимательно прочел его от начала до конца, а потом продолжал его мять в руках и перелистывать машинально...
Меня после этого на протяжении следствия и заключения допрашивали разные люди, но такого настойчивого и продуманного допроса больше не упомню. Это был, видимо, единственный настоящий и толковый следователь на моем пути... «Не хотите ли вы у нас работать?» — спросил он меня неожиданно. «Нет», — ответил я довольно решительно. «Почему? — спросил он снова. — Ведь вы же работали на фильтрации в СМЕРШе. Вот ваша расписка...» Тут в руках его оказалась картонная папка. Когда он се раскрыл, я в ней увидел все мои анкеты, заполненные мной в гёрлицком лагере. Стало быть, они все-таки не пропали, как я допускал, а пришли за мной куда следует. Я ответил ему, что в лагерной группе СМЕРШ я на оперативной работе не был, а занимался чисто канцелярскими делами. Кроме того, я специалист-историк и очень хочу работать теперь именно по моей специальности. «Так... — протянул он задумчиво. — Напрасно вы отказываетесь... Ну, что же, — сказал он, возвращая мне паспорт, — может быть, мы вас еще позовем...» — «Пожалуйста», — сказал я ему, почувствовав на своем лице не то усмешку, не то гримасу, и ни с кем не прощаясь вышел.
На улице я пытался осмыслить все происшедшее, но мне мешало чувство радости, что все-таки обошлось, что я не согласился, а они как будто и не настаивали. Тут я вспомнил почему-то, как примерно за год перед этим меня вот так же вдруг вызвали в военкомат и тоже какой-то человек в штатском, к которому, однако, обращались «товарищ генерал», допытывался, не хочу ли я быть переводчиком с греческого. «Вот тут у вас написано, что вы греческим владеете». Я объяснил тогда, что-де это древнегреческий, сильно отличный от современного разговорного. И тогда меня тоже отпустили без всяких хлопот...
Дома обрадовались моему скорому возвращению. Никто из нас не придал особого значения этому происшествию, а оно- то, вероятно, и решило мою дальнейшую судьбу...
13
Если в 1949 году я не меньше, чем раньше, ожидал ареста, то при этом я все реже связывал такую возможность с пленом. Мне казалось, что все бывшие военнопленные, которых считали нужным посадить, уже пересажены. Кругом шли аресты разного рода людей интеллигентных профессий, членов партии, евреев...
Весна в 1950 году была ранняя, в марте стало уже довольно тепло. В тот вечер (числа 18-го) я долго ходил (и сидел на скамейке) на Патриарших прудах с моей близкой приятельницей — Женей Кучуро1. Она чем-то была расстроена, капризничала. Ей скоро надо было уезжать в Витебск, и мы долго не могли по-хорошему проститься.
Домой я пришел поздно, вероятно около часу. Дети уже спали. Я еще что-то такое делал за столом, когда около двух часов ночи постучали в дверь. Я отворил. В дверях стоял наш дворник Арсентий, а за ним трое неких людей в какой-то нелепой штатской одежде. Помнится, на них были какие-то плащи не по сезону и картузы. «Проверка документов...» У меня было отлегло от сердца: «Ах, только-то, всего-навсего...» Я достал паспорт и протянул его одному из вошедших, который его у меня и взял. С паспортом в руках он направился в нашу комнату, я за ним. Войдя, он вынул из кармана и протянул мне какую-то карточку, ослепившую меня красными чернилами в черной рамке. Прямо как траурное объявление: ордер на арест и обыск. Красными чернилами мое имя, отчество и фамилия... Так. Вот оно, наконец. Вот и все. В комнату вошли еще два человека уже в форме МТБ. Два майора. Предъявивший мне ордер оказался капитаном. Он быстро и поверхностно обыскал меня. Вынул из бокового кармана тужурки деньги, пересчитал их и возвратил мне. Я передал их стоявшей тут же в оцепенении жене: «Мне больше не нужно — перехожу на казенное положение», — сострил я. «Бросьте, бросьте, — грубо вмешался один из майоров, - деньги вам пригодятся, возьмите». Тогда я взял одну из бумажек и сунул обратно в карман.
Мне приказано было одеться, и капитан повел меня через двор в переулок. Машина, вышедшая уже в то время из моды эмочка, стояла не у наших ворот, как это мне постоянно грезилось, а у противоположного дома. Мы сели в машину. Капитан взял меня
’Имеется в виду Е.Э.Печуро — историк, ветеран ВОВ, участница правозащитного движения. Здесь и далее прим. ред.
14
под руку. Громко сигналя, машина вылетела на Арбат и, сделав абсолютно запрещенный тогда на этой улице левый поворот, стремглав понеслась к центру... «Вот я и арестован, вот я и арестован», — крутилось у меня в голове. Страха я в эти минуты, кажется, не чувствовал. Наступило состояние некоторого возбуждения.
Как мне много времени спустя стало известно, майоры всю ночь производили в нашей квартире обыск. Один из них очень ругал мою жену за большое количество хранившихся у нас старых писем. «Я, когда получаю письмо — прочту его и тут же разрываю, а вы сами на себя материал собираете...»
Один из майоров все допытывался, где же мои костюмы. Он был очень удивлен и не верил, что у человека, работающего в Академии наук, нету почти ничего сверх того, что на нем...
Взяты были мои стихи, некоторые вызвавшие подозрение рукописи (главным образом латинские и греческие тексты). Остальные рукописи и иностранные книги были свалены в сундук и опечатаны.
Машина наша пересекла Лубянскую площадь и подъехала к МГБ со стороны Малой Лубянки. Открылись ворота, и мы оказались на освещенном дворе. Быстрая высадка, кто-то меня перенимает у капитана: фамилия, имя и отчество, год рождения... Лесенка, коридоры, отворяется дверь, комнатка в два квадратных метра, не больше, в ней маленький столик. Дверь за мной защелкивается. Я один. С размаху падаю на пол и лежу без движения... «Вот и все, вот и все...» — проносится у меня в голове.
Господи, если бы это действительно было все. «Кто разрешил лежать?..» — раздалось у меня над головой через несколько секунд или минут (времени для меня тогда не существовало). Меня поволокли в баню, сунули под холодный душ. Он мне показался приятен, и только было я его восчувствовал, как... «Вылезай, а ну быстро...» Едва налезающее на меня нижнее белье, надетое кое-как на мокрое тело, — вытираться некогда да, кажется, и нечем. В руках мои собственные вещи. Опять маленькая комнатка, подобная первой. Приведший меня в нее человек — явно какой-то банщик или что-то в этом роде, чуть ли не в переднике — запихивает мои вещи в холщевый мешок. Я этому обстоятельству почему-то радуюсь — освободились руки. Только усаживаюсь — имеется табуретка — без мыслей и чувств, довольный тем, что можно сесть, и все еще мокрый, как дверь отворяется, врывается служитель, ни слова не говоря вытряхивает из мешка содержимое и в чрезвычайной поспешности 15
исчезает. У меня мелькает мысль, что, видимо, свежеарестованных много и персоналу приходится поворачиваться...
Потом меня стригут, фотографируют - какой-то весьма гражданского вида фотограф - стоя и сидя, с большим многозначным номером на груди. Потом берут отпечатки пальцев, и я возвращаюсь в комнатку с испачканными черной мастикой руками...
Снова коридоры. Выводят на двор. Лестница, второй этаж, довольно большая комната с узкими скамьями по сторонам и большим столом в одном из углов. Человек в военной форме — старшина или сержант — вновь меня обыскивает, и гораздо более тщательно, чем это сделал дома капитан. Составляет опись моих вещей в нескольких экземплярах, на одном из которых я расписываюсь. Затем приносят протокол обыска, совершенного у меня дома, на котором стоит подпись жены. Тоже расписываюсь.
Трудно сказать, сколько времени ушло на все эти процедуры. Мне его в тот момент было особенно трудно оценить трезво. Только глядя на спокойно и обыденно действующего старшину, понимаю, что ночь уже прошла...
Все эти произведенные надо мной, одна за другой, операции отвлекли меня несколько от основной мысли, крутившейся в голове и стучавшей в сердце с момента моего ареста, что все кончено. О доме я не вспоминал до того, как передо мной положили протокол обыска. Сразу ярко встала перед глазами наша комната, растерянная и в то же время судорожно на чем- то сосредоточенная жена, спящие дети...
Меня удивило, что в протоколе обыска были помечены некоторые стихи друга моего Тани Разиной1, которых, как мне казалось, у меня дома не было. Незадолго до всего этого у нее были какие-то неприятности по поводу стихотворения «День победы», о которых она что-то не очень внятное мне рассказывала и забрала после этого у нас, казалось, все свои стихи. Затем, где-то на улице, был учинен допрос одной нашей общей знакомой — явно каким-то сотрудником МТБ, который спросил ее, известны ли ей стихи «День победы».
Все эти происшествия, немало меня волновавшие прежде, остро всплыли теперь в моей памяти, и я подумал о том, что как-то не придал им раньше необходимого значения. «Как глупо, как глупо, — мелькало у меня в голове, — что Танины стихи 1 Имеется в виду Т.М.Родина, историк театра.
16
оказались все-таки у нас. Но ведь их же не было, не было... Значит все-таки они были. Как это глупо, как глупо...»
Из этой большой и светлой комнаты меня провели по слабо освещенному коридору на второй или, может быть, уже на третий этаж — со счета я сбился — и поместили, как мне показалось, в камеру — небольшую комнатку метра два на четыре, без окна, с небольшим столиком в углу и примыкавшей к нему скамьей - довольно широкой и длинной, на которую при желании можно было лечь, так, впрочем, что ноги с нее свисали.
За дверью в коридоре часто слышались торопливые шаги и иногда приглушенные голоса. В дверной глазок время от времени кто-то заглядывал. Я подошел к двери и со своей стороны поглядел в глазок, но не увидел ничего, кроме какого-то туманного блеска. Я не понимал еще, что снаружи глазок закрывается металлической заслонкой, которая приподымалась, когда ко мне заглядывали, и блестела мне в глаза, когда заглядывал я.
Вскоре мне понадобилось в уборную. Я постучал в дверь, когда вблизи были слышны шаги. Дверь приотворилась с прищелкиваньем. В просвете обозначился человек в военном обмундировании. Я высказал ему мою просьбу. «Погоди», — шепотом и с некоторой таинственностью произнес он, и дверь затворилась. Ждать пришлось довольно долго. Наконец дверь отворилась снова: «А ну, быстро...» Он взял меня за рукав и провел несколько шагов по коридору. Отворил одну из дверей, и я очутился в большой уборной, которой одновременно могли пользоваться человек пять, если не больше. Стены были мрачно серые. Мрачности прибавляло тусклое освещение. Возвышение с отверстиями, над которыми надо было присаживаться на корточки, окрашено было в черный цвет. Промывание производилось автоматически, с шумом, каждые 15—20 секунд. За мной, видимо, следили через глазок, так как дверь отворилась, едва я спустился с возвышения, еще не успев привести себя в порядок.
Я снова в моей «камере». Некоторое время все тихо, потом до меня доносится откуда-то с противоположной стороны коридора довольно громкий стук в дверь. Через некоторое время раздается женский голос, умоляющий сквозь всхлипывания: «Пожалуйста, пожалуйста, что же будет с моим ребенком, он же один, один...» — и приглушенный мужской голос, что-то ей отвечающий. Снова тишина, нарушаемая приближающимися и удаляющимися шагами.
17
Дверь отворяется и распахивается широко. В ней оказывается человек в белой поварской шапочке и белом кителе, с подносом в руках. На подносе большой кусок хлеба, кружка чая и кусок сахару. Я какой-то момент колеблюсь - брать или нет? Человек сам быстро перекладывает все это мне на стол и уходит. Мне не хочется ни есть, ни пить. «Ладно, — думаю я, — чай-то, может быть, пригодится». Но через некоторое время дверь снова отворяется, и тот же человек требует у меня обратно кружку. Я делаю два-три судорожных глотка и отдаю ему ее.
Долгое время меня никто не беспокоит. Мысли лихорадочно перескакивают с предмета на предмет. Больше всего меня беспокоит, что происходит дома. У нас ведь имеют обыкновение арестовывать также и ближайших родственников. Может быть, кого-нибудь из них уже арестовали, и они плачут теперь, как та женщина, голос которой мне слышен был в коридоре? Что будет дальше со мной? Почему меня никуда не вызывают, ни о чем не спрашивают?..
Так проходит еще какое-то неопределенное время. Дверь опять отворяется. Тот же человек с подносом, на котором две миски — с супом и с кашей. Я категорически отказываюсь. На лице человека удивление — искреннее или деланное. «Возьмите, — говорит он, — пусть постоит, может быть надумаете...» Я беру миску супа и ставлю ее на стол. Несколько минут спустя мне становится любопытно, чем и как здесь кормят. Я беру ложку супа и подношу ко рту. Что-то вроде вкуса гороха на языке. Но, боже мой, какой ужасный, никогда прежде не испытанный, непонятно от чего происходящий привкус, вызывающий отвращение, смешанное с отчаянием. Разве можно будет когда-нибудь что-либо подобное есть? Да скорей всего оно и не нужно...
Суп у меня через несколько минут с таким же выражением сожаления на лице забирается. Опять идет и идет время под аккомпанемент щелкающих дверей, шаркающих ног и сбивчивых, перескакивающих с предмета на предмет, мыслей. Я начинаю чувствовать утомление, тяжесть в спине. Хочется лечь, что я и делаю, вытянувшись на скамье. Дверь приоткрывается. «Лежать нельзя, — говорит известный уже мне человек в военной форме. — Посадили вас, так и сидите...» — произносит он с оттенком раздражения, так, как будто это его чем-то непосредственно касается. Я с недоумением и огорчением сажусь. Сижу облокотившись на стол, подпирая одной рукой голову и закрыв глаза. Дверь опять отворяется. «Спать не разрешается», — 18
произносит тот же голос... «Что ж это будет? — думаю я. - Глаза-то ведь закрываются сами». Я стараюсь держать их открытыми, а они незаметно закрываются. Замечая через глазок, что я все-таки дремлю, надзиратель всякий раз, проходя мимо моей камеры, проводит ключом по замку, издавая резкий, скрежещущий звук, заставляющий меня всякий раз сильно вздрагивать. Во мне все кипит, и время от этого идет, вероятно, немного быстрее. Как ни старается мой мучитель (я воспринимаю его поведение как чистое издевательство, садизм, хотя позднее я стал понимать, что, может быть, это было и не так: он нес ответственность за то, чтобы заключенные не спали в неположенное время), как ни переворачивало меня всего от ударов и скрежета ключа по замку, усталость брала свое, и когда какие- то две женщины в военной форме бросили мне в камеру матрац и велели ложиться спать, я воспринял это уже сквозь какую-то сонную пленку на глазах и в сознании: в явлении их было что- то ангельское, да и говорили они со мной довольно добрыми, мягкими голосами. Скамеечка в моей камере была и коротка и узка для матраца, но я привалился на него и тут же уснул. Просыпался несколько раз от того, что матрац съезжал из-под меня, но сейчас же засыпал снова, немного его поправив.
О жизни заключенных в тюрьмах и лагерях мне было очень мало известно. И хотя некоторые из моих родных и знакомых бывали в заключении, и мне приходилось видывать людей, вышедших из тюрьмы, слышать их рассказы, сознание мое не работало над тем, чтобы собрать эти рассказы воедино и создать на их основании какую-то более общую картину. Вероятно потому, что, к стыду моему, по принципу «сытый голодного не разумеет», все эти виденные мной люди и их рассказы не производили на меня достаточно глубокого и стойкого впечатления. Некоторые из них стали проявляться в моем сознании с необходимой значительностью только уже потом, когда я стал их оценивать в моих воспоминаниях на основании собственного опыта.
В 1947 году, довольно поздней осенью, я возвращался из Костромской области с археологических раскопок, и у меня была пересадка в Ярославле. Время вообще было очень трудное и очень голодное. Более голодное, чем в войну. Пересадка происходила ночью. Поезда на Москву ждали мы на совершенно пустынной, плохо освещенной платформе. Гуляя по ней, я заметил у самого конца платформы одинокий вагон с забранными решеткой окнами. Я знал, что в подобных вагонах перевозили 19
заключенных. Но этот вагон был, видимо, пуст. Ничто в нем не подавало как будто бы никаких признаков жизни; пока, наконец, по направлению к нему мимо меня не проследовала странная, поразившая меня своей необычностью, процессия: три конвоира, двое из них с собаками-овчарками на поводках, сопровождали, идучи по сторонам и сзади, пять или шесть заключенных, шедших в одну шеренгу и державших друг друга под руки. Это были очень молодые ребята и девушки. Поражал их необыкновенно истощенный и изможденный вид. Они были предельно худы, лица их ничего не выражали. Впечатление было такое, что они в одном нижнем белье, с открытыми, стрижеными коротко волосами. Шли они медленно, и конвой их не понукал. Эта странная и страшноватая картина с особенной силой стала всплывать в моей памяти только тогда уже, когда я сам стал передвигаться в сопровождении конвоя.
«Подъем!» Это слово произнес человек в военной форме, но не тот, который не давал мне вчера спать. Он открыл дверь и забрал мой матрац. Я сел, ни о чем как-то не думая, лишь постепенно входя опять в тюремную обстановку и во вчерашние чувства. Потом началась вчерашняя программа: сводили в уборную, принесли чай и полбуханочки хлеба, через несколько часов предложили обед, от которого я снова отказался... Есть было совершенно невозможно, физически ничто бы не полезло в горло, настолько все нутро пребывало в каком-то спазматическом состоянии.
По прошествии еще некоторого времени — явно был уже вечер — отворилась дверь и в ней обозначился еще один человек в военной форме. «Фамилия?» Я ответил. «Тише, — сказал он мне с опасливой интонацией в голосе. — На допрос...» И шире отворил дверь. Я беспомощно огляделся и вышел... «Вот оно, начинается...»
Коридор и лестница вниз, с сильно выбитыми ступенями. Сколько тысяч ног прошло по ней таким же порядком? Руки мне было приказано заложить за спину. Он вел меня, держа слегка за один локоть, подталкивая немного вперед и направляя при поворотах. Лифт. «Станьте лицом к стене». Лифт был разделен надвое болтающимися стеклянными створками, позади которых остался надзиратель. Подымаемся этажа на три-четыре. Широкий длинный коридор. Останавливаемся перед одной из многочисленных дверей с номером над ней, как в гостинице или в учреждении, впрочем, как и в тюрьме... Надзиратель сту20
чит, отворяет дверь и заводит меня внутрь помещения, размеры которого мне не сразу становятся ясны. У двери справа стул и голый маленький столик, с довольно яркой лампой высоко над ним. В глубине комнаты темное занавешенное окно, большой стол, на нем лампа с темным абажуром, создающим полумрак в той части комнаты. За столом человек в военной форме с офицерскими погонами. Знаки отличия мне не видны.
«Ельницкий, Лев Андреевич?» И после моего ответа: «Садитесь». Я занимаю место за маленьким столиком. Помедлив некоторое время, человек встает и начинает прохаживаться по комнате. Это высокий, с простыми, но благообразными чертами лица, молодой, лет тридцати с небольшим, блондин в капитанском чине воздушных войск. «Странно», — думаю я невольно.
«Так как же это вы? — начинает он, поглядывая на меня с деланным любопытством. - Все-таки сели, значит?» Я пожимаю плечами. Он прохаживается еще раз-другой очень спокойным шагом, потом останавливается напротив меня и говорит: «Моя фамилия Александров, я буду вести ваше дело». После некоторой паузы он раздумчиво продолжил: «Вам нужно сразу же понять некоторые вещи. Вы, конечно, считаете себя невиновным, но, раз вас посадили, значит вы виновны, и мы вам это докажем... Вы это поймете, признаете это. Вопрос только в том — сколько на это потребуется времени. Сопротивление следствию вам ничего не даст, только здоровье свое испортите. В ваших интересах, чтобы все это прошло быстро и вы бы из тюрьмы отправились в лагерь. Другого пути для вас нет...» Он помолчал. «Вам надо понять прежде всего, что прежняя ваша жизнь кончена навсегда. Вот, - он взял со стола мои документы, — Академия наук, библиотеки — этого ничего больше не будет. Вы будете осуждены, как бы вы ни вели себя на следствии. Срок наказания определяет суд, но профиль лагеря определяем мы, в зависимости от поведения на-следствии. Вы можете облегчить свою судьбу...»
Мне было даже как-то странно — насколько все происходило близко к тому, что можно было представить себе относительно этих вещей по рассказам, отчасти по литературным впечатлениям.
«Вы говорите так, как будто бы не существует законов», — первое, что сказал я ему довольно уверенно. Он остановился и вдруг с ударением произнес: «Я для вас закон... Вы в моих руках. Поймите же, - он подошел вплотную к столу, - вы вошь...
21
Хочу пущу ползти, хочу прищелкну. Это вам еще непонятно, но поймете», — сказал он с подчеркнутой уверенностью.
«Как все это ужасно и как заранее отвратительно. Пугает, конечно, хотя, вероятно, в общем и прав...»
После некоторого молчания он сказал: «Нам сегодня надо решить один важный вопрос, который повлияет на ход следствия... Вы обвиняетесь в измене родине по статье 58, 16. А по ходу следствия мы вам еще и десятый пункт пришьем...»
Он сел и стал заполнять какую-то карточку. «Мне нужно знать, признаёте ли вы себя виновным», — сказал он довольно безразличным тоном.
Я почти не размышлял по этому поводу. И его слова, и все, что я знал о процедуре следствия, убеждало меня в том, что люди так или иначе, рано или поздно, признают свою вину. В памяти у меня было много всяких случаев. Я помнил открытый суд над Крестинским, бывшим секретарем ЦК, который на суде заявил о том, что его признание было вынужденным. Обвинявший его Вышинский сказал тогда, что следствие должно быть предпринято вновь. Но через какой-нибудь час или даже менее того Крестинского ввели на суд снова, и он, попросив у суда извинения, подтвердил прежнее признание и объяснил свое недавнее поведение расстройством нервов...
Помнил я и рассказ одного человека, выпущенного из-под следствия в 1939 году. Это было в Средней Азии, в Турткуле. Он только что вышел на волю (был такой очень короткий период, когда вдруг выпустили некоторое количество людей, обвинявшихся по политическим статьям), был необычайно взволнован, перевозбужден и без удержу все рассказывал и рассказывал... Это был почти горячечный бред. Просидел он больше года. Его обвиняли последовательно в шпионаже в пользу разных иностранных держав. Он не признавался — слишком все было нелепо — потом объявил голодовку. Голодал больше двух недель — и вот его выпустили. С ним сидели разные среднеазиаты по таким же точно обвинениям. «Я им говорил: “Дураки, давайте голодать вместе...” А они: “Ой, не можем, курсак болит”...»
Я не считал себя способным на героические действия. Да собственно, я понимал и раньше, что пребывание в плену, мирное существование у врага с точки зрения всего нашего начальства, а также значительной доли даже и не начальства — несомненное преступление...
22
«Я себя виноватым не считаю, но понимаю, что с определенной точки зрения я виноват».
«Как это вы там считаете для себя — наплевать. С точки зрения государственной, вы преступник. Признаёте ли вы себя виновным?» — повторил он громко и настойчиво. «Да», — ответил я... «Подпишитесь...» Он протянул мне карточку. Я подписал почти не глядя, как подписывал протоколы обыска...
«Ну вот, теперь дело пойдет легче», — сказал он так, будто с плеч у него упала некая гора. Он даже и посмотрел на меня веселей. «Теперь вы поедете в Бутырки, а не в Лефортово... Бутырки - это у нас дом отдыха...»
Дверь неожиданно отворилась, и в ней появился приведший меня сюда надзиратель. Точно он стоял за дверью и следил за происходящим в кабинете следователя. Этого, конечно, не могло быть, но я совершенно не заметил, как следователь его вызвал. Видимо, это было сделано незаметным нажатием кнопки звонка. «Идите», — сказал мне следователь. Я встал и, ни слова не говоря, вышел. На душе было очень неприятное чувство. «Надо ли было так быстро соглашаться? Испугался, как мальчишка... Увы, не воротишь...»
Бутырки. Следствие
Через несколько часов после этого — трудно было определить, что это было за время суток, а у меня в памяти все уже перепуталось и ощущение времени совершенно нарушилось — меня вывели с моими вещичками в коридор, какой-то человек снова заставил меня шепотом произнести мою фамилию и имя. Потом он меня повел вниз по лестнице, по которой я уже однажды подымался, вывел во двор, где был белый день и где меня ждала маленькая закрытая машина типа тех, в которых развозят по магазинам небольшими порциями какие-нибудь продукты. Задние створки с небольшими окошечками оказались уже отворены, потом меня втиснули в совсем маленькую кабинку на одного человека, совершенно глухую. Мне было приказано не подавать голоса и не стучать. Дверь в кабинку захлопнулась, короткое время за стенкой слышалась какая-то неопределенная возня, и наконец мы поехали. Ехали мы минут пятнадцать, слышно было, как отворились какие-то ворота, снова немного езды, остановка. Дверца кабины открылась, и 23
я очутился в каком-то довольно широком пространстве, ограниченном высокой глухой стеной, перед большой распахнутой дверью. Меня ввели в большой, высокий и светлый вестибюль, напоминавший вокзальный зал на какой-нибудь довольно большой станции. Ко мне подошел человек в синем халате, похожий на кладовщика, но на нем были форменные галифе и военного образца сапоги. В руках у него была бумажка, типа накладной, на которой он прочел мою фамилию. Я подтвердил, что это действительно я, после чего он меня повел по широкому коридору с большим количеством дверей, отворил одну из них, и я оказался в небольшом помещении, выложенном зеленоватосерым кафелем примерно на высоту человеческого роста, с узкой скамейкой-выступом по одной из стен.
Где я? Видимо, меня действительно с Лубянки перевезли в какую-то тюрьму. Бутырки? Возможно, но покуда у меня не было никаких доказательств этого. Оставалось ждать того, что будет дальше. Через час или больше все тот же «кладовщик» отворил дверь и повел меня обратно в вестибюль, а через него в большое, выходившее в него помещение, с большим столом посредине и широкими скамьями по стенам. Мне было предложено раздеться догола и положить все мои вещи на стол. Когда это было сделано, «кладовщик» принялся очень внимательно осматривать мою одежду. Тщательно просматривались все швы, металлические пуговицы удалялись. Особенно долго он возился с моими полуботинками и, наконец, извлек из них какие-то металлические пряжки, видимо поддерживавшие задники. Взгляд у него был при этом торжествующий, и он не без самодовольства произнес: «А другой бы и не заметил...» Видимо, это был виртуоз своего дела, знавший себе цену или набивавший ее себе. Я подтвердил ему, что никогда и не подозревал о существовании в обуви подобных пряжек.
«То-то», — сказал примирительно он. После этого заставил меня поднять руки и поглядел под мышками, залез пальцем в рот и внимательно прощупал пространства между деснами и щеками, заставил закинуть голову назад и заглянул в ноздри. Наконец, он велел мне расставить ноги, нагнуться, и в таком положении обследовал мой задний проход. Обыск был, таким образом, вполне исчерпывающим. Мне было предложено одеться: часть вещей — пальто, шляпу, кашне - взять с собой, а какие-то вещи у меня отобрали. Было сказано, что они поступают в камеру хранения и пробудут там до моего выхода из 24
тюрьмы. Опять то же самое, обложенное кафелем помещение. Через некоторое время «кладовщик» отворил дверь, подал мне бумажку и карандаш: «Проверьте, все ли вещи перечислены, и распишитесь». Это был печатный бланк камеры хранения Бутырской тюрьмы, что на нем и было помечено. Так. Стало быть, я действительно в Бутырках.
После некоторого ожидания «кладовщик» меня вывел, провел по коридору, потом по лестнице на третий этаж. Это был большой тюремный зал, с огромным световым витражом из маленьких оконных переплетов, как в католической церкви. За окнами темно. Ночь или поздний вечер. Этажи тюрьмы были отмечены узкими балконами во всю длину зала, на которые выходили двери камер. Пространство над перилами балконов было забрано густой проволочной сеткой, так же точно, как и пространство над перилами лестниц. У стены тюремного зала, противоположной витражу, балкон значительно расширялся: там стоял стол, висели часы и находилось два-три человека в военной форме. Опять: «Назовите шепотом фамилию и имя». Заполняется какая-то карточка, после чего меня ведут по левому балкону и останавливают у двери, обитой металлом, с номером 283. Дверь отворяется, меня подталкивают сзади, и я оказываюсь в темном, как мне представляется, помещении. Дверь за мной захлопывается, я еще не успеваю оглядеться, как раздаются приглушенные, но радостные голоса: «Здравствуйте, здравствуйте...» Замечаю, что по стенам стоят три койки, на которых лежат люди. Над дверью горит забранная в проволочный футляр довольно тусклая лампочка. В противоположной двери стене — небольшое, на высоте человеческого роста, окно с открытой широкой, в половину его, форточкой. Окно снаружи прикрыто деревянным козырьком, подымающимся снизу настолько, что остается виден лишь кусочек неба вверху. Между койками стоит одна табуретка, которую кто-то услужливо пододвигает мне, предлагая сесть. У самой двери, с левой стороны, небольшой столик-этажерка, на котором стоит жестяной чайник, три кружки, три миски и три деревянных ложки.
Приглядываюсь в полумраке. Люди, без верхней одежды, лежат на металлических койках под темно-серыми одеялами. Два лица молодые (одно из них при этом явно нерусское) и одно пожилое, заросшее седоватой бородой. Все мне очень обрадовались, в особенности когда узнали, что я только что с воли. Оказалось, что они сидят уже давно - по году и больше.
25
Самый молодой из них — реэмигрант из Китая — был особенно любопытен и разговорчив. Прежде всего расспросил о международной политике, а потом — что и почем в Москве продается. Рассказал о себе: сын южно-русского мукомола, уехавшего в Китай в двадцатые годы. Кончил там Институт путей сообщения в Харбине, но по специальности не работал. Пробовал все: техником на маслобойном заводе, писарем в полиции, наконец, в последние годы — саксофонистом в ресторанных оркестрах Тянцзина... Сидит уже года полтора по обвинению в шпионаже. После того как вернулся в Россию, жил на Урале и работал в системе Ивдельлага НКВД, на местной железной дороге. Для его жены климат Северного Урала оказался суров, и они перебрались под Тулу, в подмосковный угольный бассейн. Жилось очень хорошо, но там-то его очень скоро и арестовали...
Худощавый и седоватый человек — из-под Берлина. Тоже эмигрант. В прошлом приказчик-меховщик. Действовал по поручению своей фирмы в Финляндии, где его застала революция. Пятьдесят девять лет. Маялся всю жизнь на очень тяжелых работах. В годы войны — в Бельгии на угольных шахтах. После нашей победы перебрался в Германию и заведовал подсобным хозяйством какой-то военной части. Очень просился в Россию —у него в Москве родственники. Однажды его вызвали и сказали: «Вот вы в Россию просились, теперь и поедете...» «Посадили, — говорит, — меня в самолет и привезли прямо сюда. Обвиняют в шпионаже. Говорят, в 1920 году передал кому-то какой-то сверток. В нем-де были какие-то шпионские сведения. А я уже и не помню. Может быть, и вправду кому-нибудь чего-нибудь передал? Отрицать не могу. Боюсь, вот теперь возьмут и расстреляют... Как меня привезли, спросили: “Вы знаете, где вы?” — “Нет, — говорю, — не знаю”. — “Это ГПУ...”»
Человек явно очень простой, едва образованный, совершенно не знавший нормальной жизни — всё по баракам да по лагерям...
Третий сосед был совершенно особого рода. Молодой, чернявый, очень красивый, с прямыми и довольно интеллигентными чертами лица, в по-военному сидящем на нем гражданском костюме. Венгерский офицер. Находился в связи с английской разведкой. По приходе наших явился в комендатуру как подпольный союзник. Тут же был арестован и препровожден в Москву. Обвиняется в шпионаже... «Вот, — думаю, — в какую компанию я попал. Небось и меня будут обвинять шпионаже?..»
26
Пока шли все эти расспросы, в камеру была брошена железная койка, матрац, подушка и одеяло. Мне помогли всё это определить на место. В двери открылся небольшой квадратный люк «кормушки», и рука протянула простынку и наволочку. Приказано было ложиться спать. Заснуть, конечно, сразу оказалось невозможно. Я лег, и разговор продолжался едва слышным шепотом. Я сказал, что в тех камерах, где мне довелось побывать, не было ни окна, ни койки... «Это были не камеры, а боксы», — объяснили мне. Теперь вот я в камере следственного корпуса Бутырской тюрьмы. И китайский реэмигрант и венгр по нескольку месяцев провели до этого в Лефортовской тюрьме. Здесь, говорят, гораздо спокойней и лучше. Бутырки — самая легкая тюрьма. А самая строгая — Сухановская, но в ней никто из присутствующих не бывал. Очень захотелось спать. Разговор сам собой прекратился. Я ощупал твердую подушечку — вата. Матрац тоже ватный. Койка чугунная, с широкими толстыми полосами железа вместо сетки.
Когда отворилась кормушка и голос надзирателя произнес «Подъем», было еще темновато. Трудно было сообразить — то ли это еще очень рано, то ли просто темновато в камере. «Шесть часов, — объяснил мне музыкант. - Утром бывает оправка, чай. Потом, среди дня - до или после обеда — получасовая прогулка. Часов в семь — ужин, и в десять вечера — отбой».
Мы уже все сидели на своих койках. Как бы в подтверждение сказанного, дверь камеры отворилась и надзиратель сделал рукой движение, обозначавшее, что надо выходить. Старичок подхватил стоявшее в уголке у самой двери цилиндрическое ведерко, выкрашенное в зеленый цвет, с плотной крышкой, и первым вышел из камеры. Это была параша, которой я раньше не заметил, ибо не испытывал еще в ней нужды, поскольку ничего не ел и пил мало.
Нас привели в очень чистую, просторную уборную, где имелось пять обыкновенных клозетных унитазов и большой умывальник с двумя кранами. Старичок прежде всего опростал и прополоскал под краном парашу. Музыканту надзиратель вручил несколько кусочков бумаги, которую тот поделил между нами. Желудок у меня не работал. Я с удовольствием умылся и первым был готов к обратному путешествию в камеру. Поэтому я было поднял парашу, но старичок живо запротестовал и отобрал ее у меня. «Это моя обязанность», - пояснил он. Музыкант с иронической улыбкой сказал мне, что бесполезно 27
пытаться отнять у него парашу — это самая легкая повинность. «Вам придется помогать мне в уборке камеры и натирке пола. Венгр вытирает пыль». «Пюль», — произнес он, передразнивая венгра, на что тот добродушно улыбнулся.
Снова камера. Уборная отделена от нее порядочным расстоянием. На всем пути надзиратель, ведший нас туда и оттуда, стучал непрерывно ключом от дверей по своей поясной пряжке. Эта музыка предупреждала других надзирателей о том, что навстречу ведут заключенных. По тюремным правилам лица, сидящие в камере, никого больше, кроме своих сокамерников, не видят. Если навстречу доносится такой же звук, то надзиратели начинают переругиваться, после чего одну группу куда- нибудь заводят — в уборную, в пустую камеру и т.п., чтобы пропустить другую. Когда мы вернулись в нашу камеру, воздух в ней показался прохладным и чистым — дверь, видимо, оставалась открытой во все время нашего отсутствия.
Пространство между койками, стоявшими по две вдоль длинных стен камер, было не шире 70—80 сантиметров, так что ходить по камере мог только один человек, едва не задевая колени сидящих. Покуда мы с музыкантом подметали веником пол, отодвигая койки, и натирали его суконочкой, остальные двое то и дело должны были менять место, чтобы нам не мешать. К удивлению, после этой уборки набралась довольно порядочная кучка пыли, которую мы выкинули в парашу. «Не поймешь, откуда она только — эта пыль — берется?» — сказал старичок. Пыль залетала, конечно, через никогда не закрывавшееся окно, хотя это и был третий этаж.
Вскоре открылась кормушка, через которую подали четыре пайки хлеба, грамм по четыреста, четыре кусочка сахару, щепотку фруктового чая, и в поданный музыкантом чайник была налита горячая вода. Это был завтрак. Музыканту, впрочем, перепало еще что-то — то ли кусочек рыбы, то ли маленький ломтик масла. Он как человек, сидящий больше года, находился на спецпитании — оно было несколько калорийней обычного.
Каждый из нас выпил кружку «чая» с кусочком сахара и небольшим куском хлеба, который приходилось ломать руками.
Только мы закончили завтрак и убрали посуду, как кормушка опять открылась. «Наверно меня вызывает следователь», — с надеждой в голосе произнес музыкант. Но показавшаяся в отверстии голова надзирателя произнесла: «На букву “Е”». Я назвал мою фамилию. «Слегка», — сказал надзиратель. «Что это 28
значит?» - спросил я. «Это значит, что вас уже вызывают надопрос, — с некоторой завистью в голосе сказал музыкант. — Что- то ретиво они за вас берутся... Мне долгонько пришлось дожидаться первого вызова». Дверь камеры отворилась, и я вышел. Перед дверью стоял надзиратель с бумажкой в руке. Спросив у меня имя, отчество и фамилию, он спрятал бумагу в карман и скомандовал: «Руки назад». Я положил руки за спину. Он взял меня легко за плечо, и мы пошли, все более ускоряя шаг. Шли разными коридорами, мимо дверей камер, перед которыми ходили надзиратели. Подымались и опускались по лестницам. У каждого поворота, при каждом звуке мой надзиратель стучал ключом по пряжке. Наконец мы пришли в какой-то длинный коридор со множеством дверей, над которыми тоже были номера, но это были не камеры, так как двери имели по две створки. Остановившись перед одной из них, надзиратель постучал и, получив ответ, открыл дверь и пропустил меня вперед.
В небольшой комнате с окном, забранным решеткой, за письменным столом, стоявшим у самого окна, сидел мой следователь. У двери, так же как и на Лубянке, стоял столик и стул. «Садитесь», — сказал он мне не глядя и продолжал читать газету, которая была у него в руках. Почитав немного, он сложил газету, встал, подошел к небольшому шкафчику и вынул из него очень толстую папку, с которой направился к столу. Сел, раскрыл ее. Мне было видно, что в ней подшито много разных бумажек неодинакового размера и формы. Некоторые напоминали квитанции, какие выдают в мастерских или прачечных. Полистав бумажки, он столь же равнодушным голосом произнес: «Ну как, признаваться будем?» — «В чем?» — спросил я. «В чем... В твоих преступлениях, — сказал он уже громче и с оттенком раздражения, подчеркнуто переходя на “ты”. — В том, что изменил родине, служил немцам, работал в полиции, занимался антисоветской агитацией...» Он торжествующе поглядел на меня. В его глазах даже не было любопытства - какое, мол, это на меня производит впечатление...
— Ничего подобного не было, — довольно решительно сказал я.
— Не было, мать твою так, не было... Было, мать твою так, мы тебе это докажем. У нас на всё документы... Вот, — он хлопнул ладонью по папке, — в этом талмуде всё есть...
Помолчав немного, он опять скучным и спокойным голосом сказал: «Рассказывайте об обстоятельствах пленения и прохождения плена...»
29
Я начал с того, как нас переформировывали, разоружили, как мы бродили в окружении без пищи и сна, как, наконец, нас взяли в плен... Он перебивал меня время от времени. «Враки, враки — кто этому поверит? Как это могли на фронте людей без оружия оставить?»
- Не на фронте, а в третьем эшелоне, в прифронтовой полосе...
- Все равно. Не было этого. Бросил небось винтовку? Вместо того, чтобы убивать немцев, сам побежал к ним... Убил хоть одного немца?
— Нет, не убил...
Он опять разразился потоком брани. Такой допрос продолжался, наверно, часа три, если не больше. Потом, посмотрев на часы и походив немного по комнате, он вдруг совершенно другим тоном, как будто ни матерной брани, ни крика — ничего этого не было, совершенно простым и спокойным тоном сказал: «Так значит вы санинструктором были в армии? Я тоже первое время был санинструктором, только я был на смоленском направлении, шли по Вяземскому шоссе. Вскоре был ранен...» Такой спокойный и чуть ли не задушевный разговор продолжался минут десять-пятнадцать. А потом опять взгляд на часы, два или три марша по комнате и удар по столу кулаком. «Будешь, наконец, правду говорить, мать твою так, или нет?»
В камеру я возвратился часов в шесть вечера. Меня ждал холодный обед — миска с жидкими щами, в которую кучкой была положена хорошая ложка ячневой каши.
Я был безумно утомлен, огорошен, убит, оплеван этим допросом. Все это, конечно, было написано на моей физиономии. Меня ни о чем не спрашивали и только участливо на меня поглядывали. Когда я отказался от обеда, старичок неуверенно и нерешительно спросил: «Не разрешите ли тогда мне это съесть? Ужасно, знаете ли, я здесь изголодался...» Венгр сидел на своей койке, молча и равнодушно глядя перед собой. Щеки у него были бледные, впалые, в глазах мелькал голодный огонек. «Конечно. И, может быть, поделитесь с товарищем?» — прибавил я. Но венгр отказался. Старичок очень быстро съел все, что было в миске. На висках у него, явно от слабости, выступила испарина. Немного насытившись и повеселев, он стал рассказывать о том, как его недавно возили на Лубянку в оперативный отдел на допрос и как его там кормили гороховым супом и 30
котлетой с макаронами. На лице его было написано подлинное блаженство, а я подумал, что это был, наверно, такой же суп, ложку которого я попробовал вчера или позавчера на Лубянке. До чего же, до какого же голодного состояния надо дойти, чтобы вспоминать об этом без отвращения?
Музыкант сказал, что меня водил на допрос тот же самый «вертухай», что и его последний раз. «Меня уже три недели не вызывали», — с горечью добавил он. «Вертухай?» — переспросил я. «Нуда. Их так называют, потому что они в большинстве украинцы и говорят “не вертухайсь”. Он вам не говорил этого?» — «Да я и сам не вертухался. Смотреть-то не на что». — «Ну, все-таки...» На его лице отражалось прирожденное любопытство ко всему, что перед глазами.
Я спросил, почему его огорчает то, что его не вызывают? После сегодняшнего допроса я предпочел бы, чтобы меня вообще никогда больше не вызывали. «Неужели вас всех следователи так же ругают матом, как меня ругал сегодня мой следователь?» В ответ мне раздался смех и веселые возгласы. Наперебой музыкант и старичок воспроизводили наиболее изощренные эпитеты, какими их награждали следователи. Старичок при этом сказал: «Я только слово “мать” просил его не произносить. Так и сказал ему: “Гражданин следователь, мать-то мою, пожалуйста, оставьте в покое. Она-то ведь ни в чем не виновата. Может, я виноват, так ведь не она”...»
А музыкант сказал, что его уже давно перестали ругать, как это было в начале следствия, когда заставляли «признаваться». Теперь его только спрашивают, знал ли он таких-то или таких-то людей и иногда устраивают с ними очные ставки. А вызова он дожидается с нетерпением потому, что денег у него нет: «Жена присылает очень мало и редко - и курить нечего. А у следователей есть для нас папиросы. Не говорите вашему, что вы не курите, и попросите у него при случае папирос...» Я обещал.
Принесли ужин и чай. Ужин состоял из миски жидкого селедочного супа, ужасно неприятно пахнувшего. По этому запаху я судил и о его вкусе. К хлебу я тоже не притронулся, а только выпил немного теплой воды.
После ужина мне рассказали о том, что сегодня была хорошая прогулка. Водил добрый надзиратель, давший погулять ровно полчаса. Некоторые же другие торопятся почему-то и загоняют обратно раньше срока. Потом старичок долго и довольно нудно рассказывал о том, как ему хорошо жилось в Берлине
31
после войны: жил сытно, завел молодую девчонку из репатрианток. Начальство относилось к нему добродушно. В подчинении у него работали немцы. Жить бы так еще да жить. Дернул его черт проситься в Россию... Своих повидать захотелось, надоело по заграницам мотаться. «Брат у меня тут двоюродный с семейством. Тоже на военной службе».
Я высказал предположение, что этого брата за такого родственничка, как он, наверно, попросили с военной службы. У нас так... Услышав это, старичок мой заметно огорчился. «Ведь у меня же с ним никакой не было связи?..» — «А была бы связь, так и посадить недолго...»
За этими невеселыми разговорами время прошло быстро. Отворилась кормушка — отбой. Значит уже десять часов. Разделись, легли. Но спать мне, увы, не пришлось. Только я начал дремать, кормушка опять отворилась: «На букву “Е”...» — «Здорово они за вас взялись», — пробормотал музыкант, и меня увели на допрос.
Эту ночь мой следователь был сравнительно благодушен. Не орал истошным голосом, не стучал кулаками. Давал мне, в общем, рассказывать историю моего плена, изредка перебивая и «поправляя» меня.
— Почему вы согласились стать переводчиком? Вас что, принудили к этому силой?
— Никто меня не принуждал, тем более что я сначала и говорить-то едва мог по-немецки. Но я считал, что я могу принести хоть какую-то пользу товарищам, помогая взаимопониманию.
— Помогая... на пользу врага...
— Почему же врага? Например, немец тычет пленному в руки лопату и говорит, что надо делать. Тот не понимает. Тогда он бьет его лопатой. А я, понимая, что он сказал, и переводя это, предотвращал подобные и другие, более серьезные случаи.
- А их не надо было предотвращать. Может быть, иной пленный, когда его ударили лопатой, убил бы немца этой же лопатой...
— Вы представляете себе, что было бы и ему, и всем нам за убийство одного немца. Нас бы тут же перестреляли...
— Это не важно... Находиться рядом с немцем и не попытаться его убить — это уже преступление. Если бы каждый боец 32
убил хотя бы по одному немцу, война бы гораздо раньше кончилась...
Что было на это возразить?
— Ладно, рассказывайте дальше...
Продолжаю. Через некоторое время он меня опять перебивает.
— Вы так всё рассказываете, точно это не немцы были, а какие-то ангелы... Что же они не истязали, не убивали пленных, и вы им при этом не помогали?
— Случаи истязаний были, хотя и не часто. Например, при мне фельдфебель ударил несколько раз киркой пленного еврея. Я ему в этом, однако, не помогал... Да и на многих немцев это произвело неприятное впечатление.
— Неприятное даже? Скажите пожалуйста!
— А почему вы этого нс допускаете, — начинаю я кипятиться. — Немцы в массе такие же люди, как и мы. Среди солдат много рабочих, много бывших коммунистов...
— Такие же... Сравнили х... с пальцем...
В таком роде происходил этот допрос и дальше. Под утро следователь перестал спрашивать и принялся писать. Писал он довольно долго, часа два, откладывая в сторону страницу за страницей. Написав страниц десять, он положил их передо мной: «Читайте...»
Это был протокол допроса, составленный в форме вопросов и ответов. Написано все было довольно неграмотно, но поскольку ошибки не искажали смысла, я решил не указывать ему на них, тем более что он довольно точно воспроизводил мой рассказ, не придавая ему того издевательского смысла, который он пытался вложить в него своими замечаниями; ничего не добавлял от себя.
— Все правильно, — сказал я, — не скрывая своего внутреннего удовлетворения.
«Если дело пойдет так, — подумал я, — то это еще полбеды».
— Правильно... — вдруг крикнул он, саркастически расхохотавшись. — Черта с два правильно... Вы думаете, зачем мы всю эту ахинею пишем? Только затем, чтобы уличить вас во лжи на каждом шагу... В следующий раз я вам буду рассказывать, как оно все было на самом деле... Вы все признаете. Уличим и докажем.
33
2 Лагерный дневник
Он опять похлопал рукой по папке, в которой, видимо, находилось мое агентурное дело.
— Все будет документировано... Подпишите протокол.
Я подписал его, однако, уже с совершенно другим чувством. «Какой я дурак, — думал я, - поверив тому, что возможны какие- то точные протоколы моих заявлений, какое-то мало-мальски нормальное ведение дела. Нелепо на что бы то ни было подобное надеяться. Документов, обвиняющих меня, у него быть не может, но что же это будет в таком случае? Остается ждать и рассчитывать только на худшее».
Отпустил он меня опять часов в пять — в начале шестого. Только я вернулся в камеру, в которой все спали, только разделся и лег, в надежде хоть немного поспать, как был объявлен подъем. Камера наша начала жить обычной жизнью: уборка, оправка, утренний чай.
— О чем вас спрашивают? — полюбопытствовал музыкант.
Я рассказал ему историю с первым протоколом.
— Это все ерунда. Эти протоколы не имеют значения. Настоящие протоколы, которые будут фигурировать на суде, составляются под стенографистку. Таких протоколов будет два- три. А это все артиллерийская подготовка. Вас еще на Лубянку повезут, там допрашивать будут.
— А зачем же на Лубянку?
— Не знаю почему, но допрос прокурора, например, происходит обязательно на Лубянке.
Опять открывается окошечко и опять на букву «Е»...
Я шел по коридорам, предвкушая то, что было мне обещано в конце ночного допроса - как это он начнет уличать меня в моих преступлениях? К моему удивлению, разговор начался совершенно в другом роде.
- Вы думаете, вас арестовали за ваши преступления в плену? Ничего подобного. Если бы вы вели себя лояльно по возвращении из плена, вас бы никто не трогал. А вы вместо этого занимались антисоветской агитацией.
_ ?
- Вы писали антисоветские стихи и обменивались ими с вашими друзьями, такими же антисоветскими людьми, как и вы.
— Кого это вы имеете в виду?
- Вашего ближайшего друга, Татьяну Михайловну Разину, 34
которая арестована одновременно с вами и будет представлена вам на очную ставку в самые ближайшие дни.
«Господи! Так они арестовали и Таню? Этого надо было ожидать. У нее уже были неприятности из-за стихотворения “День победы”. Боже мой, какое легкомыслие - читать каким- то людям подобные стихи. В них, конечно, ничего антисоветского нет, но какое это имеет значение. Достаточно, что они не в том ключе. Бедная, бедная Таня...» Я почти не слышал, что мне в это время говорил следователь. «Бедная Таня, ее приведут сюда, будут заставлять давать показания обо мне. Ведь она будет сопротивляться, что же это будет, господи...»
— Вот мы вас и поймали на том, что вы оба писали антисоветские стихи и читали их друг другу. На этой-то антисоветчине вы и сошлись...
— Товарищ следователь... — произнес я в полном расстройстве, хотя и знал, что не должен был употреблять подобного обращения.
— «Гражданин следователь», — поправил он меня резко. — Ваши товарищи у вас в камере...
— Гражданин следователь, у меня нет никаких антисоветских стихов. Мои стихи все в вашем распоряжении, можете в этом убедиться...
— А я уже убедился. Но о ваших стихах разговор будет впереди. Сейчас будем говорить о стихах Разиной. Признавайтесь, что вам известны ее антисоветские стихи.
— Я вам могу ручаться в этом отношении за нее, как и за себя. Она никогда не писала антисоветских стихов...
— Нам нужны не ваши ручательства, а ваши признания. Какие она писала стихи, мы знаем лучше вас. Отвечайте — известны вам антисоветские стихи Разиной?
— Нет, не известны. Никогда никаких антисоветских стихов я от нее не слыхал и совершенно уверен в том, что она никогда их и не писала. Татьяна Михайловна Разина, с моей точки зрения, совершенно советский человек. И в этом отношении ее поведение было всегда образцом для меня...
— А вот посмотрим. Будем вас бить документами.
«Документами» оказались те Танины стихи, в которых мой следователь не всегда способен был доискаться прямого смысла.
— Вот, например, пожалуйста, как это надо понимать?
2*
35
Следовала цитата. В некоторых случаях мне удавалось просто и убедительно переводить сложные, а иногда и неотчетливые образы стихов на язык прозы. Следователь в таких случаях хмыкал и говорил: «Ладно, ладно, мы насчет этих стихов другого мнения...»
Нудный разбор непонятных следователю стихов, принимаемых им поэтому за антисоветские, продолжался дня три, причем меня вызывали днем и ночью, совершенно не давая спать. Мой следователь, который проделывал всю эту операцию один, ходил тоже невыспавшийся и злой. Он орал на меня. Брань грубейшая и отвратительнейшая лилась из его уст рекой. Но сколько можно было, в конце концов, так надрываться? Бывали моменты, когда он вдруг умолкал, делал вид, что углубляется в чтение каких-то «документов», и мы оба задремывали... Будил меня удар кулаком по столу. «Не кимать, не кимать, мать твою так, — кричал следователь, употребляя блатное выражение. — Что мы спать сюда пришли, что ли? Посажу в карцер!» И опять продолжалось поливание меня всяческой грязью...
При всем том страхе и отвращении, какие я испытывал во время этих допросов, при всем отчаянии и ужасном переутомлении у меня немного отлегло от сердца в отношении Тани. Угрозы привести ее на очную ставку прекратились, и я стал допускать, что меня вообще шантажируют сообщением об ее аресте, просто пытаясь сбить этим с толку и вынудить меня в отношении нее на какие-нибудь неблагожелательные показания. Много ли им нужно? Скажи я, что мы вели с ней какие-нибудь неподобающие разговоры, и кончено — она погибла...
Мысли эти укрепились во мне тем более, что однажды утром следователь мой оказался уже не один. С ним был другой человек небольшого роста с погонами майора, назвавший себя старшим следователем Сергеевым. Во время их совместного допроса, которым руководил Сергеев, а Александров только помогал иногда репликами, о Тане Разиной не было больше речи, а меня всячески запугивали в отношении моих «преступлений» в плену.
— Вы должны понять, — говорил Сергеев, — что за подобные преступления может быть одно только наказание — расстрел...
Меня обдавало холодом. «А что, долго ли им, возьмут и расстреляют...» Мне уже стало совершенно ясно, что ничего реально, в действительности со мной происходившего им не 36
i |ужно. У них была своя, уже готовая схема, которую они и пропускали через меня с помощью мата, угроз, доведения до полнейшего изнеможения... «Признавайся, так твою так, в том-то и в том-то...» Я судорожно подыскиваю в моем пленном прошлом факты, которые хотя бы сколько-нибудь подходили к их требованиям. Ведь признаваться-то надо хоть в чем-то все же конкретном?
Александров несколько раз пытался заинтересовать Сергеева моими стихами. Тот сначала отмахивался. «Да ладно, черт с ними, со стихами, чепуха...» — слышал я его отрывистые и не в мою сторону обращенные реплики.
— Вы понимаете, — говорил Сергеев, как следует предварительно меня настращав, — мы не хотим вас очень строго наказывать. Но вы должны всё, как надуху, нам рассказать...
— Так я же ведь и рассказываю решительно всё...
С этого дня силы моих терзателей разделились. Сергеев вызывал меня днем, Александров — ночью. И так продолжалось недели три. Я потерял всякий счет времени, все передо мной плыло...
Сокамерники мои меня жалели, тем более что я нашел употребление для моих небольших денег (у них не было вообще ничего): когда явился ларек, я выписал на каждого по буханке хлеба, махорки и, по просьбе музыканта, зеленого луку. Особенно они были рады куреву, а я благословлял мою судьбу за то, что в конце войны бросил курить — по крайней мере хоть этого средства в арсенале моего следователя не было.
После того как я недели две испытывал отвращение к тюремной пище, у меня постепенно накопилось резкое истощение, сопровождавшееся обостренным чувством голода. Мне, гак же как и моим сокамерникам, очень не хватало пищи, полагавшейся по нашему скудному рациону. Ни щи, ни селедочная уха мне больше уже не казались противными. Я уничтожал их с невероятной жадностью. Система тюремного существования подчинила теперь меня себе полностью. Чувство голода, только разжигавшееся приемами этой пищи, стало заполнять мои мысли. О чем бы то ни было другом думалось мало и с трудом. Ограниченные физические усилия, какие приходилось предпринимать, например, ношение параши в уборную при утренней и вечерней оправке, натирание бетонированного пола камеры суконкой - несложные операции, выпадавшие на мою 37
долю в порядке очереди, — бросали меня в пот. Чувство голода мне не давало покоя, забывал я о нем только на допросах, которые, однако, после трехнедельной круглосуточной молотилки сделались сравнительно редки. Жизнь в камере от завтрака, состоявшего из кусочка хлеба с чаем, к которому полагалось полкуска пиленого сахара, до обеда и от обеда до ужина, с постоянной мыслью: «скорей бы обед», «скорей бы ужин», была напряженной, А напряжение, вызванное голодом, представлялось унизительным, как-то надо было с ним бороться.
Я стал есть еще меньше, чем давал для этого возможности паек. Думал — вот накоплю какое-то количество хлеба, насушу сухарей, а потом буду устраивать себе праздники, буду наедаться до полного утоления чувства голода... Но сэкономленные кусочки хлеба отчего-то не всегда подсыхали, некоторые начинали плесневеть, и их приходилось выкидывать. Товарищи мои, сначала было подражавшие мне в этой экономии, при виде потерь, причиняемых порчей хлеба, стали испытывать по отношению ко мне раздражение: «Только хлеб переводим... и так мало, а еще сами губим; кто есть не желает, отдавал бы другим...»
Сергеев-таки добрался до моих стихов.
— Э, голубчик, а вы оказывается действительно, гак вашу так, антисоветские стишки пописывали?
- Какие это стихи вы имеете в виду?
— А вот, например, «Скифы».
— Что же в них антисоветского?
— Как — что? Мы Германию победили, а вы уверяете: «Врагов нам сила непосильна»? Это что же такое - пораженчество?
— Это было написано в сорок втором году, я незадолго перед этим попал в плен, у меня были мрачные настроения.
— Мрачные настроения... А вот это что такое?
И их науки тайны злые Познал один Анахарсис, За что его мы и убили...
Это вы Тухачевского тут имеете в виду?
— Почему же Тухачевского? Речь идет именно о скифе Ана- харсисе и ни о ком больше...
— Э, скажи пожалуйста, дураков нашел... Так вы отрицаете, что это Тухачевский?
— Самым категорическим образом.
38
— Ладно, вот мы устроим экспертизу и докажем, что это вы написали.
— Так я же не отрицаю, что это я написал. Я отрицаю только, что здесь имеется в виду Тухачевский...
— Ну, это мы лучше вас знаем, что вы тут имеете в виду. На этом нас не проведешь.
А по ночам повторялись бесконечные разговоры совсем другого рода.
— Признавайтесь, что вы вели с Разиной антисоветские беседы и обменивались антисоветскими стихами.
— Гражданин следователь, Разина никогда не писала антисоветских стихов и никогда не вела со мной никаких антисоветских разговоров.
— Не писала, говорите, а вот эти стихи что означают?
И опять следовала длинная цитата из какого-нибудь сложно построенного стихотворения, которое в следовательском исполнении немало еще и искажалось. А так как в руки мне он ничего не давал, то я должен был восстанавливать смысл по памяти или по догадке. Голова у меня при этом раскалывалась от бессонницы, мысли путались, язык заплетался. Следователь видел это прекрасно и не мог отказать себе в том, чтобы еще надо мной не поиздеваться.
— Вот видите, ничего у вас из ваших объяснений не получается — ум за разум заходит, а правда-то глаза колет...
Когда я возвращался после всех этих ночных поэтических упражнений в камеру, у меня бывало такое ощущение, что мозг отстает от черепной крышки и между ними образовалось какое- то пространство. Я подходил к стене камеры, клал на нее руки, на руки — голову и в таком положении забывался на какой-то момент, пока не открывалась кормушка и надзиратель не приказывал: «Отойдите от стены...» Тогда я садился на кровать, а товарищи мои рассаживались тесно с обеих сторон, как будто мы о чем-то все разговаривали. А я в это время опять-таки сколько- то спал. Но однажды корпусной (старший надзиратель), почуяв неладное, отворил дверь в камеру и приказал: «А ну, встаньте!» Все и встали, кроме меня, не успевшего очухаться. Он подошел ко мне: «Спишь? Мы тебе поспим...» — и вышел. После этого у меня забрали постель. Я остался сидеть на металлических переплетах койки. Забирали ее утром и возвращали к отбою. Это было милостивое наказание. Собственно, мне за такое 39
нарушение режима угрожал карцер. Сидение же на железе было тем менее страшно, что я эти дни очень мало времени проводил в камере, а всё больше на допросах.
Хотя очной ставкой мне угрожать уже перестали, но Александров все более решительно требовал от меня «признания в антисоветских настроениях Т.М.Разиной». Видя, что я не поддаюсь, он начал разными способами мне угрожать. «Я вас переведу в Сухановскую тюрьму», — сказал он. Так как я не знал, что это за тюрьма, то и задал ему соответствующий вопрос.
— А вот попадете — узнаете. Это тюрьма самого строгого режима. Вам там будет плохо, а мне хорошо. Так как это не в городе, туда следователи выезжают на неделю. Природа там вокруг очень хорошая.
— Ну вот и замечательно, — слицемерил я.
— Кроме того, вам будут запрещены передачи за сопротивление следствию.
— Следствию я не оказываю никакого сопротивления. Это клевета, — сказал я, — а передач мне и так никаких не надо. Не хочу, чтобы мои родные еще на меня расходовались.
Мой Александров взвился.
— Клевета? На фиг вы мне нужны на вас клеветать... Клевета... Скажет тоже...
Такие «допросы» продолжались еще с неделю. Однажды я сказал Александрову:
— Имейте, пожалуйста, в виду, что в отношении меня самого я вам буду всячески идти навстречу и подпишу всё, что вы мне ни предложите, а в отношении других людей, в частности в отношении Татьяны Михайловны Разиной, я могу говорить и подписывать только то, что считаю истинным. И я никогда не скажу вам, что она человек антисоветский, потому что это неправда. Про меня же, — повторил я, - можете писать все что угодно.
— Да, а если я напишу, что вы отца родного убили?
- Пожалуйста, подпишу. И не почему-нибудь, а просто потому, что за всё, что я говорю о себе, ответственность при такой системе ведения следствия ложится всецело на вас. А вот в отношении других людей за всё сказанное отвечаю я...
Он мне ничего на это не возразил, однако как-то криво и болезненно ухмыльнулся. Через два-три дня он бросил мне на стол лист бумаги, на котором, после всяких преамбул, было написано от моего имени: «Считаю Т.М.Разину вполне совет40
ским и честным человеком, чего не могу сказать о себе». «Подпишите», — сказал он. «Руками и ногами», — с неподдельной радостью ответил я. «Тоже мне, друг», — с некоторым все-таки оттенком уважения произнес Александров.
Я понял к тому же, что протокол этот липовый — таких протоколов в действительности даже и у нас, вероятно, не составляют. Но раз дают на подпись подобную чепуху, может быть все-таки теперь уж отстанут?
— Это мы вас просто испытывали с Т.М.Разиной. Мы не хуже вас знаем, что она советский человек. Она ведь член партии...
— Вот этого я не знал, — сказал я с искренним удивлением.
— Кандидат партии, - поправился он.
Я не стал уточнять этого обстоятельства. Во мне все прыгало от радости. «Слава богу, надо надеяться, что с Таней все будет благополучно».
После этого жить мне стало немного легче. Хотя ночные допросы и продолжались, но отпускали меня с них так, что я получил возможность поспать хоть часика два-три, а это было уже великое дело.
В следующие разы от меня требовали, чтобы я признавался в том, будто вел антисоветские разговоры с заведующим редакцией, в которой работал перед арестом. Человек этот был по национальности польский еврей, да еще вдобавок политэмигрант. К счастью моему, он относился ко мне довольно плохо, помыкал мною, и я нередко бывал на него зол. Как-то я сообразил, что на этом теперь можно сыграть, и заявил Александрову, что мои показания в отношении этого человека ничего им не дадут: всем и в редакции и в издательстве известны наши ссоры, и ему не составило бы труда доказать, что я наклеветал на него по злобе. Представьте, клюнуло. Был составлен протокол о том, что мой зав меня притеснял, плохо ко мне относился, а я его за это ненавидел. Всё. Протокол не содержал никаких политических характеристик. Я просто готов был расцеловать после этого моего Александрова.
Сергеев же вызвал меня на Лубянку для допроса под стенографистку. Когда я вернулся оттуда в Бутырки, наш старичок очень пристрастно расспрашивал, где я там сидел — в каких боксах да в каком кабинете, на котором этаже меня допрашивали, не водили ли в Оперативный отдел и каким обедом кормили. Больше всего его интересовал гороховый суп, но в этот 41
день его не было. Музыкант, как человек опытный, заявил, что это, вероятно, и был основной протокол, по которому меня теперь должен вызвать прокурор. А потом, мол, дело передадут в суд, на чём оно и будет закончено. Не верить ему у меня не было никаких оснований. Он сидел в Бутырках уже больше года, видел много народа, слышал много разных историй. Я и приготовился к тому, что дело мое будет вскоре закончено. Но меня после этого перестали вызывать на допросы вовсе. «Значит прокурору не до вас», — объяснил мне музыкант.
Я терпеливо ждал, не прочь был и отдохнуть немного от пережитого и вкусить нормального тюремного быта — нормально ложиться и вставать (до сих пор со мной это бывало только по воскресениям), ходить на прогулки.
Я начал в это время знакомиться с моими сокамерниками. Старичок оказался существом довольно противоречивым — при значительном добродушии он не лишен был некоторой жадности и подозрительности. Про музыканта он мне стал нашептывать, что тот наседка, сидит так долго в тюрьме специально для того, чтобы подслушивать и шпионить за другими. Музыкант же попросил меня однажды, чтобы я сам делил между ними табак (я было отдавал его старичку из уважения к возрасту), а то- де получается несправедливый дележ — у старичка образуется запас, который он припрятывает.
Больше всего меня интересовал венгр, который держался замкнуто, говорил мало, хотя и не проявлял недружелюбия. Говорить по-русски ему было трудно, музыкант с ним разговаривал по-английски — это был второй язык в Китае. Мы же с венгром говорили по-немецки. На обоих этих языках он разговаривал безукоризненно.
Как-то я высказал сожаление о том, что ему приходится знакомиться с Россией при таких печальных обстоятельствах. Он ответил мне, что у него нет никакого интереса к России и что обстоятельства, в которые он попал, с его точки зрения, и есть истинно русские обстоятельства. Ничего другого он, собственно, и не ждал. Но его беспокоит то, что Россия старается теперь перенести свои порядки в Европу, в те страны, в которых находятся ее войска. Ведь из этого же все равно ничего не выйдет. Никто не согласится в Европе жить на русский образец. Говорил он без всякой злобы или горячности, но с очень большим убеждением. Так же спокойно он рассказал мне о том, что ему во время следствия было предложено работать для органов, но 42
что он категорически отказался. Невозможно было не уважать этого человека, несмотря на его ничем не скрываемое отчуждение от всего, что его здесь окружало. Он исхудал за время пребывания в тюрьме, находясь на одном казенном пайке, но он никогда ни одним движением, ни одним словом не выдал своего голода и своей, мучившей его, вероятно, гораздо больше голода тоски. Когда его вызвали с вещами, он вдруг немного повеселел и стал очень энергично собираться, из чего я понял, что он не утратил каких-то определенных надежд и уход от нас, может быть, связывал именно с ними.
Чувство жалости к ущемленной жизни, развивающееся в тюрьме, сказывалось у нас, в частности, в том, что мы, несмотря на острый недостаток в хлебе, стали усердно подкармливать воробьев, посещавших наше окно особенно часто с наступлением прохладной погоды. Воробьи тянулись не только к этим хлебным подачкам, но и к теплу, которым тянуло из открытой у нас почти всегда форточки. К нам-то из нее потягивало изрядным холодом, но жить вчетвером и даже втроем в камере, рассчитанной на одного человека, было душно. Воробьи чувствовали себя совершенно спокойно и в полной безопасности на высоком и недосягаемом для нас подоконнике, куда мы могли только лишь забрасывать маленькие кусочки сухого хлеба. Делали это, видимо, не только мы. Увлечение кормлением птиц в тюрьме, популярное благодаря знаменитой картине Ярошенко «Всюду жизнь», захватывало, вероятно, многих. Во всяком случае, при обходе нашего корпуса начальником тюрьмы в сопровождении еще каких-то чинов тюремной администрации предметом начальственного внимания оказался именно подоконник. Построенные в одну шеренгу корпусным, мы стояли в ожидании каких-либо неприятностей. «А кто это тут воробьев приваживает? - деланно строгим голосом спросил начальник при всеобщем молчании. — Тюрьму у меня всю загадили тут», — добавил он ворчливым тоном, направляясь к выходу... «Что ж теперь будет? Посадят в карцер?» — мелькнуло у меня в голове. Но увидев на лице одного из сопровождавших начальника офицеров улыбку, понял, что ничего плохого не предстоит. Чувства страха и бесприютности, заставлявшие нас кормить воробьев, не чужды были, видимо, даже и тюремному начальству...
Втроем прожили мы очень недолго. Через два или три дня в камеру нашу вошел человек средних лет, имевший, в отличие от двух моих эмигрантов, совершенно советский вид и повадки. Похож он был, как мне показалось, на какого-нибудь 43
профработника, а оказался армейским политработником в чине майора. Попал в самом начале войны в плен и оказался сначала в Германии, а потом в Бельгии, на угольных шахтах. Жил на вольном положении и, так как был родом с Украины, то выписал к себе в Бельгию жену и дочь. Жили, говорил, не так плохо, даже сальце перепадало. По окончании войны то ли он сам медлил с возвращением, то ли, вернее, его и не торопили, потому что он оказался очень активным агитатором за возвращение на родину в лагерях перемещенных лиц. Но вот в сорок девятом году пришла и его очередь возвращаться домой. Ехал он с женой и дочерью на пароходе до Ленинграда. Уже в пути стал чувствовать, будто что-то не то: на берег нигде не выпускают, обращение из восторженного обратилось в холодное. В Ленинграде его с семьей тотчас же разделили. Жена с дочерью получили назначение куда-то в Казахстан, а ему предложили съездить в Москву. Ехал он еще как бы на свободе, но в сопровождении какого-то человека. По приезде был сейчас же арестован и препровожден на Лубянку, где ему было предъявлено обвинение в измене родине.
Человек он был спокойный, даже веселый — не унывающий. Страдал только от неполадок в желудке. «Все бы ничего, — говаривал он, — так еще сидеть можно, но вот эта капуста...» Ежедневные щи из кислой капусты действовали плохо на его повышенную кислотность. Аббакумова — тогдашнего нашего министра - он помнил еще по армии, и это его немного успокаивало, точно Аббакумову могло быть до него какое-нибудь дело. О своих допросах, вообще об отношениях со следственным начальством, он помалкивал, так что невозможно было представить себе, в какой стадии следствия он пребывает. Пока мы об этом думали и судачили в его отсутствие, вдруг его быстро куда-то от нас перевели. Поскольку он принял это совершенно спокойно и деловито, можно было думать, что ему уже было что-то на этот счет известно заранее.
По его уходе к нам очень скоро впихнули пожилого, прихрамывающего мужичка. Несмотря на его деревенский вид, он оказался москвичом да чуть ли еще и не моим соседом — тоже из арбатских мест. Но дела привели его сюда деревенские. Во время войны он оказался в Смоленской области, в оккупации. Сначала было очень трудно понять, что у него за дело. Рассказывал он какие-то довольно бессвязные вещи, из которых в конце концов выяснилось и определилось, что партизаны 44
хотели у него увести корову, а он пожаловался немцам. Какая- то женщина — свидетельница — показывала, как она это своими ушами слышала. Вот тебе и измена родине, предательство. Характерно, что по этому делу его привлекали в Смоленске сразу же после освобождения области, но отпустили. А вот теперь, по прошествии шести лет, все-таки подобрали снова. С допросов он приходил со стонами и причитаниями. Но когда отходил, становился весел, рассказывал всякую всячину, приставал к надзирателям с различными просьбами, относительно которых заранее можно было сказать, что они ни в коем случае не будут удовлетворены: то соли просил, то курева. Сердился на музыканта за то, что тот пытался его отговаривать от приставаний к начальству. И был исполнен презрения и гордости, когда наконец один надзиратель, делая вид, что указывает на какой-то непорядок в камере, швырнул-таки нам на пол недо- куренную папироску.
«Бывают же и среди них люди», — решили мы.
Мужичок нередко нас развлекал и смешил разными своими повадками, так что вообще о нем думалось не без некоторой иронии. Вполне представлялось к тому же правдоподобным, что корова для него, как, впрочем, почти для любого из деревенских мужичков, казалась дороже односельчан, убежавших от немцев в лес, в партизаны. Но как за это можно было судить спустя чуть ли не десять лет, в мирное время? Другое дело, если бы его за это своим судом судили во время войны партизаны. Это понять было бы еще можно.
Наступала, между тем, весна. Когда я возвращался в камеру с ночных допросов, производившихся значительно реже и заканчивавшихся, как сказано, несколько раньше, чем прежде — часа в 3—4, окна в тюремных коридорах бывали открыты настежь и из них раздавалось такое горячее птичье щебетанье, что просто щемило душу.
Протокол под стенографистку, произведенный в начале мая, состоял в кратком перечне лагерей военнопленных, военных и полувоенных немецких учреждений и частей, деревень, городов и других пунктов, в которых или близ которых мне довелось побывать за время плена. Зафиксированы были также и имена известных мне немцев. Когда я говорил, что не уверен в точности передачи имени или его написания, следователь заявлял мне, что это-де не имеет значения. «Зачем же тогда их и писать?» — думал я. Но думал не очень настойчиво. Все это мне 45
уже изрядно надоело, и я под конец допроса спросил следователя, когда же меня отправят в лагерь? «Что, надоело небось в тюрьме?» — с оттенком сочувствия произнес он в ответ. И прибавил задумчиво: «Да, это тебе не у тещи в гостях... Отправят, не беспокойся, еще и в лагере надоест тоже...»
На этом мы с Сергеевым и расстались, и я его потом больше никогда не видел. Все остальное, а этого остального оказалось еще довольно порядочно, доделал мой основной следователь Александров. Но и Александрова я увидел после этого допроса на Лубянке очень нескоро.
Потянулись весенне-летние дни, заполненные только тюремным бытом. Подъем, оправка, завтрак, прогулка, обед, ужин, отбой. А в промежутках бесконечные разговоры. К счастью, наша камера имела право на библиотечные книги. Три- четыре книги раз в десять дней. Книги — не такие, какие ты хочешь, а какие сунут тебе в кормушку. Иногда одна и та же книга попадала к тебе вторично, а то и в третий раз. Что было делать — перечитывал снова. Но бывали и приятные сюрпризы. В особенности большое впечатление в тюрьме производил Салтыков-Щедрин. Мы его читали вслух. Хохотали до упаду — до того все представлялось злободневно. Китайский эмигрант с очень большой тоски, а также в силу неистребимого в нем любопытства, перестукивался с соседями. Во-первых, мы узнали, что книг не дают ни тем, ни другим. Узнали вещи и значительно поважнее. В одной из камер оказался новичок, человек с воли, сообщивший, что идет война в Корее. «Так вот оно что, — подумал я. - Посадив меня в тюрьму, судьба бережет меня от новой войны», В моем военном билете было написано, что я подлежу призыву по первой мобилизации.
Разумеется, эти переговоры через стенку бывали далеко не всегда возможны, очень медленны и редко интересны.
Очень прискучивали, вплоть до с трудом сдерживаемого раздражения, сокамерники. Сколько-нибудь интересен был все- таки только один китайский эмигрант. Он много видел. Ему было о чем порассказать. Правда что, несмотря на его высшее образование, его кругозор был уже, чем у человека со старым средним образованием. Но все-таки. У других ведь и этого не было. Деревенский мужичок мог рассказать вообще очень мало что. Старичок-эмигрант обладал кое-каким жизненным опытом, приобретенным в Финляндии, Германии и Бельгии, но впечатления его от этих стран были очень ограничены, а ино46
гда и малоправдоподобны. Например, он рассказывал, что бельгийцы из простонародья бывают очень довольны, если жены их занимаются проституцией. Как-то я этому не поверил. Кроме этого он мог рассказывать преимущественно о пище и об одежде. Также и о горняцкой работе на угольных шахтах. Он был доволен этой стороной своей жизни в Бельгии — заработок и паёк были неплохи. Но из его рассказов становилось ясно, что техника угледобычи была там самая примитивная — кайло, а чаще ломик с молотком...
За время пребывания под следствием он стал понимать, что дело его заключалось не в пакете, который он якобы когда-то кому-то передал, а просто в том, что он эмигрант, имеющий в Москве родственников, — не пустишь же его в Москву... Он все это теперь понимал и вообще относился к своим перспективам спокойно. Хотя и был уже дряхловат, но говаривал, что если бы вдруг пришлось, мог бы еще годик-другой поработать в угольной шахте... Но временами он вдруг начинал неведомо чего бояться: «Что, мол, им стоит, возьмут да и пустят в расход... На чёрта я теперь тут нужен?» Мы его успокаивали всячески, но вряд ли это помогало, потому что страх был беспричинный, нервозный.
У меня тоже нет-нет да и появлялись подобные страхи. Действовали и угрозы следователей, и какие-то неожиданные срывы нервов, и тюремные впечатления. Иногда меня водили на следствие по каким-то подвальным коридорам, в которые выходили двери (иногда они бывали открыты) каких-то каморок - полутемных, холодных и удивительно мрачных, вероятно, карцеров. И когда я со страхом на них взглядывал, надзиратель ворчал: «Не крути головой, глядеть нельзя — мало ли чего в тюрьме есть...» Стало быть, это было именно то самое. «Вот и расстреливают, вероятно, где-нибудь здесь», — мерещилось мне, хотя я и понимал, что в Бутырках вообще никого не расстреливают. Есть для этого, вероятно, другие места... Но где-то я очень давно читал, как в первые годы революции расстреливали на Лубянке. Как заходили в камеру и оглашали приговор, как два надзирателя брали потом приговоренного под руки и вели его вот так же по каким-то подвальным переходам, в одном из которых подходил сзади палач и стрелял в затылок из крупнокалиберного пистолета, а снаружи в это время заводили автомашину, чтобы заглушить выстрелы... Все эти описания приобретали теперь определенные и живые краски. Становилось особенно страшно.
47
Но вот водить меня перестали куда бы то ни было. Один только раз, когда надзиратель уронил при утренней раздаче мои очки (отбиравшиеся на ночь) и треснуло стекло, событие это оказалось сопряжено для меня с небольшим развлечением. В этот же день меня вызвали неизвестно куда. Сначала я думал — на следствие. Но привели в какую-то неизвестную мне часть тюрьмы, и я оказался в зубоврачебном кабинете. Что такое? Я на зубы не жаловался, к врачу не записывался... Вышел человек в халате с моими очками в руках и с хитроватой улыбкой на лице. «Я бы, конечно, мог вас и не вызывать, дело маленькое, но все же давайте проверим. Стекло подходящее?» Я понял, что это он просто устраивает мне маленькое и невинное развлечение - род прогулки, хотя и не на воздухе, а всего лишь по коридорам тюрьмы.
Не знаю, чем руководствовалось следственное начальство МГБ, лишая заключенных возможности взглянуть на себя в зеркало и таким образом более определенно узнать, как ты выглядишь в тюремной обстановке. Может быть, зеркал не было в тюремном обиходе просто потому, что зеркало из стекла, его можно разбить и осколком перерезать себе артерии — тюрьма обязана была исключить для заключенных, в особенности подследственных, возможность самоубийства. Вернее, однако, что следственное начальство учитывало и чисто психологический эффект невозможности взглянуть на себя самого, узнать, как ты выглядишь в этот трудный и ответственный для тебя момент. Это обстоятельство, вместе с прочими ограничениями, весьма способствовало ущемлению заключенного как личности. Впрочем, может быть, некоторые люди не ощущали в этом для себя большого ущерба. Я же очень страдал от того, что не видел не только никого, кроме моих сокамерников да одного- двух надзирателей, но также и себя самого, не представлял себе, каков в этот момент я сам. В какой-то мере этим лишением тяготились и мои товарищи.
Во время вывода на прогулочный дворик мы иногда оказывались в непосредственной близости от оконных или дверных стекол где-либо в тюремном коридоре или на лестнице. Я замечал, как все мы с большим вниманием и любопытством вглядывались при этом в собственные изображения, еще менее определенные, чем на фотографическом негативе. И все-таки это было что-то, дающее представление о твоем нынешнем облике. Однажды во время допроса я попросился в уборную и 48
был заведен в клозет, предназначенный не для заключенных, а для сотрудников. Там над умывальником висело зеркало, к которому я и бросился тотчас же. На меня глянула чужая мне, одичавшая физиономия, с лихорадочным, почти безумным блеском в глазах. «А ну, выходи, довольно», — оборвал мои наблюдения над собой окрик вертухая. Заложив руки за спину, я вышел вон с некоторым чувством торжества — все-таки я себя видел и начальство перехитрил.
Вместо меня стали вызывать часто и очень мучить нашего хромого мужичка. Устраивали ему очные ставки с его единственной свидетельницей, уверявшей, будто она слыхала, как он говорил в немецкой комендатуре про партизан. Переменили ему следователя, который кричал на него и запугивал. Возвращался он с допросов совершенно изможденный, стонущий, чуть не плачущий, и подолгу не мог прийти в себя. «О господи, ой матушка», — приговаривал он, завалившись на койку. Ждали мы не без любопытства, чем это все кончится, — протоколы он, видимо, не подписывал, а только повторял: «Я этой статье не принадлежу...» Один раз, судя по его рассказу, какой-то протокол подписали вместо него три следователя...
Тут его вдруг от нас убрали, неожиданно для всех нас, ибо следствие, как казалось, было в самом разгаре. А вместо него в камеру впихнули небольшого человечка, очень неважно говорившего по-русски, с каким-то западно-славянским акцентом. Оказался он поляком из Данцига. Собственно, не то поляк, не то немец. Во всяком случае, в Первую мировую войну он служил у немцев в чине обер-лейтенанта. В эту войну не воевал вовсе, но служил в немецком торговом флоте и плавал в Швецию, где выполнял задания шведской разведки по связи с польскими подпольными военными учреждениями. В чем-то был заподозрен и при аресте получил удар прикладом в поясницу, прямо по почке, которую после этого пришлось удалить. Его отпустили, а когда пришли наши, сейчас же посадили, привез- ли в Москву, а оттуда в Тайшет, с десятилетним сроком (больше тогда еще не давали). Половину он отсидел, и вот, по неизвестной причине, опять привезли сюда. Догадливый и всезнающий музыкант из Китая сразу предположил: «Хотят добавить...» - «Чего ему добавлять, у него еще пять лет впереди?» — «Ну, мало ли что. Это тоже делается по плану».
Фамилия у немца была польская — Сташевский, но все повадки немецкие. Был он весьма разговорчив, и мы его с любопытством расспрашивали о лагерях. Рассказывал он охотно 49
и подробно, но понять самую суть лагерной жизни, не побывавши там, все-таки оказывалось невозможно — иногда вдруг обнаруживались всяческие совершенно не укладывавшиеся в голове неожиданности.
Оказывается, отсутствие одной почки, казалось бы делавшее из него полуинвалида, не освобождало его от тяжелых физических работ. Мы о них уже и без него знали через нашего китайского эмигранта, хотя лишь и со слов какого-то, вероятно вымышленного, узбека, утверждавшего будто, что в лагере «ходи километр, копай кубометр. Чай нет, какой фиг сила будет?..» Так и немец этот ходил в любую погоду с лопаткой на строительство железнодорожных путей, на рытьё котлованов и т. п. Это для него бывало непосильно. В моче то и дело появлялась в большой примеси кровь.
— Разве у вас там была какая-то определенная норма выработки?
— Нет, нормы нету, но отдыхать нельзя, бьют...
— Кто бьет, охрана?
— Не охрана, свои товарищи бьют. Говорят: «Что же мы за тебя работать будем? Лучше ты за нас поработай...»
— Да, хороши товарищи. Это что же воры какие-нибудь, бандиты?
— Да нет, там только одна 58-я. Это ведь теперь режимные лагеря.
— А что значит режимные и нережимные?
— С прошлого года разделили 58-ю статью и бытовиков. Раньше были все вместе, и женщины даже вместе с нами были. Много было легкой работы. Я, например, два года тому назад сидел в помещении и шил рукавицы — было очень хорошо. А теперь нас разделили, работа — тяжелая, на ночь запирают, и много всяких других ограничений.
— Но ведь, казалось бы, без жулья должно было стать спокойней и лучше?
— Как-то это мало заметно. Некоторые жулики за лагерные преступления получили 58-ю, так они теперь с нами.
Мы знали опять-таки от китайского эмигранта о том, что в лагерях можно и сколько-то заработать — платят деньги. Но немец нас разочаровал:
— В режимных лагерях не платят, — сказал он. — Мы получаем вместо платы дополнительное питание.
50
-- А что же вы получаете?
— Да тот же суп, только больше и лучше. Хороший суп — ложка стоит.
«Ну а где же все-таки лучше, — стали мы его спрашивать, — в лагере или здесь, в тюрьме?» Надо сказать, что он, подобно китайскому эмигранту, получал спецпитание. Оно, как сказано, несколько калорийней и разнообразней обычного. «Если “спец” дают, - ответил немец, - то в тюрьме лучше...» Меня очень огорчило подобное заявление. Во-первых, «спец» этот мало чего стоил, а во-вторых, лагерь представлялся мне все же неким подобием свободы. Все-таки свежий воздух, работа, много народу, среди которого должны же быть интеллигентные люди... «Нет, я за лагерь, — думал я, — даже если он и режимный, даже если работа тяжелая и климат жестокий...» Неудержимо хотелось прочь из тюрьмы.
А вот китайский эмигрант сидит здесь полтора года и сидит довольно спокойно. Правда, у него за спиной несколько месяцев Лефортовской тюрьмы, о которой он вспоминает с ужасом: помимо строгого режима, холода в камерах, там еще преследовал вечный и неумолчный грохот авиационных двигателей из расположенного где-то по соседству завода — прямо, говорит, с ума сойти можно. Здесь же ему было спокойно. Вызывали редко и только, как выяснилось, для очных ставок. Он в городе Тянцзине работал несколько месяцев в китайской полиции по русским паспортам и знал поэтому много народу. Вот его и использовали теперь как свидетеля того, что все китайские эмигранты состояли в какой-то совершенно для всех них обязательной и никакой деятельностью не занимавшейся организации, членство в которой им всем, однако, инкриминировалось в качестве антисоветской деятельности... За это он получал в Бутырках время от времени спецпитание да кое- когда плохие папиросы. А что касается лагеря, то когда он начал было тяготиться тюрьмой, следователь ему сказал: «Сиди- сиди, не бузи... Хватит с тебя еще и лагеря тоже...» Он и сидел. Рассказывал, что в прошлом году сидел тут с ним какой-то турок — так тот-де сидел еще спокойней. «Так благодушно был всегда настроен, так легко переносил тюрьму — подожмет под себя ноги и сидит на коечке, как будто лучшей жизни и не бывает. Мурлычет себе чего-то под нос...»
Естественно, мы очень интересовались — о чем будут спрашивать на допросах немца. Его вызвали раза два, но из того, что 51
он рассказывал нам — всякие формальные вещи, — догадаться о чем-нибудь существенном было совершенно невозможно. Наконец, после некоторого перерыва его вызвали еще разок, и вернулся он оттуда хмурый — спрашивали, не собирался ли он взорвать мост через Ангару. «Фу ты глупость, — подумал я, — может и вправду хотят человеку добавить сроку». Но после этого его перестали вызывать на следствие, и подозрения эти, по крайней мере покуда, подтверждения не получили. Да и он сам успокоился тоже.
Человек он был деятельный, много говорил. Иногда уставал говорить по-русски и тогда что-нибудь рассказывал мне по-немецки. Стал завидовать тому, что мы читаем книги. Но, видимо, у него развилась дальнозоркость, и он, как ни отодвигал книгу от глаз, читать все же не мог. А ему казалось, что это из-за русского языка. Стал он требовать для себя немецкую книгу. Дали ему Вилли Бределя «Die Prüfung»1, но он и ее читать не смог все по той же самой причине. Досталась тогда эта книга мне, и я прочел ее с необыкновенным интересом. В тюрьме книга о тюрьме вообще не может не быть интересна. А это вдобавок была еще самая лучшая антифашистская книга о гитлеровской тюрьме, какую мне когда-либо доводилось прочесть. Она была и очень художественна и в то же время совершенно документальна - в том новом жанре художественной литературы, который развился, пожалуй, только в XX веке.
Наконец-то в августе месяце меня опять потребовали к следователю. Александров мой сидел как ни в чем не бывало. Сказал, что ему было не до меня — уезжал в командировку... А потом вдруг сказал:
— Как же это вы позабыли человека, у которого чуть не целый год в доме жили?
— Какого человека?
— Акима Фомича Гришина.
— Господи, да разве ж я забыл? Я только фамилию вам в какой-то момент вспомнить не мог... А что с ним такое?
— Да ничего, всё в порядке. Вот говорит, что вы в него вселяли неверие в победу советской армии...
— То есть как это? Когда?
1 Роман «Испытание», 1935 г.
52
— А вот вы с ним встретились после сталинградской победы, и он вас спросил, скоро ли немцев прогонят, а вы сказали, что это вовсе еще не значит, что прогонят...
— Действительно, такой случай был. И действительно, мне пришлось уговаривать моего Акима Фомича не предаваться слишком большой и открытой радости. Должен был я и о себе думать. Он бы после этого пошел по деревне с новостью: переводчик, мол, сказал, что немцам скоро капут.
-Да, да. Вот всего-то вы и боялись, вместо того, чтобы подымать народ против немцев...
Но говорилось все это спокойно, без крика и даже с улыбкой.
— Ну, что ж, кажется, можно будет теперь заканчивать ваше дело...
— Это что же, туда вы и ездили за этими показаниями?
— Тоже, есть за чем ездить... Сделали запрос, его там и допросили по нашей просьбе...
Так или нет, ио у меня ёкнуло радостно внутри, когда он сказал о возможном окончании дела. Но обрадовался я, как оказалось, еще рановато. Опять начались допросы. И иногда совершенно для меня неожиданные:
— Знаете ли вы режиссера Зугдиди?
— Немного. Это знакомый моей сестры, видел его несколько раз в жизни.
— Это плохой человек. Мы его все равно посадим.
— Не посадите. Это фотограф Сталина. Бывает у него дома.
— Это ничего не значит. Все равно посадим...
— Так вы считаете, что я могу вам в этом помочь?
— На чёрта вы нужны. Это мы просто так вам говорим, чтобы вы знали, в какой компании находились...
— Да это никакая не моя компания. С сестрой мы жили в одной квартире. Он бывал изредка, не мог я его вовсе не видеть...
В общем, отстали. Даже и протокола никакого не было.
Но потом начались вещи похуже:
— Раз вы были переводчиком, вы должны были работать в полиции, присутствовать надопросах?
— Не работал я в полиции, я был лагерным переводчиком.
53
- Не рассказывайте сказки. Что же, при лагере не было полиции? Думаете, мы ничего не знаем?
И опять брань, опять целые часы бессмысленных словоизвержений. Настойчивые требования говорить «правду». Он устает. Умолкает. Но не разговаривает больше на посторонние темы, как это бывало раньше. Сидит и угрюмо читает газету. Потом глядит на часы: «Нет, видно так с вами ничего не выйдет, придется мне перевести вас в другую тюрьму...» Я молчу. Что я ему могу сказать на это? И откуда я знаю, что за этим — пустая ли угроза или мне действительно угрожает Лефортовская тюрьма?.. И вот на этом дело застопорилось. Я совершенно не понимаю, что ему еще от меня надо. Не могу же я ему сказать, что я действительно работал в полиции? Во-первых, этого не было, во-вторых, если бы я начал придумывать, чтобы отвязаться, ведь надо же что-то конкретное рассказывать. Ведь это же надо записать?
После долгих понуканий он вдруг затихает и углубляется в газету. Я присматриваюсь к нему из своего угла: он не читает, он дремлет. Я, успокоенный и как бы освобожденный, тоже закрываю глаза... Меня, как и прежде уже, заставляет сильно вздрогнуть удар кулака по столу. «Вы что — кимать сюда пришли? Не кимать тут, не кимать!» У него сонное, красное, злое лицо. Я выравниваюсь на своем месте. Снова удар кулаком. «Будешь ты, наконец, так твою так, давать показания?» И опять целый поток брани, угроз, бессмысленных понуканий. Он взвинчивает себя и находится на грани истерики. Я в отупении, в отчаянии, не могу этого всего больше выносить. Да что же это такое на самом деле? Дикость какая-то, чертовщина... И на лице у меня неожиданно появляется кривая улыбка. Мне становится вдруг смешно. Я тоже, видно, на грани истерики. Он это замечает. Снова по столу грохочет его кулак. «Не сметь издеваться над следствием... Вот что. Я вижу, вы не желаете давать показаний. Не желаете, черт с вами. Вот вам лист бумаги -- пишите: “от показаний отказываюсь”».
Как я ни глуп в этих делах, но понимаю, что за такое заявление будет мне бог знает что — карцер, одиночка... Мало ли у них способов наказать меня за это? Я в отчаянии говорю: «Гражданин следователь, я вовсе не отказываюсь. Наоборот, я очень хочу давать показания. Я рассказываю вам подробнейшим образом все, что было. Но туг я не знаю, что мне надо говорить — такого не было. Но я и тут не отказываюсь. Я бы только хотел знать, что именно вам нужно? Напишите, пожа54
луйста, что я должен, по вашему мнению, показывать? Я, вероятно, подпишу...» Теперь его очередь хмуро и криво улыбаться. Он уже не в первый раз говорит: «А если я напишу, что вы отца родного убили?» — «Да нет, вы не шутите. Поймите, что я в совершенном тупике...»
Он чувствует мою растерянность, искренность. Лицо его смягчается, да и время, видимо, уже вышло. «Ладно, идите отдыхать. И подумайте к следующему разу об этих показаниях». Он нажимает кнопку звонка на столе — иногда он делает это совершенно для меня незаметно, но на этот раз - явно. В дверях появляется надзиратель: «Уведите его». В коридоре я вижу часы — 3. Ну, это еще куда ни шло. Три часика еще подрыхнем...
В следующие дни я мучительно думал о том, как мне вести себя на следствии. Что-то надо говорить, давать какие-то показания — где их взять? И когда меня вызвали в следующий раз, я самым серьезным образом взмолился перед Александровым:
— Я понимаю, — сказал я ему, — что вам необходимы какие- то определенные показания. Но я не могу, при всем желании, ничего подходящего припомнить. Скажите мне, по крайней мере, в каком примерно роде может это звучать? Что именно, какие факты могут быть приняты во внимание? Ведь вы же теперь уже хорошо знаете историю моего плена. Вы же и должны мне в этом помочь.
На его губах снова заиграла усмешка, но он ее подавил. Нам обоим было не до шуток.
— Не может быть, чтобы за все время вашей деятельности как переводчика не произошло ни одного случая, когда бы в дела вашего лагеря или вообще в чьи-либо дела не вмешалась полиция, а вы бы не присутствовали в качестве переводчика? Вспомните какой-либо подобный случай.
И я вспомнил. И тут же испугался. Это была такая чепуха, что он, вероятно, когда я ему расскажу эту историю, набросится на меня с бранью — «не смейте издеваться над следствием...»
Я все же решил попробовать.
— Был один такой случай. Я только не знаю, не мелковат ли он? И потом, это была не полиция, а полевая жандармерия.
— Еще лучше, — сказал мой следователь. — Рассказывайте.
— Девушка, работавшая у наших немцев уборщицей, была обвинена одним из охранявших лагерь бельгийцев в похищении его носков. Бельгиец пожаловался в расположенный рядом с 55
нашим лагерем пост полевой жандармерии. И девушку и бельгийца вызвали туда. Фельдфебель полевой жандармерии разбирал это дело. Я был использован в качестве переводчика и для девушки и для бельгийца, который понимал только по- французски. Девушка была оправдана, потому что носки, которые у нее нашли при обыске, оказались такого сорта, какие не могли быть получены бельгийцем в качестве казенного обмундирования. Его уличили во лжи.
Следователь дал мне понять, что эпизод этот его вполне устраивает, и углубился в составление протокола, который я вслед за тем и подписал. Там ничего не говорилось о результатах расследования дела, а только о том, что я выступал в качестве переводчика в полевой жандармерии по делу о воровстве немецких носков русской девушкой.
— Вот видите, — сказал мне в заключение Александров, — нужно было только хорошенько подумать, и необходимый материал оказался тут как туг... Уведите его. — Я поднял голову — в дверях стоял надзиратель, которого он вызвал на этот раз совершенно неприметным для меня образом...
К моему следователю иногда захаживали на короткое время его соседи-коллеги. Трудно бывало понять — заходят ли они отдохнуть, поболтать, или это делается с какими-то намерениями, касающимися меня. Представлялись они мне людьми еще более простецкого вида и смысла, чем мой Александров. Разговор начинался обычно с футбола, иногда подавались какие-то профессиональные советы (что делать, чтобы на тебя не «вешали собак»), но под конец пришедший обязательно спрашивал: «Ну как он у тебя? Небось молчит, как рыба? Небось говорит — не виноват? Все они на один манер. Как ты думаешь, сколько ему влепят? А вы-то сами как думаете, сколько вам надо дать?» Меня подобные шутки не веселили, я молчал или в лучшем случае пожимал плечами. «Он у тебя небось думает, что ему вообще ничего давать не надо?..»
Однажды зашел какой-то человек в очках и сравнительно интеллигентного вида. Пошептавшись немного с Александровым и поглядывая в то же время на меня участливыми глазами, он потом громко спросил: «Ас ним как у тебя идет дело?» — «Да как? Не признается. Всякую вещь приходится вдалбливать по неделе, а то и по две». Человек этот опять внимательно на меня посмотрел, и я, почувствовав вдруг какую-то надежду на понимание и поддержку с его стороны, сказал: «Это потому, что 56
у меня требуют признания в таких вещах, которых я не только не делал, но которые я и представить себе даже не всегда могу толком...» Тогда он, с очень серьезным видом, подошел ко мне и произнес: «Вы, мать вашу так, должны понять, что следователь никогда не требует больше или меньше того, что нужно. Вы, мать...» На моем лице отразилось, видимо, такое отчаяние, что он оборвал фразу и вышел, сделав, однако, вид, что сказал, собственно, все. А мне было как-то особенно неприятно выслушивать мат от человека, производящего достаточно интеллигентное впечатление. И было такое чувство, что рухнула последняя надежда на какое бы то ни было серьезное к тебе отношение.
Я стал утешать себя тем — хотя это было и очень маленькое утешение, — что мат при допросах политических преступников придумали не наши следователи: так поступали еще — я об этом читал, кажется, где-то у Короленко - жандармские офицеры. Так что, оказывается, «нами оставляются от старого мира» далеко не одни «только папиросы “Ира”». Увы.
Но как я ни утешал себя подобными соображениями, «интеллигентный» следователь с очками в тонкой золотой оправе, как у какого-нибудь заправского педагога, не выходил у меня из головы. Это происшествие произвело на меня большее впечатление, чем когда доведенный своими бессмысленными настояниями до полного исступления Александров — я ему, конечно, осточертел навряд ли многим меньше, чем он мне — подошел ко мне как-то и ущипнул меня за щеку в надежде, видимо, на то, что я его стукну и у него будет повод посадить меня в карцер и хоть на время избавиться от меня. Но я стерпел и туг — слишком уж явная была провокация. Я только взглянул на него в этот момент с таким презрением, что он отскочил от меня, бормоча что-то вроде: «вот еще тоже гипнотизер...» Хотелось мне ему сказать, что гипнотизером-то надо было бы стать ему, да уж очень мне было противно в тот момент на него глядеть...
В следующий раз, напуская на себя чрезвычайное равнодушие, он сказал как бы невзначай: «Да, нам тут надо подписать некоторые протоколы, я уже про них было позабыл...» На свет вылезли старые протоколы, которые он почему-то не давал мне подписывать сразу, как поступал с другими протоколами. Я уже думал, что это были, так сказать, предварительные или неудачные упражнения, отвергнутые начальством. Но вот теперь все это было мне подсунуто чохом. Я совершенно не возражал по су57
ществу — какой смысл, — но стал и теперь придираться к ошибкам и к неудачным формулировкам. Он пытался оправдываться и доказывать, что-де так мол и надо, но потом в некоторых случаях исправлял, тщательно подчищая прежде написанное: поправки в протоколах не допускались, надо было бы переписывать заново. Когда я подписал все эти протоколы, он заметно повеселел. Неужели он думал, что я буду из-за всей этой ерунды скандалить, неужели он действительно думает, что ко всему этому можно относиться серьезно?
В следующий раз он задавал какие-то не очень связанные между собой вопросы, отвлекался по своим делам... Из-за двери доносился чей-то зычный голос, постепенно все приближавшийся. Наконец он уже гремел в соседнем кабинете. «Врете, врете... — доносилось до меня. — Имейте в виду, троцкисты — самые заклятые враги советской власти...» И опять: «Врете, всё врете...»
Наконец распахнулась наша дверь, и мой следователь подобострастно вскочил перед высоким, представительного вида и необыкновенно уверенным в себе человеком, с блестящими, как будто даже генеральскими, погонами. Я тоже встал, наученный Александровым тому, что должен подниматься перед всяким входящим. «Сядьте», — крикнуло начальство. Я сел, а мой следователь продолжал стоять. И сразу же поднялся крик: «Вы служили во Власовской армии...» — «Я никогда не служил во Власовской армии», — равнодушно перебил я его. Он взмахнул рукой: «А это все равно, не во Власовской, так в германской. Вы будете за это наказаны...» — «Я не служил ни в какой армии, кроме Советской...» — «Не перебивайте начальника», — крикнул мне Александров. Но я не удержался и сказал: «Вы, вероятно, попали не в тот кабинет?» Это привело его в совершенную ярость. «Вы не осознали своих преступлений, меч пролетарской диктатуры беспощаден, враги будут уничтожены...» Время от времени он взмахивал рукой, и она падала вниз как гильотина. Продолжалось это, впрочем, не долго. Он покричал несколько минут, потом отозвал следователя в дальний угол кабинета и сказал ему что-то такое, чего я никак не мог слышать. Тот кивнул головой, после чего начальство вышло, и крик раздался снова из соседнего кабинета... Александров недовольно, но сдержанно сказал мне, что так нельзя себя вести перед начальством — «это не шутки». Поскольку он был спокоен и, видимо, удовлетворен визитом, можно было надеяться, что никакие особенные неожиданности нам как будто не 58
угрожают. Меня тоже отпустили, из чего я понял, что сегодня вызывали меня специально для этого начальства. Кто это был? Вероятно, начальник следственного отдела. Но я не спрашивал, ну его к богу, какое мне в конце концов дело?
В то же приблизительно время нашего старичка-эмигранта водили на врачебную комиссию, где с ним очень ласково разговаривали. Он был очень тронут и при всяком случае возвращался в разговоре к этому вызову. Видимо, он вселил в него какие-то надежды на лучшее будущее. Всезнающий китайский эмигрант заявил, что врачам показывают человека перед отправкой в лагерь. Действительно, вскоре его от нас убрали. «Поехал в инвалидный лагерь», — предположил музыкант. Поляк согласно закивал головой: «Кому под шестьдесят, тот уже наверняка попадает в инвалидные лагеря — работать не надо, но кормят плохо». Так что трудно было решить — радоваться нам за него или огорчаться. «Он теперь небось уже в церкви», - продолжал осведомленный обо всем «китаец». Тюремная церковь в Бутырках — я это тоже уже слышал - переделана под этапные камеры. Люди, назначенные на отправку, попадают туда. «Но как же, ведь суда-то над ним еще не было?» - «А это быстро, — пояснил “китаец”, — минутное дело...»
Меня немного злило это всеведение. Вообще, я стал замечать за собой, что становлюсь довольно-таки раздражителен. Со старичком-эмигрантом, например, мы даже поссорились на прощание из-за натирки пола в камере. Он считал себя обязанным делать все, какие было возможно, хозяйственные дела. Таскал каждую оправку в уборную парашу. Этого у него никл о не оспаривал. Но натирать пол - дело, связанное с некоторым моционом, — было приятно всякому. А он старался перебить или, по крайней мере, всякий раз вмешивался назойливо, по- стариковски. В общем, мы, кажется, не жалели, что он ушел. Тем более что на замену его к нам привели очень интересного человека. Вошел верзила с рыжеватыми волосами, крупными чертами лица и ломаной русской речью. Оказался - итальянец, в прошлом работник Коминтерна молодежи, посаженный в 1938 году. Из Норильска, где он просидел всю войну, был освобожден и жил на положении ссыльного. Женился. Работал техником на электростанции. Хорошо зарабатывал. В 1950 году ему дали путевку в дом отдыха под Красноярск. Он было стал проситься в Крым. Но тот офицер МВД, который выдавал ему путевку, шутливо ответил: «Когда тебе путевку будет предлагать министр МВД, просись у него в Крым. А я могу только 59
в пределах Красноярского края». Ну, он и поехал куда-то под самый Красноярск. Вернее, не поехал, а полетел. Прилетел в красноярский аэропорт, видит — самолеты летают в Москву и из Москвы, и билеты продаются свободно. А тут, как на грех, читает он в газете о том, что в Москве находится итальянская делегация во главе с человеком, ему по прежним временам знакомым. Он вместо дома-то отдыха взял да и прилетел в Москву. Узнает, что делегация сегодня в театре. Идет в театр, встречается со своим знакомым и с другими, те его приглашают после спектакля к ним в гостиницу, а при выходе из театра некие ребята берут его под микитки и везут на Лубянку. Там ему предъявляют обвинение в нарушении паспортного режима и в попытке передачи шпионских сведений иностранцам. Считая, видно, дело простым и ясным, с Лубянки посылают его не куда- нибудь, а в Бутырки всего-навсего. «Ах, что я наделяль, что я на- деляль», — плачется итальянец. Ясно, как божий день, что ему не избежать второго срока — какого, нам тогда еще не было известно; но что эти вторые сроки людям, уже сидевшим, «наматывают» с потрясающей легкостью, все мы уже хорошо знали.
Итальянец сообщил очень много интересного. Он рассказал, как его в 1938 году почти без всякого следствия «судили» на военной коллегии Верховного суда. Даже и к столу, говорит, подойти не дали. Замахали руками: «Знаем, знаем, совершенно закоренелый преступник...» Он получил десять лет одиночного заключения. Сидел около года в Орловском централе, а потом брошен был на этап в Норильск, тогда еще никому не известный. Плыл по Енисею в трюме баржи, где все болели дизентерией — с очень высокой смертностью. Из Дудинки шли сто километров пешком по болотам, пожираемые гнусом и комарьем, каких представить себе нельзя. Он был чертовски здоров, а перенеся дорогу, больших лишений в дальнейшем не испытывал. Бог ему помог тем, что он что-то смыслил в электротехнике — очень нужной тогда там специальности. Работал почти все время в тепле. Таймырского климата, от которого теперь, говорит, почти ничего не осталось - настолько его преодолели и смирили, - толком не испытал. Сидели, говорит, с нами малые ребятишки — был тогда сталинский закон судить с четырнадцати лет - прыгает этакий на вахте чуть ли не босиком, с одной рукавицей в поднятой руке - ну хватит ли у кого-нибудь совести выгнать такого на работу? В войну стали к ним привозить каторжан с двадцатилетним сроком. Мы, говорит, перед ними выглядели почти как «воль60
няшки». Тех первое время и за зону (то есть из лагеря на работу) выводить боялись. Так он и отбывал, даже не очень заметно для себя, этот срок. Даже, кажется, зачеты какие-то заработал и освободился на несколько месяцев раньше. Получил комнатенку, а точнее чулан, прямо при электростанции. «Подженился». Лагерная фразеология и терминология звучала в его устах особенно колоритно. Отвык уже от тюрьмы и на проволоку смотрел отчужденно, как будто и не сидел за ней никогда. И вот пожалуйте... Следователи ему говорят: «И черт тебя потянул к этим итальянцам?» — «Так я ж, говорит, сам итальянец». — «Какой ты, к свиньям, итальянец — ты же полярник...»
Но он, между прочим, по выходе на свободу имел право посылать домой, в Италию, одно письмо в месяц. Писал и ответы получал. Родные недоумевали — чего это он забрался бог знает куда, почему за столько лет ни разу не навестил их? А как им все это объяснишь?..
Я пытался его утешить. О нем теперь знают его знакомые итальянские коммунисты. Поймут, что с ним что-то случилось, обязательно примут меры. Тольятти пользуется у нас очень большим авторитетом. Он горько усмехнулся.
— Я сам знаком с Тольятти, но я бы к нему никогда не обратился...
- Почему же?
— Да прежде всего потому, что это такой человек... Если он узнает, что я репрессирован советскими органами, то я для него больше не существую...
— И тем не менее, может получиться так, что делом вашим теперь займутся снова... Вот погодите, вернетесь в Италию, к партийной работе... Вы же знаете, конечно, как в Италии прогрессирует коммунизм?
Он грустно покачал головой:
— Даже если бы все произошло, как вы говорите, я бы никогда больше не вернулся к партийной работе. Это для меня теперь больше невозможно.
Норильск. Ужасное название, произносимое с таким же страхом, как Магадан и Колыма. Что я знаю об этом? Что я могу противопоставить реальным переживаниям этого человека? Что я знал о тюрьме еще полгода тому назад, несмотря на все рассказы, несмотря на то, что эта тюрьма уже много лет была все время где-то совсем рядом?
61
Мои настроения покуда развивались в противоположном направлении. Тоска по работе и дому заставляла меня забывать и войну и всю вообще историю, все то, что со мной происходило теперь. Я с радостью хватался за то, что во мне подымались теплые чувства по отношению к жизни, идущей там, за окном, задернутым «намордником». Правильно, казалось мне, сказал нашему китайскому эмигранту его следователь: «Допустим, что с вами поступают сурово, жестоко. Такое время. Это необходимо для сохранения нашего порядка. А вы что? Много ли вас? Ноль целых фиг десятых процента...»
О действительных процентах судить было невозможно — не было данных. Да и всё внутри протестовало против преувеличения этой цифры. Пусть мы пострадали зря, пусть с нами поступают жестоко и несправедливо, но нас немного. Если это искупительная жертва и она необходима, то пусть гак оно и будет, если только все это действительно на пользу.
Но с другой стороны, нельзя и представить себе, как он опять вернется в этот лагерь, о котором вспоминает, как о приснившемся кошмаре, — вернется, на этот раз уже не помышляя об освобождении. Можно ли представить себе подобный ужас?
А он, поплакавшись немного, как-то ушел в себя, видимо на чем-то успокоился. Ничего не рассказывал о своем следствии. Один только раз, не без некоторой внутренней гордости, сообщил, что ведший его на следствие вертухай сказал ему (нарушив тем самым тюремный устав): «А ты, видать, был большой полковник?»
Прошла еще неделя-другая - время, на протяжении которого меня опять не вызывали, — и Александров торжествующе положил передо мной тоненькую папку: «Это обвинительные материалы по вашему делу...» Так вот оно, наконец, то, на основании чего я арестован и буду теперь приговорен на какие-то длительные сроки заключения. Я прежде всего полистал - там было шесть или семь бумажек. Несколько бумажек представляли собой последовательные показания одного человека — Димитрия Александровича Мячикова, моего товарища по плену, переводчика в рославльском лагере, с которым мы находились вместе первые месяца полтора плена и которого я потом встретил в Бобруйске...
Первое его показание, датированное 1945 или 1946 годом, сводилось к тому, что он знал меня по рославльскому лагерю... В показаниях, сделанных через год или полтора, речь уже шла 62
о том, что я занимался там вербовкой военнопленных во Власовскую армию (хотя Власовская армия была создана много позже). В последующих, еще более новых показаниях, занимавших теперь уже страницы полторы текста, я квалифицировался в грубых и явно самими следователями составленных выражениях как враг советской власти, немецкий прихвостень, изменник родины... Кроме этого свидетельства, которое могло быть прослежено в истории его постепенного оформления, в деле находилось еще и свидетельство другого моего товарища по рославльскому лагерю — Василия Ивановича Ларина, с которым мы были вместе также лишь первые полтора месяца плена и встретились один раз уже по его окончании (и по окончании войны) в Москве. Его показания были очень коротки. В них говорилось, что он видел на мне немецкую униформу и слышал о том, что я получал немецкий паек...
Разумеется, он действительно видел на мне немецкую военную форму в день нашего расставания, но эта форма, как ему должно было быть хорошо известно, подобрана была нашими товарищами для всех нас в мусорной куче... Пайка никакого, по крайней мере в те времена, я тоже не получал... Наконец, там было и еще одно показание какого-то неизвестного мне человека, утверждавшего, что я застрелил военнопленного, ведя его под конвоем в уборную. Следователи мои, видимо, убедились, что показание это ко мне не относится, что имя мое фигурирует в нем по какому-то недоразумению — об этом у них со мной даже и не было разговора. Меня только спросили — водили ли у нас в лагере под конвоем в уборную, и когда оказалось, что нет, отстали. Но показание тем не менее оказалось в деле, видимо, на всякий случай, чем мол черт не шутит, а вдруг и в самом деле убил кого-нибудь, хотя и оружия у него никакого не было...
Когда я прочел все это, меня снова охватило и бешенство и отчаяние: и на таком вздоре, на такой брехне основано мое дело? Ничего другого я, конечно, не мог и предполагать, но увидеть все это своими глазами и не возмутиться, не запротестовать, было совершенно немыслимо.
Меня уже предупреждал наш всезнающий китайский эмигрант, что в конце следствия мне предъявят материалы обвинения, и я должен буду подписать протокол об ознакомлении с ними соответственно статье 206 кодекса. Если человек отвергает эти обвинения, то он не должен подписывать протокола.
63
Я пришел в такой раж от чтения этих свидетельств, так рассердился и расстроился, что заявил следователю в самых резких словах мое полное возмущение этими бумажками: «Безграмотная, лживая стряпня. Ни одно слово не соответствует не только действительности, но просто делу. Одно слово противоречит другому, а все вместе не стоят выеденного яйца. Не буду подписывать, не могу...»
Он заволновался не на шутку. Стал уговаривать меня успокоиться, прийти в себя. «Вы поймите, ведь этим вы зачеркиваете все следствие. Вы думаете, вас выпустят, прекратят дело? Это невозможно, этого не бывает. Это значит только, что все начнется сначала. Опять будут месяцы ночных допросов, еще год сидения в тюрьме. Вы думаете, вы кому-нибудь, кроме себя, этим хоть что-нибудь причините? Только здоровье свое испортите и больше ничего...»
Так он уговаривал меня с полчаса, пока я не уверился в бессмысленности моих протестов: конечно, это безумие — повторить ужасную, унизительную процедуру следствия. Ведь это же не настоящее следствие. Все равно ведь расследовано ничего не будет. Будет все то же самое, только, может быть, в более строгих условиях. Переведут в Лефортово. Будут придумывать еще бог знает какие нелепые обвинения...
«Пишите», — сказал я следователю. Оказывается, у него уже все было заготовлено. Маленький протокол, который мне и был тут же протянут с чуть ли не просветленной физиономией. Оплеванный, уничтоженный, презирающий самого себя я вышел из его кабинета. Но сколько я ни думал потом об этом, всякий раз приходил к заключению, что иначе действовать было бы совершенно бессмысленно.
По возвращении в камеру я сказал с веселой ноткой в голосе о том, что подписал 206-ю. Все меня самым искренним образом поздравили. Еще бы, кончено следствие, не за горами и лагерь. Все-таки не тюрьма, все-таки что-то новое, какие-то другие люди, много людей, свежий воздух, много, вероятно даже слишком много, свежего воздуха... И все-таки не тюрьма, все-таки какая-то жизнь, работа, переписка с родными, может быть... Я как-то настолько отрешился от всей прежней жизни, что о близких вспоминал очень редко и всегда с большой болью.
Однажды мне следователь пригрозил, что если я буду запираться, они вышлют мою жену. Я ему не без злости ответил, что 64
уж это-то мне известно: если она будет подлежать высылке, то ее все равно вышлют, хочет он этого или не хочет...
— Теперь вас вызовет прокурор, — сказал мне китайский эмигрант.
— Зачем?
— Он будет вас допрашивать на основании материалов, установленных следствием.
— Но ведь прокурор — это, по-моему, обязательно человек с высшим образованием?
— Вот этого я уж вам не могу сказать. Я не жил в Советском Союзе. Вы это должны знать лучше меня.
— Как может прокурор оперировать такими филькиными грамотами, как все эти протоколы допросов — мои и моих свидетелей?
Я вспомнил, что в начале следствия мне угрожали очной ставкой с Лариным. Когда я потом заикнулся было о том, почему же меня не сводят с Лариным, на меня только гаркнули: «Очные ставки назначаем мы, а не вы. Раз нет, значит не находим нужным». Тогда я подумал: это значит, вероятно, что Ларин отказывается подтвердить данные им раньше показания... Или, может быть, они просто решили, что и без очной ставки все идет как по маслу. Ладно, подождем прокурора.
Но оказалось, что я еще не избавился от следователя. Будучи вызван в самые ближайшие дни после подписания 206-й, я, как обнаружилось, должен был подписать протокол об уничтожении всех взятых у меня при обыске бумаг. Это были преимущественно мои стихи и письма близких мне людей. Я наотрез отказался.
— Почему это все надо уничтожать? — спросил я.
— Такой у нас порядок, — ответил следователь. — Признанную антисоветской писанину мы уничтожаем.
Я повторно наотрез отказался подписать такой протокол.
— Здесь нет ни одного антисоветского слова, — сказал я. - Моего согласия на уничтожение моих сочинений и адресованных мне писем, которые я хранил, потому что они мне дороги, я никогда не дам. Если вы считаете необходимым это все уничтожить, то и берите это на себя, а не заставляйте меня заниматься самосожжением...
На другой день мне предложено было подписать протокол о возвращении моих бумаг жене. Следователь оставлял только 65
3 Лагерный дневник
несколько стихотворений, которые, по его мнению, должны были быть приложены к делу.
И тут я снова вздохнул облегченно и повеселел. Какое счастье, думал я. Как было бы ужасно знать, что все, составляющее твою душу, погибло еще при твоей жизни. Первое время, пока не прошло острое чувство удовлетворения, мне казалось, что теперь в сущности даже и не важно, что будет дальше со мной, поскольку уцелело то, что я написал...
Потом это ощущение, к сожалению, притупилось, да и, как всегда и во всем, что здесь ни происходило, к радостному сознанию стали примешиваться сомнения: а может быть, это они нарочно, просто чтобы отвязаться, дали мне подписать протокол о возврате? А на самом деле возьмут и уничтожат? Увы, ни рассеять, ни подтвердить эти сомнения покуда было совершенно невозможно.
Надворе стоял сентябрь, но довольно сухой и теплый. Наши получасовые прогулки доставляли истинное наслаждение. Гуляли мы внизу, на небольшом дворике, с трех сторон окруженном тюремными четырехэтажными корпусами. С четвертой же стороны проходила внутренняя стена, высотой с двухэтажный дом, отгораживавшая старинную башню, в которой, по преданию, сидел еще Пугачёв. Башня эта и теперь не пустовала. В ней, как говорил всезнающий китайский эмигрант, находились одиночки. Поди проверь...
Дворик весь асфальтирован — ни травинки. Но зато в окнах первого этажа одного из корпусов, где помещались квартиры служащих тюрьмы, виднелись цветы и всякие домашние предметы. На одном из подоконников стоял радиоприемник, и однажды через приоткрытое окно донеслась музыка. Мне показалось, что она звучала из какого-то другого мира, точно я уже бездну лет не слыхал никакой музыки.
На дворе стояла деревянная будочка - «бокс», в который нас иногда загоняли, если возникала необходимость провести через двор каких-нибудь заключенных. Над дверью этого примитивного бокса была небольшая щелка, и любопытнейший китайский эмигрант всякий раз, как мы оказывались в боксе, примащивался нам на плечи, чтобы подглядеть — кого проведут? Обычно это бывал один человек, но иногда и четыре-пять (то есть такая же камера, как и наша), следовавших, очевидно, на соседний прогулочный дворик.
66
Шепотом музыкант сообщал нам о том, что ему удалось подсмотреть. Если среди проходивших бывали люди, чем-либо выделявшиеся, то это им отмечалось особо: «один какой-то не русский» или «человек, волочащий ногу». Однажды, только нас вывели и надзиратель затворил уже было за собой дверь, как китайский эмигрант зашептал с судорогой в голосе: «Женщины, женщины...» Прямо перед нами в запыленном окне видна была внутренняя лестница, и на ней стояли три женские фигуры, из которых одна, видимо совсем молодая и оживленно жестикулирующая, бросилась мне в глаза отчетливей других. Все они нам улыбались и махали руками. Это были заключенные женщины. Такая редкая встреча. Услыхав наши оживленноудивленные возгласы, надзиратель тут же выскочил обратно на дворик и стал загонять нас в бокс. Но и женщин немедленно стали отгонять от окна. Так что эта приятная встреча оказалась столь же короткой, скольбыла неожиданной. Подумать только, какого пустяка может быть достаточно в этих условиях, чтобы доставить радость и на несколько дней осветить неожиданно чем-то теплым мертвый тюремный быт.
Меня вызвали в необычное время — часов в восемь утра. Дневная работа следователей начиналась в десять часов. «Наверно, повезут на Лубянку», — сообразил музыкант. Так оно и вышло. Меня посадили в боксик маленького автомобильчика, известного мне по первому путешествию с Лубянки в Бутырки, и вскоре я уже сидел на Лубянке в одном из знакомых мне боксов первого этажа, куда меня когда-то привезли после ареста. Как давно это было, и насколько спокойней и даже равнодушней я теперь себя чувствовал... Ко всему человек привыкает. Сидел я долго, но времени не замечал. Торопиться некуда... Меня насквозь пронизывала и владела всеми моими чувствами тюремная инерция. Хорошо было посидеть спокойно и одному. Одиночество мне теперь выпадало редко, также, как редко можно было спокойно сосредоточиться на каких-то своих и совсем не связанных с тюрьмой посторонних мыслях. В глазок ко мне почти не заглядывали, и я чувствовал себя как бы вне тюремной жизни.
Часам к одиннадцати меня повели к лифту и повезли высоко наверх — там помещалась военная прокуратура. Завели в тесную комнатку с большим и широко открытым окном. День был солнечный, довольно еще теплый. В комнате - два столика 67
з*
и шкаф с большим количеством тонких папок. За столом, перед этим шкафом, сидел сотрудник МГБ в военной форме, явно при этом еврей. Меня это удивило. Он был, вероятно, первый еврей, встреченный мной в этом учреждении. Торопливо доставая папки из шкафа, он просматривал их и иногда что-то писал в лежавшей перед ним тетради - явно составлял какие-то списки. У меня почему-то мелькнула мысль, основанная, в общем, только на рассказах о том, что сейчас многие привлекаются по второму разу, будто он как раз этим и занимается — просматривает старые дела и выискивает в них новые жертвы. Он работал очень сосредоточенно, не обращая внимания на сидевшую за другим столом женщину средних лет, довольно буржуазного вида, которую я определил как стенографистку.
Приведший меня вертухай продолжал стоять в дверях до тех пор, пока не вошел мой следователь. Он был в новом синем гражданском костюме, с белой рубашкой и галстуком. У него был очень свежий и довольный вид. Стенографистка стала его о чем-то спрашивать. Я услыхал только одно: «Скажите, пожалуйста, вы старший следователь?» — произнесла она громко, готовясь что-то записать на лежавшей перед ней бумаге. «Нет, просто следователь». — «Просто следователь», — повторила она за ним раздумчиво... Мой Александров вскочил и направился было к выходу, буркнув, что он что-то такое забыл. Но дойдя до двери, он вдруг остановился, смутился, покраснел и вернулся на свое место - на стул, стоявший у самого окна. Я понял, что если бы я выпрыгнул вдруг в это открытое и лишенное решеток окно, а его бы в это время не оказалось на месте, ему бы пришлось нести за это ответственность. Я покачал головой и сочувственно ему улыбнулся, но он сделал вид, что не понимает или не замечает моей мимики. Вошел наконец и прокурор — в военной форме с полковничьими погонами, седоватый, довольно приличного и серьезного вида человек. Он, видимо, торопился сюда, сел, отдуваясь, рядом со стенографисткой, и между ними произошел разговор о погоде и о самочувствии. Стенографистка заявила, что ей предстоит какое-то деловое свидание в ГУМе. Мне еще перед всем этим ничего другого не оставалось, как сесть на небольшой диванчик, стоявший у стены, хотя меня никто к этому не приглашал. Но никто также и не сказал мне, что я не должен этого делать. Прокурор взял со стола папку, похожую на те, какими оперировал сидящий за маленьким столиком эмгэбист, и присел рядом со мной на диванчике.
68
- Я прокурор такой-то, — сказал он мне, — и буду вести дело но обвинению вас по статье 58, пунктам 16 и 10. Вы себя признали виновным в преступлениях, обвинения в которых были предъявлены вам следователем? — Я кивнул головой.
— Вот и прекрасно, — сказал прокурор. — Дело ваше будет направлено по Особому совещанию... — произнес он в заключение.
«Конечно, — подумал я с горечью, — это потому, что в моем деле нет материала даже для такого суда, как тот, о котором рассказывал наш итальянец».
— Есть у вас вопросы ко мне? — спросил прокурор.
— Скажите, пожалуйста, на каких фактах моей преступной деятельности основываете вы обвинение?
На лице прокурора отразилось удивление и некоторое недовольство:
— Вы же сами рассказали об этих фактах в ваших показаниях. Вы признали себя в них виновным...
— Мне кажется, помимо моих показаний, в вашем распоряжении должны быть какие-то объективные данные? — На лице прокурора удивление усилилось еще более. Он немного заерзал.
— А разве вам не были предъявлены имеющиеся в деле документы, то есть именно свидетельские показания, — сказал прокурор, глядя на моего следователя, с лица которого при этом сошла веселая мина. Тог сухо сказал:
— Протокол на основании статьи 206 обвиняемым подписан.
— Так в чем же дело? — недоуменно спросил меня прокурор.
- Я не собираюсь отказываться ни от моих показаний, ни от подписей под протоколами. Меня просто интересует, как прокурор — блюститель закона — может предъявлять мне какие бы то ни было обвинения на основании тех свидетельских показаний — внутренне противоречивых, не соответствующих фактам, вступающих в противоречия между собой и изложенных абсолютно безграмотно? — Прокурор страшно заволновался. Он покраснел как пион.
— Нет, позвольте... Ах, нет, ну как же вы так говорите! Ведь вы образованный человек, как же вы не понимаете...
— Может быть, я имение потому и не понимаю, что я образованный человек и у меня для всего этого несколько другие мерки? Говорю же я это вам именно потому, что и в вас предполагаю образованного человека. — Тот заволновался еще больше.
69
— Не понимает... Нет, вы совершенно не понимаете...
— Я действительно, видимо, мало что понимаю. Среди предъявленных мне документов находятся показания неизвестного мне лица, угверждающего, что я застрелил в лагере человека...
- Вас спутали, спутали с другим — это для нас ясно.
— А если это для вас ясно, так зачем же эти показания фигурируют в моем деле, к которому они явно не относятся?
— Именно как доказательство того, что вы тут ни при чем...
— Удивительно. Ничего не могу сказать другого... Я должен еще что-нибудь подписать? — спросил я, давая понять, что не настаиваю на дальнейших объяснениях.
— Нет, нет — ничего. Больше ничего... Но как же вы все-таки ничего в этом не понимаете...
Следователь мой встал со стула, в дверях появился вертухай, и меня снова отправили в бокс. Гуда мне был принесен обед с гороховым супом, о котором так, бывало, мечтал наш старичок-эмигрант. На этот раз и я оценил его по достоинству: конечно, это совсем не то, что наши бутырские ши. После обеда меня сразу же отправили обратно в тюрьму. Я возвращался гуда как уже в довольно привычное, уже нестрашное место. Я теперь чувствовал себя не былинкой, подхваченной вихрем, как сразу после ареста, а частью какого-то механизма, который плохо ли, хорошо ли — но действует в угоду какому-то смыслу. «Что ж поделаешь, так это все, видно, и нужно? Чего-то я, может быть, действительно недопонимаю?..»
Казалось, все уже было кончено. Оставалось только ждать «суда». Но вскоре Александров вызвал меня еще раз. Настроение у него было хорошее, спокойное. Он вооружился шилом, достал откуда-то моток шпагата и принялся подшивать мои протоколы. Со мной он уже не говорил казенным образом, а болтал:
— Вог вы, небось, по-прежнему думаете, что вас посадили напрасно, ни за что? — Я пожал плечами.
— Как я могу так думать, вы же говорите, что у нас зря не сажают? Просто, очевидно, представления о преступлении в наше время изменились. Я не понимаю, например, каким образом в деле могут оказываться обвинительные документы, к делу не относящиеся?,. — Александров молчал. И я продолжат: - Не думаю, чтобы такие способы ведения судебных дел могли применяться очень долго. А ведь если господствующие юридические 70
нормы изменятся вдруг — могут потребовать к ответу людей, которые вели дела по нынешним принципам.
— А что вы думаете, — вдруг оживленно поддержал он меня. — И сейчас бывает, что следователей сажают...
— Ну, вот видите. А вы давно тут работаете?
— После войны перевели сюда из СМЕРШа.
— Не довольно ли? Ведь это выматывающая деятельность. Главное, что никакого удовлетворения: преступники-то все более или менее липовые...
— А как отсюда уйдешь, — уже совершенно просто и искренно сказал Александров. — Это ведь не какая-нибудь гражданская работа...
— Это я все понимаю. Но может, тем не менее, представится какой-нибудь случай. Вот его-то уж и не надо упускать. Очень вам советую не терять этого из виду. Такая свистопляска долго продолжаться не может. А у нас не бывает без виноватых. Потянут тогда вас, хотя вины вашей тут, может быть, и не больше, чем нашей. Очень вам советую при первой возможности смываться отсюда... — Он криво ухмыльнулся. Видно было, что мысль эта и самому ему была не вовсе чужда. Но вот он отбросил ее от себя, встрепенулся:
— С вами договоришься тут... — А потом уже совершенно другим тоном. — Нам надо еще один небольшой протокольчик составить...
— Ах, вот оно что. Протокольчики-то, оказывается, еще не кончены? Что же это с таким опозданием, по окончании дела?
— Это никогда не поздно — опять отшутился он. — У нас с вами был уже разговор о Зугдиди, помните?
— Помню, помню...
— Придется составить небольшой протокол...
Неужели посадят Зугдиди? А тогда ведь, может быть, посадят и сестру? Но теперь-то мне это ничего не прибавит в отношении моего самоустрашения? Или они думают, что, испугавшись за сестру, я буду что-нибудь наговаривать на Зугдиди? Маловероятное предположение...
— Так вы говорите, что разговоров с ним не вели и антисоветских высказываний с его стороны не слыхали?
— Никогда ничего подобного не слыхал...
Александров быстро написал небольшой протокол, в котором 71
все это именно так, как я сказал, и было изложено: знаком очень мало, встречался в семье сестры, специально не общался, ничего неподходящего не слышал. Я тут же подписал этот протокол. После этого мы с ним расстались уже надолго. Он мне даже пожелал счастливо добраться до лагеря, видимо не рассчитывая меня больше увидеть.
Вернувшись в камеру, я застал в ней нового человека. У дальней стены, во всю ее длину, стояла пятая койка, на которой сидел сравнительно молодой - лет тридцати пяти, не больше — здорового вида человек. Лицо у него было открытое, интеллигентное. Оказался он инженером-электриком, и в Бутырки попал при следующих обстоятельствах: он и его жена читали журнал «Америка» и коллекционировали его. Недоставало у них какого-то одного номера, и жена стала его подговаривать обратиться в агентство этого журнала — нет ли, мол, у них излишка такого-то номера? Он поехал в Денежный переулок, где находилось это агентство. У дверей стоял милиционер. «Можно пройти в редакцию?» - спросил у него наш инженер. «Отчего же, можно, — ответил милиционер, — нужно только выписать пропуск». — «А где это?» — «А вот сейчас». Он снял трубку настенного телефона и произнес: «Тут гражданин хочет пройти в редакцию». - «Минуточку», — сказал он инженеру. Действительно, очень скоро к крыльцу подъехала закрытая легковая автомашина. Из нее вышел человек и жестом пригласил его внутрь: «Проедемте...» - «Зачем и куда?» — удивился инженер. «Пропуск выписывать», — ответил тот невозмутимо. Он сел. Его привезли в ближайшую КПЗ. Просидел там дня три-четыре. За это время выяснили, что он был во время войны в плену. Потом его переправили на Лубянку, где человек, назвавшийся его следователем, объявил ему, что он обвиняется в измене родине и в шпионаже. «Вы в плену были завербованы иностранной разведкой, а в редакцию пришли сообщить шпионские сведения». После этого его переправили в Бутырки. В КПЗ приходила его жена и подала заявление-жалобу о неправильном задержании ее мужа...
Китайский эмигрант между тем как-то сказал с определенной уверенностью: «Пять человек - это много на такую камеру. Кого-нибудь из нас скоро отсюда уберут...» По всем статьям выходило, что убрать должны именно меня. Так оно и получилось. Меня пригласили на медицинскую комиссию. Два врача, из них одна пожилая женщина строгого вида, осмотрели меня 72
бегло, ни о чем почти не спрашивая, не собирая анамнеза, и, 11 ичего мне не сказав, отправили обратно в камеру. Осмотр производился в пустой подсобной камере, где совершалась наша санобработка раз в десять дней, когда нам стригли волосы на i олове и лице одной и той же машинкой под нулевой номер.
Приговор
И еще через два-три дня мне было предложено собраться с вещами. Я попрощался с товарищами наспех, как и все прочие, уходившие подобно мне навсегда. Судя по прогнозам музыканта, меня должны были отвести в церковь. Но этого не случилось. Спустившись на первый этаж, я оказался в длинном коридоре, известном мне по путям в следственный корпус. Я по нему уже неоднократно хаживал. Что было за этими дверями, похожими на двери в какие-то большие помещения — настолько редко они были расставлены — с застекленными фонарями над ними, как бывает в общежитиях, мне предстояло теперь узнать: меня остановили перед одной из этих дверей, с номером 106. Дверь отворилась, и я оказался внутри действительно очень большого помещения, рассчитанного, по числу стоявших в нем коек, человек на сорок. Но народу в камере было гораздо меньше, не более десятка. В камере было светло из-за двух больших окон, хотя и прикрытых козырьками. Но козырьки были из рассохшихся досок, в щели и с боков можно было видеть большой тюремный двор, с внутренней невысокой стеной, отделявшей его от производственного вида корпуса, как мне объяснили, деревообделочной фабрики, на которой работали заключенные-бытовики, приговоренные на небольшие сроки и отбывавшие заключение в Бутырках.
Прямо перед окнами стоял четырехэтажный жилой корпус для сотрудников тюрьмы. На меня все это произвело большое впечатление. Двор же, видимый в окне, с бригадой кровельщиков на крыше расположенного напротив корпуса показался мне сначала целым миром, и я был очень удивлен на другой уже день, когда убедился, что смотреть тут, в сущности, совершенно не на что.
Люди, сидевшие в камере, объяснили мне очень быстро, что в этом коридоре находятся камеры для ожидающих судебного решения по окончании следствия. Люди оказались, когда 73
я к ним немного пригляделся через недельку, самые разные. Наибольшее впечатление производил сухощавый человек лет сорока с небольшим. Он сидел уже около двух лет по обвинению в сдаче врагу во время войны какого-то вооружения, которое, по мнению следственных органов, могло быть спасено. Человек этот сам был военным политработником, работал в СМЕРШе и считал преследование его местью кого-то из прежних сослуживцев. Его действительно много месяцев не вызывали, а если и вызывали, то лишь для каких-то, судя по его словам, беспредметных препирательств, после которых он за грубые ответы следователям — а он их совершенно не боялся — попадал на неделю-другую в карцер. Жил он все это время на одном общем тюремном пайке, отощал и страдал из-за этого, видимо, настолько сильно, что даже объявил себя евреем двум сидевшим в этой камере еврейским старичкам, получавшим хорошие денежные передачи. Они его как единоплеменника подкармливали.
Был тут незамысловатый простодушный армейский капитан, начальник полевой оружейной мастерской. Он ездил из оккупационных войск, стоявших в Германии, домой в Смоленскую область жениться. В дороге был все время навеселе и надерзил какому-то майору МГБ, заявив ему, что он «хуже зверя» (тот ему, кажется, не дал прикурить, предложив проспаться). Майор принял это заявление как политический выпад, и нашего капитана по приезде его домой, на другой или третий день после свадьбы, арестовали и направили в Москву. На следствии он узнал, что ему еще приписывается неверие в построение социализма, так как он в разговоре с кем-то из сослуживцев ругал колхозы. Просидев больше полугода, он теперь ждал суда. Все его жалели, сочувствовали ему, учили, как надо себя держать на суде, в частности советовали отрицать, что он ругал колхозы вообще, а говорить, что имел-де в виду только свой собственный колхоз, который того заслуживал. Он был вообще всегда довольно весел, с удовольствием играл в шахматы и шутя, но не без назойливости, приставал с антисемитскими замечаниями к инженеру-строителю — еврею, посаженному за то, что он в частном разговоре заявил: «Будь у меня возможность, пошел бы воевать на стороне Израиля против арабов». Вообще-то был он совершенно обычным советским человеком — работал на строительстве Московского университета. Ему и в голову не могло прийти подобное предательство со стороны органов — 74
чтобы его вдруг арестовали и обвинили в каких-то нелояльностях. Когда пришли его арестовать, он долго не понимал, что происходит. Был уже поздний час. Он лежал в постели. Звонок. Проверка документов. Он досадливо повернулся к стене, сказав жене, где находится паспорт. Но нет. Ему было предложено: «Вы, гражданин, оденьтесь и предъявите ваши документы сами». Все еще недоумевая и чертыхаясь, он встал и понял что к чему, только получив в руки ордер на арест. Следствие по его делу было недолгим. Сначала ему было хотели «пришить» измену родине. Но позднее это тяжкое обвинение отпало. Осталась лишь «враждебная пропаганда». Это ему угрожало заключением на десять лет в каких-либо лагерях, расположенных в пределах европейской части, с чем он в значительной мере и примирился. Мечтал о том, что его пошлют на стройку Куйбышевской ГЭС. Человек он был очень разговорчивый, веселый, любил прихвастнуть своими успехами у женского пола. Из равновесия его выводили только шутки капитана. Когда тот, играя с ним в шахматы или споря о какой-нибудь чепухе, поминал «жидовские штучки», инженер выходил из себя, чуть не лез в драку и кричал: «Буду жаловаться начальнику тюрьмы — не дают сидеть спокойно...» Капитан ехидничал, издевался, немного побаивался — а вдруг на самом деле пожалуется? Иногда он подсаживался ко мне и, оглядевшись сначала вокруг — не может ли его кто-нибудь услышать, — шептал: «Черт знает до чего дело доходит, собственной тени начинаем бояться...»
По совету сокамерников бывший эмгэбист записался к дежурному офицеру. Это, конечно, был жест чистого отчаяния. Тюремное начальство не имело отношения к следственной части и ничем не могло ему помочь. Но все же дежурный офицер оказался человеком смелым и логичным: «Не судят, потому что судить, видно, не за что. Было бы за что, так не беспокойтесь, давно бы уж осудили... Сидите спокойно и ждите, вечно держать без суда в тюрьме не могут». И действительно, однажды часов в одиннадцать вечера его вдруг потребовали «с вещами». Сам по себе необычно поздний час вызова свидетельствовал о необычности обстоятельств. Эмгэбист окрылился. «Выхожу на волю, - твердо заявил он. -- Сейчас меня примет замминистра и объявит мне о прекращении дела...» С этой уверенностью он от нас и ушел. Кто ж его знает, как оно там получилось в действительности? Слишком уж много было у нас оснований для недоверия. На волю никого не отпускали, почти и слышать о 75
чем-либо подобном не приходилось. Человек ушел, а мы, уже было лежавшие по отбою в постелях, уже было спавшие, стали опять настраиваться на сон. Но вот с одной из коек раздались приглушенные рыдания и вскрикивания. Остальные досадливо заворочались — и чего это сажают в общие камеры психопатов? Это был, собственно, даже не настоящий заключенный. Ему не угрожал никакой суд, его ни в чем не обвиняли. Он был братом уже довольно давно ликвидированного председателя совета министров — человек малозаметный, бухгалтер какого-то небольшого учреждения. Его очень долго не трогали. Но вот теперь его высылали по этапу на основании статьи 105. А он был тяжело болен в нервном отношении, страшно всего боялся, всякие впечатления вызывали у него истерические припадки, особенно к ночи. Днем же он обычно сосредоточенно думал о чем-то и сотни раз обсуждал свое положение с однокамерниками. Всем нам участь его представлялась смехотворно легкой. Ему говорили: «Да ведь вы же свободный человек! Да, вам придется жить где-то вне Москвы, в какой-то определенной области или в каком-то определенном месте — черт с ним, какое это имеет значение? Вы будете жить на вольной квартире, работать в бухгалтерии, ходить, куда захотите, пить сколько влезет водки — это ли не жизнь по сравнению с жизнью заключенного?» Он на минуту проникался сказанным, как будто успокаивался, но через час-другой снова допытывался у кого-нибудь дрожащим голосом, с искаженным от страха лицом — не запрут ли его навсегда где-нибудь в лагере, не расстреляют ли его, наконец? Каждый вечер перед отбоем приходила сестра и давала ему снотворное.
Был у нас паренек Миша, лет 20—25-ти, с несколько расплывшейся дегенеративной физиономией, молчаливый, по- звериному добродушный. Срок (небольшой) получил он за какое-то коллективное воровство, а в лагере (в Подмосковном угольном бассейне) ему припаяли еще десятку уже по 58 статье, за оскорбление начальства. Свой основной срок он отсидел уже, и видно сжалился над ним лагерный оперуполномоченный — добился того, что дело его по 58-й было направлено на переследствие. И видно, его-таки и собирались «вытряхнуть», раз посадили в эту камеру с уже неследственным режимом. Небось нашего немца-поляка поставили в другие условия. Вряд ли это могло быть простой случайностью.
Миша рассказывал скупо, но все же из него можно было 76
выцарапать при известной настойчивости кой-что о лагерной жизни. Был он на шахте слесарем, работа не трудная, день рабочий, как и на воле, — восемь часов. Через «вольняшек» можно доставать водку и что угодно из еды. В зоне до отбоя делай, что хочешь, а так как работа трехсменная, то и после отбоя хождение по лагерю не преследовалось. Зона от производства отделена проволочным коридором. Все близко, и ходили на работу сами, побригадно, как и на воле. Можно даже и не замечать, что ты в заключении...
Как хорошо. Вот бы попасть в подмосковные лагеря. Не так далеко от дома. Письма будут доходить быстро. «А переписку с родными разрешают?» — «А мы через лагерь не пишем, все через вольняшек. Да оно и через лагерь пиши сколько хочешь...» — «Ведь вот как здорово! Как бы это попасть в такой лагерь?»
На лице у Миши имелись следы плохо заживших язвочек, точно от ожогов.
— А это у тебя что? Болел чем-нибудь или на производстве?
— Обморозил...
— Да как же это ты, где ж ты там обморозил, есл и говоришь — лагерь от шахты в двух шагах?
— А на вахте... Ходим-то побригадно. Вот какой-нибудь х..., вроде тебя, спрячется куда-нибудь, уснет, а ты стой и жди на морозе, покуда его бригадир ищет...
Так приоткрывались неожиданно суровые и специфически лагерные стороны этого быта, о котором в тюрьме сладко было хоть помечтать...
Мишу все жалели — подкармливали из купленного в ларьке, уделяли даже из переданных из дому вещей. Еврей-инженер неожиданно получил из дома огромную посылку: теплое егерское белье, шубу, меховую шапку и разные прочие носильные вещи. «Ну, видно, скоро и приговор объявят, — сказал он. — Это жена моя собрала меня в лагерь...»
Зима уже на дворе — очень ранняя в этом году. Пальтишко и шляпа. Протершиеся сзади от вечного сиденья штаны. Вот и весь гардероб. «А как вы получили все это из дому? По инициативе вашей жены?» — «Нет, что вы. Какая там инициатива — тут ведь все по команде. Пишете заявление через следователя, а там как найдет возможным и нужным начальство...» — «Вот тебе и раз. Я надеялся, что больше не увижу моего следователя». Снова не тут-то было. Пришлось самому записываться на прием к 77
следователю. Мне почему-то казалось, что из этого ничего не выйдет - нужен я ему после того, как дело мое закончено, и он небось ночи просиживает, громя и матеря кого-то уже другого. К удивлению, дня через три-четыре я был им принят.
— Да, - сказал он, - можете написать заявление о доставке вам зимней одежды. Кстати, и протокольчик еще один составим. Вот у вас была такая знакомая... — И он назвал фамилию, которую я уже слышал раза два или три на следствии, - совершенно мне не известная женщина.
— Я уже вам говорил, что такой женщины не знаю, никогда с ней не был знаком...
— Ну как же так? А она вот вас хорошо знает.
- Да это недоразумение, ошибка. Быть может, это знакомая моего брата? Вы бы проверили, что ли?
— Мы проверяли...
— Плохо вы проверяли. Я говорю вам совершенно точно, причин у меня скрывать что бы то ни было нет никаких — не знаю я такой. Это ошибка.
— У нас ошибок не бывает, — заметил он флегматично, но не очень уверенно.
Им, видимо, очень настойчиво внушало начальство, что ошибки в оперативных данных исключены. Он, наверно, как- то было замял дело с этим протоколом о неизвестной мне женщине, но ему напомнили и заставили допросить меня о ней еще раз. Начальство, видно, было крутое и никаких «на нет — суда нет» не признавало.
Больше мы с ним посторонних разговоров не вели. Он был холоден, равнодушен. У меня тоже не было оснований для каких-нибудь сентиментальностей. Вся наша встреча заняла около часа, не больше.
По тюрьме я уже ходил как когда-то по Историческому музею. Все было знакомо и страхов уже не вызывало. Не было и любопытства. Только неприятно было ходить по подвалам да мимо камер с висячими замками. Кто там за этими замками? Много я тут чего слышал. Кажется, все было известно, но этого мне никто разъяснить не мог.
Через недельку прибыла мне передача. Прислали теплую шапку-ушанку, валенки с калошами — они мне оказались немного малы, ватную телогрейку, пару теплого белья и много разных носков. Из носков я уделил, по примеру прочих, пару 78
или две уголовнику Мише. Он принимал такие подарки деловито, без благодарности и без тени сомнения в том, что так оно и быть надлежало. Знал он и о предстоящей нам жизни все, а мы еще ровно ничего, как ни жадно ловилось каждое слово о лагерных порядках и бытовых условиях. Все это, глядя на него, вероятно, почти каждый из нас чувствовал, но реального опыта ощущение это не прибавляло.
Убрали еврея-инженера. В камере стало тише, но и скучней. Огромное помещение — на полсотни людей, а сидит всего человек шесть — даже как-то неуютно. Но скучать долго нам не дали. Появилось два новых человека — оба пожилые и каждый интересен по-своему. Один — крымский татарин, хотя татар- ство из него давно повыветрилось, — съело его высшее русское образование. Старый большевик. В Крыму революцию делал. Сажали его в 1938, в 1939 выпустили, прекратив следствие. Так было с некоторыми людьми, которые оказались под следствием в тот момент, когда Берия ликвидировал Ежова и с пулеметной стрельбой занял Лубянку. Тогда кое-кого и выпустили. Татарин рассказал, что ему перед выходом строго-настрого наказывали никому ничего не рассказывать про энкавэдэшные порядки. Он будто бы имел мужество сказать, что на улицах кричать не будет, но в ЦК пойдет, все там скажет... Будто там в ЦК так ничего и не знали. Потом я убедился, что подписание бумажки о неразглашении тюремных порядков — формальность, через которую проходит всякий выпускаемый тем или иным образом. Дел у него было два. Одно совершенно неопределенное по 58-й, а другое по указу, тоже липовое, но наверняка обещавшее ему лет пятнадцать, за подписание каких-то недостаточно точно оформленных финансовых документов. Относились к нему на следствии, видимо, хорошо, жалели, держали даже и по окончании следствия на спецпитании, чего я еще тут не видывал. Habitus1 у него был склеротический: далеко зашедший радикулит и костный ревматизм, не позволявший ему наклоняться. Он все волновался - куда его пошлют - и говаривал, что ему особенно дороги последние годы жизни. Тосковал по жене (больше у него никого не было). Жена, видимо, была помоложе него, он говорил о ней с нежностью, что, впрочем, не мешало ему рассказывать и некоторые интимные подробности.
’Телосложение человека.
79
Другой новичок поражал прежде всего своим видом. Худой, длинноногий, с седыми волосами и морщинистым лицом, на котором выделялся мясистый горбатый нос. На вид — лет шестидесяти, в реальности, вероятно, немного моложе. На нем была военная гимнастерка и офицерские галифе, сапоги. Кителя и шинели не было. Видно, взяли его где-то на дороге и в летнее время. Зато на голове возвышалась огромная мерлушковая папаха с золотым позументом, которую он почти никогда не снимал.
Был он в войну начальником контрразведки румынской дивизии. Человек наполовину русский — с польской фамилией Каминский. Грехов за ним против советской власти никаких не было. Поэтому он, видно, и дожил дома до 1949 года. Предлагали ему «работать» на МГБ. Отказался. Стали было угрожать. Он устроил истерику, разорвал на себе рубашку. Инсинуации прекратились. Только спросили его с удивлением: «На что вы надеетесь?» А он ответил: «На то, чего вы боитесь». — «То есть как это?» — «Да ведь и вы же чего-нибудь да боитесь? Вот я и надеюсь на это самое...» Шутник, одним словом. Внутренне он был мало интеллигентен, и это сразу сказалось в том, что он полностью усвоил всю тюремную матерщину и употреблял ее на каждом слове. Мне было его немного жалко, но в конце концов я с ним все-таки поругался, до такой степени невыносимо стало выслушивать от него все это неприличие — даже не брань, а просто набор непечатных слов, употребляемых без всякого смысла. Кроме того, меня раздражало его контрразведочное прошлое. Чего, собственно, он еще хочет? Занимался в сущности тем же самым, что и эти посадившие его люди. Конечно, они так и должны рассуждать: «Ты же полицейский и шпион? Раз ты не хочешь действовать с нами заодно, значит ты враг». Главное, мне казалось, что хоть теперь-то он должен бы понять, что занимался отвратительным делом, а ему это и в голову не приходило. Когда я стал с ним ругаться и позорить его за привязанность к шпионажу, вообще к бессмысленной военно-полицейской службе (на войне надо или воевать или заниматься медициной), он был искренне огорчен и пытался оправдываться: «Без контрразведки армия воевать с успехом не может...» — «Чушь, — кричал я. — Разведка нужна, несомненно, — серьезная, научная, методичная. А контрразведка - это дикость, чепуха...» Лицо его принимало несколько раз жалкое выражение. Он был уже стар, два года болтался по советским тюрьмам, ему предстояли какие-нибудь очень далекие режим80
ные лагеря. Бог с ним совсем. Папаха его честно сохраняла свой комический вид.
Надворе глубокий октябрь. Прибывшее из дому вещественное подкрепление оказалось даже и тут кстати. Я для пробы надевал на прогулку то те, то другие вещи. И всякий раз мне становилось безумно тоскливо при ощущении домашних запахов, которые сохраняли еще ненадеванные одежки. Тем более, что жена моя, видно именно с этой целью — чтобы донести до меня запах домашнего очага — немного надушила их своим обычным одеколоном (или так мне казалось?). Когда я надевал на себя какую-нибудь из этих недавно присланных вещей, сердце мое сжималось от ласковых запахов, таких непохожих, таких враждебных всему тюремному строю. А строй этот в значительной мере воспринимался именно через специфический запах: смесь духа параши, хлорной извести, табака и еще какой- то дряни. Отвратительный, незабываемый запах, от которого одного отчаяние ущемляло душу.
В эту камеру можно было просить иголку с ниткой, и я каждый день занимался починкой моего старого гардероба. Особенно в этом нуждались брюки, сзади совершенно протершиеся от сидения на одеяле койки. Да и носки представляли собой дыру на дыре. Теперь у меня было пары три новых носков, но и старые жалко выбрасывать. А главное — нечего больше делать. Книги-то мы получали, и в довольно большом количестве, но я не помню, чтобы за это время прочел что-либо интересное. А как чинил штаны, накладывая заплаты другого цвета из выданных мне тюрьмой лоскутов, очень отчетливо помню. Помню и то, как штопал носки простыми черными нитками. Где штопал, а где и просто зашивал, теряя терпение. За этим занятием и застала меня судьба: «На букву “Е”, с вещами». Вещей уже стало много: большой черный мешок и, кроме того, хороший настоящий рюкзак, купленный, несомненно, матерью, — рюкзаки были ее слабостью.
Шел я по коридору, думая о том, куда меня сейчас поведут, что произойдет дальше? Никто мне толком не мог рассказать, как оформляются приговоры Особого совещания. Все махали руками и говорили — суда никакого нет, просто объявляется решение. Где, как? Ладно, скоро узнаем. Теперь уже скоро, наверно, и поедем.
Из того, что я узнал еще об Особом совещании, существенным представлялось следующее: при судебных решениях дают 81
свидание с родными, а при решениях ОСО — нет. Зато, как правило, судебное решение предусматривает конфискацию имущества, а ОСО этим правом не обладает. Это меня успокаивало и заставляло простить Особому совещанию (все заключенные относились к нему несерьезно: «ОСО — две ручки и одно колесо») то, что оно лишало меня свидания. Впрочем мать, неродная, все равно не была бы допущена ко мне на свидание, так что черт с ним, все равно от него мало толку и много огорчений. Я вспоминал при этом, как кляла тюремные свидания моя родная мать, — отец у меня сидел в 1910 году в «Крестах» (год крепости). Брала она и меня — двухгодовалого — на эти свидания, которые происходили в специальном помещении для свиданий, где заключенные и их родственники были разделены крупной железной решеткой. Отец из-за решетки кормил меня принесенными ему матерью апельсинами. Я подумал еще о том, что-де вот теперь я это помню довольно отчетливо, а в семилетием возрасте, войдя с матерью в магазин, где касса помещалась в решетчатой будке, я вдруг закричал, точно меня осенило: «А где это папа сидел за такой же решеткой?» Закричал к немалому смущению матери...
Меня вывели в коридор, в котором я не был с самого дня прибытия в Бутырки. Значит, я у самого выхода из тюрьмы. Неужели меня сразу же и увезут отсюда? Или, может, переведут в церковь? Я твердо помнил о том, что по объявлении приговора переводят в церковь, а оттуда отправляют в лагеря...
Меня посадили в бокс, тоже очень знакомый по первому дню в Бутырках. И сидел я в нем так же долго, как и в первый раз. За дверью слышались голоса надзирателей, разговаривавших громко, не по-тюремному. Они делились впечатлениями от того, сколько кому «дали». «Восемь лет? Только-то всего? Ишь, повезло человеку». — «Десятка кудлатому-то...» — «Да уж, конечно, не меньше...» — «Полную катушку...» — «Да ну?..»
Какой срок ждет меня? Хотя я уже много слышал про двадцатипятилетние сроки, но практически не видел еще ни одного человека, который бы был приговорен к двадцати пяти годам. Поэтому я и для себя ждал не больше десяти лет, хотя и думал, что для меня десять лет — это все равно что пожизненное заключение. Разве можно выдержать в лагере десять лет?
Заскрежетал дверной запор. «Без вещей...» Я вышел. Меня вывели в вестибюль тюрьмы и подвели к маленькой двери. Когда надзиратель отворил ее, я увидел, что и помещение за нею 82
тоже очень маленькое. Перед письменным столом, стоявшим у противоположной стены, оставалось совсем мало места. За столом сидел еще довольно молодой подполковник с простым открытым лицом. Спросив у меня фамилию, имя, отчество, год рождения и статью, по которой я привлекался, он заглянул в список, который держал в руках, и монотонно произнес: «За измену родине и антисоветскую агитацию - к двадцати пяти годам ИТЛ»...
У меня все похолодело внутри. «Не может быть, это какая- то ошибка», — пролепетал я, хотя мне минуту назад казалось, что я готов ко всему. Этого я, однако, все же не ожидал. Двадцать пять лет. Какой ужас — двадцать пять лет... Подполковник, между тем, заглянул в список еще раз и сказал уже с некоторой тенью сочувствия: «Нет, ошибки никакой негу. Мы вообще не должны показывать, но если вы не верите - вот, посмотрите». И он положил лист на стол так, чтобы я мог читать, закрывая в то же время ладонями, по возможности, все остальные фамилии, кроме моей. «Да нет, я верю вам», — извиняющимся голосом произнес я, ио все же заглянул в список. Все было правильно и написано было только это, больше ничего. «Уведите его», — крикнул подполковник. Дверь отворилась, и тот же надзиратель повел меня через вестибюль в тот же коридор, к тому же боксу. «Зачем опять сюда?» — удивился было я. И сейчас же сообразил: ведь у меня же там вещи... Вещи, которые казались мне теперь абсолютно ненужными. «Двадцать пять лет. Мне сорок три. Я вообще ни в каких условиях не проживу двадцати пяти лет. Лагерь на весь остаток жизни. Наверно, лучше бы умереть теперь же!..»
В ожидании этапа
На сей раз ждать меня не заставили. Опять тот же надзиратель, маленький, с грустным лицом, повел меня внутрь тюрьмы. Знакомые коридоры. Вот и коридор с замками на дверях. «Кто же все-таки сидит под этими замками?» — шевелится во мне старый вопрос. И вот мы останавливаемся перед одной из этих дверей. «Сюда? Не может быть...»
Подходит дежурный надзиратель. Отпирает сначала висячий замок. Потом другим ключом — внутренний дверной замок. Поддвумя замками... Дверь отворяется, и я вхожу. Камера такая 83
же большая, как та, в которой я перед тем сидел. Но народу в ней около полусотни. Почти все койки заняты. Народ все больше молодой, военный и довольно веселый. Здороваемся. «16? Ну, наш. И у нас у всех та же статья, и всем по двадцать пять». Замечаю, что многие среди дня валяются на койках, некоторые даже спят. «Тут можно, — объясняют мне. — Это этапная камера. Отсюда прямо в вагон. Тут режим — пересыльный».
У самых дверей стоит огромный бак. Я сразу не понял, что это параша на пятьдесят человек. Людей было так много, что я поначалу не чувствовал даже ограниченности их количества — точно сразу снова попал куда-то, если не на свободу, то на какое-то многолюдье. Так продолжалось дня два-три, пока я не пригляделся, пока люди, с которыми я знакомился и вступал в общение, не начали повторяться. Во всем задавали тон и определяли общий колорит молодые советские офицеры, оказавшиеся в плену и попавшие во Власовскую армию. На них ничего не осталось от плена, от пребывания в Германии или Франции. Жили они в своей среде, в общем по своим порядкам и правилам, и гораздо больше сохранили в себе советского духа, чем мы — лагерники, особенно же те, кто, как я, много соприкасался с немцами. Сначала мне показалось, что здесь одни сплошные офицеры. К кому бы я ни обращался, оказывалось — старший или просто лейтенант, но обязательно офицер. Солдатиков почти не было. И я с грустью думал, обманутый этой обстановкой, что не будь я в переводчиках, может быть, меня и миновала бы чаша сия. Через день-два, однако, по углам и промеж всех этих бесконечных лейтенантов я стал замечать и других людей. Их было сравнительно немного, они были разные и по возрасту и по жизненному положению и пропадали в этой лейтенантской массе потому, что были тише ее, старше ее, а она была молодая, шумная, веселая и даже, несмотря на голодную тюремную жизнь, несколько буйная. В ней все время возникали какие-то водовороты, шумные и бурные течения.
То какие-то ребята — трое-четверо — между собой громко и настойчиво спорили, а остальные поддерживали спор. То возникали какие-то азартные игры, содержание и смысл которых для не принимавших в них участия оставались непонятными. Я только видел, что побежденные отправлялись к параше, садились на нее и хором провозглашали: «Мы фиговы игрочишки, мы фиговы игрочишки!» Победители же, видимо, довольствовались молчаливой славой. Все они казались очень беззабот- 84
ними, судьбу свою принимали как нечто должное и справедливое: они же уклонились от войны и от смерти, выжили в плену, да и плен-то был не настоящий, а какое-то подобие военной службы в мирное время. За все это надо было платить - это понимал каждый и вины с себя не снимал, даже не очень оправдывался обстоятельствами: «Да, что же, был в плену, служил во Власовской армии — судите». Их и судили. Некоторые счастливчики получили почему-то не по двадцать пять, а по пятнадцать лет. Для молодого человека это большая разница. Я интересовался — почему так, и всякий раз выяснялось, что дело только в сроке ареста — если до издания такого-то указа — пятнадцать, после — двадцать пять. Если бы меня арестовали сразу же по освобождении из плена, я получил бы только десять лет и уже «располовинил» бы срок...
Вся эта офицерская масса представлялась мне на одно лицо. Конечно, сейчас в ней, после всего пережитого, было гораздо больше, чем можно себе представить, обычного мирного духа. Офицерством своим они уже не щеголяли так, как в первые дни войны (соответственно моим наблюдениям над ополченским начальством, состоявшим на 80% из молодых кадровых офицеров). Но и тяготиться им они не тяготились, как и ничего другого в жизни себе не представляли в качестве нормальных возможностей. Лишение же военной и офицерской службы рассматривали как наказание. Но попадались, впрочем, очень немногие, обнаруживавшие полное понимание того, как была ужасна война, и они не боялись этого ни себе, ни мне высказывать со всей откровенностью. По отдельным невнятным признакам можно было догадываться, что это же ощущение не чуждо и всем остальным, но они его прятали от себя, как что-то стыдное и подспудное, гораздо более непроизвольное и нежелательное, чем, например, потребность выпустить из себя газы. Это-то можно было сделать даже со смехом, по-детски или по- деревенски, а такие мысли мучили их, точно боль в желудке, и они сердито отклоняли подобные разговоры. Один только старший лейтенантик с совершенно удивительной искренностью и простодушием признавался мне не в ненависти, нет, к войне, но просто в ее непереносимости. «До того надоедало в окопе, — откровенно говорил он мне, — что когда посылают тебя в штаб батальона с донесением, из окопа вылезаешь не прячась и идешь медленно-медленно, чтобы тебя ранило, чтобы хоть месячишко полежать в лазарете...»
85
Оправка наша продолжалась не меньше получаса. Люди стояли посреди огромной уборной парами, группами и вели нескончаемые разговоры - единственное наше серьезное дело. Поглядеть со стороны — прямо какой-то клуб. На прогулку выходили строем, как армейское подразделение, — спереди и сзади по надзирателю. Никогда никаких инцидентов. Парами ходили и на прогулочном дворике, то ли с тем, кто тебе в этот момент интересней, или просто с тем, с кем на эти полчаса свела судьба. Ходили и разговаривали.
Коллективизм проявлялся только лишь в грубом и властном дележе «ларька». Передачи и здесь были возможны только денежные. Бывали они далеко не у всех, а народ, как сказано, был подвижный и поэтому очень голодный. Выписка продуктов производилась индивидуально два раза в месяц. Некоторые тут же при выписке объявляли, что берут «на камеру» то-то и то-то. Преимущественно это бывал хлеб и лук. На большее-то и не претендовали. Но вот заказ прибыл, и каждый счастливчик тащил на свою койку в охапке все им приобретенное. А потом выкладывал на стол то, что им выписано «на камеру». Дело этим, однако, не ограничивалось. Как-то раз один из молодых с весьма решительным видом объявил без обиняков, что все купленное должно быть выложено на стол, и камера сама решит, что общее, а что нет. Хотя и поднялся ропот, но покупки были выложены, потому что ясно было, что за молодым человеком еще с десяток активных сторонников именно такого решения вопроса. Поступили, однако, в общем очень милостиво. «Национализировано» было еще некоторое количество черного хлеба в дополнение к выставленному по доброй воле. Решено было поровну поделить также и масло. Все же остальное, поскольку дележ его не принес бы ощутимого результата, возвратили владельцам. Я в дележе участия не принимал и держался в сторонке, поглядывая только и интересуясь, чем оно все кончится. Но и мне досталась буханочка хлеба и порядочный -- грамм 100 — кусок масла. «Бери, бери, отец, не стесняйся...»
Наконец-то я встретил знакомого человека. Собственно, я его опознавал с трудом и неуверенностью, но он сказал, что очень хорошо помнит меня по Ленинской библиотеке. Это был еще молодой, очень красивый человек, с открытым европейским лицом. Он как медиевист занимался прибалтийскими славянами, готами, варяжским вопросом иъ п. У него уже была написана кандидатская диссертация о полабских славя86
нах, которую ему, однако, не довелось защитить: его и его жену, члена партии, арестовали одновременно по обвинению в подготовке террористического акта то ли против Сталина, то ли против правительства вообще. Конкретного, впрочем, им ничего в вину не вменялось — только разговоры с глазу на глаз за домашним столом о том, что-де не вредно было бы «сменить руководство». Ему были сначала предъявлены показания его жены, подтверждавшей это обвинение, а затем устроена очная ставка, на которой он нашел ее в тяжелом нервном состоянии. Ему ничего другого не оставалось для ее спасения и для облегчения собственной участи, как подтвердить данные его женой показания. Положение его усугублялось тем, что имя у него было нерусское - он был сыном человека швейцарского происхождения.
Несмотря на все это, молодость и здоровье брали в нем верх. Настроение у него было довольно хорошее, вид тоже. Он только очень беспокоился за жену, а его самого заморить не успели, да видимо и не хотели. Он только был утомлен следствием, протекавшим, очевидно, еще более бурно, чем мое, — с бессонными ночами, круглосуточными допросами, но как будто без рукоприкладства. И если я рвался в лагерь, если мне осточертела тюрьма и тянуло на мороз, при всех, при самых жестоких условиях, то он говорил: «Ну куда вы торопитесь, подождите... Ну, давайте хоть месячишко тут посидим...» Смешно было его слушать — как будто это от нас хоть сколько-нибудь зависело, как долго и где сидеть и куда ехать.
Впрочем ему, в отличие от меня, было известно, что он едет куда-то в Казахстан в режимный лагерь. Срок у него был такой же, как у меня, статья 58-8 — террор (разумеется, не прямой террор, а через какую-то там другую статью — 19-ю, кажется, — возможность совершения преступления, предусмотренного соответствующей статьей). Замучить его не успели еще и потому, что родители его, оставаясь на свободе, посылали ему деньги, и он, благодаря этому, питался довольно сносно и даже не отказывал себе в тюремных деликатесах. Так, на сей раз ларек принес ему, помимо двух прекрасных белых батонов, еще и некоторое количество красной икры, бутерброд с которой он мне тут же и предложил — что-то совершенно фантастическое... Я и представить себе не смел, что на свете еще существуют подобные вещи. Мне казалось, что я тут же и подавлюсь этим бутербродом с отвычки. Но странная судьба всех лишений: как 87
только они прекращаются и происходит хотя бы временное насыщение, так сразу пропадают все восторги при мысли о вещах, не виданных столь долгое время, и они опять становятся будничными. Так что эта красная икра восторгала меня только, покуда я ел этот бутерброд. От следующего я уже наотрез отказался...
Около этого моего коллеги освободилась койка, и я поспешил на нее перебраться. Рядом, с другой стороны, жил какой-то тоже довольно привлекательный человек, которого я заприметил еще и раньше, но никак не мог к нему подступиться, потому что он всегда был занят с кем-нибудь и, видимо, любопытен многим. С интеллигентным простовато-русским лицом, он нес в себе что-то народническое, чем-то напоминал Короленко, что ли, или Михайловского. Он был крепок на вид, обладал ровным и мягким голосом, поражал внешним спокойствием и уверенностью. Знакомство наше началось с того, что я, уснув днем, видимо прозяб от открытого окна и съежился, а он взял и укрыл меня великолепным романовским полушубком. Оказался он северянином и волжанином из Рыбинска, то есть совершенно соответствовал своей внешности, был педагогом и получил пятнадцать лет каторги за пребывание в плену. Дело его почему-то тянулось очень долго. Началось оно несколько лет тому назад — именно поэтому дали ему такой срок и каторгу, которой уже не было в мое время. Это оказался первый каторжанин на моем пути. Я вообще не знал, как не знали этого и все прочие вольные люди, что на свете сейчас имеются, как и в старину, каторжные работы. Поэтому я ужаснулся, когда от него услыхал об этом. Он меня успокоил — сколько ему известно, разница между каторгой и обычным лагерным заключением не велика — люди содержатся в одних и тех же лагерях, работа только потяжелее. «Ну, а работы мы еще не боимся», — сказал он не без гордости и, потягиваясь, дал почувствовать, что у него еще есть порох в пороховницах. Этот человек очень импонировал всем, потому что на нем, несмотря на долгое сиденье, как- то совершенно не было заметно следов тюрьмы с ее режимом. Он выглядел совершенно здоровым и свежим, не было у него того землистого цвета лица, который приобретается в тюрьме, да и психика ничуть не была тронута тюрьмой: спокойный северно-русский человек, без блатных выражений, неизбежно примешивающихся здесь к языку, какое-то совершенно обычное, домашнее отношение к вещам, как будто он только что из дома и из своей школы, весь еще полный обычных «вольных» 88
впечатлений и мыслей. Это усугублялось тем, что все на нем было домашнее и добротное, начиная от бараньего полушубка, такого необычного даже не только в тюрьме — и на воле-то овцы перевелись настолько, что бараньего меха почти не стало (зато в моду вошли женские шубки из венгерской цигейки), и до старомодной, с расшитым воротником, рубашки. Он сохранял удивительное спокойствие, и хотя веселого ни вокруг, ни внутри него ничего быть не могло, лицо его светилось чем-то очень добрым и жизнерадостным. Все эти качества очень привлекали к нему людей. Он всегда был на виду, в окружении многих собеседников, так что мне с ним поговорить почти и не удавалось. Я только прислушивался к его разговорам с другими, что было мне тем легче из-за нашего соседства, и убеждался в его очень большой внутренней простоте и обыденности. Видимо, именно эти свойства его души и позволили ему пройти через тюрьму и следствие без внутренних потерь.
В нашу камеру вошли сразу два человека. Это было необычно. В тюрьме каждый фигурирует в качестве единицы, и если в камере он оказывался не один, то при всякого рода перемещениях, происходивших за время пребывания в тюрьме, связи обычно тут же и навсегда терялись. Здесь никто ни с кем не должен был контактировать, а те связи и симпатии, которые временно возникали, ни в коем случае не должны были быть поддержаны и продолжены. Нечего и говорить о том, что люди, связанные между собой до тюрьмы или связанные по «делу», разъединялись специально, и какое бы то ни было общение между ними заведомо исключалось. А здесь вошли в камеру два человека явно между собой связанные, называвшие друг друга уменьшительными именами, знавшие друг друга еще до прихода в эту камеру. Они не были похожи один на другого, и если бы не тюремные правила, абсолютно исключавшие совместное пребывание родственников, то и тогда трудно было бы предположить, что они из одной семьи. Но так оно все-таки оказалось. Это были родные братья, и сидели они, собственно говоря, по одному поводу. То были русские эмигранты из Китая, такие же, как и тот мой китайский эмигрант, с которым я провел более полугода в следственном корпусе, но только лишь совсем другой степени интеллигентности. В особенности один из них мне очень импонировал. В наружности его было что-то от Леонида Андреева — молодое, очень вдумчивое лицо, с правильными, довольно крупными и мягкими чертами. Брат его 89
менее отличался от «советского» человека, мог бы вполне сойти за какого-нибудь нашего инженера или какого-либо другого деятеля этого же рода. Следственные власти удовлетворили их просьбу о совместном пребывании до лагеря. Лагеря же им, видимо, предстояли разные, да и срок у них был не один: у более симпатичного — двадцать пять, а у брата его — пятнадцать. Они оба преподавали в русских школах, но один из них знал, кроме того, еще очень хорошо английский язык (кажется, и преподавал его) и поэтому работал в какой-то американской военной части в качестве русского переводчика, будучи совершенно уверен в «патриотичности» своей деятельности. У него не было и тени подозрения, что его могут за это преследовать советские органы власти. Однако ему все это обошлось очень дорого. Он был обвинен в шпионаже в пользу американцев; за ним, видимо, подозревалось что-то более или менее реальное, поскольку ему на одном из первых допросов еще в нашей контрразведке перебили коленные чашечки, чтобы понудить к искренним показаниям. Сделано это было, между прочим, совсем не по чьим-либо склонностям к зверскому обращению с контриком-эмигрантом, но в протоколе было официально отмечено, что показания сняты по применении методов физического воздействия. Дальнейшее следствие, видимо, установило эфемерность этих подозрений. Если бы не так, ему бы, конечно, никогда не было разрешено совместное пребывание с братом, к которому сразу же стали относиться гораздо более снисходительно. В этом они находили большое утешение и довольно безропотно принимали свою судьбу, не теряя, видимо, надежды на то, что как-нибудь все в дальнейшем утрясется. Во все эти сроки, щедро выдаваемые без предъявления серьезных обвинений и без какой-либо их документации, трудно им было серьезно поверить. Вот они и ходили теперь по этой большой камере, оставлявшей посредине ее, несмотря на наличие большого длинного стола и скамеек, несмотря на присутствие полного комплекта заключенных, еще и некоторое место для хождения взад и вперед — от задраенных намордниками окон до параши и двери. Ходили они нередко в обнимку, о чем-то очень спокойно и тихо разговаривая, и в этой удивительной паре было что-то очень отличное от привычных нам отношений родства и нашего быта, в котором подобные проявления нежных чувств между кровными родственниками представлялись бы большой и ничем не оправданной экстравагантностью.
90
А их что-то явно необыкновенно сильно связывало, и были это не просто родственные отношения, но какая-то особая форма человеческой любви, видимо утраченная в нашей нынешней жизни, исполненной всяческих центробежных сил и лишенной почти каких бы то ни было сантиментов.
Глядя на них, думалось о том, как велика должна была быть тяга к родине, желание во что бы то ни стало вернуться в свою страну. Ведь они не могли не знать, насколько для них это рискованно и проблематично. Многие эмигранты с помощью американских военных властей, если они не находили возможным рассчитывать на снисхождение по тем или иным причинам со стороны советского начальства, выезжали в Австралию или в Южную Америку, где их, разумеется, тоже ждали очень большие трудности и неустройства, но конечно совсем другого характера.
Ностальгия обезоруживает человека. Все начинает представляться в каком-то необычайном, искаженном свете. «Преследования, лагеря? Ну что ж. “Сибирь ведь тоже русская земля”, как пелось тогда в одной песенке».
Они рассказали, что в Сибири их как раз продержали сравнительно недолго. После пребывания в каких-то совершенно неблагоустроенных пересыльных пунктах Дальнего Востока, они эшелонами были направлены на Урал и определены на жительство в Пермской (тогда Молотовской) области, в глухих местах, на лесоразработках. Очень тяжелый, в условиях сурового климата, труд, житье среди леса, на отшибе от людей в примитивных бараках, без самых элементарных бытовых устройств, главное, без какой бы то ни было надежды на изменение этих условий - их очень удручали, повергали в уныние. Но их статус не был статусом ссыльных. Каждый из них, осмотревшись и что- то прикинув, мог расторгнуть договор с леспромхозом и уехать куда глаза глядят. Кто мог знать, что эта кажущаяся возможность была простейшей ловушкой? Они решили податься в Самару (Куйбышев), где жили когда-то их родители. О городе этом они были наслышаны всяких чудес, все воспоминания о прежней нормальной и счастливой жизни соотносились с Самарой, там еще должны были существовать какие-то дальние родственники, с которыми могли бы быть возобновлены связи. В Куйбышеве они прожили всего что-то около полугода. Устроились на сносную работу, нашли настоящее человеческое жилье, обрели каких-то людей, с которыми начали налаживаться отношения.
91
Они вспоминали об этом кратковременном самарском пребывании с большой благодарностью своей незадачливой судьбе. Там стало им наконец по себе, они почувствовали себя, впервые после нескольких лет мучений в лагерных условиях, наконец на родине. И вот тут-то все и кончилось тюрьмой. Арест, пересылки, московские тюрьмы, следствие, повторение нелепых обвинений, слышанных ими в контрразведке и объясняемых несообразностями военного времени. Но они как-то даже и это все внутренне приняли, не удивлялись ничему больше, не негодовали и не сходили с ума от всех этих дичайших нелепостей.
Наблюдения над нашим бытом и нашими политическими порядками вызывали в них скорей сожаление и боязнь за будущее России, чем ненависть и негодование. «Подумайте, — говорили они, — насколько все у вас нереально, не соответствует действительности. Говорится и пишется одно, а происходит на самом деле нечто совершенно другое. Создается такое впечатление, что страна предельно разорена, все отношения предельно запутаны, а главное — все так неопределенно и беспорядочно. Кроме НКВД, нет никаких прочно организованных сил. Армия и та лишена грамотного офицерства с чувством ответственности за свои действия, за людей... лишена простейшей техники, а та, какая имеется, сейчас же приходит в негодность от совершенно не соответствующих ей условий. Машины сейчас же ломаются от полнейшего бездорожья. Вся эта нелепейшая секретность во всем решительно, не позволяющая нормально развиваться никаким связям, никаким деловым (а наверно и боевым) контактам. И это перед лицом той слаженной, богатейшим образом оснащенной американской военной машины, которую вы нелепейшим порядком из дружественной неизвестно почему и зачем превращаете во враждебную. В то время как американцы уже установили контакты с завоеванными врагами, они перетягивают на свою сторону немцев и японцев, наилучших на свете вояк, из которых каждый в отдельности представляет для вас очень серьезную опасность. Что же это будет при таком ужасном внутреннем неустройстве, при такой неорганизованности? Ведь вас в скором времени растащат по частям, ведь в таком окружении Россия, при создавшихся условиях, существовать больше не может. Ведь это может быть делом не лет, а каких-нибудь месяцев, теперь, когда уже идет война с Америкой в Корее?»
Было понятно, что эти мысли, с одной стороны, их огор92
чали, с другой — вселяли в них надежду на скорые изменения самого радикального и общего характера, сулили им избавление от тюрьмы, от перспектив лагерной жизни, от вечного разобщения. Надо сказать, что их концепция и мне не казалась неправдоподобной. Слишком уж нелепо и бессмысленно было все вокруг. Хотя я очень определенно отдавал себе отчет в том, что моя позиция и мое отношение к происходящему не могут не зависеть от моего тюремного положения, но все же бессмыслица казалась настолько глубокой и всеобщей, что те отклонения от истины, какие неизбежно должны были возникнуть в уме человека, помещенного в ненормальные условия, казалось, уже не имели большого значения.
Спрашивалось — как может существовать общество, с таким остервенением рубящее тот сук, на котором оно сидит? Так бездумно и беспричинно создающее себе врагов там, где нужно во что бы то ни стало сохранять и пестовать друзей? Наши колхозы разваливаются, наша промышленность в лихорадке и в беспорядке. Мы сами толком не знаем, что у нас есть и чего у нас нет, — производство липовое, статистика дутая. О том, что в действительности происходит в мире, у нас самые отдаленные представления, основанные на предвзятых, заведомо неверных и неправдоподобных посылках... И вот теперь мы начали войну с Америкой — страной, которая может быть названа единственным действительным победителем в мировой войне, страной, которая сумела своих вчерашних врагов обратить в друзей и накрепко их к себе привязать. О чем мы думаем, что затеваем? При моей интеллигентской манере чувствовать себя ответственным за все происходящее на свете, мне казалось моментами, что, может быть, это и лучше, что я теперь в тюрьме - по крайней мере не так страшно думать о том, что все катится в пропасть при каком-то и твоем в этом участии... Я ловил себя на мысли, что эта пропасть, представлявшаяся мне столь ужасной с точки зрения нормального русского человека, теперь меня даже как бы манит, вселяет в меня надежду на какой-то, пусть даже и ужасный, конец того сумасшествия, которое привело меня сюда и обрекает теперь на медленную погибель в лагере. О нет, я гнал от себя такие мысли, чурался их и негодовал на них. Какое право имею я питать такие страшные ожидания только потому, что мне теперь плохо? Ведь ей-богу же, как нам всем теперь тут ни плохо, как ни мало мы виноваты в действительности в тех «преступлениях», которые нам 93
приписывают, но если бы можно было верить, что это и есть та расплата за тупость и глупость нашего безграмотного и боящегося собственной тени начальства — единственная расплата и других не будет, — то я бы с огромным облегчением принял эту мою участь.
С такими мыслями, с такими душевными мучениями и колебаниями проводил я это время в Бутырской тюрьме. Я чувствовал, что даже эти мои друзья — китайские эмигранты, вовсе уже не причастные ко всем нашим безобразиям, которым, казалось бы, некого тут беречь и жалеть, которые из-за наших порядков страдают бессмысленно всю свою жизнь, а теперь их калечат и мучат за неимением (или за неумением распознать) действительных и настоящих врагов, - они тоже боялись всеобщего краха и всенародной погибели, казавшейся в те дни совершенно неизбежной.
Среди нас вдруг оказался один человек страшного даже для нашей компании вида. На нем были остатки когда-то хорошего, дорогого костюма - задняя часть брюк совершенно отсутствовала, и через огромную дыру были видны почерневшие от грязи и тоже протершиеся кальсоны. Под распахнутым и лишенным пуговиц пиджаком чернела такая же, как и кальсоны, вероятно с год не стиранная рубашка, тоже без единой пуговицы на вороте. Лицо у него было очень исхудавшее, глаза блуждающие, безумные, волосы всклокоченные — видно было, что он никогда не умывается, не причесывается. Кто это такой? Говорил он мало, отрывисто, понять его было трудно. Прислушиваясь и присматриваясь к нему, я приобрел очень мало и стал расспрашивать о нем других. Мне сказали, что это какой-то инженер, по фамилии Колесниченко, просидевший под следствием больше года, ни в чем не признавшийся, ничего не подписавший, получивший по ОСО двадцать пять лет. Вид его непроизвольно вызывал гадливое чувство, в скуластом его лице было что-то неприятное, как казалось, в самой основе, а не в результате перенесенных им тюремных тягот. Я бы, вероятно, обошел его стороной, если бы не тот случай, когда несколько человек принялись его бить, поймав на воровстве хлеба. Я бросился разнимать и расталкивать этот клубок орущих и размахивающих руками людей. Колесниченко злобно отфыркивался и кричал, что никакого хлеба он ин у кого не брал. «Ну да, не брал, видели же все, тут же и сожрал гад этакий - его бьют, а он знай себе уминает, как только не подавился... А еще член партии...»
94
Когда удалось их растащить в разные стороны, я все поглядывал на Колесниченко, а он отвечал мне иногда взглядами, в которых проскальзывала если не симпатия, то некоторое удивление.
Я на другой день подошел к нему и спросил в упор:
— Вы правда были член партии?
— Был. Я при самом Кагановиче работал.
— Почему же вы так опустились и на все рукой махнули? Может, за вас хлопочут?
— Никто не хлопочет. Никто никому не нужен. Как еще можно бороться? Только так — пусть все идет к черту, пусть видят, до чего людей доводят...
— Никто ничего не увидит. Вы этим только себе самому вредите. Заболеете от грязи, запаршивеете.
— Все равно подыхать...
— Этого мы сказать не можем. Люди все сидят ни в чем абсолютно не виновные — и сколько людей! Так долго продолжаться не должно. Вы как член партии не имеете права падать духом. Если вы действительно коммунист — вы бороться должны, стойкость выказывать... В чем вас обвиняли?
— Ни в чем. В чепухе. Я жил с двумя б...ми, они ругались- ругались, а потом сговорились, сволочи, и написали донос... Я ничего не подписал, ни одного протокола... Все карцеры прошел. Они сами все дело составили. И подписывали всё сами...
— Ну, вот видите, значит по существу и дела-то никакого нет, если вы не давали показаний. Значит у вас все основания не падать духом. Надо писать и писать заявления во все инстанции... Я вот им заявил, что все мной подписанное на их ответственности и, как только получу к тому возможность, буду требовать пересмотра... Вас, конечно, умучили. Но теперь все позади, надо прийти в себя, собраться с новыми силами.
— Нет у меня больше никаких сил. Пусть видят, до чего довели человека.
— Что вы чудите, кому это интересно? Тут и не такое видали, уже и удивляться разучились. Мы сами себе должны помогать. Вас надо прежде всего в человеческий вид привести. Завтра с утра попросим иголку, нитки и лоскутов - будем брюки ваши чинить...
- Товарищи, - громко сказал я, - ведь тут же среди нас есть, конечно, еще члены партии? Как же вам не стыдно позволять
95
до такой степени опускаться и пропадать вашему товарищу, чего же стоит вся ваша партийность, коллективизм?.. - Никто, однако, никак не отреагировал. Точно и не слыхали ничего. «Ладно, черт с вами, и без вас обойдемся...»
Надзиратель подал мне большой лоскут какой-то ткани, вообще совершенно не подходившей для починки темных шерстяных брюк. Но на это наплевать, главное, чтобы дыры не было, через которую у него вся задняя часть выглядывала наружу. Ниток я отмотал с хорошим запасом. Не без больших сомнений в успехе стал я уговаривать Колесниченко снять брюки. Казалось, что человек этот должен быть очень упрям, не считая еще и действия причиненных ему психических травм. Но, к счастью, он как-то довольно быстро сдался, увидев всю серьезность моих намерений, как это бывает иногда с капризными, но незлыми детьми. Скинув брюки, он послушно залез под одеяло, а я, разложив брюки на столе, стал расправлять рваное место так, чтобы заплата легла на него возможно ровней. Это удавалось с трудом, дыра была совершенно неправильной формы, ножниц никаких у меня, разумеется, не было, и я никак не мог добиться, чтобы рваные и расползающиеся края легли хоть сколько-нибудь ровно. Я уж было решил плюнуть на это дело и, укрепив заплату в каком-нибудь месте, пришивать ее, постепенно двигаясь в одном направлении по кругу, чтобы в конце концов вернуться к исходной точке. Как вдруг ко мне подошел один черномазый человечек, с которым я до этого как-то почти никогда не разговаривал. «А знаете, — сказал он вполне добродушно и немного смущенно, - вот тут можно бы подогнуть, оно тогда ровнее ляжет... Я, знаете ли, портняжил когда-то, имел навык...» — «Вот замечательно, — обрадовался я. - Теперь у нас дело пойдет!» Новый помощник забрал у меня иголку, а мне поручил держать там, где он в это время наметывал, чтобы заплата не соскальзывала с намеченного для нее положения. Приметав заплату и убедившись, что в общем нигде ничего не перекосилось и не будет тянуть, он уверенно принялся закреплять ее ровными и короткими стежками. Работая, он так же спокойно и вполголоса рассказывал мне свою незамысловатую историю: «Я тоже до войны в партии состоял, мастерской небольшой пошивочной заведовал в Тумском районе. Ну, конечно, побывал в плену, с сорок второго года. Всю войну из лагеря не вылезал. За тихий мой нрав определили меня лагерным полицаем. И ведь сам, дурак, сказал на фильтрации, меня бы 96
и не выдал никто, потому что ведь это даже и не должность, а так просто, вроде как по общественной линии. Ну, а контрразведчики ничего в этом не понимают: “полицай, в полиции служил”. Сразу-то меня все-таки не арестовали, до дому добрался. В партии, конечно, не восстановили — ты, говорят, пока под подозрением до окончания фильтрации. Работал на складе, думал - когда же ей конец будет, этой фильтрации? Ну, вот, весной вызывают в местное НКВД: “так и так, говорят, Гаврилов, поедешь в Москву — требует тебя тамошнее начальство. Ты в случае чего на нас не обижайся, мы против тебя ничего не имеем, держали тебя на хорошем счету...” Ну, а как привезли меня на Лубянку — в “воронке” от самой Тулы везли, — тут оно и завертелось, поспевай только протоколы подписывать. Навертели двадцать пять лет за предательскую деятельность. А оно и предатсльства- то всего только то, что в бараке пол подметал...»
Штаны получились на славу. Я попросил Гаврилова не отступаться и в дальнейшем от опеки над Колесниченко. «Подходите к нему, пожалуйста, когда будете видеть, что я о чем-нибудь с ним говорю. Пусть он поймет, что не я один готов ему посодействовать. И давайте в первую же баню постираем ему белье». Белье у нас вообще менялось каждую баню — раз в десять дней. Но Колесниченко, видимо, менять отказывался, и ему чистое белье предлагать перестали. Оно на нем стало совершенно черное, заскорузлое. Когда и эта операция была произведена - особенно же, вероятно, наши с ним разговоры заметно на него повлияли, — он даже в лице изменился, как-то приосанился, стал улыбаться. А тут еще явились «наниматели» — представители производственных учреждений МГБ, искавшие среди нас нужных им специалистов. Колесниченко было объявлено, что его забирают в какой-то спецлагерь под Москвой на инженерную работу. Тут уж он совсем повеселел. А когда его действительно через два-три дня вызвали «с вещами», он прощался прочувствованно. Благодарил за поддержку, обещал век не забывать... Всем нам от этого было как-то теплее и легче. Мы себя чувствовали и в тюрьме какими-то общественными функционерами, способными даже в этих условиях гнуть свою гуманную, никому не подотчетную и неистребимую линию.
Вспомнил или не вспомнил Гаврилов о своей бывшей партийности, когда я взывал во всеуслышание к коммунистам? Я ведь и сам делал это без всякой, в сущности, «партийной» подоплеки. Партийность эта самая в своих моральных качествах 97
4 Лагерный дневник
повыветрилась, осталась одна казенщина и формализм. Никакой корпоративности у членов партии и на воле-то не было. Не было даже и на войне. Одни только мертвые и пустые слова, которым никто, даже в разведку уходя, глубокого значения не придавал. Просто так полагалось, такая была проформа, вот и все. С таким же успехом я мог бы взывать к верующим в бога. Важно было только, что здесь это была не проформа, и к верующим ли, к коммунистам ли обращался я, имея в виду пробудить лучшие чувства — чувства ответственности друг перед другом. И это, вероятно, понял и мой Гаврилов. Хотя некоторые, в частности и коллега-историк, мне потом выговаривали: «Напрасно вы разыграли всю эту историю с Колесниченко. Не стоил он того. Крупный советский деляга, подручный Кагановича — можно себе представить, как презирал он людей, как с ними при случае расправлялся. Вот он думает теперь небось, что и на него — мракобеса и диктатора — находятся хорошие люди. Будь, мол, каким хочешь зверем, а в беду попадешь — выручат. А этого не нужно. Нужно, наоборот, чтобы ему навсегда стало ясно, что на этом свете к чему...»
Мне не верилось, чтобы Колесниченко мог быть таким, каким мне его теперь представили. Мне казалось, будь он таков, он нашел бы общий язык со следственными властями, вылез бы в какие-нибудь шпики и сексоты. «Вы думаете — всякого желающего берут в сексоты?» — «Думаю, что доброе желание тут одно из главных составляющих...» — «Да ничего подобного, не желание, а звериный страх. Если кому есть чего и за что бояться, вот таких они и ищут... Такого всегда на короткой привязи держать можно...»
Но мы с Гавриловым, кажется, все же не пожалели о том, что помогали Колесниченко. Каков бы он ни был, мы нашли во всем этом что-то очень существенное и для самих себя.
Однажды открылась дверь и впустила какого-то страшно худого и бледного человека лет сорока пяти. Он оказался соседом моим по следственному корпусу, из камеры, с которой так интенсивно перестукивался наш китайский эмигрант. И стучал-то в ответ, оказывается, именно он. Но характер у этого человека оказался как на редкость неуравновешенный. Теперь мне стало понятно, почему музыкант иногда очень подолгу не мог с ним ни до чего договориться и очень волновался по поводу того, что у него о чем-то настойчиво спрашивают, а он толком не может понять — о чем именно.
98
— О чем это вы все время допытывались и соседа моего этим волновали? Никак он ваши вопросы не мог ухватить...
— Да нет, это я так вообще... Я и перестукивался-то не серьезно, а так... Мог бы и вовсе не перестукиваться, да уж просто так, от нечего делать...
— Да я вас ничем не попрекаю, просто мне тоже, в конце концов, интересно стало, о чем это вы все спрашиваете?
— Да я не спрашивал, просто что-то ему говорил, не помню даже что... Мог бы и ничего не говорить...
Он был откуда-то с Урала, на войне не был, работал где-то бухгалтером. Как его занесло в тюрьму по этой пресловутой 58 статье? Политических интересов у него, по-моему, не было никаких, даже для поддержания самого примитивного разговора. К положению своему нынешнему он выказывал полнейшее равнодушие — может быть, не в порядке позы, а так оно на самом деле и было. О следствии, о предъявленных ему обвинениях он не мог или не хотел ничего сообщить толком. «Да нет, ничего такого, собственно, нс было. Обвинял и-то, собственно, не меня, я тут ни при чем, да так уж, видно, теперь иначе никак не получается у людей ничего...»
Вот такие с ним велись разговоры, и ничего другого добиться от него было невозможно. Впрочем в некоторых случаях он оказывался крайне настойчив. У него было очень старое дедовское зимнее пальто, с каракулевым воротником, из черного, но от времени порыжевшего сукна и с обратившейся в лоскуты шелковой подкладкой, из-под которой везде проглядывала потемневшая и слежавшаяся, но крепко пристеганная вата. Похож он в нем был то ли на Плюшкина, то ли на Башмачкина... И в то же время у него были очень хорошие, совершенно новые, с длинными крагами меховые рукавицы. Что-то я ему по поводу них совершенно невинное сказал. Он очень забеспокоился:
— Во-первых, это никакие не рукавицы, а шубенки...
- Вот какое интересное название. Это, наверно, у вас на Урале меховые рукавицы так называют?
- Ничего не на Урале. Вообще эта вещь называется не рукавицы, а шубенки... Шубенки, а рукавицы — это совершенно другое. Как это вы могли не слыхать такого названия? Самое обыкновенное — шубенки, и повсюду они так называются...
Я уже от него давно отступился и спорить перестал, а он все волновался, и удивительно было, как это у такого тщедушного 99
4*
и, может быть, именно вследствие его физической слабости ко многому равнодушного человека столько задора и настойчивости в таком пустячном, несущественном вопросе. Уж он и поддержку себе пытался найти среди соседей. Все просил, чтобы подтвердили, что это именно шубенки и нигде они никогда иначе не называются...
Наконец появился у нас еще один маленький человечек. Необыкновенно спокойный и как-то очень мало внутренне воспринявший то, что с ним произошло. Он тоже рассказать толком не мог о ходе своего следствия и осуждения. Прежде всего он был убежден в том, что его присудили к пяти годам - срок, о котором давно уже не приходилось слышать. В нашей камере не было никого с таким сроком, а только или двадцать пять заключения или же двадцать, изредка пятнадцать лет каторги, если дело почему-либо затянулось. Обвиняли его, как он говорил, в антисоветских разговорах... «Был у меня действительно один разговор с родственником, да никогда я не думал, что может он получить такое последствие...» — «Л что же, донес на вас кто-нибудь, что ли?» — «Да нет, будто никто ничего недоносил — сам я про него и рассказал следователю. Не надо мне, видно, было никаких таких разговоров затевать. Нестоящий, правда, и разговор-то был — про родню нашу деревенскую, мол, живут плоховато...»
Такой это был непоколебимо спокойный и в общем совсем не потрясенный обстоятельствами человек, далеко уже не молодой, складской работник, предельно мещанского духа, но и предельной честности.
— Есть ведь такие же вот экспонаты в лагерях... — говорил мой Гаврилов, как один из числа бывалых и знающих. — Блатники их Сидор Поликарповичами называют, а то Укроп По- мидорычами...
— Почему же Сидор Поликарповичами?
— А за благодушие, за глупость: «Сидор Поликарпович, мое почтеньице, крепко ли спали?» Эх, уезжать отсюда неохота, — продолжал он уже в другом тоне. — Вот уже скоро два месяца тут, а по лагерю ничуть не соскучился. И народ тут занятный попадается, а главное жизнь совсем другая.
— Неужели лучше, чем в лагере?
— Лучше?.. Ну, как вам это сказать... Жить везде можно. И там люди живут. Кто как, конечно. Но Бутырская тюрьма — ее 100
ни с каким лагерем не сравнишь. Это гостиница «Москва»! Все тут аккуратно, чисто, все в свое время и по порядку. Спишь на коечке — не на нарах, ходишь не в сортир, а в туалет... Я бы тут еще с полгодика прожил, ей-богу.
Но не пришлось нам жить тут дольше ни мне, ни ему не только что полгодика, а не прошло и двух-трех дней, как потребовали нас с ним с вещами. Сначала его увели. Только я было взгрустнул, что вот, мол, лишился интересного и приятного собеседника, опытного человека, как и мне была дана та же команда. Привели опять к выходу из тюрьмы, но посадили не в бокс, а в довольно большое и темноватое помещение, со скамейками вдоль стен. Заполнено оно было самым разнообразным людом. Тут же оказался и мой Гаврилов.
— Вон смотрите, — тихонько проговорил он мне, — видите ребятня? Вот это самые низшие блатнички, воровская масса. Вид у них, правда, стреляный, видно не по первому уже разу. Ложкомойниками их называют, то есть шпанята на побегушках у солидных воров. Ихними вот руками все дела делаются...
— Какие именно дела?
— Да всякие. Стащить где-нибудь чего-нибудь, а то и убить кого-нибудь. Они охотно на все идут. Зарабатывают себе законное положение.
— То есть?
— Ну, то есть, будешь выполнять распоряжения воровского начальства, будешь «в законе» — равноправный вор.
Пока мы так говорили, отворилась дверь и запустили к нам «Сидора Поликарповича». Как раз за день до этого был ларек, и он вошел перегруженный, помимо носильных вещей, еще и всяческим продовольствием: буханки три хлеба да разные приятно пахнущие сверточки. Все это у него сыпалось, рук не хватало, и он сразу же принялся все перекладывать в мешки, которых все же оказалось и после рационализации больше, чем рук.
— Как это он все потащит? — удивлялся я.
— Ничего, — невозмутимо заметил Гаврилов, — это ведь только до «воронка», а там ему эти ребята сразу же «шмон» устроят...
Я еще совсем лишь недавно услыхал это слово и произносил его неправильно - «шмунт», а коллега мой, с которым мы очень неохотно, недовольно безнадежно распрощались, все меня поправлял... Ему, как сказано, откуда-то стало известно, что его отправляют в Казахстан, в режимные лагеря («Степлаг»). А мне 101
никто ничего не сказал , и место моего назначения оставалось .для меня неизвестным.
— Как это вы не знаете, куда едете, — удивлялся Гаврилов. — Спросили бы у следователя при окончании следствия.
— А мне и в голову не пришло, что следователь это может знать.
— Они всё знают.
— А у меня как раз создалось впечатление, что мой, по крайней мере, не знает почти ни черта... Ну, а даже если и сбрехнет что-нибудь? Откуда известно, что это правда? Назначение, вероятно, по разным причинам может меняться. Откуда вы знаете, куда едете?
— Я-то уж наверняка знаю. Еду в Сибирь, в тот же лагерь, откуда приехал. Это уж железный закон. Кого только у нас ни забирали на переследствие или еще за чем-нибудь временно, все возвращались на прежнее место.
— Ну, а мне так даже и интересней. Вот привезут, тогда и узнаю куда. Все равно ведь изменить ничего невозможно...
А пока что все шло своим порядком. Обыск, правда довольно поверхностный, не такой, как при входе в тюрьму. Но все- таки ощупывались все швы. разрезался на куски хлеб («Да он же казенный, вчера только из ларька...» Никакого ответа. Дядя в черном или синем халате и солдатских сапогах уверенно и методично делает свое дело). Обыскивали поодиночке, а потом всех скопом повели в баню. В разных банях мне пришлось побывать в Бугырках, на разных этажах и в разных корпусах, но такой бани, как эта последняя бутырская баня, я еще не видывал. Чуть ли не мраморные скамейки, стены выкрашены в светло-зеленый цвет, чуть ли не штофные, как в Сандуновскнх банях, потолки. Тут я и оценил по достоинству недавнее заявление Гаврилова о том, что Бутырки - это гостиница «Москва». Ай да баня. Но только я расположился посибаритствовать в ней, как уже раздался голос надзирателя: «Собирайся на выход». В тюрьме всегда так — всё бегом и всё по команде. Впрочем, и в армии жили почти так же — привыкли.
Настроение у меня было какое-то довольно легкое, веселое. Хотя внутри все и подрагивало от слабости, вызванной восьмимесячным сидением на голодном тюремном пайке и перипетиями следствия, а также тем, что впереди была «темна вода во облацех», но ощущение, что тюрьма кончается, что наконец куда-то меня увезут отсюда, через все страхи наполняло меня 102
радостью. Что может быть ужаёней тюрьмы? Этого я еще не знал. Но ведь вот на моих глазах люди предпочитали бутырское сиденье лагерю — значит в лагере хуже? Чепуха, этого не может быть. Там свежий воздух, движение, работа, общение с людьми. Боже, как хорошо. Но куда же только меня повезут? Как глупо, действительно, что я этого не знаю. Гаврилов уверен в том, что возвращается на прежнее место — в Казахстан. Раз мы с ним вместе, может быть и меня везут в Казахстан? И я сразу же вообразил знойные полупустынные степи, монгольские лица, жгущее летом солнце, жгущий зимой ветер. Ну что ж, это было бы хорошо. Живут люди и в Казахстане. Сами туда даже едут. Поедем в Казахстан...
Когда нас вывели в предбанник, то некоторые стали внимательно осматривать дверные косяки. Оказывается, у них было условлено с товарищами по разным следственным камерам, с которыми их разлучила судьба, что в предбаннике на косяке будет сделана последняя запись: имя, срок и место назначения, если оно известно. И находили такие записи. «Ага, вот Герасимов... Помнишь Герасимова? Десятку только и схватил. Вят- лаг. Что это за Вятлаг такой? Наверно в Вятке...» — «В Вятке? Вятки-то нету — Киров...» — «А шут его знает...»
И вдруг среди этих людей, ожидавших свою одежду из дезинфекционной камеры, я заметил того инженера-еврея, с которым сидел в 106 камере сразу по окончании следствия, но до объявления приговора. Вид у него был изможденный, опустошенный. Обменялись новостями. У него было все так, как он и предполагал, — 10 лет, и направляли его под Куйбышев на строительство ГЭС.
— Так очень же хорошо! Почему у вас такой унылый вид?
— Знаете, нету сил. Ни на что больше нету сил. И кроме того, очень угнетает процветающий здесь антисемитизм.
— Да господи, наплюйте...
— Не могу наплевать. Все во мне против этого подымается, и страх какой-то одолевает. Точно ты и действительно человек низшего сорта... Очень прошу вас, если мы с вами попадем в один лагерь, а я не исключаю этого, раз мы теперь с вами снова вместе — очень прошу вас не говорите, пожалуйста, ничего о моей национальности.
Я с некоторым недоумением на него поглядел, и на меня нахлынули воспоминания о собственных переживаниях во времена немецкого плена: неужели опять это повторяется — вот 103
ужас... Я ему, конечно, с готовностью пообещал это. А пообещав, сам как-то проникся мыслью, что мы можем оказаться в одном лагере. Сразу же представил себе огромную реку среди холмистой местности, покрытой снегом. Куйбышев. Самара. Когда-то, едучи в Среднюю Азию, я проезжал через Куйбышев, пересекал Волгу. Бог знает когда это было — еще до войны, а ведь так ярко, так хорошо все помнится: вокзал в Куйбышеве, огромный мост... Что ж, очень неплохо бы и в Куйбышев. Только навряд ли. Говорили ведь, что с двадцатипятилетним сроком в средней полосе не оставляют. Эх, поедем, куда повезут...
На больших тележках вокзального типа стали подвозить вещи из прожарки - горячие, пахнущие точно чем-то свежеиспеченным. Потом стали вызывать по фамилиям. Вот пошел и мой инженер, согнувшись под тяжелым мешком. Со спины он показался мне еще более удрученным. Пошел и даже не оглянулся, а ведь это была наша последняя встреча. Затем увели Гаврилова, весело махнувшего мне рукой. «Может быть, это просто так - не всех сразу выводят, а еще и увидимся и будем снова вместе?» — подумал я. Но мы не увиделись. Когда привели в помещение со скамейками — может быть в то же самое, где были перед баней, а может и в другое, совершенно такое же, со мной остались только те же маленькие шпанята-воришки, державшиеся тесной кучкой, да несколько молодых ребят, явно офицерского типа, коллеги мои по статье 16. Но не те, с которыми я сидел в камере под замком, а какие-то другие. Один сразу же примостился рядом и стал рассказывать, что он только что из Лефортовской тюрьмы, где проходило его следствие: «Только я 206-ю подписал, меня как шарахнули в одиночку, прямо как в гроб какой-то: вся в черный цвет выкрашена — и стены и потолок... Просидел целый месяц, думал, следствие что ли новое начинать собираются? Нет, вывели наконец оттуда, привезли в суд, сунули мне двадцать пять и прямо вот сюда. Еще и очухаться не успел толком».
Тут еще втолкнули к нам человечка два-три. Один из них был в каком-то очень шикарном (хотя теперь уже потрепанном или сильно помятом) заграничном пальто с длинным ворсом. Он тут же рассказал, что был шофером в правительственном гараже, возил чуть ли не Молотова и получил двадцать пять лет по обвинению в подготовке террористического акта. Вместе с ним вошел еще какой-то небольшой, но очень экспансивный и разговорчивый человечек — то ли еврей, то ли просто южанин — и помещение наше сразу наполнилось шумом.
104
Дверь через некоторое время отворилась опять - «выходи с вещами». Нас провели через знакомый уже хорошо вестибюль в небольшой тамбур перед выходной дверью. Было нас человек 15—20. Вместе с нами вышел лейтенант НКВД, заявивший, что он начальник конвоя: «Нет ли каких претензий?» Один из бывших офицеров - молодой человек - показал на свои ноги — он был обут в стоптанные и рваные брезентовые туфли. Уже и здесь в тамбуре в этой обуви было холодно, на улице же стоял мороз. Лейтенант сказал, что в таком виде он его не примет, пошел с ним куда-то, и через несколько минут на парне были уже какие-то поношенные, но кожаные ботинки рабочего образца. Подъехал «воронок», в который нас и усадили. В «воронке» по сторонам имелись скамейки, места на которых для нас оказалось мало. Яуселся на своем мешке, прямо переддверьюсокном. За дверью был небольшой тамбур, в котором, по сторонам от двери, расположились двое конвойных. Наружная дверь также имела окно, и мне было очень хорошо видно все, что за ним происходило. Я думал о том, что много раз видел на улицах такие машины, в какой сейчас сидел сам, и никогда мне в голову нс приходило, что это были тюремные карсты, хотя выглядели они совершенно недвусмысленно: выкрашены в два цвета — серо-зеленый внизу и светло-серый вверху. На крыше один или два вентилятора, в двери, помещавшейся сзади, обязательное окно. А мы всегда подозревали, что заключенных возят в наглухо закрытых машинах без окон и без вентиляторов, на которых написано «хлеб» или «мясо», при этом на нескольких языках, чтобы иностранцы видели, сколько у нас хлеба и мяса...
Впрочем, запомнился мне один случай, пришедший в этот момент в голову. Году в 35—36-ом шел я по обочине Пречистенского (позднее Гоголевского) бульвара, где тогда помещалась какая-то крупная прокуратура. Из нее вывели несколько человек и втолкнули в большую закрытую машину темно-синего цвета с таким же окошечком в двери, как и в нашем «воронке». Перед дверью машины остался какой-то мальчик лет 10—12, которого конвойные, сидевшие в тамбуре машины, пытались всячески отогнать. Но мальчик плакал и не отходил. Машина поехала, а мальчик побежал с криком за ней. Видимо, внутри был его отец. Тогда машина остановилась, выскочил конвойный и, схватив мальчонку за шиворот, втолкнул его в машину. На меня эта сцена произвела тогда какое-то дикое, нереальное впечатление, и я время от времени вспоминал о ней, как о каком-то сне.
105
Этап
Выезд из Москвы. Горьковская тюрьма
Мы между тем выехали за ворота тюрьмы и покатили по улице. На ней ничего не изменилось за те восемь месяцев, что я просидел в тюрьме. Вокруг нас сновали автомобили, по тротуарам и через улицу на перекрестках шли разные люди по своим делам, как обычно. Все было очень хорошо видно, и я вглядывался в лица пешеходов, казавшиеся мне удивительно знакомыми. Будто бы каждого когда-то и где-то я уже прежде видел. Экспансивный человечек — еврей или южанин — громко выражал свои чувства: «Ходят, ходят, как ни в чем не бывало! Вот черт возьми. Нет, как же это так? Да вон же Мишка! Ей-богу, это Мишка... Идет себе, сукин сын, а мы тут сидим, как крысы...»
Прохожие шли и шли, не обращая на нас никакого внимания. «Воронок» то и дело останавливался из-за автомобильных заторов, и шофер наш отчаянно сигналил. Феерическая была картина! Такое чувство, что вот я надолго был выключен из жизни, точно проболел несколько месяцев, а сейчас опять наблюдаю ее во всей силе и пестроте. Действительно, жизнь идет как ни в чем не бывало...
Постепенно я перестал узнавать улицы - ехали мы уже какими-то пригородами. Шпанята, которым надоела, видимо, эта езда - наружу они глядели совершенно равнодушно, — затеяли между собой возню и со смехом перебрасывали друг дружку с одной скамьи на другую. Сидевшие посредине на полу запротестовали, и раздался окрик конвойного: «А ну прекратить, так вашу так...»
106
За окном замелькали железнодорожные пути и товарные вагоны. Но не было никаких признаков, по которым можно было бы опознать, что это за дорога. Машина остановилась. Нас выгрузили прямо на пути. Никаких посторонних людей вокруг не было видно. Пошли между составами и вскоре остановились перед пассажирским вагоном хорошо мне известного вида: у него с одной стороны были почти исключительно одни маленькие окошечки под самой крышей, а с другой нормальные окна, но и те и другие были с решетками. Столыпинский вагон !. Название это я услыхал впервые в Бутырках.
Стали нас заводить внутрь. Начальник конвоя держал в руках тонкие папки - наши, как мне объяснили, «дела». Внутри каждой папки лежали какие-то бумажки, в которых значилось, за что мы осуждены и куда направляемся. В вагон впускали каждого по отдельности, спрашивая предварительно фамилию, имя и отчество, год рождения, статью, срок. Внутри вдоль больших окон шел обычный коридор, но купе были отделены от него не глухими стенками, а металлическими решетками. Решетчатыми были и двери. Так что из купе через проход хорошо было видно в окно. В каждом купе имелось еще по маленькому окну, но в эти окна не было видно ничего, такие они были темные и забитые всякой грязью. Купе в вертикальном отношении делилось на две части. Внизу, как обычно, имелись две деревянные скамьи (столика не было), а над ними располагались две верхние полки, соединявшиеся, как в старом четвертом классе, вплотную. Только у самой двери в них оставалось четырехугольное отверстие, через которое, подтянувшись на руках, мог пролезть наверх человек. В верхней части купе, таким образом, были сплошные нары. Над ними, под самым потолком, имелось по небольшой полочке с каждой стороны. Они были довольно узкие и тянулись не на всю длину купе, являясь как бы полочками для вещей, на которых, однако, можно было лежать с несколько подобранными под себя ногами.
Я сначала оставался было внизу, покуда нас насчитывалось всего человек пять в купе. Но когда народу прибавилось, я залез наверх и занял одну из самых верхних полочек, рассудив, что на ней у меня уже не будет соседей. Привезли нас в этот вагон среди дня, а стоял он на месте до самого вечера и все это время продолжал принимать пассажиров. Наше купе было на-
1 Вагон для перевозки заключенных (вагонзак).
107
бито, в конце концов, до отказа: внизу сидело человек десять и по меньшей мере столько же разместилось наверху. Есть нам покуда ничего не давали. Пить давали — холодной воды в кружечке, — но неохотно. Объявили, что оправки нормальных две, как и в тюрьме, — утром и вечером. Параши не было. Между нормальными оправками можно было добиваться сверхочередных, но охрана производила их очень неохотно и далеко не по первому требованию. Я понял, что пить надо возможно меньше. А ребятишки-уголовники, требовавшие сначала пить и пить, потом стали проситься в уборную. Им в этом отказывали. Тогда они подымали страшный крик и угрожали отправлением своих надобностей прямо на пол купе. За это охрана угрожала, в свою очередь, карцером. Вагон гудел и стонал. Люди перекрикивались из разных его концов. Уголовники иногда опознавали друг друга. В связи с этим то раздавались приветствия, то угрозы - разделаться окончательно при первом удобном случае. Тут уже становилось ясно, что они разделяются на какие-то враждебные группы, представителей которых не помещают в одно и то же купе. Но более точный смысл всего этого стал мне понятен только лишь много позже.
— Начальничек, отведи в сортир...
— Не поведу я тебя, только что там был...
— Ой, не могу, начальничек, ой, сейчас на пол налью... — И так без конца.
Вечером, уже в темноте, нас потянули куда-то. Потом стали. Потом были какие-то маневры, в результате которых мы оказались у крытой платформы какого-то вокзала. Стало быть, нас уже прицепили к какому-то поезду. Скоро поедем, но куда? По платформе бегают туда и сюда люди, обычный вокзальный шум и суета. Наконец мы трогаемся. Ну, вот поехали... Люди переговариваются между собой о чем угодно, но только не о том, куда их везут. Может быть, большинству это и так уже известно? Но я пока воздерживаюсь от вопросов. Просто приглядываюсь. Очень уж разношерстная публика...
И потом наступила усталость от всех впечатлений, непривычно многообразных, от внутренних треволнений, от разговоров с новыми людьми. Я от всего этого совершенно обалдел, голова у меня шла кругом.
Поезд пошел всерьез. Мелькали огни дачных платформ, но прочесть названия каких-нибудь пунктов было невозможно: 108
припотели окна, от которых я к тому же находился на почтительном расстоянии. Смирившись с неизвестностью, я было уже уснул, но поезд вдруг резко затормозил и остановился. Через некоторое время грохнула решетчатая дверь нашего купе, и к нам впихнули еще одного человека. Внизу буквально яблоку негде было упасть. Его втиснули, посадив на чью-то спину. Нижние пассажиры общими усилиями переправили его к нам наверх. «Почему он не лезет сам, — удивился я, — калека, что ли?» Но очень быстро понял, в чем дело: у этого человека на руках были наручники. Классические, как в американских фильмах. Я даже не предполагал, что такие вещи бытуют у нас.
- С некоторых пор, — объяснил мне новый пассажир, — завели после войны.
— А что это они вас? Вы сопротивление, что ли, им оказывали?
— Какое сопротивление... — Человек, несмотря на свой простоватый вид, обнаруживал определенные признаки интеллигентности. — Я рабкоповский бухгалтер. Не знаю даже, почему и схватили. Должно быть, донос кто-нибудь написал. Везут во Владимир, на следствие. Дело ночное, вот и перестаралась наша милиция...
— Во Владимир? А это что же за место?
— Петушки.
Так. Петушки, Владимир... Значит, везут нас в Горький. А дальше-то куда же? Если бы летом, можно было бы думать, что посадят на баржу и спустят куда-нибудь по Волге, но в декабре месяце? Может, в этот самый Вятлаг, о котором мне уже приходилось слышать? Поезд снова пошел, и постепенно все успокоилось. Бухгалтер оказался интересен только своими наручниками. Узнав, куда нас везут, я как-то окончательно потерял всякие нравственные силы и стал опять засыпать. Очень слепил глаза свет лампочки над самой головой, но я отвернулся к стенке...
Казалось и не спал вовсе — так быстро и незаметно прошла ночь. За окном было хмурое утро. Поезд стоял у какой-то крытой платформы. Больше чутьем я понял, что это уже Горький. У нас никто больше не спал, но наверху почти все еще лежали. Собственно, это была единственно возможная поза, сидеть тут было очень неудобно. Тогда уже всем надо было бы сесть. Лязгали решетки, судя по всему шла оправка. Водили по два человека — один оправлялся, другой в это время умывался.
109
Вода была ледяная, но это не показалось неприятно. Уборная, к удивлению, совершенно чистенькая, свежевыкрашенная, со специфически железнодорожными запахами.
Что же с нами теперь будут делать дальше? Куда передадут наш вагон? Я все никак не мог приноровиться не думать об этих вещах и не задавать себе вопросов, на которые до поры не могло быть ответа. Сиди себе спокойно, все произойдет само собой и именно так, как и должно...
Нам было выдано по полбуханки хлеба, по два куска пилёного сахара и по селедочному хвосту. Кипятка не было. Предлагалась холодная вода. Так или иначе, я с удовольствием позавтракал. Селедка казалась мало подходящей едой в этих условиях, когда нужно было ограничивать по возможности питье, но, странным образом, после этой селедки почему-то пить не очень хотелось.
Не успели мы поесть и попить, как поднялся шум. К нам в вагон стали заводить новых людей и заталкивать их в купе, в которых и без того было набито битком. Удивленные и возмущенные возгласы, брань и снова перекрикивания из купе в купе громкими голосами на весь вагон. В наше купе попал энергичного вида средних лет человек, оказавшийся инженером с Инты. Везли его, как он тут же сообщил, в какой-то подмосковный спецла- герь. Он был громкоголос, в хорошем настроении. Поначалу мы не могли понять — что же это такое происходит: люди едут в Москву, а мы из Москвы, и всех нас затолкали в один вагон?.. «Значит, вас будут отсюда выгружать, — подсказал инженер, - а вагон пойдет обратно». Это было логично. Оставалось ждать исполнения его предположений.
В одном из соседних купе раздавался голос того человека, который шумно вел себя в «воронке» по дороге на Курский вокзал. Сейчас он возмущался тем, что в купе невозможно даже повернуться, и на чем свет стоит ругал советскую власть. «Это кто же у вас так изощряется? — спросил инженер с несколько нарочитым любопытством. — Видно сразу — не был еще в лагере, там ему объяснят, как разговаривать надо... Он небось думает — осудили, так теперь можно болтать что угодно, хуже, мол, не будет? Ошибается. Там-то за него по-настоящему возьмутся. Там имеются разные возможности для перевоспитания таких молодчиков, не говоря уж о том, что и сроку еще намотать могут допол нительно. На то есть лагерный суд».
Я стал было его расспрашивать о жизни на Инте. В основном это, по его словам, режимные лагеря, но именно там он, НО
видимо, чувствовал себя хорошо и работал по специальности. «Не беспокойтесь, — уверенно утешал он меня, — вам тоже будет неплохо в лагере. Может быть не сразу, но вы тоже обязательно найдете свое место. Главное, надо относиться ко всему этому серьезно, как к чему-то нужному и должному, не считать, что жизнь загублена, и не опускать рук».
Действительно, из вагона начали теперь выводить. Инженер оказался прав. Приехали, стало быть. В Горьком или высадка, или пересадка. Вскоре дошла очередь и до меня. Я оказался через несколько минут снова в «воронке» и примерно в той же самой компании, в какой в нем ехал в Москве. Из окошечка «воронка» также хорошо видны улицы, но в Горьком перед этим я давно уже не был, да и бывал-то очень не подолгу, так что ничего не узнавал. Промелькнули одна-две людные улицы с большими домами, а потом пошли предместья. Ехали мы недолго. «Воронок» остановился. Минут через пятнадцать последовала команда — «выходи».
Я с удовольствием выпрыгнул на землю. Всё кругом в снегу. Морозно. Ветрено. Перед нами сплошные металлические ворота и высокая кирпичная стена. Тюрьма. Опять тюрьма. В нашей толпе начинающих зябнуть людей кто-то из числа бывалых уже рассказывал, что тюрьма эта знаменитая — недавно на конкурсе тюрем НКВД заняла первое место по порядку и чистоте. Строена она перед самой мировой войной 1914 года по тогдашнему последнему слову тюремной техники...
Действительно, тяжелые металлические ворота стали медленно и беззвучно отворяться сами собой. Механизация. За ними открылось сравнительно небольшое пространство, какой- то узкий двор, за которым подымалась еще стена и еще ворота. Не успели за нами закрыться первые ворота, как таким же порядком начали отворяться вторые. Мне сделалось страшно. Господи, какие стены, какие ворота! Во всем чувствуется вкус к тюремной монументальности. Такое чувство, что если уж сюда войдешь, то обратно выйдешь нескоро.
За вторыми воротами открылось довольно широкое пространство, на котором стоял большой кирпичный корпус тюрьмы, строгой и аккуратной архитектуры. А в общем те же Бутырки, поновее только немного. Такие же решетки и козырьки (намордники) на окнах. Нас завели в узкий и довольно мрачный 111
вестибюль, в который выходили двери из толстых металлических прутьев, отделявшие от него обширные внутренние помещения. Вещи брошены на пол. Стоим. Через некоторое время объявляют, что мы должны идти в баню, расположенную во дворе, налево. Выхожу и иду своим ходом. Даже странно, что никто тебя не ведет, никаких вертухаев. Я шел в числе самых первых, не зная, куда идти. Спрашиваем у идущей навстречу женщины в телогрейке и юбке из военного сукна. Она равнодушно кивает в сторону низкого кирпичного забора, за которым оказывается деревянный барак. Это, видимо, и есть баня. Заходим. Коридор и небольшие, с тонкими деревянными перегородками, клетушки с душами. В воздухе пар, но помещение явно холодное. Залезаю в пустую клетушку, раздеваюсь. Действительно холодюга. Становлюсь под весьма прохладный душ. Так как никто за мной не наблюдает, максимально сокращаю эту операцию и быстро одеваюсь. Зуб на зуб не попадает. Другие, более понятливые и менее исполнительные, не раздевались вообще. Посидят минут пять-десять на скамеечке и обратно. Вот тебе и баня. Благо никаких надзирателей. Снова коридор. Стоим и ждем. Проходит час, другой. Садимся, а кто и ложится на холодный асфальтированный пол. Открывается одна из решетчатых дверей. Снова длинный, мрачный и слабо освещенный коридор. Впереди маячат такие же решетчатые двери. В этом коридоре, по крайней мере, стоят вдоль стен скамейки. Опять долгое ожидание неизвестно чего. Никак не могу приучить себя к сознанию, что ждать нечего и не нужно об этом думать. То, что будет, произойдет не по твоей инициативе. Так что не жди этого. Оно приходит само собой. Живи собственной жизнью, насколько это доступно. Вон некоторые другие люди совершенно спокойно разговаривают, прилаживаются поудобней. Что-то даже жуют, из старых запасов. Есть действительно уже хочется, но хлеб у меня где-то глубоко в мешке, который не хочется развязывать. Потерпим. Все равно ведь нету воды, а пить обязательно захочется, как только съешь хоть небольшой кусок, вернее комок, этого плохо испеченного хлеба.
Я задремал, привалясь к мешку. Который уже час живем мы так, при скудном электричестве, в полумраке. Что это — день еще или уже ночь? ...Опять эти бессмысленные вопросы, не все ли, в конце концов, равно? Буду дремать, пока нет никакой команды, пока не начнется что-нибудь другое...
Очень хочется есть. Изредка появляющиеся надзиратели 112
уверяют, что нас скоро покормят, и эти обещания только разжигают голод. Сначала строятся всякие предположения о том, почему не дают есть, а потом это надоедает, и голоса приумолкают. Некоторые спят. Я то задремывал, то просыпался. Голод притупился. Сколько бы это могло быть времени?
В конце концов что-то где-то загрохотало, шум этот стал приближаться, и у решетчатой двери показалась тележка с бачком. Везут обед! Каждому налили по полной до краев миске густого супа. Увы, он оказался тепловатым и прокисшим. Пузырился на глазах. Какая гадость! Но что было делать? Голод проснулся, нужно было его утолить хотя бы этим супом, с трудом лезущим в глотку. Съешь несколько ложек и отдыхаешь — до того противно. Все-таки съел я этот суп, мало думая о том, что же будет, когда заболит живот и начнется понос. К удивлению, ничего такого не произошло.
Еще несколько часов тишины и дрёмы, пока не появляется какой-то тюремный чин, предложивший встать и построиться. После поверки нас перегнали в другой коридор и завели в большое помещение, где уже имелось человек двадцать пять такого же, как мы, народу. Помещение — без окон, но с отоплением. К удивлению, калориферы открыты, а не как в Бутырках — где об их присугствии можно было только догадываться — глубоко утоплены в стену и задраены мелкой, забитой пылью проволочной сеткой.
Располагаться пришлось на полу, никакой мебели тут не было. Сначала я сидел на своем мешке, прислонясь к стене, а потом улегся на затоптанный многими ногами пол. Люди, находившиеся в помещении до нашего прихода, были либо здешние горьковские, либо из районов. Многие уже знали эту тюрьму, рассказывали о том, что и где в ней расположено. Отопление все время гудело. По нему прокатывались разного рода стуки. «Это здешний телеграф», - пояснил кто-то. Один из здешних тоже принялся колотить по трубе с целью выяснения местонахождения какого-то своего приятеля. Стуки, то слабее, то сильней, раздавались почти непрерывно. Не знаю, как в них можно было разобраться. Но наш стучавший остался в конце концов доволен результатами своих стуков и как будто бы добился ответа.
У здешних мужичков была еще с собой то ли домашняя, то ли ларьковая еда; некоторые пожевывали печенье, у других хлеб был не тюремного образца.
113
Представление о времени мною было утрачено совершенно, когда начали вызывать с вещами. Меня провели по коридору, отворилась какая-то дверь, и я очутился в камере, освещенной дневным светом. Все было не так, как в Бутырках. Вдоль одной из длинных стен стояли две двойные койки, как в немецких лагерях. У самого входа, но ближе к противоположной стене, за невысокой кирпичной загородкой, достигавшей до пояса, располагался клозет и умывальник. Мне это сначала показалось необыкновенным удобством. На второй от двери койке, внизу, спал человек. Больше в камере никого не было. Я бросил свой мешок на первую верхнюю койку, взобрался туда и сам сейчас же уснул. Хотя, в сущности, я уже давно не двигался даже на небольшие расстояния и как будто спал и в вагонзаке, и в этой уже тюрьме, но откуда-то взялась очень большая усталость — глаза просто не глядели. Спал я, мне показалось, недолго — разбудил голос надзирателя, объявившего подъем и предлагавшего получить пайку хлеба и чай. Сосед мой уже встал. Это был простоватого вида человек в стеганой телогрейке и сапогах. Лицо у него было благообразное, открытое. Выяснилось, что человек он местный, горьковчанин, но привезен сюда из какой-то пригородной колонии, где отбывал второй срок. А теперь его в колонии арестовали снова, привезли сюда на следствие, и ему угрожает третий срок, который должен быть прямо примотан ко второму — тоже немалому — восемь лет, из которых отбыл он, кажется, не больше двух.
Я удивился — настолько он мне показался не похож на матерого преступника. Что-то я у него на этот счет и спросил. Он конфузливо улыбнулся: «Ничего иначе не получается. В нашем деле без воровства нельзя...»
Оказалось, что он маляр и всякий раз попадается на воровстве казенных красок. В колонии ему жилось хорошо. Несмотря на восьмилетний срок, у него был пропуск, позволявший ему уходить из лагеря с раннего утра и возвращаться только к вечерней поверке. Казенные задания бывали не велики, с бригадиром всегда можно поладить, и он много работал на сторону. Зарабатывал большие деньги. Ну а материал, конечно, приходилось добывать на производстве, то есть в МВД, на чем его две недели тому назад опять и накрыли. Пересуд грозил ему двадцатилетним уже сроком, но он к судьбе своей относился довольно спокойно. Во-первых, маляр никогда нигде не пропадет — так и останется маляром. Во-вторых, по бытовым де114
лам всегда и везде за деньги можно чего-нибудь добиться. «Это не то что по вашим делам, — многозначительно подмигнул он мне. - Наша прокуратура покладистая, были бы деньги. А я вот дал брату десять тысяч и послал его к прокурору. Есл и сладится дело, будет мне в передаче банка тушенки. Тогда меня отсюда быстрехонько переведут наверх, на третий этаж. Для блезиру произведут следствие, установят, что материала для левых дел я не брал. Вот и все. Поедем опять добивать прежний срок в колонию. А там у меня день идет за три». — «Как это так?» — «Зачеты. Вы еще не знаете, но поймете: живешь день, а тебе его за три считают. Еще полгодика, и я на свободе...»
Я искренно позавидовал этому человеку. Почему я не маляр и почему у меня не бытовая статья? Можно было бы отсидеть очень быстро.
Он был очень словоохотлив. Много рассказывал про бестолочь и разорение в горьковских колхозах. Про то, как с них давно уже нечего взять, а все тянут и тянут. О том, как плохо живет сам Горький — ни черта, кроме водки, нет. И о том, как, однако, вся наша жизнь держится на этих несчастных колхозах. Когда я уставал его слушать и ложился, закрывая глаза, он принимался приплясывать и подпевать сам себе. Все это были совершенно мне не известные блатные песни:
Гоп, стоп, Зоя, Не сорвись, Зоя... Давала Зоя стоя Начальничку конвоя...
Но он сразу как-то потускнел и потерял охоту к разговорам и песням, когда в камеру вошел небольшой человечек, как оказалось, кооператор из того же района, что и он. Кооператор обрадовался и накинулся на него:
— Ты, Степан, зачем здесь? - Тот ему коротко рассказал суть дела. Кооператор покачал головой, горестно сплюнул.
— Такая наша жизнь. Вот, суд мне вчера был — пятнадцать лет. А за что, спроси ты их? Там недовес, там документ не по форме... А где у кого всё по форме в нашей-то торговле?.. Степан, дай закурить, — вдруг переменил он тему, заметив, что Степан достает из кармана кисет. Тот нахмурился.
— Не успел в камеру войти, уже канючишь...
-- Да что ж ты делать-то будешь, такая, видать, наша жизнь...
115
Передачу вчера жена принесла — буханку хлеба да четыре луковицы, как на смех, ей-богу.
— На смех, а если взять негде?
— Да ведь как же это? Человек-то ведь в тюрьме... Ну, хоть бы о куреве догадалась...
Степан неохотно и экономно отсыпал приятелю махорки на подставленный им клочок бумаги. Закурили. Дым щекотал нос и смешивался с запахом нашей уборной.
— Без параши-то оно, разумеется, лучше, но душок есть...
Здесь были очень хороши прогулки. Нас выпускали на довольно большой дворик. Под ногами — земля, вернее утоптанный снег, хотя его еще мало, и мерзлая почва кое-где проглядывала. Дворик отгорожен от других, таких же и большего размера, прогулочных дворов дощатым забором с довольно большими щелями, через которые видны гуляющие из других камер, - всё больше молодежь. Они выходили на прогулку без верхней одежды, а мороз между тем давал уже себя чувствовать основательно. Был конец декабря. Необычная обстановка, в которой происходили наши прогулки, сравнительно низкие заборчики, разделявшие прогулочные дворики и открывавшие над ними широкие виды, заставляли меня с трудом поверить, что это все еще тюремный режим, тюремные условия. Мне начинало казаться, что это уже почти что лагерь — уже нету такой абсолютной отрезанности, отъединенности от мира, как в тюрьме. Степан тоже оживал на воздухе, переставал раздражаться на нашего нового соседа, который во время прогулок развивал значительную активность, бегал от забора к забору, все кого-то высматривал, кому-то покрикивал и всякий раз возвращался в камеру с кое-какой добычей, главным образом по части курева. Степан презрительно не замечал всего этого, но тоже засматривал в щели и, обнаружив какого-нибудь известного ему человека, подробно излагал мне его уголовную историю: откуда он сюда явился и что ему предстоит.
Кормили нас тут в общем ничуть не лучше, чем в Бутырках. Изредка, правда, чего никогда не бывало там, перепадала вдруг двойная, а то и тройная порция каши. «Почему это нам вдруг столько наваливают?» — спрашивал я удивленно у Степана. Он и это знал. «А они нами сегодня заканчивают раздачу. Поначалу дают поменьше, чтобы нехватки не получилось, а под конец-то и остается немного — не тащить же на кухню. Вот, кому какой- то раз и подвезет...»
116
Я ослабел от скудной и обезжиренной пищи. Когда мне перепадала такая двойная порция, у меня при ее поглощении даже испарина выступала на лбу. И я вспоминал моего старичка- эмигранта в Бутырской тюрьме, которого так же бросало в пот от лишней миски супа...
Шла уже к концу вторая неделя моего пребывания в Горьковской тюрьме. Я уже недоуменно спрашивал всезнающего Степана — не придется ли мне тут, чего доброго, торчать до весны. «Ну, нет, — успокаивал он меня. — Это ведь этапные камеры. Тут подолгу не держат. Если бы захотели тут приземлить, давно бы перевели этажом повыше. Нехорошо только в лагерь попадать в самую зиму, ну да уж этого не подгадаешь». После таких слов ко мне, опять уже было привыкшему к месту, возвращалось перелетное настроение. Наверно, и впрямь скоро опять куда-нибудь повезут?
Но вот снова отворилась дверь и вошел небольшой совершенно седой лысоватый человечек, для которого у нас в камере было еще одно местечко на Степановой койке. Ради старичка он забрался наверх, голова с головой ко мне. Человечек оказался лет семидесяти и происходил из-под Курска, был, стало быть, в оккупации. Выражение лица у него недоброе, скрытное. Первые два-три дня он ничего и не рассказывал, да к нему как-то не очень и приставали. Сначала говорил о детях, оставшихся дома, об их семьях. Кто-то из нас спросил его все же насчет срока. Оказалась «полная катушка»: двадцать пять — заключения, пять — ссылки и пять «по рогам», то есть поражения в правах. Судил военный трибунал.
— Да за что же это они тебя так?
— А я при немцах врагам моим мстил. Вот, к примеру, в соседнем селе жил один даже мне дальний родственник. Он в коллективизацию показал на меня, что где припрятано было. Ну, а я при немцах-то коменданту на него показал, говорю, мол, такой-сякой, коммунист, держит связь с партизанами. Посадили они меня в машину, приехали мы к нему, я и говорю: «Помнишь, Николай, как ты в коллективизацию на меня показал? Вот это теперь моя тебе месть...» Побелел он, как лист бумажный, немцы его и забрали. Так я человек шесть перевел самых моих лютых врагов... Два раза меня перед этим забирали - подержат с пол года — отпустят, судить не судили, грозились только. А тут и представили в прошлом году в трибунал. Приговор дали - расстрел, высшая мера, но по старости, как мне 117
восьмой десяток, заменить на двадцать пять лет. И полковник, начальник суда, меня спрашивает этак с улыбочкой: «Кто же за тебя эти двадцать пять лет будет теперь сидеть?» А я ему так прямо и говорю: «Должно быть, вы или ваши дети». Ничего он мне не ответил: «Ну, ступай, говорит, ладно...»
Гулять он не выходил. Все сидел у себя на койке. В Бутыр- ках нашего мужичка хромоногого, который тоже отказывался иногда выходить на прогулку, запирали на это время в уборную или в какую-либо пустую камеру, вероятно чтобы не взял чего- нибудь у других. Здесь такого порядка не было.
Принесли передачу Степану, а в ней банка мясной тушенки. Повеселел он сразу. «Ну вот теперь и все. Стало быть, сделал братенник как надо. Переведут теперь меня отсюда наверх, сведут дело на нет, да и обратно в колонию, к малярному моему делу...» Ну как было ему не позавидовать?
И действительно, не прошло и двух дней, его от нас забрали. Сразу стало мрачно и неуютно в камере. «Когда уж это кончится? — думал я с нетерпением. — Когда же наконец повезут дальше, когда наконец доберусь до места?» А другой голос урезонивал: «Да не торопись ты. доберешься еше. Может быть, еще будешь вспоминать об этом времени с удовольствием и сожалением, что оно быстро миновало...»
Но и мне скучать не дали долго. Прошел день-другой и — «выходи с вещами». Вышел. Отвели за решетчатую дверь, и опять началось коридорное существование. Народу в коридоре порядочно — человек пятьдесят. Собирают этап, пояснили мне сведущие люди. Никого из прежних моих попутчиков не видно, народ все какой-то чужой, новый. Батюшки, а это что такое — женщина? Ей-богу, среди нас женщина! Она была довольно миловидна, даже как будто интеллигентна. Я невольно продвинулся поближе к тому месту, где она сидела. Конечно, она стала предметом всеобщего внимания. Спрашивать даже не пришлось — за меня это сделали другие: ее везут в Кировскую область по этапу на высылку. Она чья-то родственница, муж получил лагерный срок, а ей «дали» высылку. Разговаривает спокойно, довольно уверена в себе, даже и кокетлива под пристальными взглядами большого количества мужчин. Охотно отвечает на вопросы. Перекрикивается с молодыми людьми, обращающимися к ней с разных сторон. Просит закурить. Это, конечно, сложней. Махорки-то ей ведь не предложишь? Наконец какой-то красивый чернявый человек еврейского вида 118
протягивает ей папиросу и этим овладевает ее вниманием. Больше он от нее не отходит, и общие разговоры она после этого прекращает...
Почти что перед самым этапом в камеру к нам попал ражий верзила — ни старый, ни молодой, в лагерной, видимо летней, одежонке — черная гимнастерка, черные же, непомерно узкие, но расклешенные внизу клиньями брюки несколько другого оттенка...
Человек был из Воркуты, возили его в Москву по какому-то делу, о котором он не распространялся, и возвращался опять же на Воркуту уже с двадцатипятилетним сроком. А оставалось из восьми всего года полтора. Вид у него был нельзя сказать чтобы выраженно уголовный, но предельно лагерный. Тривиальное словечко из трех букв фигурирует по нескольку раз в каждой фразе. И то сказать, что по специальности шофер. Это само по себе довольно многое определяет.
— А у вас какой срок? — спрашивает он меня.
— Двадцать пять.
— Так это что же делается? Нет, подумайте только, что делается, — тараторил он весело, — с ходу чертачат по двадцать пять... по двадцать пять... А вы откуда сами?
— Из Москвы.
— А работали где?
— В Академии наук.
— Во, мать твою так, академик...
Он, однако, ничуть не унывал в сознании своего нового срока.
— Небось, горько вам возвращаться на Воркуту с мыслью, что это уже навсегда?
— Да что вы! Воркута — дом родной. У меня там все начальство на крючке. Я там кого только ни возил, у кого только водку ни пил... Шофером был, шофером останусь.
Возбуждение, причиненное все же, видно, неожиданным для него поворотом судьбы, сказывалось в том, что он много ходил по камере, то и дело напевая вполголоса:
Новый год — порядки новые:
Колючей проволокой наш лагерь обнесен...
Песенка эта, видимо, сочинена была в то время, когда создавались режимные лагеря, то есть год или два тому назад. Дальше этих двух строчек дело у него, к сожалению, не шло...
119
Тянутся долгие часы. Опять теряется представление о времени суток. То ли день, то ли ночь? Раздают наконец хлеб и сахар — походный паек. Значит, дело движется. Вызывают без вещей в другой коридор. В коридоре будочка, вроде газетного киоска. Застекленное окно, за которым два человека тасуют тюремные «дела», вид которых мне уже знаком. Мое «дело» держал в руках лейтенант при посадке в столыпинский вагон в Москве и проверял по нему мои «установочные» данные. То же самое делается и теперь. Фамилия, имя, отчество, год рождения, статья, срок. Я уже отвечаю привычно-спокойно, точно это «дело» ходит за мной много лет. Его откладывают в одну из кучек, лежащих на столике перед самым стеклом. Не будь я близорук, я бы мог прочесть сам все, что написано на его обложке. Но, увы, не вижу. Мне помогает один из сидящих в киоске: «Воркута», — полувопросительно произносит он, а другой нечленораздельно хмыкает.
Неужели я не ослышался? Значит, действительно, Воркута? Почему-то все годы после 37-го, когда я боялся ареста и лагеря, мне всякий раз представлялась именно Воркута. Понимаю хорошо почему. На Воркуту послали, с трехлетним еще тогда сроком, большого моего друга и известного археолога Г.А.Бонч- Осмоловского. Было это в начале тридцатых годов. Воркута в те времена была еще вовсе не обжита, уголь только разведывали, и все было окружено романтическим ореолом — ореолом ужаса. Он писал оттуда, что бандиты, с которыми он жил и работал, украли у него и изрезали на игральные карты известную археологическую книжку Марселена Буля на французском языке о палеолитическом человеке. Глеб Анатольевич вернулся немного раньше срока, сокращенного ему за геологические заслуги. Хлопотал в Москве в высших судебных инстанциях о снятии судимости, жил это время у нас и много рассказывал о Воркуте. И хотя рассказы о тюрьме ничего не дают свежему человеку для ее познания, покуда не окажешься в ней сам, но все же Воркута стала для меня, как мне представлялось, некоторой реальностью.
Я знал, что там тундра, сильные ветры. В 1925 году мне довелось побывать в Мурманске и проехаться по Кольскому полуострову (всего-навсего в Колу). Вот я и представлял себе Воркуту по воспоминаниям о тундровых пейзажах около Мурманска и Колы.
Но действительно ли он сказал «Воркута» или мне это толь120
ко послышалось? Как будто бы сказал, а там черт его знает. Тем более что я знал за собой способность слышать и видеть такое, чего и на свете не бывает... В общем, как будто бы все- гаки действительно Воркута, но уверенности окончательной в этом у меня не было. Спросить же я и тут не решился. Но когда меня после этого спрашивали, куда меня везут, я отвечал, что, кажется, на Воркуту. И это выглядело совершенно правдоподобно. «Речлаг?» Я понятия не имел, что это такое еще за Реч- лаг. И никто толком не мог мне этого пока что объяснить. Но я отвечал: «Да, по-видимому, в Речлаг...»
Так что у меня появилась некоторая не то надежда, не то привычка думать, что еду я на Воркуту. Но при этом я допускал вполне, что все это, быть может, одни только праздные разговоры, одни вздорные мысли: толком я ничего не слыхал, вернее услыхал то, что хотел или готов был услышать. А вообще- то ведь из Горького можно было попасть куда угодно. Передо мной был весь север и вся Сибирь.
Опять тюремный двор, высокая кирпичная стена и глухие металлические ворота, открывающиеся так же послушно и бесшумно, как и тогда, когда Горьковская тюрьма принимала меня впервые. Вторая стена и вторые ворота... «Воронок» у самых ворот. Как все это произошло быстро и легко, а мне-то было казалось, что за эти ворота никогда больше и не выйдешь.
Кировская пересыльная тюрьма
Хотя уже и декабрь на исходе, в разгаре северная зима, но снегу под ногами еще совсем мало. Колеса прыгают по булыжнику. Железнодорожные пути пустынны, как и в прошлый раз. Впрочем, одновременно с нами появились откуда-то и другие люди, которым тут быть как будто бы вовсе не полагалось. Стали раздаваться выкрики, происходили какие-то переговоры. Наш конвой отгонял их, но довольно равнодушно. Здесь все было, видимо, попроще. Это тебе не Москва.
Я сразу же вскарабкался опять на второй этаж. Устроился на такой же полочке, как и по дороге сюда. «Воронок» ушел и вернулся с новой порцией живого груза. Опять перекрикивания из купе в купе, приветствия, угрозы — всё в общем хоре. Слышу, будто кто-то кричит: «Лернер, Лернер...» Фамилия знакомая, но, быть может, я ослышался? Почему прозвучало в моих ушах 121
имя этого человека? Я его мало знал, больше слышал о нем из уст одной моей близкой приятельницы: молодой историк- медиевист, недавно закончивший аспирантуру, кажется член партии. Все это, конечно, отнюдь не препятствие к тому, чтобы он очутился здесь. Но, с другой стороны, как будто все-таки и очень мало вероятно. Это был бы уже второй медиевист на моем пути. Что-то будто многовато, принимая во внимание, что всю советскую медиевистику можно упрятать, пожалуй, в один столыпинский вагон...
Слышны, однако, и женские голоса. Может быть, и та женщина, около которой я стоял некоторое время в коридоре тюрьмы, а потом потерял ее из вида на тюремном дворе, тоже здесь среди нас? Что-то в ней уже было отличающее женщину в тюрьме от женщины на свободе, какая-то внутренняя раскры- тость, что ли. Неужели она в каком-нибудь из соседних купе, и есть счастливые люди, сидящие с нею вместе? Тут же соображаю, что это, конечно, невозможно. Есть, видимо, женское купе. Их несколько, судя по числу голосов. Но это где-то довольно далеко, на другом конце вагона.
Опять уже густые сумерки. Ничего не видать в окнах. Залезаю на свою полочку, прислушиваюсь к голосам непосредственных соседей. Люди все мне неизвестные, многие сильно окают — местные, северные волжане. Должно быть, я задремал, вагон двинулся как-то совсем незаметно. В Москве начало этого движения было связано с каким-то сильным, хотя и противоречивым чувством: везут в лагерь — это ново, интересно и, стало быть, хорошо. Увозят из Москвы, неизвестно в какую даль от своих, от всего привычного для меня мира. Это горько. Но с миром этим я разлучился уже почти что год тому назад. Мои родные, вероятно, даже и не знают о том, что меня уже увезли из Москвы. Знают об этом только в общем, в связи с передачей вещей. Так же, как и я, в связи с этой же передачей могу надеяться на то, что у них все более или менее в порядке...
Едем, едем. Останавливаемся сравнительно редко. Что это за поезд нас везет? И куда везет? Впрочем, все говорят — на Киров, то есть на Вятку. Да ведь из Нижнего и пути-то другого нет, если только не обратно в Москву, что, конечно, было бы невероятно.
Утро. Проспал я без просыпа, проснулся без каких-либо беспокойных мыслей. Едем. За окнами все бело. Постепенно начинаю различать очертания хвойных деревьев, сплошной 122
стеной стоящих чуть ли не у самых путей. И больше ничего. Редкие прогалины. Какие-то небольшие заснеженные постройки у станций. Щелкают решетчатые двери купе. Водят на оправку. Одна минута одиночества в уборной. Несколько пригоршней ледяной воды в лицо. Возвращаюсь в купе с таким чувством, будто побывал на прогулке или куда-то неподалеку съездил. Хоть и одна минута, но что-то врывается в тебя неожиданное и нетюремное в эту минуту. Как будто побывал на свободе. Что- то похожее на то чувство, с каким просыпаешься иной раз в тюремной камере после сна, во время которого побывал дома или вообще вне тюрьмы. Но такие пробуждения всегда сопровождаются чувством горькой досады и тоски, а тут ничего этого не было: немного свежести, одиночества, которого так не хватает в нынешней жизни, и целый комплекс впечатлений, воспринятых всеми чувствами — зрением, обонянием, всеми нервными кончиками. Острота этих ощущений и впечатлений быстро притупляется, хотя я их ничем не заменяю. Ни с кем серьезно не разговариваю. Надо бы познакомиться с соседями, но не видно ни одного интеллигентного человека. Все какие- то мужички, ложе преимущественно помалкивающие. Снизу, правда, раздаются юношеские голоса. Но это блатной жаргон. Шпанята. Сколько их, оказывается, на свете, а я их как-то почти не замечал на воле.
Вот уже очень короткий день как будто готов закончиться. Плотная серость неба начинает тускнеть и темнеть. Но, кажется, куда-то приехали. За окнами мелькает много товарных и пассажирских составов. Видимо, Киров. Здесь все происходит довольно быстро. Выводят из вагона, подводят к стоящему тут же грузовику. «Воронки», стало быть, кончились. Поедем уже как настоящие лагерники. Плотно уминаемся в кузов. Приказано садиться — никто не должен стоять. Погода, к счастью, очень мягкая, небо под свинцовой тучей, и уже сильно смеркается. А жалко. Хочется взглянуть на город. В Вятке я никогда не был. Везут по окраинным улицам. Маленькие, большей частью деревянные домишки. Но и то, что открывается с более высоких мест, не радует глаз в архитектурном отношении. Создается такое впечатление, что город очень неровный и в смысле рельефа местности, и в отношении архитектуры. Кирпичные более высокие дома торчат среди хибарок, как недорубленные деревья среди низенькой древесной поросли. Но город кажется 123
довольно большим и свободно раскинувшимся. Вот и пересылка. Деревянное сооружение, типа острога, с высоким забором из прямо торчащих кольев, за которым виднеется какое- то здание. Ссаживают, заводят на небольшой двор. Довольно долгое ожидание, от которого и на теплой погоде все внутри простывает. Ребята помоложе затевают обычную возню, благо конвоя и вообще никакого начальства покуда нет. За воротами шум подошедшей машины. Вваливается еще такая же порция людей, видимо из нашего же вагонзака. «Лернер, Лернер», — слышу я опять. Как бы мне на него взглянуть? Неужели это тот самый Лернер, которого я видел несколько раз на Волхонке? Но уже совершенно темно. Тусклые лампочки-фонари не дают возможности разглядывать лица.
Наконец, совершенно продрогшие, мы вваливаемся сначала в небольшой коридор, а затем все скопом заполняем камеру с двойными сплошными нарами по сторонам и небольшим свободным пространством посредине. Хотя ни пыли, ни мусора нету, но вид у помещения какой-то серо-грязный, хотя и стены и нары чем-то как будто окрашены.
В помещении, увы, тоже свежевато. Небось дадут хоть баланды для разогрева? Но выясняется, что горячего нам ничего сегодня не будет. Даже горячей воды не обещают. Раздаются возмущенные возгласы: «Мать иху так, что мы скотина, что ли? Есть тут какое-нибудь начальство? Дежурного, дежурного офицера!»
Через некоторое время появляется небольшого роста капитан МВД, очень спокойного вида. Объявляет: «Находитесь в кировской пересыльной тюрьме. Прежде всего будете направлены в баню. После этого желающим может быть выдана бумага и карандаши — пишите письма, известите ваших родных».
Вот замечательно. Такой неожиданно скорой возможности дать о себе знать я совершенно не предполагал. В Бутырках считалось, что из лагеря и в лагерь письма ходят редко и со всякими трудностями.
— Вопросы есть?
— Почему морозите? Почему кормить сегодня не будут? Почему так с нами обращаются — тут разные люди, многие по недоразумению. Сегодня здесь, а завтра опять будем начальство...
— Знаем, знаем. Всё это мы понимаем и ничего решительно против вас не имеем, — спокойно и дружелюбно говорит капи124
тан. — Только нас об этапах заранее не предупреждают. Поэтому в день прибытия ничего предложить не можем, кроме бани и вошебойки. Завтра будете приняты на довольствие, и все будет нормально.
Народ немного поуспокоился. Баня оказалась горячая, и временем нас не очень ограничивали. Но за время мытья у меня из кармана пальто исчезли перчатки — вещь необходимая в этих условиях. Рядом суетилось несколько классических шпанят, к которым я было и воззвал с просьбой возвратить украденное: «Лучше чего-нибудь другое возьмите; как же я до лагеря буду без перчаток добираться?» Но они остались к этим увещаниям совершенно равнодушны. «У тебя их, батя, небось и не было никогда», - явно издеваясь, заявил один. Я разозлился и пожаловался надзирателю. Он было довольно ретиво взялся задело: «А ну, отдайте человеку перчатки. Никого отсюда не выпущу, всем шмон сделаю». В ответ молчание. Постные физиономии. Потом один из них деловито сказал: «Ну что ж, шмонай, что ли, только поскорей...» — «Разве у них когда чего найдешь? — сказал мне потом надзиратель. — Вы еще не знаете небось, что это за народ...»
Я еще действительно ничего не знал, кроме некоторых рассказов, покуда не обернувшихся реальностью.
«Лернер, Лернер», — услышал я опять по возвращении в камеру. Стал искать глазами. Да, это, несомненно, он. Но, боже мой, как похудел, как изменился... Я хотел подойти сразу же, но вспомнил про письма. Кажется, я был первый человек, попросивший карандаш и бумагу. После меня это сделали еще очень немногие. Писать не хотели по разным соображениям. Одни говорили — некому, другие не хотели компрометировать родственников, третьи рассуждали так, что-де сейчас писать бесполезно — ответа здесь не получишь. Вот, привезут в лагерь, тогда уж и будем писать. Я написал два письма: домой и Елене Михайловне — той самой приятельнице, через которую знал о Лернере и даже как-то и познакомился с ним. Написав и сделав треугольнички, передал их вместе с карандашом надзирателю. Потом подошел к Лернеру. Он узнал меня, но остался довольно равнодушен, как если бы мы с ним встретились не в тюрьме, а где-нибудь на свободе, при этом в таком месте, где у него были другие интересы. «А, вы друг Елены Михайловны? Не правда ли, какая талантливая женщина? Какой серьезный ученый? Вас куда везут?» Я ответил, что толком не знаю, «как будто, 125
впрочем, на Воркуту». — «Мне известно совершенно точно, что я еду в Уральский политизолятор, — сказал он не без некоторой даже, как мне показалось, гордости. — Десять лет по десятому пункту».
Вид у него был такой, что он и двух-то лет не вытянет.
— Да, — сказал я, — таковы-то дела... А у вас есть надежда пережить этот срок? В политизоляторах, кажется, работать не заставляют?
— Это было. Теперь все работают. Надежды, конечно, не теряю... на пересмотр. Советую и вам писать побольше заявлений.
— У меня-то ведь другое...
— Это ничего не значит... Дела наши ничего не значат...
Мы с ним пробыли вместе несколько дней, но как-то больше не разговаривали. Мне это было даже внутренне удивительно. Кажется, это был единственный интеллигентный человек в камере, коллега, но почему-то не возникло почвы для разговоров. И смотреть на него было мне страшновато, настолько он мне представлялся обреченным, в особенности потому, что, видимо, не чувствовал и не понимал этого сам.
Я тоже был, впрочем, очень худ. Почти как на фронте. И давно-давно не видал уже себя в зеркале. Может быть, и я выгляжу не лучше его и тоже ничегошеньки не понимаю?..
Меня радовали и привлекали некоторые молодые люди из числа бывших военнопленных. Здоровые, веселые, очень простые. В них не было хоть сколько-нибудь острого зла на судьбу, ни тех поисков примирения с действительностью, какие я все сильнее ощущал в себе как что-то, в общем, довольно истерическое, хотя и неизбежное. Они естественным порядком преодолевали все это, казались сильнее всех этих обстоятельств — не только нынешних, которые могли представляться временными и случайными, но и вообще всех трудных и больных обстоятельств нашей общественной жизни. Им было как-то внутренне наплевать на все это, оно отскакивало от них, скатывалось, как с гуся вода. Обстановка, видимо, тоже содействовала всему этому. Как ни удивительно, но даже самые злые и отпетые люди в тюрьме добреют, бог его знает почему. Пребывание в ней начинает ощущаться не как наказание, наложенное за какие-то твои проступки, а как некая историческая неизбежность, которую ты не можешь внутренне не принять.
126
В особенности так должны были чувствовать это все мои товарищи по несчастью. Всего этого могло и не быть для каждого из нас, если бы мы не вернулись на родину. Более или менее каждый из нас понимал, что возвращение будет связано для него с репрессиями, — знал и сознательно шел на это. Хотел домой и пришел домой. Многие, правда, этого дома так и не увидали. Их прямым сообщением из фильтрационных лагерей в Германии препроводили в наши северные лагеря. И мы теперь ехали к ним. Должны были с ними встретиться. По сравнению с ними наша судьба была не так уж печальна. У нас была передышка. Хотя, с другой стороны, те, кто попал сюда сразу после войны, приехали всего с десятилетним сроком и к этому времени его уже «располовинили». Для них не за горами был и конец. А мы только еще начинали то, что для нас никогда не должно было кончиться. Правда, внутренне в эту перспективу никто как-то не верил. Принять ее не могла ни одна живая душа.
Приняты были только внешние обстоятельства: лагерь так лагерь. Живут люди и в лагерях. Поживем и мы. В конце концов, и от нас тоже кой-что в этом во всем зависит. И вот они инстинктивно подбадривали себя, жили тем здоровым внутренним запасом естественных душевных сил, который в них казался неисчерпаем. Смеялись всякому пустяку. Возились. Легко и быстро становились друзьями. Были добры к окружающим. Ровны и деловиты с начальством. Блатников как-то просто не замечали. Да надо сказать, что и те, чувствуя покуда свое меньшинство, держались предельно тихо. Наслушавшись в тюрьме кое-каких рассказов, я удивлялся теперь, что этого ничего нет. Считал за выдумки. Правда, шпанята лишили меня тут перчаток, но я приспособил пока шерстяные носки в качестве варежек. В дороге этого будет достаточно, а в лагере дадут что-нибудь. Так что не пропадем...
Но вообще, путешествие в открытой машине и сознание, что уже написаны первые письма из этого инобытия, с того света (многие не верили даже и в то, что эти письма будут отправлены), — это было и все по части наших достижений в отношении «воли» и связи с открытым миром. Кировская пересылка оказалась совершенно глухим местом. Пятиметровый деревянный забор плотно закрывал от нас внешний мир. Только серое небо над головой и больше ничего. Маленький прогулочный дворик, окруженный таким же забором, по которому мы крутились совершенно как на известной картине Ван Гога. И все-таки всем
127
было весело. То ли в предчувствии перемен — за плечами каждого из нас была следственная тюрьма, а впереди лагерь, с которым каждый связывал какие-то надежды. Кроме того, нас было много здесь, почти всё молодых и жизнерадостных людей. Покуда что нас ничто внутренне не подавляло, не отнимало у нас сил и оставляло место для доброго отношения друг к другу. Мы этим пользовались. На моих глазах завязывались крепкие и трогательные дружбы, которым, увы, суждено ли было хоть сколько-нибудь продлиться?
Так прошло несколько дней в каком-то приятном и даже сладком угаре. Вот удивительно! Ведь в последней камере Бу- тырок обстановка была та же самая. Да и состав населения камеры в значительной мере тот же. Было что-то общее в настроении, во внутреннем состоянии и в характере нашего взаимного общения. Всё же там были какие-то группы, какие-то разные категории людей, запертых в одно помещение. Мне кажется, что здесь, на Кировской пересылке, история с Колесниченко не могла бы повториться. Его бы никто не возненавидел, ни у кого бы не поднялась на него рука, наоборот, все бы устремились ему навстречу.
Среди нас было мало блатников, и, может быть, отчасти поэтому мы относились к ним с нежностью, принимая их в качестве истинных обитателей этого мира, в который мы угодили случайно. Мы ощущали себя по отношению к ним как какую- то богом посланную помощь — вот, казалось, именно те условия, невозможные для уголовников, как правило, ни в тюрьме, ни на воле... К сожалению, слишком коротки были эти деньки, заставившие их позабыть о том, кто они, и почувствовать себя частью какого-то совершенно другого круга. Они как бы растворились в нас, и узнать их настоящее естество можно было уже только с некоторым трудом. Изменились сразу у них и повадки, и речь, вероятно в какой-то мере и образ мыслей. Всему этому, как, впрочем, и нашему собственному высокому и легкому настрою, помогло то, конечно, что в этих пересыльных условиях мы не испытывали еще никаких лагерных тягот, а тюремный режим тоже угнетал нас лишь минимально.
Но вот мы и поехали дальше. Говорили, что отсюда этапы идут в товарных вагонах. Пугали — зимой в товарном вагоне не хитро и замерзнуть. Но это оказалось — для меня по крайней мере - неправда. Опять такой уже совершенно привычный 128
столыпинский вагон, и не один, а целых два, но прицеплены они к какому-то товарному порожняку. Здесь уже нас не прятали. Все было открыто. Но и для видевших нас «посторонних» людей мы не представляли никакой диковинки. Люди проходят мимо, и редко кто бросает на тебя любопытствующий взгляд. Слишком, видимо, такие картины сделались для них обыденными.
Опять сижу на верхотуре. На сей раз в нашем купе не больше, чем человек двенадцать. Едем с комфортом. В верхней части купе, кроме меня, пара шпанят и еще три человека — лагерные старожилы, возвращающиеся с разного рода переследствий. В частности, один из них — смоленский мужичок лет пятидесяти — понятия не имеет, зачем его возили в Смоленск. Дали, говорит, коробочек спичек и обратно отправили...
— То есть как же это так?
— Да вот так. Привезли меня, подержали в тюрьме с месяц, або полтора, потом вызывают. Полковник один сидел, серьезный... «Ну, как, говорит, ты там в лагере живешь, небось холодно?» - «Так, — я ему говорю, - оно же и здесь тоже холодно...» Помолчал он, поглядел на меня и говорит: «Ну, а здесь как тебе, может чего надо?» А я говорю: «Чего же мне надо? Вот покурить бывает захочется - табак есть, а спичек нема». Ну, он достает из кармана коробок спичек и мне подает... Вскорости же меня и обратно отправили. Так и не понял я — зачем привозили? Как на смех — коробок спичек подали да вот и обратно теперь везут...
Мужичка привозили, конечно, по поводу какого-нибудь опознания, которое, вероятно, можно было бы и не делать, или еще по какому-нибудь достаточно нелепому поводу. Ему самому, разумеется, ничего не объяснили, вот у него и создалось впечатление, что ездил из-за коробка спичек...
Был он из Воркуты и кое-что рассказывал мне о лагерной жизни: как на уборку снега гоняют, как нарядчики — ведь, кажись, свой же брат, заключенный — издеваются над людьми; как весело иногда бывает на работе, особенно если где-нибудь по соседству женская бригада работает... «Если конвой — человек (а им что?..), то мы тогда вместе с бабами и работаем и балуемся».
Смоленский мужичок вдруг проявил недовольство по поводу того, что я его называю товарищем: «Товарищи — они в лесу...» Можно было подумать, как я было и подумал, что это 129
5 Лагерный дневник
от нелюбви к бандитам и к воришкам, которые, видимо, в лагере очень досаждают. Но оказалось - совсем наоборот. Внизу с нами ехал какой-то иностранец, с очень сильным, но неопределенным акцентом. У него был чемоданчик небольшого размера. Мы шутили - вот-де настоящий железнодорожный пассажир — с чемоданом. Покуда его водили в уборную, воришки распотрошили чемодан и что-то из него повытаскивали. Наворованное отправили наверх, к нам, чтобы оно ему не попалось сразу же на глаза. Но он быстро заметил пропажу и со страшными ругательствами пустился на поиски. Тут мне пришлось стать свидетелем того, как мой «нетоварищеский» мужичок с увлечением перепрятывал кашне и еще что-то, чтобы помочь воришкам скрыть эти вещи от хозяина. Так он, кажется, плюясь и ругаясь, убрался вниз, восвояси, ничего из украденного не обнаружив.
Кроме смоленского мужичка и трех шпанят, у нас наверху лежал, редко подымаясь и не принимая участия в общих разговорах, огромный и хмурый латыш. Он тоже возвращался на Воркуту из каких-то «гастролей», и его компании держался небольшой паренек, веселый и очень разговорчивый, тоже какой-то прибалтиец. И этот был уже лагерником со стажем. Он на разные лады причитал, что вот, когда его увозили три месяца тому назад, он понадеялся было на освобождение, а теперь ему снова предстоит «рубать уголек». Но все это говорилось и переговаривалось без больших чувств, так просто, для разговора. Мысли у него были направлены в сексуальную сторону, он не раз принимался подсчитывать, сколько у них на лагпункте имелось педерастов... Наконец, он объявил шепотком, что боится большого латыша: «Он меня ночью прямо за ... схватил». Чувствовалось, однако, что он, пожалуй, его не столько боится, сколько нагоняет на себя соответствующее настроение. Думать и говорить обо всем этом ему явно доставляло удовольствие. Паренек к тому же производил впечатление жуликоватого человечка - может быть, блатничок прибалтийского образца? Я еще ничего толком во всем этом не понимал и не разбирался в подобных людях. Но оказалось, что нет - у немцев работал. «Работал-то не я, а мой старший брат, но и меня прихватили за то, что я около него околачивался. А почему околачивался - там ведь подкормиться было немного можно, голодно было до смерти. Им то ведерко воды принесешь, то еще чего-нибудь, ну и плеснут тебе поварешку супу...»
130
За окнами стеной стоял заснеженный лес. Все бело. Окна нашего вагона заморожены и запорошены настолько, что увидеть в них ничего невозможно. Едем как в белом тумане, как в молоке. Станции редки, стоянки очень коротки. Куда нас везут — в сторону Воркуты или на Урал — сообразить немыслимо.
Но вот наконец большая станция, на которой мы прочно остановились. За окнами опять обозначились товарные вагоны. Котлас. Направление, по крайней мере, на Воркуту. Но лагерей впереди еще и без Воркуты немало — и Ухта, и Инта, и Печора. Все это я знал уже понаслышке, приобретенной чуть ли не здесь же, в столыпинском вагоне. А раньше-то об этих лагерях и известно никому не было. Воркуту-то, конечно, знали, а больше ничего.
Неужели нас будут здесь снова высаживать и повезут на пересылку? В Котласе тоже, говорят, имеется большая тюрьма. Везде тюрьмы и тюрьмы. Есть будто бы и лагеря тут поблизости, а где только их нету?
В ранней молодости я бывал в Котласе. Приплыл сюда по Сухоне и по Северной Двине на большом речном пароходе. И помнил черный деревянный городок, почти без единого кирпичного здания. Он и сейчас, видимо, такой же. Когда я ходил в уборную, окна мне стали поближе и я кой-что через них мог все-таки увидеть: вагоны, вагоны, а дальше небольшие, запорошенные снегом домишки. Вагоны тоже казались совершенно белесыми от налипшего на них инея.
Грохочут решетки купейных дверей. Каких-то людей водят в разные стороны по коридору. Видимо, кого-то высаживают, а кого-то подсаживают. Но это явно не общая высадка, так что на пересылку, наверно, не поедем, тем более что столько простояли — уже, собственно, вечер. Густые сумерки. За стенками вагона слышится как бы шелестение и шуршание — это ветер бьет о них мелким и мерзлым снегом. А в вагоне довольно тепло. Ехать бы так и ехать еще хоть с недельку... Народу немного, по крайней мере в нашем купе, и становится даже как-то уютно...
Я уснул и не слыхал, как мы поехали дальше. Проснулся, глянул — все тот же белесый отблеск в окнах, за которыми мелькают запорошенные снегом древесные стволы чуть ли не у самого полотна дороги. Люди как-то притихли, ушли в себя. Даже трое шпанят не подают голоса, и блатные словечки не повисают в воздухе.
131
5*
В вагоне полумрак. Пучит живот от того, что второй день живем на хлебе да на холодной воде. Преимущества нашего существования наверху, и особенно моего, под самой крышей вагона, умеряются теперь тем, что очень тяжелым и неприятным для обоняния становится воздух из-за газов, которые то и дело с соответствующими звуками испускают люди. Я прячу нос в воротник курточки и стараюсь дышать через этот импровизированный противогаз. Все-таки немного полегче.
Ухта. Опять стоим. Стоим тихо. В вагоне никакого движения. Только ветер и снег шуршат о стенки вагона. Чего стоим так долго? Не хотят ли меня высадить здесь? Говорят, тут большие лагеря. Что ж, можно было бы, вероятно, и тут жить? Все- таки не так далеко, как Воркута, хотя, собственно говоря, раз заехал за Котлас, то теперь уже все равно...
Подходят к нашему купе. Лязгает решетка. Екает сердце. «Выходи с вещами...» Но это не меня — высаживают наших шпанят. Едем дальше. В купе сделалось настолько просторно, что можно спуститься вниз и сидеть по-человечески на скамейке. Внизу сидит молодой рослый парень, очень разговорчивый, раздражавший меня своим грубым голосом и всякого рода дурацкими репликами. Теперь выяснилось, что он слеп на оба глаза. Окончательно ослеп недавно. Один глаз потерял еще на фронте, в результате ранения при взятии в плен. Второй же глаз, хотя и уцелел тогда, но все время побаливал. Заключение отбывал где-то в Средней Азии, климат которой очень скверно повлиял на его зрение. Глаз стал воспаляться, гноиться, пока не ослеп совершенно.
— И вот везут они меня куда-то... Куда же это они меня везут? Только бы не завезли меня обратно за границу...
Мы ему объясняли — везут на север. За границу отсюда не попадешь. А куда везут — кто же их знает? Беспокоиться-то ему, собственно, нечего. Слепого на работу не выгонишь. Там ли, тут ли, все равно будет сидеть в бараке. Его эти уговоры на время успокаивали. Но по прошествии двух-трех часов снова раздавался его голос: «Где мы едем? И куда это меня везут? Только бы не завезли они меня опять за границу...»
Мне было непонятно, почему он так боится заграницы? Я спросил его об этом. «А как же не бояться? Видеть ничего не вижу, так хоть слово понимаю. А завезут за границу, там ведь человека русского не услышишь, и спросить ничего нельзя». И опять 132
приходилось его успокаивать на тот счет, что-де никакая заграница ему не угрожает.
В Инте к нам в купе подсадили небольшого и очень живого человечка. Он сразу со всеми перезнакомился и остановил свое внимание на мне. Сообщил, что он уже давно в лагере — с 1946 года. Сразу после войны из армии сюда угодил в связи с какими-то трофейными делами, в которых не считал себя виноватым. «Следствие надо мной вели предвзято. Надо было найти виноватого...»
Мне он показался сначала даже довольно интеллигентным. Расспрашивал меня об обстоятельствах моего следствия, о моей специальности. «Везут вас, конечно, на Воркуту, в режимный лагерь. Трудно вам будет первое время. Возраст у вас самый неподходящий. Будь вам за пятьдесят — определили бы вам спец- труд — легкую работу. Людям от сорока до пятидесяти труднее всего в лагере. Поблажек никаких еще не дают, а силы-то ведь уже не те... Но вы не унывайте. Все равно вы найдете здесь свое место. Не сразу, конечно. Но найдете. И будет вам тут неплохо. Образованный человек везде нужен. Вы еще тут женитесь...»
Он стал мне рассказывать о том, как еще два года тому назад мужчины и женщины содержались в лагерях вместе. «Сожительство официально запрещалось, но практически никто ему не препятствовал. Жили раздельно, а спали вместе. У каждого была жена... С 1949 года ввели режим, учредили Речлаг и разделили мужчин и женщин. Живут теперь на разных лагпунктах. Но работают во многих местах вместе. Так что встречаться возможность по-прежнему имеется. Есть и на пересылке такая возможность. Вот приедете на пересылку — увидите сами. Будете там вместе с женщинами.
Очень они нас этим разделением подковали. Знали, сволочи, по какому месту ударить. Можно ведь было жить в лагерях. И я вам скажу, женщины тяжелей переносят разлуку с нами, чем мы...»
Я, было, ему не поверил:
— Женщины ведь вообще гораздо сдержанней мужчин?
— Это на воле, но не в лагере. В лагере беременность — первая женская мечта. Освобождение на пять лет от тяжелой работы.
— Это почему же?
- Ну, а как же? Беременную переводят сразу на особый лагпункт. Там парники, огороды, скотина — всякая легкая работа.
133
Ребенок при ней до пяти лет. Потом только, если срок у нее не вышел, ребенка определяют в детдом, а ее в прежний лагерь. Если не дура, она и тут норовит сразу забеременеть... Вот ей потому-то даже и все равно, какой мужик, был бы мужик. У них — я вам скажу - с этого разделения все умонастроение переменилось. Сами не свои они сделались. Да вот позвольте, покажу я вам два письма от моей... Получил я их на пересылке через знакомого надзирателя. Спрячьте вот, а потом полезете наверх и почитаете. Там никто не увидит.
Письма я взял и обещал почитать. Меня заинтересовал этот человечек. Так давно в лагере — и такая живость эмоций. Что его поддерживает? В чем и как нашел он себя в этом мире? Оказалось, довольно все просто и для меня мало утешительно. Научился он тут уже в лагере танцевать. «Открылся талант у меня к этому делу. Сначала плясал в театральной бригаде. Возят все время с ОЛПа на ОЛП1. Даже и на женские командировки попадаешь, на день — на два. Ну, а я стал еще и инструктором по плясовой части. Меня одного стали посылать с места на место организовывать самодеятельные коллективы. Положена в лагерях самодеятельность. За нее и с начальства спрашивают. Приходится им заботиться. Так что жить еще можно...»
Я с любопытством разглядывал этого человека — причудливое порождение лагерной жизни. Мне как-то неловко было у него выспрашивать подробности о его судимости. Однако уже и тогда мне стало понятно, что это так называемый «бытовик» (уголовник), но ведь при состоянии нашего правосудия и это не так много что говорило. Интеллигентности в нем, конечно, никакой не было и в помине. Просто меня обманула было некоторая мягкость в обращении и то, что он не матерился на каждом слове. Это обстоятельство могло бы ему быть вменено в очень большую заслугу и признано неколебимым доказательством внутренней интеллигентности, если бы не что-то еще трудно уловимое и необъяснимое, во многом мне еще непонятное, но что, несомненно, шло от лагерной специфики, от какого-то пусть хоть и не преступного, но совершенно порочного представления о мире, которое вырабатывается здесь, где всё не как у людей... Покуда я не мог для себя определить этого более точно.
И правду-то он говорит. Говорит то самое, что и думает. Но в 1 ОЛП— отдельный лагпункт.
134
самих этих мыслях заложено какое-то несоответствие реальности, что-то ее искажающее, уродующее, совсем как блатной язык уродует настоящую речь. Вероятно даже, во всем этом не было ничего нарочитого и тем более злонамеренного. Просто так получалось у человека, проникшегося лагерной психологией.
Забравшись на свою верхотуру и убедившись, что никто за мной не наблюдает, я принялся читать данные им мне письма. Передавая их мне, он говорил о том, что я увижу из них, как лагерь портит и ожесточает женщину, будит в ней стремление к специфической активности, продиктованное чисто практическими соображениями. Я было ему поверил и уже на это настроился.
Ничего подобного, к удивлению и удовольствию моему, в этих письмах не оказалось. Они были не очень грамотны. Писала женщина с четырех-пяти-классным образованием, немного неестественная, немного кокетливая, но в общем совершенно нормальная женщина, тоскующая в своей отринутости от обычной жизни, от невозможности встретиться со своим возлюбленным. Совершенно естественно, казалось мне, что она склонна обвинять его в недостаточном внимании, в том, что он будто бы не использовал всех возможностей, чтобы с ней повидаться, — видно ему это не больно нужно, должно быть, он нашел уже какую-то ей замену...
Она, вероятно, знала, что он ведет необычный для заключенного образ жизни — пользуется значительной свободой общения и передвижения. На пути его, вероятно, немало женщин, так же, как и она, тоскующих по общению и близости... Но даже если она всего этого и не знала, то все же и в этом случае какую-то долю вины, естественным образом, должна была возложить на него. Так трудно обвинять одни лишь безликие объективные обстоятельства. Тем более что ведь кто-то находит все же способы встретиться. Какие-то женщины из числа ее товарок вступают в отношения с мужчинами правдами и неправдами...
Все это я ему попытался растолковать на другой день, когда мы, по его словам, были уже совсем недалеко от Воркуты. Не знаю, в какой мере дошли до него мои соображения. Он все же был очень крепок во мнении, видимо в мужских лагерях распространенном, что женщина изуродована лагерем, утратила стыд, терпение и г. п. С подобным мнением, в тех условиях, в сущности, не менее естественным, чем и мнение женщин о 135
мужчинах, сквозившее из прочитанных мною писем, я позднее сталкивался неоднократно.
У меня было странное чувство — ведь вот я еще не в лагере, еще, собственно, вовсе не представляю себе, что это по сути такое, а уже проник достаточно глубоко в некоторые деликатные стороны лагерной жизни. И именно такие, какие, конечно, далеко не многим из обычных лагерников делаются доступны.
С такими чувствами подъезжал я наконец к Воркуте. Путешествие это мне уже представилось длинным. Столыпинские вагоны, пересылки - это уже была целая самостоятельная эпопея того неведомого цикла, который для меня только еще начинался. Я уже привык путешествовать не по своей воле. Приспособился к вагонзаковскому режиму, и он меня не тяготил. Можно бы, в сущности, и еще, наверно, поездить с недельку. Но и Воркута привлекала меня своей неизвестностью и неизбежностью. Моя судьба — Воркута. Этой мыслью я уже как-то очень глубоко проникся. Остановка. Может быть, уже приехали? Мой новый знакомый колеблется, силится что-то разглядеть через окно, за которым сплошная белая пелена, и через некоторое время объявляет: «Абезь». Я такого названия никогда и не слыхивал.
- Очень хороший лагпункт. Живут здесь свободно. В большинстве женщины, мужчин немного. Огороды тут и другое подсобное хозяйство. Предел мечтаний для всякого воркутинца. Особенно, если на летнее время. Выезд на дачу, так сказать.
— А посылают?
- А то как же. По всем этим местам до самой Печоры, до Кожвы, разбросаны лагпункты, на которых работа кипит в летнее время. И многих с Воркуты посылают в летнее время на южные лагпункты: выкатка леса, погрузка-разгрузка, сенокосы — да мало ли? Ну, конечно, отбирают больше бытовиков, а из 58-й тех, кто с малыми сроками. Вам это «не светит».
— Что значит «не светит»?
— Ну, не для вас это дело, не коснется оно вас. Режимни- ков с Воркуты никуда не отправляют, разве что в другие лагеря. Бывали отсюда этапы и в Казахстан и в Сибирь. А так — нет. Не положено.
Мне стало грустно. Такой заманчивой представилась эта летняя жизнь, где-нибудь на берегу реки, где, наверно, и лагерь-то почти не чувствуется... Да, не надо давать воли таким мечтам.
136
Надо настраиваться на самое худшее. Все эти женские лагпункты, все эти южные командировки — не для меня.
«А у Воркутлага в южном направлении очень много лагпунктов. Тянутся чуть не до самой Москвы. Так что, если кому повезет...» - продолжал он смущать меня своими рассказами.
Опять едем. Мне представлялось, что Воркута - это уже сплошная тундра. А за окнами нет-нет да и мелькают перелески. Правда, деревца чахлые - елочки видно да сосенки. Очень тоскливый пейзаж. Скорей бы уж приехать. Уж если умирать, то поскорей. Едем и едем. Конца нет этому путешествию... Опять короткий день быстро клонится к вечеру. Обидно приехать ночью — ничего не увижу. Не будет никакого первого впечатления.
Но вот скрипят тормоза, лязгают буфера. Мелькают за окнами белесые — от въевшегося в их пазы и щели снега — товарные вагоны. Воркута. Вот она, наконец, и твоя Воркута. Мешок завязан. Сидим, ждем. В вагоне необыкновенно тихо. Почти никаких разговоров. В нашем купе остался только смоленский мужичок, слепой парень да я с моим новым знакомым. Тихо, даже и ветра как-то не слышно, хотя видно в окно — пуржит. Лязгает решетка где-то по соседству. Быстро проходят по коридору люди. Три-четыре человека. Кого-то вывели. Потом опять тихо. Наконец, доходит очередь и до нас. Уже почти совсем стемнело. Внизу у вагонной лесенки стоит паренек в штатском. Под мышкой держит папочку. Мы соскакиваем на утоптанный снег. Секунду он смотрит на нас, что-то соображает. Потом говорит: «Пошли». Конвоя никакого нет. И вообще никого в поле зрения. Какие-то небольшие домики с забитыми снегом окнами, в которых мелькает тусклый свет. Небо с запада немного расчистилось, видна красноватая, с малиновым оттенком, вечерняя заря. Необыкновенная тишина. Идем быстро, сосредоточенно. Никто ничего не говорит. Идем как на воле. Вот бы и дальше так — не чувствовать больше этой охраны каждого твоего шага. Все равно ведь отсюда никуда, наверно, не убежишь...
Шли мы так минул десять. Вот какой-то забор, невысокий — метра три. Наверху, правда, в несколько рядов проволока. Будочка, типа обычной проходной, к которым мы и в гражданской жизни привыкли. Стоит солдатик, но без оружия. Равнодушно пропускает нас мимо себя. На дворе бараки — белесые, то ли от снегу, то ли от того, что стены их обмазаны глиной и побелены.
137
Заходим в ближайший к выходу барак. Кажется, у него несколько дверей. Яркий свет в окнах. Проходим в чистый, покрашенный масляной краской коридорчик. На двери надпись: «спецчасть». Вызывают по одному. За дверью небольшая комната. Близко от двери деревянный барьер, высотой по грудь. За барьером два- три столика. За одним сидит человек в полувоенной форме, без погон. Спрашивает установочные данные. Что-то записывает: «Четвертый барак. По чужим баракам не бегать...»
Воркута 1951
Прибытие на Воркуту
Я выхожу, спрашиваю кого-то, где четвертый барак. Он оказывается тут же поблизости. Захожу. Барак длинный. Два ряда столбов, образующих довольно широкий проход. Столбы — до потолка и как бы его подпирают. На них держатся сплошные двойные нары. Под потолком яркие электрические лампочки. Дверей — две, с одного и с другого конца. Перед каждой дверью, на некотором расстоянии, широкая кирпичная печь. Все побелено. Но нары в тени. Кто на них, что там — не видно. А посредине определенно никого нет. Я стою в некоторой нерешительности. Приглядываюсь. Интересно — куда попали мои соседи по вагону? Попали в другой барак? Я заглядываю на нижние нары. С краю все совершенно свободно. Дальше лежат какие-то тела, и теперь мне слышно — тихонько переговариваются. И как будто по-немецки. Может ли это быть?
Я загоняю мой вещевой мешок к самой стенке. Снимаю пальто, ватник, шапку. Как будто совсем тепло. И по-прежнему тихо. Лежать мне не хочется. Я сажусь с краю на нары и жду, что будет дальше. Ждать приходится совсем недолго. В неуклюжую дверь довольно ловко протискивается человек на нерусских протезах. У него нет обеих ног выше колен. Господи, безногий человек здесь, на Воркуте.,, Впрочем, ехал же я только что с абсолютно слепым человеком? Ничему нельзя удивляться. Все на этом свете возможно.
У калеки открытое, еще довольно молодое лицо. Я понимаю, 139
что это, очевидно, немец. Догадку мою подтверждает его возглас: «Fünf Man zum Kartoffelschälen». Я подымаюсь с готовностью идти чистить картошку. Но он останавливает меня. «Нет, камарад, я зову кого-нибудь из немцев, нас тут много». И он называет каких-то людей по именам. Происходит перебранка между ним и названными им людьми. Никто не желает идти, несмотря на обещание лишней порции. Он уходит. Снова отворяется дверь, и в нее вбегает молодой немец — на нем частью еще военная форма, но брюки, например, уже какие-то совсемдругие. Врукахунеговещевоймешок. «Wo ist denn Biber? (Где же Бибер, где же Бибер?)», — выкрикивает он по-немецки довольно веселым голосом. Потом, ни к кому собственно не обращаясь, но все так же по-немецки, он объявляет: «Прежде всего я должен определить в сохранное место мои вещи...»
Бедняга, думаю я, не иначе, как его уже «шмонали» наши лагерные ребята. Он просматривает пространство под верхними нарами. Мои глаза следуют за его взглядом, и я замечаю, что между тем местом, где с краю пристроился я, и лежащими тесно вповалку немцами не такое уж большое расстояние. В лучшем случае может поместиться человек пять. Взглянув на меня с некоторым подозрением, он все же тут именно и устраивается.
Немцы явно не разговорчивы. Но от моего соседа я узнаю, что он был сегодня на кухне, тогда как остальные товарищи провели день наруже, очищали где-то от снега железнодорожные пути. Одежда у них еще летняя, так что все промерзли и даже не торопятся поесть — не хотят идти чистить картошку. Как только лежащие услыхали, что я говорю по-немецки, нашлись и другие охотники со мной побеседовать. Прежде всего ко мне обратился по-русски один уже немолодой человек. Представился как русский немецкого происхождения, живший где-то в Прибалтике и во время войны служивший у немцев переводчиком, за что и осужден на двадцать пять лет. Он обрадовался, узнав во мне коллегу по несчастью. Тут же он рассказал мне, что родители его были состоятельные и образованные люди, ему же при советской власти не было никакого ходу и приходилось довольствоваться положением мелкого служащего. Остальные немцы, с которыми он сюда вместе прибыл, — это или так называемые «военные преступники» или люди из ГДР, осужденные за связи с западными немцами, вернее за попытки такие связи установить. Когда я было попытался высказать мое сочувствие безногому человеку на протезах, он с 140
нескрываемым раздражением сказал, что они все его презирают за стремление подладиться к советскому начальству. «Этот дурак надеется, что ему как-нибудь поможет его готовность исполнять распоряжения лагерного начальства. Кроме лишней миски супа, он ничего не получит. Мы его презираем за это...»
Я, однако, не мог разделить его чувств. Мне казалось, что безногий, так же как и я, здесь в неволе отбрасывает в своем сознании все нелепости и недостатки советского быта, сохраняя в себе лишь его отвлеченные принципы, которые здесь представляются светлыми и справедливыми. Он, также как и я, отвергает не тех, кто его несправедливо и глупо осудил, а те обстоятельства, которые привели его к этому осуждению. В том, что есть, он старается найти светлую сторону. Как можно его осудить за это еще раз? Как можно отказать человеку в надежде на то, что окружающий (хотя и отвергающий его) мир не так уж плох и что надо искать с ним дружественных контактов? Но я не стал всего этого говорить моему коллеге по несчастью. Было ясно, что он этого не поймет и не примет.
Во время нашего разговора мы ходили с ним по бараку от одной двери к другой. Это была очень приятная прогулка по большому свободному пространству, которое преграждали только две большие печи, но и их можно было легко обойти в одиночку. Совсем не то, что гуляние по бутырским камерам, где и места мало, а стены и окна с намордниками всегда у тебя перед глазами, никак не позволяя забыть, на каком ты свете. А здесь длинные стены с окнами, вдоль которых располагались двухэтажные нары, тонули в полумраке, короткие же, с дверями, настолько далеки друг от друга, что пока от одной дойдешь до другой, проходит ощутимое время, точно ты продефилировал по какому-то большому пролету, вроде галерей Зимнего дворца. Гуляючи, мы перебрасывались мыслями, оставляя себе время и на собственные размышления. И пока все это крутилось у меня в голове, во мне от этого хождения разливалось приятное чувство, точно я и вправду попал в Эрмитаж, а не в пересыльный барак на Воркуте.
В тамбуре за дверями раздался топот многих ног, и в барак ввалилась компания человек в 20—25 совсем молодых людей — рослых, корпулентных, красномордых. На них не было ничего лагерного, но одежда их настолько, в общем, была одинакова - брюки, короткие тужурочки и какие-то чудные картузики, - что казалась чем-то вроде униформы. Вошли они без галдежа, 141
без лишнего шума. Места их оказались на нарах напротив нас. Я рассматривал их с некоторым удивлением, не понимая еще, что передо мной за люди. Уловив мое недоумение, мой собеседник объяснил: «Это наши эстонцы; замечательные ребята». - «Но ведь удивительно, — заметил я, — точно их подбирали по возрасту. И отчего это сразу так много эстонцев?» — «Да разве это много? Сколько мне известно, здесь на Воркуте и вообще в наших лагерях очень большое количество прибалтийцев — литовцев, латышей и эстонцев. Они никак не могут прижиться к советской власти и массами попадают в лагеря. Эти молодые люди, например, имеют все по двадцать пять лет, по той же статье, что и мы с вами, - измена родине, 58, 1а. Задержаны при переходе границы. Эстонская молодежь довольно легко перебирается в Финляндию — это лишь неудачники. По-русски они не говорят (или не хотят говорить), но у них есть переводчик, очень хороший парень, мы с ним подружились». Он окликнул по имени одного из вновь пришедших, тот направился к нам, и сразу стало видно, что он несколько отличается от остальных. Во-первых, он был значительно старше — те были всё юнцы лет по 18—20, а этому, несомненно, уже за 30. Те в общем увальни — медвежата, а у этого в осанке было что-то как бы армейское и при этом немецкое. Как оказалось, он и был эстонским немцем, говорил, хотя и с некоторыми диалектными особенностями, но все же очень чисто по-немецки, не так как большинство наших поволжских немцев. Подойдя к нам и по-военному поздоровавшись, он спокойно рассказал, что у него только что произошел конфликт с лейтенантом на вахте, в проходной, из- за того, что их долго держали на морозе. «А тот пригрозил: “Уж я позабочусь, чтобы в документах у этого фашиста (он лак и сказал — “фашиста”, я хорошо слышал) было отмечено, что его надо назначать только на самые тяжелые работы”». Рассказывая нам это, эстонский переводчик не выглядел очень обеспокоенным этими обстоятельствами. И сквозила в его словах в этот момент не столько злость и досада, сколько безразличие.
После этих прогулок и разговоров я почувствовал усталость — у меня звенело в ушах и дрожало внутри. Мой коллега, видимо, тоже чувствовал себя утомленным, и мы разошлись по своим местам. Я лег. Но долго лежать мне не пришлось. Я было задремал, как вдруг услыхал прямо над собой французскую речь: «Простите месье, мне сказали, что вы говорите по- 142
французски». Вот еще новое дело! Это не был француз, он немного коверкал слова, тем не менее было очень интересно, кто же это тут разговаривает по-французски. Передо мной оказался небольшого роста человек, очень черненький и очень юный на вид. В нескольких словах рассказал он мне свою историю — очень чудную и только у нас возможную. Он был грек, связанный с коммунистами и бежавший после их поражения в Египет. Там ему что-то не повезло, он не мог нигде пристроиться. Тогда он спрятался на советском судне, и когда оно отплыло, заявил о себе и о своем желании попасть в Советский Союз. Его привезли в Одессу, где он был арестован и направлен в Москву. В Москве его очень быстро, если сравнивать с продолжительностью моего следствия, осудили за нарушение паспортного режима. Его приговорили всего-навсего к трем годам режимного лагеря. Я пытался его утешить. Три года вообще смехотворный срок по сравнению с окружающими его двадцатипятилетниками. Он должен писать жалобы, его, конечно, освободят, тем более что греческие коммунисты-эмигранты, солдаты армии Маркоса, у нас не в диковину. Он может считать себя счастливым в том отношении, что поглядит теперь на такие вещи, о которых огромное большинство людей даже и не подозревает.
Но ему явно была чужда подобная тюремно-лагерная романтика. В его реакции на мои слова, помимо недоумения и непонимания того, что с ним произошло, чувствовалась очень большая обида и, по-видимому, совершенно непоправимое разочарование: «Как это так, Советский Союз представлялся мне обетованной землей, тем местом, где всякий революционер получит поддержку и будет чувствовать себя дома. А меня по каким-то совершенно формальным соображениям сажают здесь в тюрьму на три года? Подумайте, три года — ведь такой срок заключения полагается за какое-нибудь очень серьезное преступление. Если человека почему-нибудь не хотят — его не принимают. Но кто же имеет право сажать в тюрьму человека, не только не совершившего ничего дурного, но ищущего защиты, называющего себя коммунистом? Это не укладывается в моем сознании. Этого я никогда не пойму. Уже это одно ломает во мне все прежние представления о мире. Я не знаю теперь, как я буду жить, когда выйду на свободу?»
Я с ужасом подумал о том, что он может даже и не выйти на эту «свободу». Существуют тысячи средств помешать ему в 143
этом, даже если он и переживет эти три года Воркуты. Он как бы почувствовал мои мысли: «Мне говорили здесь, что я никогда не смогу уехать из Воркуты. Когда пройдут эти три года, меня заставят жить здесь же или отошлют в Сибирь, но я никогда не только что не смогу покинуть Советский Союз, но и поехать в Москву, например, или куда-нибудь на юг. Все это представляется мне чудовищным и не укладывается в мое понимание. Я живу как в каком-то ужасном сне и боюсь за мои умственные способности...»
Как мне было его утешить? Разговаривая с ним, я сам переставал понимать, как во мне находятся резоны, принимающие и защищающие нашу действительность. Какая-то дикость, какое- то безумие и издевательство над самой элементарной логикой. Точно все это делает какое-то бессмысленное, пьяное существо, полное ненависти к самому себе и ко всему, что его окружает.
Ведь тот итальянец, с которым я сидел в Бутырках, привыкал к этим условиям постепенно, как и все мы, мог следить за их изменениями. Он что-то мог все же в этом понять, он знал, почему и как это все происходило. А этот несчастный попал как кур в ощип, понятия не имея решительно ни о чем. Он искал материнских объятий, а его толкнули в тюрьму. И ведь действительно, если ничто не изменится, ему ведь никогда больше ничего не видать, кроме Воркуты и Красноярского края, куда, как говорят, направляются на поселение люди, отбывшие заключение в режимных лагерях.
Переполненный новыми впечатлениями, взбудораженный нахлынувшими мыслями, я очень устал и быстро уснул. Встал вместе со всем бараком, который в пятом часу, среди глубокой ночи, собирался завтракать. Уборной в бараке не было. Она, в виде маленького дощатого сооружения, стояла метрах в 25-ти на отлете. Но зато в тамбуре был плохонький умывальник, из которого можно было плеснуть себе в лицо пригоршню ледяной воды.
Позавтракал я со всеми вместе миской щей и двумя-тремя ложками кукурузной каши — мамалыги, показавшейся замечательно вкусной. Хлеба мне не дали, сказав, что он выдается побригадно или, если я не в бригаде, то через дневального барака. Все это было мне в диковинку. Я вышел из столовой вслед за моими соседями, направившимися к вахте. Проводив их, пошел было обратно в барак, но остановился, привлеченный женскими голосами. Дорожка от вахты вела к невысокому 144
забору, перегораживавшему пересылку. За забором стояло три или четыре барака, из которых через небольшую калитку выходили поодиночке или по две — по три (но не бригадами) женщины. Они свободно, то есть без сопровождения надзирателя, направлялись к вахте. Вот это, видимо, и был тот момент, когда заключенные мужчины могли общаться с лагерными женщинами. Они встречали их у калитки и провожали до вахты. Некоторые подхватывали «своих» женщин под руку. Разговоры бывали краткими, но очень оживленными. Подавались взаимные советы, выставлялись какие-то настойчивые требования. Меня поразило, что женщины разговаривают на том же «лагерном» языке, как и мужчины, не стесняясь во всякого рода крепких выражениях. Одеты они были — некоторые во что-то свое, другие же в ватники. На головах у всех — шапки-ушанки или теплые платки, на ногах — валенки.
Особенно выразительно прозвучали для меня слова какой- то молодой женщины, державшей под руку своего приятеля: «И чего ты с ними чикаешься, Вася, не положить ли тебе на них — с прибором?»
Хотя я слышал уже подобные выражения в тюрьме и в ва- гонзаке, они продолжали звучать для меня внове и теперь поражали из женских уст. Поражало меня еще и то, что эти люди между собой говорили так, как если бы они не были в заключении — «пойду или поеду туда-то», «сделаю то-то» или «не сделаю того-то»...
Значит, тут возможна некоторая свобода, по крайней мере для известной категории людей? Позднее я убедился, что в большинстве случаев это был просто известный fa$on de parier *. Человеку трудно внутренне примириться с утратой активности и инициативы в своих действиях. Поэтому он представляет дело так, будто он куда-то пойдет или поедет, в то время как на самом деле его поведут или повезут, при этом в большинстве случаев совсем не туда, куда бы ему хотелось...
Передо мной прошло таким образом десятка полтора женщин, и это оказалось все. Лагерь снова затих. Я вернулся в свой опустевший барак, по которому бродил из угла в угол один только очень старый — лет 70-ти — и совершенно седой немец. Видно, он не находил себе места от всяких внутренних переживаний. Я хотел было спросить у него — давно ли он из дому
1 Оборот речи.
145
и как очутился здесь, но у него был настолько потерянный и жалкий вид, что я не решился этого сделать. Я лег на свое место и незаметно для себя уснул. Меня разбудил паренек, весьма разбитной и довольно чистенько одетый в лагерное обмундирование. На нем была коротенькая ватная телогрейка, такие же штаны и валенки, с повернутыми наружу верхними концами голенищ. Такова, как я вскоре понял, лагерная мода. На руках у него были меховые рукавицы с крагами, а на голове, совершенно не по сезону, кепка. Но она-то более всего и определяла его особое, так сказать начальственное, положение: он не должен был подолгу мерзнуть снаружи, поэтому и позволял себе кокетничать в кепке. Это оказался мой бригадир. Он звал меня на работу. Мы вышли из барака. Уже светало. На востоке обозначилась оранжево-красная полоса, и небо из черного сделалось мутно-серым. Посреди двора стояла небольшая группка шпанят, совершенно таких же, как и те, с которыми я ехал в вагоне. Это была моя бригада. Кокетливый бригадир приказал нам подождать, куда-то припустился бегом и вернулся через некоторое время, таща в охапке разнокалиберные лопаты.
Работать предстояло здесь же в лагере — отбрасывать снег от забора женской зоны, где его уже оказалось порядочно, несмотря на то, что зима еще только начиналась. Объяснив, что и как, бригадир убежал, и мы остались одни. Мне было холодно, я соскучился по движению и поэтому принялся ретиво кидать снег.
— Не надрывайся, батя, — иронически сказал мне один из малышей. — За двадцать пять лет — у тебя их, небось, двадцать пять? — еще накидаешься...
Бригадир появился через некоторое время, ведя еще троих, не столь уж юных, как прочие мои собригадники, но очень тщедушных ребят — каких-то прибалтийцев, судя по их акценту. Заметив, что сделано очень мало, он принялся понукать ребят и между прочим сказал: «Погляди, как старик вкалывает», указывая на меня. Один из вновь приведенных убежденно, на ломаном языке, произнес: «Старик дурак...»
Бригадир опять убежал, предоставив нас самим себе.
Хотя мороза и не было, но работать без перчаток стало неприятно. Я то и дело совал руки в карманы для их отогрева, а надевать на руки носки, лежавшие у меня в кармане, не хотелось — было их жалко, да, наверно, и не имело большого смысла. Я потом сказал бригадиру, что у меня нет перчаток. Он объявил, что после работы поведет всю бригаду в каптерку, где 146
каждый сможет получить все, что кому нужно из лагерного обмундирования.
«Может быть, нас тут и оставят на пересылке? — подумал было я. — Не потому ли и хотят выдать обмундирование? Наверно, это было бы неплохо. Все ведь так мечтают об этой пересылке...» Вдруг я заметил, что из женской зоны выходит женщина, одетая в гражданское пальто. Она молода, у нее интеллигентное лицо, и мне она показалась очень красивой. Кто-то из наших то ли по неловкости, то ли нарочно швырнул ком снега с лопаты в ее сторону. «Что ты делаешь, разиня», — крикнул я на него. Она мягко улыбнулась. «Ничего, ничего», — тихо произнесла она, давая понять интонацией, что ей общение с нами не неприятно. Все остановились, глядя на нее, и она прошла к вахте, не ускоряя шага, и один раз еще на нас оглянулась...
Мне объяснили, что живущие здесь женщины — это все разные специалистки, в которых нуждается воркутинское начальство. Главным образом портнихи, медработницы, но также и актрисы. Та, которую мы видели только что, именно актриса, певица. У нее пропуск, то есть она имеет право свободно ходить по городу до определенного часа. Она пела в городском театре. «Тут и Печковский поет», — сказали мне... Этим подтвердилось то, что я уже слышал в горьковской тюрьме: Печковский, оказавшийся каким-то образом у немцев и певший у них в Венской опере, теперь будто бы находился на Воркуте и работал в здешнем театре. Я остро ему позавидовал. «Может быть, — подумал я, - если меня оставят здесь, я тоже как-нибудь пристроюсь в этом театре? Вот было бы замечательно!»
Так мы провели время до темноты, порядком озябнув, хотя то и дело забегали в соседний барак погреться. После этого нас действительно повели сначала в спецчасть, где мне выписали ватные брюки, валенки и рукавицы. Валенки оказались, как здесь говорили, второго срока, то есть бывшие уже в употреблении и подшитые резиной. В них было скользко, но зато они оказались мне по ноге. После этой получки мой вещевой мешок наполнился еще больше, и я представил себе, что в случае переезда тащить его будет в достаточной степени неудобно. А может тут и останусь?
Вечером появился у нас в бараке тот плясун, с которым я познакомился в вагоне. Он сообщил мне театральные новости: никакого Печковского тут нет, все это вранье. Некоторые актеры, еще до недавнего времени продолжавшие жить при театре, 147
как раньше жили все, теперь разогнаны по лагпунктам. Женщина, которую я сегодня видел, — Белоусова, хорошая певица. «А вы-то, оказывается, Речлагу не подлежите», — сказал он мне под конец. — «Откуда вы это знаете?» — спросил я, внутренне очень обрадованный. «А потому что вас на работу гоняют с блатниками. Будь вы в Речлаге, вас бы гоняли с немцами или с эстонцами. А в барак этот вас поместили, чтобы не обворовали в первый же день... Но все равно обворуют, вы уж с этим примиритесь». — «Да мне наплевать, — ответил я. — А чего, собственно, воровать?» На мой взгляд, у меня украсть было совершенно нечего.
На следующий день вечером этот мой приятель опять прибежал и сообщил, что меня вместе с теми шпанятами, с которыми я работаю, отправляют на 25 шахту. «Откуда вы узнали это?» — «А у меня в спецчасти дружок сидит — письмоводитель, из заключенных — он-то уж все точно знает... Шахта эта дальняя, совсем новая. Шахты еще собственно нет — ствол только проходить начали. ОЛП не режимный, но там “суки”...» Я ничего во всем этом не понял, но и наивные вопросы всякий раз задавать нелепо. Подождем, посмотрим собственными глазами. Когда-нибудь все объяснится...
Тем временем я пригляделся к пересылке. На ней состояло человек до тридцати постоянных работников из заключенных: дневальные бараков, бригадиры, каптерщики, сантехники, повара, бухгалтера и другие канцеляристы. Одним словом, вся обслуга. В большинстве это все бытовики, только в канцеляриях сидела преимущественно 58 статья, но все с малыми сроками, к тому же уже подходившими к концу. Народ все мало симпатичный. С нами они держались высокомерно, в лучшем случае безразлично, подражая вольному начальству. Я возлагал большие надежды на культорга, в ведении которого была библиотека и свежие газеты. Но это оказался какой-то бессмысленный паренек, явно из мелких уголовников, совершенно безразличный к своим обязанностям. Книг у него никаких не было, газеты — недельной давности (более свежие читает начальство). Но я и их просмотрел с большим интересом. Война в Корее приняла затяжной характер. После разговоров с нашими эмигрантами из Китая мне казалось, что американцы моментально расколошматят этих корейцев и китайцев в дым. Но этого почему-то не происходило. А главное, эта война оказалась явно событием местного значения — фатальной для корейцев и 148
более или менее безразличной для всех остальных стран. И на моем положении она, видно, никак не должна отразиться. Это еще не та война, которая должна решить судьбу всего нашего континента... Газеты, к сожалению, имелись всего за несколько дней. Подшивки не было. А я-то надеялся, что как только попаду в лагерь, сразу прочту или хотя бы просмотрю газеты за все время сидения в тюрьме. Ликвидирую мой отрыв от жизни. Тем более что подобный опыт у меня уже был. Я вспомнил, как в Самборе после войны я довольно быстро в библиотеке городского парткабинета ликвидировал мой отрыв от нашей жизни, образовавшийся за годы войны и плена. Правда, тот отрыв, хотя был и более длинным, но не таким глубоким, как этот...
Угнали немцев, а с ними и моего молодого грека, с которым мы перед этим интересно разговаривали об Афинах и об Александрии. Меня поражало, что он за такой сравнительно короткий срок — за какие-нибудь полгода — научился очень порядочно говорить по-русски. Сказалось видимо то, что он был полиглот—кроме родного языка, знал арабский и французский. Жалко мне было с ним расставаться. Жалко было отпускать его в таком плохом настроении куда-то в неизвестность, в бог знает какую среду, быть может чуждую ему совершенно. Однако язык — великое дело. Люди и там, конечно, должны были оказаться всякие. Лишь бы только иметь возможность сговориться — понять обращенное к тебе слово сочувствия и дружбы.
Из немцев остался только один маленький седой старичок. Он, как потерянный, бродил по бараку, ковыляя и спотыкаясь. Перед расставанием со своими ему объявили, что он направляется в инвалидный лагерь — он очень волноЬался и огорчался. Они его пытались утешать: «Du kriegst doch besser als wir»1, — говорили они ему. Я спросил моего пройдоху-плясуна, когда он пришел со мной попрощаться и объявить, что скоро будет и мой этап, правда ли, что в инвалидном лагере лучше, чем в рабочем. Он отрицательно покачал головой. «Инвалиду хорошо среди рабочих. Все же и кормят лучше и условия поприличней, а работать не надо. Или можно что-нибудь делать по силам. Инвалиды тоже ведь так не сидят. И им дело находят, ну а условия уже не те — условия инвалидные...»
На следующий день я с утра прошелся в последний раз по знакомой мне уже пересылке. Бараки были пусты. Женская
'Тебе будет лучше, чем нам.
149
половина тоже мертва. Постоянных жительниц на ней никак не больше, чем на нашей. Судя по довольным мордам наших дневальных и бригадиров, по их повадкам и своеобразному лагерному кокетству, по тому, как они лихо вытаскивали из карманов вышитые носовые платочки, у них была возможность общения с женщинами. Оставалось им только позавидовать.
25 шахта
За этими мыслями меня поймал наш дневальный и приказал собираться на этап. У меня и так все уже было собрано. Нас со шпанятами построили у ворот. Этап маленький — человек 12. Два конвоира, один из них с собакой, должны нас сопровождать. День стоял морозный, довольно светлый, хотя солнца и не было видно. Шли мы сначала городом, мимо беспорядочно поставленных маленьких домиков, между которыми нельзя различить улиц. Навстречу попадался народ и военный и штатский, не обращавший на нас никакого внимания, хотя, как мне казалось, я моим видом должен был производить некоторое впечатление среди моих совершенно уже по-лагерному выглядевших шпанят, тогда как мой вид красноречиво свидетельствовал о том, откуда и из каких жизненных условий я сюда угодил.
Мешок у меня был тяжелый. Идти по дороге с глубокими колеями от автомобильных шин очень неудобно и скользко. Ребятишки мои, одетые кое-как, в лагерных башмаках на босу ногу, мерзли и поэтому двигались максимально быстро. Я за ними едва поспевал с моим огромным мешком, несколько раз скользил и падал. Подводили резиновые подошвы на валенках.
Шли мы, выйдя из города, по совершенно голой равнине, рельеф которой скрадывался общей снежной белесоетью земного и небесного пространства. Кое-где угадывались на горизонте такие же белесые, как и небо, терриконы угольной породы. Мои шпанята - некоторые из них все туч хорошо знали - называли мне номера шахт. Я уже выбился из сил, когда показались впереди маленькие вагончики узкоколейки, с таким же маленьким паровозиком впереди, который совершенно исчезал в клубах пара. Нас загнали в один из вагонов и заперли. В вагоне было много щелей и так же холодно, как и снаружи. Сидеть не на чем, и из этого можно было заключить, что путешествие предполагается не особенно долгим.
150
Через какие-нибудь полчаса поехали. Двигались медленно, довольно сильно потряхивало. В щели виден красноватый закат, а когда еще через час мы остановились, стояла глубокая ночь. Неподалеку ярко горели электрические фонари на столбах, в сторону которых нас и повел наш конвой. Идти пришлось все же еще минут сорок. С полотна узкоколейки шахта казалась ближе, чем она была на самом деле. Говорили, что к ней еще не подвели путь, подведут летом...
Вот наконец три-четыре небольших домика вынырнули из темноты. Рядом с ними столбы с электрическими лампами — эффект сильного мороза и разреженного воздуха - длинные световые свечи. Позади домиков местность подымается довольно резко вверх, что-то вроде всхолмления, на котором высокий забор из горбылей. Пришли. Мороз видно очень сильный, но мне покуда что жарко. Быстрая ходьба, довольно порядочный груз на плечах кинули в испарину. На руках у меня новые рукавицы, сшитые из остатков ватника. Выглядят непрезентабельно, к тому же не первой свежести, но греют исправно.
Нас поставили недалеко от ворот лагеря, в сторонке. Стоим и стоим. Конвоиры наши ушли в вахтенное помещение — стоим сами по себе. Шпанята мои отбивают чечетку своими незашнурованными ботинками на босу ногу. Наконец ворота отворяются во всю ширь. Но, увы, это еще не для нас. Из лагеря выходят 20— 30 рослых людей. Все они в ватных бушлатах, стеганых брюках, валенках. На головах стеганые шапки-ушанки. У некоторых на одежде длинные номера, написанные белой краской. Выйдя за ворота, они останавливаются нестройной гурьбой. Стоят. Стоят они, стоим мы. Ворота затворяются, и некоторое время не происходит никакого движения. Только люди, вышедшие из лагеря, переминаются с ноги на ногу, да приплясывают наши ребятишки. Я, хотя и в валенках, тоже чувствую, как мороз забирается под мою одежду и деревенеют ноги. Наконец, отворяется калитка рядом с воротами и оттуда выходят четыре конвоира с двумя собаками. Один из них неторопливо пересчитывает стоящих перед воротами людей. «Бригада, внимание! Переходите в распоряжение конвоя. Конвой применяет оружие без предупреждения. Шаг вправо, шаг влево — считается за побег. Ясно?» - «Ясно. Уже семь лет ясно...» — отвечает вразброд несколько голосов. «Шагом марш!» И бригада, выслушав эту ежедневную «молитву», уходит куда-то в темноту, мимо нас. Выходит другая бригада, и так еще несколько раз. А мы всё стоим.
151
Наконец, когда развод закончен, нас по одному запускают в лагерь. У меня уже нет ни чувств, ни способности двигаться, когда я прохожу в коридорчик вахтенного помещения у ворот. Через открытую дверь, откуда пышет теплом и ударяет яркий свет, какой-то сидящий за столиком офицер спрашивает мои установочные данные. Там же в тесном помещении сидят еще несколько человек в офицерской форме. Один из них громко, явно для меня, говорит: «Это да, первый пункт, 25 лет — полная измена родине». Мне хочется ответить ему что-нибудь резкое, но молчу. Я уже знаю, что мои «данные» — вещь совершенно тривиальная и что этот энкавэдэшник просто ломает комедию в расчете на мою неосведомленность. «Третий барак, — говорит мне человек из-за стола. — Вещи сдайте в каптерку». Я прохожу через дверь в конце коридорчика и оказываюсь на лагерном дворе. Замечаю свет и движение в небольшом домике неподалеку от вахты. Это и оказывается каптеркой. В ней два заключенных, типа провинциальных торговых работников. На тебя не смотрят, на вопросы не отвечают. Однако интересуются: «Откуда?» Ответ их разочаровывает. Москва явно их не интересует. Я несколько перетасовываю вещи. Кладу в рюкзак то, что мне представляется более нужным, менее нужное в данный момент сую в мешок, к которому привешиваю данную мне деревянную бирку и пишу на ней свою фамилию. Отправляюсь искать барак. Лагерь, кажется, большой. В нем бараков двадцать, не меньше. Мой третий опять неподалеку от вахты. Дверь у него посредине. В тамбуре в нос ударяет резкий аммиачный запах. Видимо, тут уборная. По сторонам тамбура две секции. Я было останавливаюсь в нерешительности, не зная, куда податься — направо или налево, но на меня тут же набрасываются, сыплются вопросы: кто, откуда, когда посадили, сообщают, что найдутся здесь у меня и коллеги, тянут в левую сторону. Устройство внутри — как на пересылке. Сплошные нары в два этажа, с широким проходом посредине.
Но живущие в нем люди расположились довольно свободно, есть между ними промежутки. Один из таких более широких промежутков на верхних нарах я и занимаю. Оказываюсь в соседстве с человеком офицерского вида. На нем то ли рубашка, то ли гимнастерка, галифе, сапоги. Волосы зачесаны назад. Замечаю и других, не стриженых, подобно мне, под машинку людей. Я еше не понимаю, что ношение волос — привилегия лагерной аристократии. Сосед представляется: «Глебов- 152
Мануйлов». Двойная фамилия, обороты речи и сама дикция подсказывают мне, что это не офицер, а актер, как оно в действительности и оказывается. Откуда-то с Волги, с десятилетним сроком. Сел из какого-то прифронтового театра, так что отчасти и офицерство его не вовсе фиктивное. 58-10. Руководит здесь самодеятельностью.
Он набрасывается на меня с расспросами и советами. Знакомит с человеком, живущим в правой секции того же барака, преподавателем литературы, тоже с десятилетним и уже более чем наполовину отбытым сроком, работающим тут в спецча- сти. Оба эти человека довольно приветливы. Из того, что они мне рассказывают о лагерной жизни, я половины еще не понимаю. «На 25 шахте заправляют “суки”», — говорят они. «То есть какие суки?» Они смотрят на меня презрительно-жалостливо. Обеспокоены тем, куда бы меня пристроить, чтобы завтра же не зачислили в бригаду и не выгнали на работу в шахту. Я им говорю, что как раз я и хотел бы в шахту. Они покровительственно посмеиваются. «Собственно, никакой шахты еще нет. Идет проходка ствола, которая будет продолжаться еще несколько месяцев. К сожалению, — говорят они, — вы не туда попали. Будь это действующая шахта, вас, как археолога, наверно сделали бы коллектором. А тут... Ну ничего, придумаем что- нибудь. Вот у нас угнали на этап библиотекаря. Поработайте первое время библиотекарем. Культорг, правда, никудышный, нуда ничего...»
Мои благожелатели идут к какому-то начальству и помогают моему устройству на должность библиотекаря. Меня посылают на медицинскую комиссовку. Осматривает какой-то совсем молодой человек — как мне объяснили всё те же мои новые приятели — вольнонаемный, только что окончивший медучилище фельдшер из Ленинграда, и я получаю вторую категорию. Мои приятели довольны. Это значит, что шахта претендовать на меня не будет.
КВЧ1 занимает здесь половину соседнего барака, рядом с санчастью. Имеется даже возвышение для сцены, над которой болтается нечто вроде очень куцего, правда, занавеса, из какой-то почти бесцветной, но разномастной ткани. Библиотека — небольшой дощатый чуланчик с окошечком, как в кассе. Внутри имеется табуретка, но нету даже столика. К стене 1 КВЧ — культурно-воспитательная часть.
153
прибиты две доски, представляющие собой книжные полки. На одной из них десятка полтора совершенно растрепанных книг, в большинстве случаев без конца и без начала.
Культорг, с которым меня знакомят и всячески ему выхваляют, молодой лысоватый человек, весьма ограниченной грамотности. Бытовик. Сельский кооператор. Сижу, говорит (срок 15 лет, по указу), «за неуважение к родителям». Разумеется, шутит и хочет этим сказать, что реальной вины за собой не признает. Разговаривает со мной вполне благожелательно, но начальственно и не без некоторой зависти к моему образованию (и мы, мол, не лыком шиты). «Все ли это книги?» — «Нет, конечно, не все. Прежний библиотекарь не успел перед этапом собрать. С этого и придется начинать. Надо пройти по баракам, выявить и собрать книги для учета. Составить каталог, которого тоже нет. А уж потом начать снова выдачу».
Начинаю развивать деятельность. На следующий же день вечером прохожу по баракам. Большинство их довольно опрятны, нары в них не сплошные, а на манер вагонных купе, по четыре места — два с каждой стороны, друг над другом (так и называются «вагонки»). Живут в них латыши, эстонцы, украинцы — народ всё больше молодой и на вид здоровый. Книг у них никаких нет. Читать они не читают, многие совсем плохо говорят по-русски. После работы я их застаю спящими или, во всяком случае, все лежат на своих местах.
Но есть два-три барака совсем другого рода - запущенные, полутемные, населенные воришками такого совершенно типа, как те, с которыми я сюда пришел. Именно тут-то я и обнаруживаю библиотечные книги. Мне их отдают очень неохотно, только после клятвенных заверений в том, что я их завтра же опять отдам обратно. Таким способом мне удается набрать десятка четыре книг — всё, что, видимо, имелось в библиотеке. Культорг ругается. Он материально ответственное лицо. С него будут вычитать за пропавшие книги. Он считает, что последний этап был для него особенно разорительным. Во время его отправки он находился на Воркуте, и некому было помешать тому, что ушедшие унесли с собой книги. «Будем теперь оформлять материальную ответственность на вас», — говорит он мне. Но мои доброжелатели предупреждают меня, чтоб я на это не соглашался. Быстро составляю каталог. Кое-как подклеиваю разрозненные листочки и начинаю выдачу книг. Являются за ними опять-таки одни шпанята. Книги их интересу154
ют приключенческие, военные. Те. какие к моему появлению в библиотеке оставались на полочке, так и продолжали на ней лежать — это была классика. Эти, если и брали, то только для того, чтобы вырвать несколько страниц для изготовления самодельных игральных карт. Некоторые из выданных мною книг исчезают надолго, другие же быстро возвращаются и обмениваются. Итак, у меня видимость деятельности, отнимающей минимум времени. А закуточек мой создает столь желанную и давно утраченную возможность уединения.
Начальник КВЧ, молодой молчаливый лейтенант, появляется почти ежедневно - минут на сорок, на час. У него есть кабинет, под который используется сушилка для верхней одежды, имеющаяся в каждом бараке. Он сидит там и учится играть на гармонии. Вообще же КВЧ пуста. Кул ьторг предпочитает проводить время в бараке — там веселей и теплей. Мой благодетель — актер появляется здесь тоже на несколько минут, пытается организовать репетицию хора, которым он руководит, но вот уже три или четыре дня как репетиция все срывается по разным причинам. Он ругается на чем свет стоит, проклинает эту шахту. У него долгая лагерная карьера. Играл он и в воркутинском театре и руководил коллективами самодеятельности на больших шахтах, где имелись талантливые и образованные люди. Сюда он пришел потому, что здесь легче получить зачеты — день за три. А ему это очень важно - впереди маячит освобождение, и таким способом можно значительно приблизить этот желанный срок...
Вообще же он тоже сидит обычно в бараке. День начинает с того, что долго массирует лицо — разглаживает морщины. В столовую не ходит. Кто-нибудь — обычно дневальный — приносит ему еду в котелке или в миске в барак. Дневальный КВЧ обслуживает таким же образом кул ьторга, который галантно предлагает и мне пользоваться этими услугами. Но я отказываюсь. Хожу в столовую. Иногда в бараке либо актер, либо культорг уступают мне потом еще и свою порцию. Это всегда очень кстати. Я предельно изголодался. Даже такая скромная деятельность, как та, к которой я приступил, вызывает у меня слабость, иногда i оловокружение...
«Где здесь эсеры и меньшевики?..» — во весь голос возглашает, проходя по бараку, вернувшийся с работы молодой бригадир - паренек типа Остапа Бендера. Он и произносит-то свой вопрос с одесским или ростовским акцентом. Шутка эта 155
повторяется и на следующий день, не вызывая, однако, ни в ком явной ответной реакции. Она отвечает, может быть, только моим недоуменным мыслям — не осталось ли здесь в лагерях кого-нибудь из тех именно времен, когда основным лагерным контингентом были эсеры, меньшевики и всякие прочие настоящие контрики? Пока я еще ни одного такого не встретил. Реагирует на шутку разве один только культорг. Он тихо, но зло ворчит: «Погоди, дадут тебе эсеров, погоди...»
Приглядываясь к окружавшей меня публике, разговаривая с этими людьми поодиночке, я постепенно набирался лагерного духа, начинал, хотя еще и очень приблизительно, ощущать границы той социальной среды, в которой здесь очутился. Соседи мои по секции, в большинстве своем молодые люди, — выражение бандитского типа. Бандитизм этот написан у них на физиономиях, проскальзывает в их повадках, в обращении со мной, в особенности же между собой. Это были, так сказать, несколько притихшие, прирученные условиями зверинца тигры, которые нет-нет да и подавали свой естественный голос — ворчали, огрызались и пробовали выпускать когти. Стиль обращения со мной — достаточно предупредительный и даже любезный. Объяснялось это здесь в значительной мере поддержкой, оказанной мне актером и педагогом, — людьми, как считалось, близкими к начальству. Они, видимо, эту заботу и эту пощаду', проявленную ко мне, переносили на самое начальство. Человека не погнали на общие работы ни на один день — значит, это человек необыкновенный и в глазах начальства чего- то стоящий. Понял я это все, впрочем, только значительно позже, уже в других условиях и очень задним числом. А пока что я принимал этот известный интерес к себе и эту некоторую сдержанность и предупредительность в обращении за чистую монету.
Разговоры начинались обычно с расспросов — откуда я, не земляк ли, мол? Москвичей тут не было, но попадались ленинградцы. О себе они при этом ничего не сообщали, предоставляя мне самому догадываться о том, кто же они такие. Интересовались тут же, что я за человек, чем занимался, где работал, сколько получал. За что и когда получил лагерный срок. «Так вы в Академии наук работали? Вот, мать иху так, академик... Что делают, а? За что же это они вас?..» Иногда за подобными расспросами следовало два-три утешительных слова — ничего, мол, привыкнете, обтерпитесь...
Только один из них как-то раз попытался внести некоторые 156
разъяснения, дать мне почувствовать некоторые существенные обстоятельства лагерного быта, которые, однако, и после этого разговора во многом еще оставались для меня неясны.
— Да, вот так мы тут и живем. Здесь, вот видите, спокойно...
Я поднял на него глаза, спрашивавшие, что он, собственно, имеет под этим спокойствием в виду. Он пояснил мне это следующим вопросом:
— А что, на пересылке воры вас не обидели?
Я сказал ему что-то в шутливом тоне о ребятишках, с которыми сюда прибыл.
— Ну, это какие воры, это мелкота, ложкомойники. — Он попытался в двух словах объяснить мне, каковы настоящие воры. — Мы-то ведь тоже из таких, только... — Но он не договорил. Видно, ему трудно было объяснить мне, что именно «только»... Понял я это далеко не сразу.
Все они приглядывались и примеривались к тому, что на мне надето. Делалось это, однако, достаточно деликатно. Никто у меня ничего в грубой форме не требовал, не отнимал. Я даже не понимал того, что то малое, чем я еще располагал из имущества, было для них весьма привлекательно. Но дня через три подосланный ко мне человек сказал конфиденциально, что некие люди интересуются моим пальто. Он говорил мне, что в лагере такое пальто ни к чему, во-первых. Во-вторых, у меня его все равно отнимут или украдут. А сейчас я могу его на что- нибудь обменять. Я сказал, что ничуть не дорожу этим пальто и с удовольствием обменяю его на любую другую одежонку. Паренек принес мне курточку на бараньем меху, в довольно сносном состоянии, и она мне показалась гораздо нужней и уместней этого пальто, если бы только она не была мне довольно сильно маловата. Но что делать — кое-как я ее напяливал на себя. «И то хлеб, — думал я, — ведь мог же бы я действительно лишиться этого пальто и без всякой курточки взамен». Что подобная возможность абсолютно реальна, понял я особенно после того, как однажды отправился в каптерку, чтобы взять какую-то вещь из моего мешка. В мешке не оказалось и половины того, с чем я его там оставил. Вместо моих вещей понапиханы какие-то чужие. В нем лежала, например, рваная простыня, которой у меня вовсе не было. Но я никому ничего не сказал. Будто так и надо. Для меня почему-то предстала совершенно ясной полная бессмыслица каких-либо протестов и 157
жалоб. Тем более, что мне со всей непреложностью стало ясно, что здесь в лагере дело идет о всей моей судьбе, а вовсе не о какой-то, пусть даже и нужной в некотором отношении, ерунде. Так я и обменял пальто на курточку. Когда меня увидал в этой обновке педагог, он, не очень скрывая деланности своего удивления, сказал: «Батюшки, вот уже на нем и какая-то “москвичка”!» Так в лагере называли подобные куртки. И именно он сообщил мне через несколько дней, что из-за моего пальто едва не подрались нарядчики.
Их у нас было трое. Старший нарядчик ко мне не снисходил. Ни разу со мной не заговорил. Я только мог догадываться о том, что некоторые произносимые им слова рассчитаны на мое внимание. Жили нарядчики отдельно, в небольшом закуточке в дальнем конце секции. У них был радиорупор, голос которого доносился иногда до нас. Ребята ругались — все лагот- деления радиофицированы, только на этой чертовой 25-й все еще никак не соберутся провести радио. «Ну, да это до первой комиссии - хором станем жаловаться на начальника КВЧ».
У старшего нарядчика — человека худощавого, с тонкими чертами лица, был грубовато-презрительный вид. В этом выражалась, по-видимому, его специфически лагерная интеллигентность, которую я и позднее встречал у этого рода людей. Говорил он мало, и чувствовалось, что высоко ценил произносимые им слова. Помощники его — дюжие, расторопные ребята. Они всегда кричали, даже когда разговаривали между собой, видимо, в силу уже неодолимой привычки кричать на людей. Один из них, в прошлом майор, рекомендовал себя как адъютант маршала Жукова. Застрелил кого-то из своих по пьяному делу и на десять лет угодил в лагерь. Я в военные времена, подобно многим другим, считал Жукова талантливым полководцем и серьезным человеком. Разочароваться в этом мне пришлось уже после войны, когда его фронт занял именно те места, по которым циркулировал тогда я, имея полную возможность наблюдать порядки в наших войсках, как мне объясняли, санкционированные сверху. Так что я ничуть не удивлялся теперь тому, что среди адъютантов Жукова мог оказаться человек такого бандитского склада и самого примитивного интеллектуального содержания. Он очень гордился своим прошлым и рассказывал о Жукове разные анекдоты. Но у этого был хоть офицерский вид, а второй помощник нарядчика выглядел как смуглый заросший густыми торчащими волосами зверь, на которого и глянуть уже было страшновато.
158
По утрам, когда эти люди выгоняли бригады на развод, снаружи до меня доносились иногда их истошные голоса, изрыгавшие всяческую брань. Под стать им, видимо, были и бригадиры. С некоторыми из них я встречался на территории лагеря, когда они выводили свои бригады на работу. Это всё были молодцы достаточно недвусмысленного вида, который подчеркивал также и то, что они не только что сами не работают, но и подолгу не торчат на морозе: бушлатов они не носили — одни телогреечки, да еще иной раз с расстегнутым воротом, обнажавшим богатырскую грудь. На голове шапка не лагерного образца, а то и кепка, на руках фасонные рукавицы с крагами. Бригадники представляли собой всякий раз темно-серую, по ее одежде, и безликую кучку экономящих свои движения людей, тогда как бригадиры являли почти всякий раз довольно отчетливую индивидуальность. Настоящие лагерники, они чувствовали себя в этой обстановке как рыбы в воде.
Однажды утром, выйдя из барака, я стал свидетелем следующей сцены: группка шпанят, человек 10-12, переругивалась с двумя надзирателями, требовавшими, чтобы ребята шли на работу и угрожавшими им изолятором. Шпанята заявляли, что с суками работать не будут, и требовали своего бригадира. Надзиратели, не желая ничего слушать, гнали их на вахту. Тогда один из шпанят сбросил валенки и остался на снегу босой. Надзиратель бросился на него, отвесил ему несколько тумаков и поволок к изолятору. Остальные двинулись в том же направлении сами.
Тут только я как-то сразу и понял кой-что. Бригадиры и нарядчики, а также и прочие молодцы бандитского вида из нашего барака, это и были «суки», о чем они прекрасно знали и сами, хотя, конечно, не любили этого эпитета. Я понял, что хотел мне сказать за несколько дней перед тем один из моих соседей по нарам, когда произнес: «Мы ведь такие же, как и они, но только...» Теперь уже мне не нужно было больше объяснять, чего именно «только». Я уже стал постигать это и сам. И маленькие воришки в результате этого постижения стали вызывать во мне известное чувство симпатии.
Работы с библиотекой у меня было очень мало. Я стал себе изобретать другие занятия. Во-первых, одиночество и некоторое внутреннее равновесие пробудили во мне желание писать стихи. Кроме того, вернулось желание заняться, быть может,
159
как-нибудь и своим делом. Хотя я еще совершенно не представлял себе, как именно. Ну хоть, может быть, почитать что- нибудь? Я стал спрашивать своего начальника-культорга, не знает ли он, где тут можно было бы достать какие-нибудь серьезные книги? Ну, вот Ленина, например? Он ответил, что в библиотеке кой-что было, но так как заключенные этих книг не читают, а только режут на карты, начальник КВЧ забрал их к себе. Я обратился к начальнику, и после некоторых колебаний он принес мне томик Ленина, содержавший статьи по аграрному вопросу. А потом в таких случаях ведь, как говорится, на ловца и зверь бежит. Я спрашивал о книгах всех людей более интеллигентного вида. Но книг никаких почти ни у кого не было. Однако мой приятель-педагог сделал мне подарок. «У меня есть одна немецкая книга, которую мне оставил давно уже потерянный мною из вида человек. Я по-немецки не читаю — возьмите ее себе». Я очень поблагодарил, и то, что он принес мне, оказалось W.B.Smith «Der vorchristliche Jesus»1. Более удачного подарка нельзя было и придумать. Даже, собственно, это был не в коня корм: к чтению такой серьезной и оригинальной книги по истории раннего христианства я был тогда мало подготовлен, при всем моем знании немецкого языка. Она требовала еще и очень глубокого проникновения в соответствующий раздел религиозной истории. А я хоть и считал себя в некоторой мере имеющим отношение к теме и даже кой-что писал уже из этой области, но проблема «иисусизма» и христианства, как чего- то ему противоположного, уже развивавшаяся в нашей науке Ю.Николаевым и Р.Ю.Виппером, тогда была для меня достаточно чуждой. Поэтому, хотя я и не один раз обращался к книге Смита, мало что из нее извлекал.
Наткнувшись в газете на заметку о каком-то вечере памяти Блока, я вдруг до смерти захотел написать статью о том, почему Блок интересовался Катилиной и почему в «Двенадцати» впереди Христос. Статейку эту я написал за два-три дня, но что с нею делать дальше? Мне очень хотелось послать ее куда-нибудь для опубликования под каким-нибудь псевдонимом. Но послать статью куда бы то ни было из Воркуты в адрес редакции вряд ли было бы возможно. Этим должны были бы сразу же заинтересоваться соответствующие начальники. Воркута ведь
'«Дохристианский Иисус».
160
вся в большей или меньшей степени лагерь. Поэтому я решил действовать иначе. Раздобыв тонкой бумаги, я мелко-мелко переписал на ней статью, так что всего получилось листочка четыре, и в обычном, лишь, может быть, только немного более толстом конверте, решил отправить домой, чтобы там перепечатали и переслали в какой-нибудь из журналов. Посылать я решил не по лагерной почте — статья бы попала в цензуру и не пошла дальше, - а по вольной, которой многие пользовались почти регулярно через культорга, ездившего в город за почтой, и через некоторых вольнонаемных работников шахты. Иные таким же порядком получали даже и ответы, совершенно обходя цензуру. Я писал и по лагерной почте, и через культорга — по вольной. Что-то у меня не было большой уверенности в том, что вольная почта будет на меня исправно работать... Позднее, когда я стал получать ответы на мои письма, я убедился в том, что ни одно из моих «вольных» отправлений, в том числе и моя статья о Блоке, получено не было. Не знаю уж, кто тут был виноват — почта или культорг, человек опасливый, осторожный. Он мог свободно просто не отправлять моих писем, подозревая во мне контрика изрядного масштаба, и не столько из любви к советской власти, сколько из боязни за собственную шкуру. Поражало, однако, то, что он очень охотно предлагал всем свои услуги по отправке подобных «левых» писем. Может быть, он отдавал их соответствующему начальству? Не исключено и это, хотя у меня не было в связи с письмами никаких разговоров с лагерной администрацией — никуда меня не вызывали, ни о чем таком не спрашивали.
Разговоры имели место по несколько другому случаю. Культорг мой должен был выпустить по поручению своего начальника к ленинским дням стенгазету и потребовал у меня «материал». Я написал стихи, на которые в обычной обстановке у меня не достало бы внутреннего оправдания. Но здесь я их написал совершенно искренно. В тюрьме и в лагере я научился оправдывать многое из того, что не прощал и не переносил на воле. Здесь мне казалось стыдным фрондировать. Слишком уж это, как я не мог не чувствовать, упиралось в мою собственную судьбу: «Тебе плохо, вот ты все и окрашиваешь в мрачный тон. А очень многим хорошо, это несомненно, и пусть уж лучше так оно и будет — мне плохо, а им хорошо, потому что таких, как я, не так уж много. А если многим миллионам хорошо, то этим все и оправдывается...»
161
6 Лагерный дневник
Заполярная кочегарка
Черный уголь здесь царь и жених.
А. Блок
Пирамиды породы, огромные заиндевелые, Простоту своих линий высоко над тундрой несут, И над снежными дюнами в небе молочном, как белые С сероватыми гранями конусы сказочных юрт.
Геометризм их взрывает аморфность природы, Рушит мертвую скудость и гладь ледниковых холмов, Над которыми гневом встают и спадают морозы, Вьюги воют вокруг в диссонансе высоких тонов.
И с романтикой этой в суровом, но прочном союзе Уголь исчерна-каменный - царь и жених, и предмет Наших общих усилий на северной самой в Союзе Кочегарке, пробившей мерзлоты извечные недр.
Уголь тонкими змейками заиндевевших составов По путям занесенным течет непрестанно на юг.
В резком ритме колес всех трудов наших праздник и слава; Песнь сердец — в завываньи свистков паровозных и вьюг.
Даль и снежную муть прорывают огни Ленинграда, Дышит в лад нашим ритмам биенье далеких машин. Север тянется к югу в сознаньи взаимного лада, В этом угольном токе, дающем стране нашей жизнь.
***
Жизнью живу напряженной и страшной.
В памяти страхи войны и страды, И впереди те же войны и страды... Сердце о ребра теснится в груди.
Остро я чувствую жизни границы, Сил единицы, терпенья предел.
В памяти дымы, грома и зарницы — Спицы колес быстроногих недель.
Все же мне сладостно жить этой жизнью:
Перекипает в веселие боль —
162
В злое веселие удали скифской Пота седьмого кристаллится соль.
Я забываю в себе индивида — Связь поколений пронзает меня Током горячим тоски и обиды За недостачи и дичь бытия.
И коммунизма старинная жажда В горле моем пересохшем горит, Так же как светит в зрачках моих правда Неутолимой и смертной борьбы
За драгоценные крохи культуры, Перебиваемой в руки из рук Хитрым путем мародерства и свары, Перехлестнувшим истории круг.
***
Мы становимся коммунистами Не в туманных дремах о будущем, А в борьбе за самое низкое Прозябанье у жизни в гуще.
Чем судьба жесточе гнетет, Чем короче круг горизонта, Тем полнее и тверже счет Упований моих резонных;
Чем труднее и бескорыстнее Мной затраченные усилия, Тем безудержнее и выспренней Подымает надежда крылья;
Чем отверженней мы теперь И чем дальше судьба упрятала Нас от дружбы — тем прочней Тросы связей наших натянуты.
Будучи брошен и прочно вмят В самую муть и трясину бедствий, Я принимаю всю ответственность За поколений грядущих лад.
163
Стихи эти попали к начальнику КВЧ, который потребовал меня из-за них к себе.
— Это вы написали?
- Я. — Он поглядел на меня с некоторым удивлением и известной подозрительностью.
- Вы это искренно написали?
- Конечно.
- А вы понимаете, что вы не имеете права писать такие стихи?
— Это почему же?
- Вы осуждены как враг народа...
- Я не враг народа и осужден не за это, а за пребывание в плену.
— Ну, за измену. Это одно и то же. Вы такие стихи писать не имеете права, и мы их в стенгазету не поместим.
— Очень жалко.
Спорить, однако, с ним было бы бесполезно. Доказать ему, как, впрочем, и многим другим из числа нашего начальства, что большинство людей с клеймом 58 статьи такие же советские люди, как и они сами, не представлялось в те времена возможным.
С огорчением рассказал я об этом происшествии актеру и поделился с ним моей обидой. А он из всего этого решил извлечь пользу для себя. У него что-то не клеилось с самодеятельностью. Раза два он репетировал разные популярные тогда песни времен конца войны («Ехал я из Берлина», «Эй, встречай, крепче обнимай», «Хороша страна Болгария» и другие) с небольшим хором, составленным из воровских молодчиков, имевших досуг и склонность к подобной художественной деятельности в силу своей сравнительно легкой жизни в составе лагерной обслуги. Но репетиции эти оба раза оканчивались скандалом. Он сердился, кричал на них. Они же принимали это, впрочем, довольно равнодушно. И вот он решил, видимо, отыграться хотя бы отчасти на мне. «Напишите нам, пожалуйста, небольшую интермедию для конферанса, по возможности на злободневные темы, и международные, и лагерные». Я ответил, что не могу обещать точно, тем более что лагерные темы мне не известны. «Ну, лагерные я вам подскажу, если сами не нащупаете. Пишите пока международный конферанс... про корейскую войну что-нибудь».
164
Ну, про корейскую, так про корейскую... Но ведь это же должен быть диалог? А между кем и кем он будет происходить? Оказалось, что в лагере имеется еще один профессиональный актер, украинский провинциальный комик, с которым я не познакомился до сих пор только потому, что он работал в бригаде - почему-то для него не оказалось места в обслуге, а на физической работе ему, как человеку уже немолодому, лет сорока пяти, было тяжело. Он обиделся на КВЧ и на актера, не оказавшего ему никакой поддержки, но от участия в самодеятельности все же не отказывался. Мне он показался более симпатичным, чем Глебов, и я ему подарил для бутафории мою шляпу и туфли, явно годные в этих условиях только для самодеятельности. Он-то и должен был взять на себя роль второго конферансье и участвовать в диалоге, который мне предстояло написать. «Что же мне им такое написать?» Я принялся было за дело и написал страничку с пятью-шестью репликами, примерно в таком духе:
— Куда же вы? Идите же скорее...
— Иду, иду... Я двигаюсь быстрее МакАртура по Северной Корсе...
Показал написанное актеру. Он, хотя и одобрил, но сказал, что неизвестно, пригодится ли все это. В голосе у него сквозило равнодушие, меня это расхолодило, и я потерял интерес к начатому было конферансу. Тем более что все это заслонилось у меня всякими неожиданными вещами.
Поползли слухи об этапе: будут отправлять людей. Об этом я слыхал и от моего педагога, но в какой-то пренебрежительной форме—так, будто невзначай, сказано: «Отправим некоторых людей...» Мне не понравилось при этом, что он изображал дело так, будто от него в этом отношении что-то зависит... Я еще, впрочем, не понимал как следует того, что от заключенного, даже в должности нарядчика, почти ничего не зависит, но само подчеркивание своей роли в подобных делах представлялось инстинктивно как нечто неприятное. Хотя я было воспринял не без некоторой зависти его слова, произнесенные при первом знакомстве, в ответ на мой вопрос, не скучно ли ему сидеть в этой спецчасти. «Почему же, интересно ведь двигать людей...» — «А куда же вы их двигаете?» — «Ну как куда — в бригады, на этапы...»
Поскольку он говорил о предстоящем этапе совершенно равнодушно, как о чем-то нас совершенно не касающемся, я 165
тоже этим разговорам не придал значения. Мне казалось нелепым, чтобы меня могли отправить отсюда. Ведь меня только что привезли - месяца еще не прошло. Зачем же было сюда направлять, если меня тут не хотят держать? Я даже обо всем этом и не думал вплотную, настолько оно мне представлялось несерьезным.
Прошла еще неделя. Слухи об этапе не затихали. А культорг мне как-то сказал: «Вот, будет этап, и опять унесут с собой библиотечные книги. Надо бы это предусмотреть, узнать, кого отправляют, и проверить по записям - нет ли за ними книг?» — «А как же узнать, кого отправляют?» - «Сходите в спецчасть и попросите список - объясните им, с какой целью». Я так и сделал. В спецчасти сидел какой-то человек в гражданской одежде, но, по-видимому, не заключенный - я такого в лагере не видел. Узнав, в чем дело, он охотно протянул мне список, написанный на каком-то розовом листе бумаги химическим карандашом. «А вы знаете о том, что вы сами в этом списке?» - спросил он меня улыбаясь. «Я? Конечно, я этого не знаю». — «А вот, посмотрите...» Я пробежал составленный по алфавиту список и действительно увидел на соответственном месте свою фамилию. Меня это очень удивило и огорчило. Опять двигаться по такому морозу куда-то в полнейшую неизвестность... Зачем же меня сюда привезли, если так быстро отправляют опять бог знает куда? Увидев мою вытянувшуюся физиономию, служащий спецчасти сказал как бы между прочим: «Этап хороший, на 43-й ОЛП. Народу там немного и только легкие виды работы, главным образом снегоборьба».
Но мне все это было безразлично. И безразличны сделались библиотечные дела. «Зачем я буду отбирать книги у тех людей, с которыми вместе меня не сегодня-завтра отсюда отправят? Пусть этим занимается, если хочет, сам культорг». Совершенно безразличен сделался мне и этот конферанс, начатый было мною. А Глебов, как на грех, стал ко мне с ним очень вязаться. Он даже поднял крик, чем совсем уже отвратил меня от этого дела. «Не понимает человек обстановки, — думал я. — Сидит в тюрьме, а воображает себя начальством, да еще начальством в стиле МГБ». Я ему сухо сказал, что писать ни под каким видом больше не буду. У меня, мол, ничего не получается, и самодеятельность мне неинтересна. «Неинтересна? Нет, вы подумайте - неинтересна... А что же здесь в лагере интерес ного-то? Ведь это хоть чем-то напоминает настоящий театр...» - «А я не инте166
ресуюсь театром», — врал я ему, чтобы хоть как-нибудь его отвадить. «Не любит театра, никогда не ходил в театр... И считал себя человеком. Коптят же небо подобные люди...»
Но крыть ему, видимо, все-таки было совершенно нечем, и он понемногу отстал. А на другой день, наверно что-то разнюхав, спросил меня уже довольно участливо, отчего так резко изменилось мое настроение. Я объяснил ему, что ухожу на этап. «Какой вздор, - сказал он. - Вам никуда не нужно отсюда уходить, — заявил он убежденно и так, как будто это я сам напросился на этап. — Пойдите к начальнику спецчасти и скажите ему, что вы не хотите уходить на этап, а я с ним поговорю со своей стороны».
«А может быть, и действительно еще оставят», — подумал я и отправился к начальнику спецчасти. Это был человек, я бы сказал, даже глубокомысленного вида, в военной форме, с капитанскими погонами. Я спросил его, нельзя ли сделать так, чтобы меня отсюда не отправляли. Я мотивировал мою просьбу тем, что только что прибыл из тюрьмы после утомительного следствия. Кроме того, я писал отсюда домой и сообщил этот адрес в надежде наконец связаться с родными... Он выслушал меня очень внимательно и участливо. «А почему вы думаете, что вас должны отправить на этап?» — «Да как же, я сам видел мою фамилию в списке...» Он досадливо махнул рукой: «Это все ерунда. Над вами подшутили. Списков еще никаких нет. Идите, пожалуйста, и спокойно работайте. Вас никто никуда не собирается отправлять...»
Я вышел от него в полном недоумении. Пошутили? Стало быть, пошутил его же сотрудник? Но с какой целью? Просто, чтобы поволновать новичка? Во мне поднялась острая неприязнь к тому благообразному служащему спецчасти. Я сообщил о моем разговоре с начальником спецчасти Глебову. «Ну, вот видите, нечего было и волноваться...»
Я стал ходить по баракам и собирать библиотечные книжки. Прошло еще дня два-три. Рано утром я проснулся, разбуженный невероятным гомоном в бараке: «На этап, на этап!» Нарядчик бегал по бараку и выкрикивал фамилии. Пробежав мимо меня, он завопил: «На этап»... Опять во мне все упало. Так, стало быть, все-таки этап. Обманул-то меня не сотрудник, а сам начальник спецчасти. Совершенно в эмгэбистском стиле...
Я начал быстро и деланно-равнодушно собираться. «На этап, так на этап...» Этапников собирали в КВЧ. Нас оказалось 167
человек 30. Все те воришки, которые прибыли вместе со мной, и еще какие-то неизвестные мне люди. Но ни одной интеллигентной физиономии.
Пойти попрощаться с актером и педагогом? Но что-то во мне противилось этому. Дружбы у меня с ними не получилось. Я ухожу — зачем я им буду мозолить глаза? Захотят — придут сами. Благодарить, я считал, мне их особенно не за что.
43 лагпункт
Собирали нас еще в темноте, а вышли за вахту мы после обеда. «Хоть покормили на дорогу, и на том спасибо», — говорили ребята. На вахте нас провожал начальник спецчасти, при виде меня не моргнувший и глазом. Точно я к нему не приходил, и он меня ни в чем не разуверял. И я ему не сказал ни слова, точно и впрямь ни с каким делом к нему не обращался. Мороз был сильный. Мне пришлось сразу же снять очки — они запотели и металлическая переносица жгла кожу. В бараньей курточке казалось тепло, хотя и довольно неудобно, — она мне была изрядно маловата. Валенки обменять тоже не удалось — собственно, к этому ничто и не понуждало — и я снова теперь обречен был скользить и падать на накатанной автомобильными шинами дороге. Снова узкоколейка. Насквозь промороженный вагончик. Как и не бывало этой 25 шахты. Я думал, что нам опять предстоит пересылка, но повели, высадив среди тундры, куда-то в сторону бледных терриконов. Может быть, на какую- нибудь действующую шахту? «Вот бы хорошо», — наивно думал я, ничего не зная об условиях жизни и труда на действующих шахтах. Но нас привели к каким-то низеньким невзрачным воротам в таком же низеньком деревянном заборе. Когда провели через вахту, то внутри оказалось всего с десяток бараков. Некоторые из них белые, мазаные. Но барак, куда нас завели и велели располагаться - совсем как на пересылке: сплошные двухэтажные нары, заполненные, впрочем, не густо. В бараке тепло, и я улегся поэтому на нижних нарах.
Едва мы успели немного согреться, как какое-то начальство потребовало вновь прибывших на комиссовку. Не хотелось снова выходить из барака, но в санчасти, занимавшей тесное помещение, где мы стояли как в душегубке, оказалось тоже очень тепло. Освидетельствование происходило в совсем ма- 168
пен ькой комнатке, где за столиком сидело два или три человека и халатах. С места вставал, осматривал и что-то говорил другим всякий раз довольно еще молодой человек, с черными курчавыми волосами, еврейского типа. Он заставил меня раздеться чуть ли не догола, спросил о моей гражданской специальности, а когда я обратил его внимание на большой фурункул на левом колене, который мне очень мешал в ходьбе, врач этот (я не сомневался, что он врач) остался равнодушен. «Ну, это чепуха, гем более, что он у вас, видимо, уже на исходе... Зайдите завтра в амбулаторию, сюда же». В глубине души-то я было надеялся, что из-за этого фурункула дадут поболеть с недельку... Но это была, видимо, несостоятельная надежда.
За моей спиной чей-то из сидевших, кажется женский, голос спросил, не без некоторого недоверия и даже ехидства: «Ну, а этому почему вы считаете возможным дать спецтруд?» Черноволосый врач, не колеблясь, ответил: «Потому что это человек выраженно умственного труда...» Речь, по-видимому, шла обо мне. Но я не понимал, что такое спецтруд и что это мне сулило хорошего или плохого. Я, хотя и волновался смутно по поводу грядущих неизвестностей, но еще совершенно не представлял себе, куда бы я мог обратиться по этому поводу, хотя бы с вопросом. «Ладно, - подумал я, - как-нибудь ведь будет же оно складываться само собой, а там посмотрим...»
Покуда что я вернулся в барак и улегся на свое место. Оно было недалеко от двери. В глубине барака люди лежали тесней, чем здесь. Мне на моей бараньей курточке лежалось довольно мягко, и я быстро уснул, как-то даже не сообразуясь со временем. Проснулся от громких разговоров соседей, собиравшихся на работу. Оказывается, приходил нарядчик, которого я благополучно проспал. Я заволновался по этому поводу: «Проспал вот, а теперь и не знаю, где же мне работать и что вообще предпринять?» Во всяком случае, я пошел вслед за собравшимися на работу в столовую, на завтрак. Столовая маленькая — не сравнить с огромным бараком на 25 шахте. Тут уютней и чище. Пищу выдавали через небольшое окошечко в тяжелых металлических мисках. «Ты какой бригады?» — «Еще не знаю». — «Погоди». Когда прошли бригадники, я опять сунулся к окошечку и на этот раз без всяких дополнительных вопросов получил миску супа и полбуханочки хлеба. Меня удивило, что не пришлось никуда ходить за разъяснениями. «По-видимому, тут 169
совсем немного народу, и им невозможно ошибиться и передать», — подумал я...
Фурункул мой за ночь действительно вскрылся, появился гной, и я после завтрака отправился в амбулаторию. Там было пусто. Один только человек с перевязанной рукой сидел тут еще до моего прихода. Нас обоих запустили в небольшое светлое помещение, где стоял стеклянный шкаф с медикаментами, а за столиком, вокруг которого вчера сидели врачи, находился сегодня один только человек, вполне интеллигентного вида, в халате не первой свежести. Второй — помоложе и попроще видом — занят был у другого столика с инструментами. «Обморожение третьей степени», — произнес он громко, развязав протянутую ему руку. Пальцы на ней были изуродованы, на двух не доставало верхних фаланг, а третий палец довольно сильно гноился. Сидевший за столиком писал что-то, не подымая головы. Больной с независимым и уверенным видом держался посреди помещения. «Нагноение? — спросил сидевший за столом очень мягким голосом, без каких-либо признаков диалекта. — Что ж, давай попробуем стрептоцидовую эмульсию...» Больной стоял, не произнося ни слова. Молодой фельдшер наложил на кусок марли желтовато-белую рыхлую массу, обернул гноящийся палец и снова забинтовал руку. Когда больной вышел, фельд- шерок пробормотал: «Бесполезное дело, явно подмастырива- ет...» — «Это нас не касается», - убежденно сказал сидящий и равнодушно, усталыми глазами, посмотрел на меня. «С нового этапа? Фамилия, жалобы?»
При звуке моего голоса он несколько оживился, и в глазах его я уловил некоторый к себе интерес. Он спросил, откуда я, что у меня за специальность, когда и почему попал в лагерь? Я удовлетворил его любопытство, отвечая возможно более обстоятельно.
«Так, значит вы еще совсем свеженький? Как интересно... Коля, там никого больше нет? Закрываем. Прием окончен. Ну-ка, садитесь сюда, давайте поговорим...» И мы с ним проболтали чуть ли не до самого обеда. Оказалось, что он тоже москвич, бывший работник Мининдела, посаженный на десять лет в самом конце войны, так что он уже «разменял» половину. О вольной жизни он говорил с большой злобой. Живые и нежные интонации появились у него только при упоминании о матери, которая с ним переписывалась. Своей семьи у него, видимо, не было. В его отношении к вещам чувствовалось не170
что чиновное, сибаритское. Он мне представился человеком дореволюционной формации, хотя это никак не получалось по возрасту. Он лишь немногим меня постарше. В конце концов он прочел мне несколько своих стихотворений, показавшихся мне хотя и довольно старообразными по форме, но совершенно грамотными. В них проступало несколько сатирическое, презрительное отношение к окружающим обстоятельствам, равнодушно-недоброе отношение к людям. Он сунул мне в руки небольшую тетрадочку: «Спрячьте пока, в бараке почитаете. Я живу в стационаре. По вечерам мы — доктор Гинзбург, Николай Петрович Шестов — наш статистик — и я — всегда свободны и бываем вместе в ординаторской. Пожалуйста, приходите к нам. Вы будете работать, сколько я знаю, тоже в санузле».
На этом мы покуда расстались. После обеда к нам в барак пришел человек неприятного вида с сильным украинским акцентом. Он искал меня. «Будешь при бане помогать трошки...» Я выразил мою полную готовность. Он велел мне прийти в баню часа через два - надо воды поднатаскать...
Мне выдали два ведра. А воду надо было носить из ручья, зачерпывая из-под толстого льда. Самое интересное то, что ручей находился по ту сторону колючей проволоки, ограждавшей с этой стороны лагерь. В проволоке была проделана калитка, а рядом торчала вышка, па которой горел яркий прожектор и стоял часовой. Но тем не менее чувство нахождения, хотя бы и минутного, по ту сторону проволоки, наполнило меня некоторой бодростью. Я подумал, что тут, видно, очень легкий режим сравнительно с тем, какой существовал на 25 шахте, где к ограждению лагеря нельзя подходить вовсе, а с внешней стороны его еще бегали на проволоке овчарки. Поверка тут производилась один раз в сутки, по вечерам. При этом не обязательно идти на поверку в свой барак -- считали тебя там, где заставали, — нельзя только перебегать с места на место.
После того как я наносил воды, мне сказали, что скоро будет «санобработка» и поэтому завтра надо вымыть пол в бане. Прийти мне велели часам к десяти утра, то есть вполне по- божески. Хотя это далеко не приятная и не легкая работа: надо подымать и протирать тряпками огромные деревянные решетки, на которые после предшествующей «санобработки» крепко налипла сероватая плотная масса, составившаяся из грязи, мыла и минеральных включений, - все же я управился к обеду.
171
Банька небольшая, одновременно в ней могли мыться человек 8-10, не больше.
Хотя мне и сказали, что я до завтрашнего дня свободен, я все же заглянул в баню часа в четыре дня, когда там подсохло после моей уборки. Обнаружил некоторые недоделки и ликвидировал их. Это, видимо, очень понравилось моему непосредственному начальству.
В бане работало два человека: тот, неприятного вида, ее заведующий, и его помощник — пожилой уже человек с южно- русским акцентом, видимо, откуда-то с Северного Кавказа. Он мне принес, после того как я дополнительно поработал в бане, котелок с некоторым количеством каши в нем. Я поблагодарил и стал было отказываться. «Ешь, ешь, — добродушно уговаривал меня тот. — Голодный ведь ходишь с пайка-то...» Я ему возразил, что паек у нас у всех один и что, следовательно, он отрывает для меня от себя. Но он, хитро подмигнув, объяснил: «Это с заднего хода... Нам, кто в обслуге, перепадает добавок. Я против этого — присовокупил он — да что же поделаешь — лагерь... Ешь, ешь, браток...»
Добавок был мне, конечно, вполне кстати. Я опростал котелок, вымыл его и с благодарностью возвратил хозяину. «Ну, вот, это другой разговор. Когда будет, так и поделимся... Завтра банить начнем после обеда».
Это означало, что до обеда я совершенно свободен.
Мой новый знакомый, бывший дипломат, сказал мне между прочим, что здешний культорг — посаженный за взятку прокурор откуда-то из-под Москвы. Говорил он о нем с большой неприязнью, в частности и потому, что он-де очень неохотно выдает газеты и книги. Я спросил о газетной подшивке. «Подшивка у него великолепная, года за два, но он сидит на ней, как паук...»
Вот. Наконец то, что мне нужно. И я решил при первом удобном случае добраться до этой подшивки. И поскольку первая половина завтрашнего дня оказывалась свободной, я решил сразу же хватать быка за рога.
Было еще темновато, когда я постучался в дверь КВЧ. Мне отворил грузный черноволосый человек, лет сорока с небольшим, с лицом старорежимного чиновника. Он разговаривал предельно неприветливо, смотрел на меня очень подозрительно, но когда я ему объяснил, кто я такой, и когда он понял, что 172
я действительно хочу эти газеты читать, а не воровать бумагу на курево, он смягчился.
«Мне эту подшивку очень беречь приходится. Начальство за справками иногда приходит или за материалом для политбеседы...»
Я его заверил, что просматривать газеты буду при нем и самым осторожнейшим образом. Комплект за 1950 год не был у него поделен хотя бы пополам и оказался тяжел. Снять его с полатей под потолком вызвался я сам. Помещение КВЧ представляло собой небольшую комнатенку, из которой выгорожена еще и клетушка для культорга.
То, что я газеты просматривал очень внимательно и неторопливо, некоторые статьи читал, перелистывал аккуратно, расположило в конце концов культорга ко мне еще более. Немалую роль сыграло, вероятно, и то, что по отношению к себе он не заметил во мне никакого предубеждения или недоброжелательства. Вместо враждебности, которую к нему проявляло, несомненно, огромное большинство заключенных, как к бывшему прокурору — первейшему их врагу (я еще не понимал тогда, что любой вор поставил бы убийство такого человека себе в серьезную заслугу), с моей стороны он встречал дружелюбное отношение, участие, без всякой при этом антисоветской настроенности.
Начальник КВЧ, старший лейтенант, появлялся ежедневно на час-полтора и вел с прокурором какие-либо безразличные, не имеющие отношения ни к каким делам, разговоры. Производил он впечатление человека довольно мягкого и от лагерных обстоятельств весьма далекого. После того как прокурор ко мне окончательно подобрел, я спросил у него: «И зачем только наш старший лейтенант сюда приехал и на эту работу пошел? Мне кажется, он должен тяготиться здешней обстановкой?» Прокурор грустно улыбнулся. «Да, я, между прочим, его тоже об этом спрашивал. Он мне и ответил: “А не приехал бы сам — привезли бы...” Разумеется, это было предусмотрительно с его стороны, что он не дал себя “привезти”».
Состоял при КВЧ еще и дневальный — совсем молодой паренек, с необыкновенно простецкой и добродушной мордочкой. На его попечении была печка и поддержание чистоты в помещении. Как-то, когда он принес ведерко угля и возился около печки, а больше никого в помещении не было, я спросил его, за что он сидит.
173
- А вот за ведерко угля, - пнул он со злостью ведерко ногой...
Оказалось, что жил он где-то под Белгородом, на небольшой станции. И у них набрать ведерко угля с проходящей мимо платформы вовсе не почиталось чем-либо недозволенным. А тут вышел как раз сталинский указ об охране социалистической собственности, предусматривавший даже за самые мелкие хищения казенного имущества до пятнадцати лет лагерного срока. Столько он именно и получил за ведерко угля. Я было стал горячо и настойчиво его утешать: «Не может быть, чтобы такое дело осталось не пересмотрено. Надо писать жалобы, просить о помиловании». Он посерьезнел: «Меня и начальник все утешает. Писали уж в прокуратуру... Третий год сижу...»
«Аучиться тут в лагере неужели некуда поступить?» — «Куда тут поступишь? К блатным разве только в шестерки...» Этого я еще толком не понимал. Но решил спросить начальника КВЧ: «Неужели попадающая в лагеря молодежь вовсе лишена возможности чему-нибудь здесь учиться?» — «Кажется, есть на Воркуте шоферские курсы, — равнодушно ответил он. - А вообще сейчас тенденция к усилению репрессий. Лагерь это лагерь. Не у тетки на именинах...» Да, не у тетки на именинах. Это я уже слышал на следствии. Как они все удивительным образом повторяют одно и то же.
Зав. баней распорядился, чтобы я в банный день стоял у крана с горячей водой и выдавал не больше, чем по две шайки. «Воду на себе таскаем, а им дай волю - через полчаса котел пустой будет».
В лагерных условиях то, что он мне поручал, могло быть чревато самыми неожиданными последствиями. Ничего не стоило получить шайкой по голове, а попадет ребром, так и череп раскроит...
Я ничего еще этого не знал. Вероятно, именно потому — как еще необстрелянного новичка — зав. баней меня и поставил на такое место, на какое никто другой стать, наверно, не согласился бы.
Я, разумеется, сразу решил, что ограничивать людей двумя шайками невозможно. Надо же в кои веки хоть немного пополоскаться в горячей воде. Но я все время призывал к экономии, воду наливал сам, и в результате все шло довольно гладко. На мое счастье, на этом лагпункте матерого элемента насчитывалось немного. И хотя мне приходилось наблюдать, что некото174
рые от моей регламентации выходят из себя, грозясь «дать мне в лоб», но все же обходилось без рукоприкладства. Я, видимо, брал своей сдержанностью, желанием помочь, пойти навстречу своими советами по медицинской части...
Баня работала так до глубокой ночи. Закончили мы, вероятно, часу в двенадцатом. «Всех перемыли?» — спросил я мое начальство. «Какое... Еще три бригады, стационар, да вся при- дурня еще не мылась». — «Придурня?» — «Ну да. Придурки — лагерная обслуга...» Слово это вдруг выступило для меня в совершенно неожиданном, непривычном значении.
На другой день я таскал воду, потом топил печи — в бане, к сожалению, невозможно было создать необходимую температуру. Вечером — снова мытье. Так я познакомился, хотя и бегло, со всем здешним контингентом.
Убрав на другой день, в первую его половину, банное помещение, к вечеру я пошел в стационар: начальник мой передал, что меня хочет видеть доктор.
«Что же вы к нам не приходите, — накинулся на меня дипломат, — о стольких вещах поговорить надо. И вообще — где вы проводите свободное время?» Я объяснил, что эти дни свободного времени было маловато и я его употребил на чтение старых газет в КВЧ. «Неужели все-таки уластили этого бирюка? Противнейший тип. Попади он на воровской ОЛП — уберут в два счета...» А доктор Гинзбург поинтересовался моими банными делами. Кой-что ему, видимо, было уже известно.
«Вот, я же говорил — интеллигентного человека куда ни поставь, он сразу найдет необходимый modus vivendi...1 Интеллигентность — великое дело...» «Да, — подумал я, — и это, видимо, как раз то, чего тебе, голубчику, явно не хватает». Меня почему-то очень обозлила такая квалификация интеллигентности, хотя, в сущности, ничего дурного, кроме, может быть, некоторой доли цинизма, в его рассуждениях и не было. Так или иначе, я решил, что буду пореже встречаться с доктором Гинзбургом. Старичок статистик тоже вызвал во мне некоторое раздражение. Он был из театральной семьи, и хотя сам не актер, но что-то делал до ареста в московском Большом театре. Посад,или его в войну, срок у него был сравнительно небольшой — восемь лет, и он его вот-вот добивал. Тут бы, казалось, только и мечтать о свободе, а он говорил о ней равнодушно 1 Способ мирного сосуществования.
175
и был внутренне полон всяческого злопыхательства, которое мне тогда становилось все более неприятно. Он как-то уже всем решительно на свете пожертвовал. Его осудили, и он, со своей сторонщ, тоже все и всех осудил. Я чувствовал, что ему меня, например, нисколько не жалко, и то, что меня посадили и упекли на двадцать пять лет, ему представлялось совершенно закономерным. «Но почему же вы так думаете? — недоуменно говорил я. - В сущности, я вот до сих пор не возьму в толк, за что, собственно, меня посадили?» — «Чудак, ей-богу, — он не возьмет в толк... Да, потому что вы контрик...» — «Вовсе я не контрик». — «Это вам самому так кажется. А другим за версту видно, что вы законченный контрик...»
Это мне казалось особенно неприятно. Я примирение с действительностью мог находить только в оправдании и в идеализации всего того, что находится по ту сторону ограды нашего лагеря. Пусть мне плохо. Пусть со мной и со многими другими поступили глупо и несправедливо. Но зато миллионам людей хорошо. И пусть им будет там хорошо, а я здесь помаюсь, если уж нельзя никак иначе...
Дипломат сказал мне, что сегодня у них на приеме в амбулатории был очень чудной человек. В прошлом крупный партийный работник, откуда-то из центральных мест. Отбывающий наказание за бандитизм... «Бандитизм? Как это может быть? Это совершенно невероятно...» — «Все вероятно и все возможно на свете. Я уже давно ничему не удивляюсь и ничего внутренне не опровергаю», — резонировал дипломат.
Подобные разговоры тоже не могли меня тогда не раздражать: болтает человек ерунду, лишь бы сказать что-нибудь, лишь бы дать почувствовать свое наигранное равнодушие...
Человек, о котором он говорил, — я его сразу же нашел с помощью культорга, не выказывавшего ему, однако, никакой особенной симпатии, что меня опять-таки удивило, — оказался тщедушным существом, безобиднейшим, как мне казалось, по самой своей природе. Он мне очень обрадовался и сразу все о себе рассказал. Был он на партийной работе. Последнее время занимал пост третьего секретаря горкома партии. Жили, говорит, хорошо. «Работали дружно. Погибали на работе. Ну, надо было когда-никогда отдохнуть, встряхнуться... Ездили на охоту большой компанией. Выпивали. Я легко от водки память теряю. Протрезвился я так однажды, вижу — лежит труп. Милиция. Все на меня показывают. А я ничего, ну хоть зарежь, 176
ничего не помню. Ни да, ни нет сказать не могу. Хотели пришить политический бандитизм, но ничего не вышло. По работе у меня все гладко, чисто. 10 лет. Впереди еще весь срок. И все мне здесь тяжело, все через силу...» — «Есть же у вас, вероятно, родные?» — «Есть жена, да я еще не наладил с ней связи. Рука не подымается писать...»
Я пытался будить в нем воспоминания о его партийной деятельности, о том, во что, по его же собственным словам, он был гак глубоко погружен и от чего его оторвали, хотя и трагические, но случайные обстоятельства.
Как-то он на это не поддавался. Вспоминал о недавней вольной жизни, пожалуй, и с удовольствием, но говорил, улыбаясь, только о том, что его отрывало от повседневности: о командировках да вот и об этих охотах. Вообще же мрачнел при воспоминании о горкомовских делах, бесконечных заседаниях, непрерывной веренице посетителей. И за всем этим не чувствовалось ни капли того, ради чего все это приходилось претерпевать. «Всю рутину на меня сваливали. Как кто с каким кляузным делом — ко мне. А сколько же это можно?»
Чувствовалось, что в нем накапливалась злоба против непосильных обстоятельств, против умственной перегрузки, может и вышедшая неожиданно наружу в состоянии опьянения. И в то же время было в нем что-то наивно-простецкое, детски- жалкое. Я как-то не мог ему не сочувствовать. Не мог понять и того, как этот культорг-прокурор сидит пауком у себя в каморке и нет у него желания протянуть руку этому человеку, а может быть, у него же найти что-то и для себя самого? Но они были оба совершенно равнодушны друг к другу и ничто — никакие чувства, никакие идеи — их не притягивало и не связывало. Любопытней всего, что они были даже однофамильцы — и тот и этот Козлов. Но впечатление создавалось такое, что это дополнительное обстоятельство только еще больше их друг от друга отталкивало.
Козлов-горкомовец очень любил мои посещения. Сам он из барака никуда не ходил. Жаловался на холод и на слабость. Находился он сейчас на освобождении. За ним наблюдали амбулаторным порядком. Разговаривать много он не любил. Но с удовольствием слушал мои разглагольствования, отвечая мне дружелюбными взглядами.
Говорил он только о том, что его больше всего занимало и тревожило: «Так бы еще жить можно. Неделю уже бюллетеню.
177
И телом и душой отошел за это время. Боюсь до смерти — надоем я им, возьмут да и выгонят завтра на мороз...»
Я тоже не без страха думал о том, что вот ведь пока мне везет, мороза-то я еще не нюхал по-настоящему, хотя уже два месяца на Воркуте. А бывали погоды ужасные. День случился один с таким морозом и ветром, что перебежать из барака в барак представлялось нелегким делом. Лицо сразу же каменело, глаза закрывались, слипаясь. «Нет, так больше не пойдет, - говорил один добродушный белорус — мой сосед по бараку, мастеря себе из тряпок нечто вроде маски на лицо. Нос у него облупился как в жару на солнце и под глазами темнели какие- то корочки. — Шалишь, завтра так больше не выйду, надо принимать меры...»
Но назавтра стало гораздо теплей. И вообще такого ужасного дня я не запомню ни до, ни после. Морозы, к счастью, сопровождались обычно безветрием, а ветер нагонял снежные тучи, пургу...
Мои приятели-медики, начиная от доктора Гинзбурга и кончая старичком-статистиком, стояли уже одной ногой на воле. Это чувствовалось во всем их поведении. Мне, человеку, приехавшему в лагерь вековать век и в нем умереть, разговоры о предстоящей жизни на воле — предположения, заботы — представлялись и нереальными и как-то даже внутренне чуждыми, хотя я и возмущался в себе этим, считая, что я не должен завидовать чужой радости. Люди кончают отсиживать свое. Им повезло, они снова из «зеков», из лагерных зверей становятся людьми, и помоги им в этом всячески бог.
Меня огорчал, правда, в этих людях известный цинизм, определенное безразличие ко всему на свете и прежде всего к тем людям, которые в какой-то мере находились на их попечении, для которых они могли бы все же что-нибудь сделать.
Когда я пытался хлопотать за кого-нибудь, кто мне представлялся и больным и чрезмерно совестливым, доктор Гинзбург относился к моим характеристикам с очень большим недоверием. «Э, голубчик, вы еще не знаете лагерной публики. Они вам так вотрут очки, так перевернутся вокруг самих себя, что потом только диву дадитесь...»
«Но зачем предполагать в людях прежде всего жульничество и изворотливость? Ведь это же, может быть, еще вовсе и не так? Надо же в этом всякий раз по крайней мере убедиться?» — «Э, ба178
тенька, да вы, я вижу, еще совершенный фраер...» Все это говорилось снисходительно, отчасти даже пренебрежительно. Кроме того, я чувствовал иногда в поведении Гинзбурга некоторые намеки на то, что он-де с моей стороны не встречает необходимого чувства благодарности за то, что он сделал для меня, — дал мне спецтруд, позволил мне в зимнее время работать в помещении, а не на морозе. «День “канта” в лагере — это год жизни, говорят опытные люди», — любил приговаривать он.
Я еще тогда не понимал горькой и грубой справедливости этих соображений. Мне казалось, что, может быть, эти люди могли бы не только мне, но и другим, нуждавшимся в их поддержке еще больше, чем я, помогать значительно больше. Я тогда допускал подобные вещи, не имея в сущности реального критерия для оценки их возможностей. Меня раздражало их равнодушие, бывшее, вероятно, в значительной мере напускным и самозащитным. Меня огорчало, что они, еще сидя в лагере, уже примеряются к тем обстоятельствам, какие ждут их — одного через год, а другого еще и через два. До которых, строго говоря, надо еще дотянуть...
Я как-то был менее строг к моему приятелю из горкома. Его безразличие к тому, что он вчерашний коммунист, идейный человек, его полное забвение всех этих идей и перспектив я объяснял отчасти тем, чФо ведь его же совершенно отринула и отвергла та среда, к которой он принадлежал. Он попросту перестал для нее существовать. Мудрено ли, что для него, в сущности очень простого, недалекого человека, и она сама — эта среда — вследствие этого перестала существовать. Меня удивляло, а вернее не столько удивляло, сколько возмущало и огорчало, такое отношение к людям со стороны организации. Я абсолютно верил той версии его дела, которую он мне представил. Я не чувствовал, не предполагал в ней какой-либо лжи. И мне представлялось бездушнейшим формализмом, убийственным безразличием к каким-то очень важным вещам такое отношение к своему человеку, пусть и заслуживающему наказания, но оказавшемуся преступником не в результате осуществления злой воли, а только вследствие несостоятельности той же окружавшей его партийно-бюрократической среды... Казалось, что именно на нем-то и должна быть продемонстрирована та декларативная мораль, та великая порука за человека, которая провозглашена коммунистическими принципами.
Интересно, что у него самого подобных претензий не было 179
совершенно. То, что с ним произошло, в его собственных глазах выглядело как-то проще и естественней. Видимо, сам с собой он все это обговаривал иначе, чем со мной. Может быть, мне он кое-чего и недосказывал, не ставил некоторых необходимых детерминант. Во всяком случае судьбу свою он отнюдь не воспринимал трагически и никаких претензий к своему коллективу не предъявлял. Он, видимо, полагал, что с ним и нельзя было поступить иначе. Но когда я обычным порядком пришел однажды его навестить, а мне сказали, что он в стационаре, и я направился туда, то увидал его впервые в таком состоянии, будто с его плеч упала гора. Ко мне вышел улыбающийся, посвежевший человек, на мой озабоченный вопрос ответивший с некоторым даже самодовольством: «Знаете, положили на обследование, недели на две... Они предполагают, что у меня, - он прямо с какой-то затаенной лаской произнес это слово, — туберкулез...»
Habitus у него действительно был нехороший — худ как щепка, истощен, подавлен. Но вот эту-то подавленность сразу как рукой сняло. Она проистекала из боязни физического труда на морозе, существования в условиях бригады, ревниво следящей за тем, чтобы ты не стоял, с матерящимся, а то и дерущимся бригадиром во главе... Теперь ему это не угрожало по крайней мере на две недели - целая вечность!
А я боялся, что если это не мои разговоры о нем повлияли на Гинзбурга (что мне представлялось достаточно маловероятным), то это значит, что у него, быть может, уже кровохарканье, уже в крови - коховские палочки... А открытый туберкулез в условиях Воркуты — это смерть. Он же ничего этого не понимал и самодовольно мне улыбался: подумайте только, как неожиданно и несказанно повезло — туберкулез, говорили мне его глаза.
Прокурор в КВЧ относился ко мне все более приветливо. Стал угощать меня очень неплохим квасом, который он делал из остатков пайкового хлеба и которым весьма не пренебрегало его начальство. Обычно разговор у них с этого и начинался: «Ну-ка, Петрович, дай-ка кружечку кваску...»
Квас у него был забористый, играющий, как-то даже бодрящий.
Но особенно я почувствовал в нем человека, когда он протянул мне письмо. В лице его светилась неподдельная радость за меня. Это было первое письмо из дому — ответ на те, которые они получили с кировской и воркутинской пересылки.
180
Письма с 25 шахты до них еще, видимо, к тому времени, когда было написано это письмо, не дошли.
Писала мне мать — обстоятельно и спокойно. Дома все по- прежнему. И она и жена моя работали на прежних местах. С детьми все тоже в порядке. И меня это сразу как-то очень и очень успокоило. Мне казалось, что моя собственная судьба при этих обстоятельствах уже и не имеет значения. Важно, что случившееся со мной не отразилось на них. Конечно, им стало гораздо трудней в материальном отношении. Мои литературные заработки были хотя и нерегулярными, но зато давали всякий раз довольно крупные суммы, позволявшие не отрывать из ежедневного бюджета деньги, не копить их на покупку одежды и других каких-нибудь дорогостоящих вещей. Теперь все будет иначе, покуда дети не вырастут.
Но главное, что их не тронули и никуда не угнали в ссылку, как меня пугал и чем угрожал следователь. Это было для меня очень большим счастьем. Я представил себе весь ужас, если бы я или вовсе не получил ответа на мои письма или получил его откуда-нибудь из Сибири...
И этим всем тоже был обрадован прокурор. Он объяснил мне: «То, что вы здесь, а не в режимном, и то, что ваша семья не пострадала нив чем, означает, что за вами не числят серьезной вины. А срок, который вам дали, — он не имеет большого значения. Времена меняются...»
Я был совершенно окрылен после этих разговоров. Чувствовал, как ко мне полностью возвращалось мое душевное равновесие. Я спокойней и с большим любопытством стал смотреть на все окружающее. Я мысленно возвращался в Москву, на Арбат, шел домой и находил там все в обычном состоянии. Как это несказанно хорошо. И обостренная память доносила до моего внутреннего зрения эти картины домашнего благополучия с необыкновенной яркостью.
В нашем бараке людей становилось постепенно все больше и больше. Мне представилась возможность перебраться на верхние нары. Там теплей и как-то немного уютней — не такой проходной двор, как внизу. Но зато по мере увеличения населения там гораздо быстрее стала ощущаться теснота. Соседи напирали на меня с обеих сторон. Хотя я и мало проводил времени в бараке — часа полтора-два перед сном, не больше, — но при скученном житье и этого оказалось достаточно, чтобы глубже 181
войти в лагерный быт, вникнуть в некоторые его стороны, до сих пор еще от меня ускользавшие или не доходившие до меня в силу внутренней сосредоточенности на собственных бедах.
Умножение населения в бараке сразу же вызвало резкую активность со стороны клопов. Они очень быстро размножились и потеряли всякий стыд и страх. Я стал было по этому поводу негодовать, при явном безразличии и несочувствии со стороны окружающих. Когда же я заикнулся, что постараюсь использовать мое отношение к санчасти и буду добиваться дезинфекции, то натолкнулся уже на открытую враждебность: «Ты еще к куму сходи», — мрачно говорили мне.
«При чем тут кум, неужели не противно, что клопы у нас последнюю кровь пьют, не дают спать?..» Один молодой и добродушный человек, явно к тому же искавший моей симпатии (добродушие это проистекало у него в значительной мере из отсутствия левой стопы, отчего его ни на какую работу не гоняли), сказал мне с полным убеждением: «А с клопами веселей, ей-богу... И чего мы сами-то беспокоиться будем? Пусть лучше, когда комиссия какая-нибудь придет, — пожалуемся. Тогда хоть начальству попадет... Люблю, когда вздрючивают начальство...»
Пришлось мне примириться с кпопами и охладить мой санитарный пыл. Но с чем я примириться не мог и что доводило меня иногда до совершенного осатанения — это непрерывный, бессмысленный и безнадежный мат, выродившийся в некий примитивный и односложный язык, посредством которого выражались все наши довольно несложные переживания и мысли. В языке этом непреодолимо господствовало знаменитое слово из трех букв, фигурирующее на всех заборах. Оттенки смысла выражались его падежными окончаниями, его положением во фразе, ударением, наконец.
Как-то раз я до того рассвирепел, что стал кричать на соседей: «Вы как зулусы какие-то. Вы все свои мысли выражаете одним и тем же матерным словом. У зулусов — я когда-то читал — в языке тоже одно только слово, очень к тому же похожее на наше: “кхай, кхай, кхай на кхай” означает — “есть ли в вашем городе яйца?’" Разумеется, разговаривают они с помощью некоторой жестикуляции». Меня выслушали хмуро и равнодушно. Мне было показалось, что ни до кого это сравнение не дошло — эту дремучую беспросветную тайгу не расшевелишь ничем. И я с большим огорчением спрятался с головой под одеяло.
182
И вдруг, неожиданно, точно райская музыка, донеслись до меня с наших же верхних нар, но из другого конца барака, произнесенные мной перед тем «зулусские» слова: «кхай, кхай, кхай — на кхай»... Я немедленно бросился туда, готовый расцеловать этого человека. Им оказался паренек, совсем еще молоденький, лет двадцати с небольшим, с простым, открытым, смышленым лицом, выражавшим внутреннюю интеллигентность. В общем как раз то самое, по чему я туг плакал и тосковал. Он и раньше со мной уже заговаривал, да что-то нам тогда помешало выяснить взаимную симпатию. Не было в нем ни на что никакой злобы. Он говорил добродушно: «Ну, правда, и люди — сами себя топят. Дуром угодил я сюда, Андреевич, не чаю как и выбраться. Надумал я вот что - пойду в самоохрану, как вы мне посоветуете? Года через три, глядишь, дома буду — там ведь день за три идет...»
Я всячески поддержал его идею, вызвавшую полное неодобрение окружающих — самоохранники это те же суки. Если самоохранник по какой-либо причине на чем-нибудь проштрафится и снова попадет в лагерь, его поместят уже только в сучью среду — иначе убыот, за одно только название. Самоохрана — измена делу. И, конечно, я в тот момент не учитывал, что моему новому приятелю будет, наверно, нелегко в самоохране — шли туда по преимуществу действительно всяческие подонки. Но я думал тогда: «Черт с ним. Зато перетерпев это, гораздо скорее выберется на волю, а это, мол, важнее всего».
Была в этом пареньке какая-то природная рассудительность, внутренняя дисциплина, и все это при очень большом добродушии, наверно более всего и оборонявшем его от всякой скверны. «Иди, друг, в самоохрану. Это ты совершенно правильно придумал. Конечно, на вышке стоять на морозе — тоже не мед. Но ведь там не одно только это дело. Среди начальства тоже есть люди, поймут, с кем имеют дело, помогут...»
Он подымал на меня глаза, исполненные истинно-солдатской честности и терпеливой уверенности в благе порядка. «Вот на таких-то мир и стоит, — думал я. — Хоть и среди воришек есть симпатичные, не вконец потерянные ребята, но разве они так на тебя посмотрят? Какой-то вечно беглый, вечно чего-то неопределенного ищущий взгляд, останавливающийся либо лишь из ненависти, либо под влиянием какого-либо неукротимого желания, не поддающегося никакому — ни внешнему, ни внутреннему контролю». В другой раз, может быть, мне и такая повадка 183
показалась бы симпатична и романтична, но сейчас я готов был благословлять выдержку и положительность. На том стоит мир и должен стоять, черт возьми.
Мое выступление по поводу мата привело ко мне еще одного человека. Он ничего сначала не говорил. Просто я заметил, что рядом стало с одной стороны еще тесней - примостился еще один человек. На вид лет тридцати пяти - сорока, с лицом, пожалуй, даже и приятным, но явно старавшимся не выражать и той доли интеллигентности, которая была ему присуща.
Он вспоминал предвоенную Москву конца тридцатых годов, Дом печати, атмосферу страха и в то же время цинизма тогдашней общественной жизни... Этими довольно, впрочем, отрывочными воспоминаниями он, видимо, оправдывал свое теперешнее отрешение от какой бы то ни было культуры. Он ничего не читал, ничем из происходившего на свете не интересовался. Даже не переписывался с родными. Я так и не узнал, за что он сидит, какая у него статья и долго ли ему еще быть в лагере. Он очень не любил говорить на эти темы. А когда с ним заговаривали на какую-либо неприятную для него тему, он начинал отвечать скороговоркой, содержание и смысл которой оставались неуловимы, до тех пор покуда она не переходила тоже в достаточно бессмысленный и нечленораздельный мат.
От общей ия с н и м всегда оставалось чувство неуверен ности — с кем ты имеешь дело, кто перед тобой; в сущности, он усвоил некоторые замашки и повадки блатных, в особенности в том, что касалось его внешнего вида, манеры носить лагерную одежду... Ему удавалось с помощью своей невнятицы и сумбурного извержения матерных слов отделываться от каких угодно посторонних наскоков и поползновений.
Он не работал. Сначала я не понимал, почему, а он мне не объяснял причины, что-то болтал о том, что здесь нету для него подходящей работы... Как будто вообще можно было что- то выбирать? Потом я увидел, что он держит в кармане правую руку, а присмотревшись, заметил, что от четырех пальцев на ней уцелели только одни третьи фаланги. Где его могло так искалечить? Мне неловко было его об этом спрашивать, раз уж он не говорил сам и даже старался скрыть от меня это обстоятельство. Но я уже кое к чему пригляделся в лагере: это все-таки очень было похоже на то самое, что я видел у многих мелких блатников, которые посредством подобного самокалечения добивались в лагере легкой и независимой от начальства 184
жизни. Такая правая рука обеспечивала моему приятелю ту же самую категорию труда, которую дал мне доктор Гинзбург. Но если в отношении меня это была натяжка и поблажка, то для него — верный и непременный козырь, спасавший его в любых условиях от мороза и тяжелого физического труда.
Народу у нас в бараке все прибавлялось. Дошло уже до того, что лежать можно стало только на боку, а повернуться на другой бок было уже невозможно, не задев соседей. Меня это очень угнетало. Угнетало еще и потому, что наша пища весьма способствовала образованию кишечных газов, и когда от них освобождались непосредственные соседи, то дышать становилось невыносимо. Я оборачивал голову одеялом и дышал через его ткань — это значительно очищало воздух, хотя и затрудняло несколько его доступ. Мой приятель посмеивался: «Противогаз!» Действительно, это был примитивный противогаз. Мне рассказывали, что в Первую мировую войну, когда применялись удушливые газы, а противогазов или, как тогда говорили, масок было мало, люди спасались при газовых атаках тем, что, обмакнув полу шинели в жидкую окопную грязь из-под ног, прикладывали ее клицу и через это дышали, пока не проходил газ...
Я стал иногда ночевать в бане, хотя там было сыро и холодно. Теснота в бараке обнажила многое такое из лагерных отношений, что при других условиях, наверно, могло бы и не проявиться. Однажды вечером мой приятель обратил мое внимание на то, что молодые блатнички собрались кучкой у двери, жмутся друг к другу, о чем-то шепчутся, парами выбегают в тамбур. «Чтотам происходит?» — «Любовь». ...Паренек, только что возвратившийся из тамбура в барак, весь раскраснелся, глаза его блуждали в бессмысленном напряжении, с губ стекала слюна.
«Чифиря напьются, — пояснил мне приятель, — возбудятся до чертиков и тискают друг дружку, забыв даже и о морозе...»
У него на лице отражалось при этом гадливое чувство, которого я не испытывал. В раскрасневшейся физиономии юноши, только что испытавшего эту любовь, отражался какой-то неподдельный и невозбранный восторг, радость бытия... И, быть может, это еще было наименее уродливо из всего того жизненного уродства, на которое их обрекал быт «исправительно- трудовых» лагерей.
Во всяком случае, не они виноваты в том, что так преломлялись и выходили наружу их половые инстинкты. Вероятно, 185
психофизиологическому комплексу их дефективности свойственна и определенная обостренность именно этих чувств. Что-то же их толкало в объятья лагеря? Что-то же и обеспечивало им в нем некую фикцию полноценности бытия?..
Однажды утром в опустевшем бараке, после того как значительная часть его населения или ушла на работу или разбрелась по другим баракам, я наблюдал драку двух блатных главарей. Одного я заприметил уже давно. Богатырь южно-русского типа, черномазый, с резкими чертами лица — все у него самого крупного калибра. А его противник — худ, белобрыс и внутренне очень собран. Я его не замечал раньше, то л и потому, что он лишь недавно пришел, а может быть, он просто не проявлял себя так открыто, как первый, в котором все чувствовали воровское начальство. Дрались они табуретками, с напряжением решительно всех сил. Удивительно, до какой степени способен «выкладываться» такой человек. Лица у них исказились неузнаваемо — не лица, а пасти. С них текло что-то бурое, какая-то смесь грязного пота и крови. Оба они стонали от боли, от нервного перенапряжения. Треск табуреток, хруст сухожилий... Более или менее они, вероятно, равнялись силами (худощавый будто был послабей, но поноровистей). Им приходилось так мучительно трудно удерживать равновесие в драке, что конечности их представлялись как бы туго-натуго связанными, все происходило как в замедленном фильме. Табуретки разбились наконец в щепки, и они разошлись, качаясь от предельной усталости, хватаясь руками за нары, чтобы не свалиться с копыт.
...Мне передали, что меня разыскивает культорг. Я действительно не был у него два дня из-за банных дел и других приятелей, отнимавших остаток времени.
«Вам посылка. Из дому...» И лицо его в тот момент стало опять очень добрым. Этому внешне (а может быть, также и внутренне) паукообразному человеку явно было приятно меня обрадовать. Несомненно, стремление это возникло в нем как эффект каких-то внутренних сдвигов, может быть и подобных тем, какие я ощущал, попавши в лагерь, в себе. Я не мог отрешиться от этих сопоставлений его и себя, хотя и был переполнен в тот момент совершенно другими чувствами и мыслями, посторонними лагерю. Посылка из дому! Первая посылка! Наконец-то... Подспудно я очень надеялся, что когда-нибудь, несмотря ни на что, ее получу, и только из суеверия табуировал эту надежду. Вот она наконец пришла и в моих руках...
186
Вскрыли ее без меня (содержимое должен просмотреть надзиратель — многое ведь не разрешается посылать заключенным: спиртное, чай, лекарства, режущие и колющие предметы). Внутри оказалось масло, сахар, конфеты, бог его знает еще что. Моя старая фуфаечка, выглядевшая теперь совсем новой и необыкновенно приятной.
От этих вещей исходил такой умопомрачительный запах, точно они присланы из самого рая.... Пахло домом, пахло каким-то миром и уютом, и эти запахи так контрастировали с запахами лагеря, что можно было от одного этого с ума сойти...
Уделив что-то культоргу, предложившему мне оставить посылку в КВЧ, чтобы ее не уворовали у меня сразу же, я бросился угощать моих приятелей. Секретарь горкома жеманничал и не хотел ничего брать. «Меня тут хорошо кормят...» И с лица его все еще не сходила блаженная улыбка. Как немного иной раз нужно для ощущения блаженства. В этот момент, больше чем когда бы то ни было, может быть, должен был я понять этого человека. А вместо того я, видя выражение его лица, утрачивал к нему жалость. Именно при этом как будто мне становилось ясно, что его душевные движения достаточно примитивны: он физически слабоват, может быть действительно тяжело болен и боится поэтому физического труда, к тому же еще в воркутинских условиях... Он радуется избавлению от этого труда так, как если бы речь шла об избавлении от мучительных нравственных тягот... Я его уговорил взять масла и сахару — то, чего больше всего не хватало в нашем рационе.
Неохотно принимал подарки и мой новый сосед по нарам — бывший московский журналист. Он объяснил мне, что им установлена для себя твердая внутренняя норма еды и питья, которой он очень жестко придерживается и потому чувствует себя хорошо, не испытывая никаких огорчений от излишних потребностей. В особенности он ограничивал себя в питье — стакан утром, стакан вечером. Действительно, он был легок в движениях, очень сухопар, и когда видел людей другого habitus’a, то с сожалением говорил: «И как это человек не может себя ограничить в питье. В лагере — первое дело не пить лишней воды: никаких отеков, никакой слабости никогда не будет...» Я не пытался ему следовать, хотя бы даже для пробы. Худ я и п ак тогда был вполне достаточно, а прибавлять к тем лишениям, какие приходилось испытывать, еще что-то придуманное нарочно мне казалось бессмысленно и кощунственно.
187
Так у меня за два-три дня все съестное из этой посылки разошлось по рукам. Осталось немного конфет, которые я носил в кармане и изредка, чтобы заглушить чувство голода, особенно острое между обедом и ужином, совал себе в рот.
У нас в бане появился довольно моложавого вида человечек— военфельдшер, побывавший, как и я, в плену, с таким же, как и у меня, сроком. Его, видимо тоже заботами доктора Гинзбурга, к которому он долго приставал с просьбами об устройстве на работу по специальности, назначили санинструктором с очень несложными обязанностями: следить, чтобы весь контингент лагеря проходил санобработку и чтобы в этом прохождении соблюдался определенный порядок. Он чувствовал себя на седьмом небе от счастья, получив такую «блатную работенку», как говорили все вокруг, и избавившись от хождения на «снегоборь- бу». Он был несколько женственен, болтлив и довольно экспансивен. Дни он стал проводить, как и я, в бане ради спокойствия, тишины и безлюдья. Заметив однажды, что я что-то жую, он вдруг жалобно вскрикнул: «Вот, вы оказывается конфеты едите, дайте мне хоть одну...» И протянул ко мне небольшую, довольно тонкую руку... Как он угадал? В лагере — конфеты... Это могло прийти в голову разве только во сне. Мне было очень жалко ему отказывать. Но, во-первых, у меня и так уже почти ничего не оставалось от этой посылки — когда-то еще что-нибудь получишь, — а потом при его импульсивности и болтливости весь лагерь будет знать через минуту, что у меня конфеты, что я получил посылку... А он обязательно побежит хвастаться.
«Какие конфеты, господь с вами», — возможно более равнодушно и непринужденно сказал я, изобразив еще на лице и грустную улыбку. Рука его опустилась в некоторой нерешительности. Хоть он было и угадал, но слишком малоправдоподобной для него самого казалась эта безумная догадка... И я остался при моих конфетах.
Наш барак и еще один по соседству считались этапными. Потому в них и были сплошные, а не вагонные нары. Они как бы не были предназначены для прочного житья. И ввиду их переполнения в лагере стали поговаривать о предстоящем этапе. Особенную уверенность высказывал наш банный начальник: «Я уже эту механику знаю: собирают из разных мест всякий никудышный народ, набьют этапные бараки до отказу и шагом марш...» — «А куда же отправляют-то?» — «Да говорят, в совхоз... Там любому работа найдется. Говорят, там и бабы...»
188
При этих разговорах у меня по спине начинали бегать мурашки. Не прошло ведь еще и месяца, как я здесь. И вот опять собирайся на новое место. Только-только немножко присмотрелся и привык к людям... Эта сторона лагерной жизни была для меня совершенной неожиданностью. Об этих этапах в тюрьме никто не рассказывал. А тут я узнал, что есть такие несчастные люди, которых так весь срок и гоняют с места на место... А казалось ведь, что лагерь - это та же тюрьма: посадили тебя и сиди на одном месте...
Я зашел к моим приятелям-медикам. Думал, может быть, они мне подскажут что-нибудь, дадут какой-нибудь совет. Ведь им, вероятно, тоже известно о предстоящем этапе? Гинзбург вообще не появился в этот вечер. У него была своя каморка, и он предпочитал иногда одиночество. Нельзя было его не понять при той жизни, которую я вел вот уже скоро год, когда уединиться нельзя даже и в уборной.
Старичок-статистик принимал живое участие в общей беседе, которая с корейской войны перескакивала на женщин, так нам не достававших. Они тоже прошли через совместную с женщинами лагерную жизнь, но вспоминали о ней, к моему удивлению, довольно равнодушно. По их словам выходило, что если мужчине трудно сохранить в лагере достоинство, то женщина утрачивает его окончательно — становится предельно циничной, ругается матом...
Я не поддержал этот разговор, и мы с дипломатом перешли к поэзии. Старичок был к ней равнодушен и отстал. А я попросил дипломата почитать стихи, как бы предчувствуя, что судьба предоставляет мне для этого последнюю возможность. Он извлек из-под матраца свою тетрадочку... Я уже знал некоторые его стихи. В том, что он читал на этот раз, не было ничего принципиально нового: та же дидактика, басенный стиль, какая-то прозаичность, старозаветность. Но язык хороший. Местами стихи звучали очень язвительно, либо по отношению к самому себе, либо к людям неопределенным — вообще к людям. В его стихах лагерная тема отсутствовала. Их можно было написать где угодно. Но тем не менее я испытывал живое удовольствие. И голос у него приятный, мягкий, с каким-то очень аристократичным произношением, какого и на воле-то давно уже в Москве не услышишь. «Где вы научились так говорить? У вас старо-петербургская речь, прямо как у гвардейского офицера былых времен, только что “г” вместо “р” не говорите...»
189
Оказалось, что его мать именно из такой среды, а он ко всему этому чувствовал вкус и культивировал в себе внешний аристократизм. Я подумал о том, что эти двое как раз и суть те классические лагерники, которых можно увидеть в таких пьесах, где показываются «осколки разбитого вдребезги».
Он читал и разговаривал очень спокойно, слегка даже флегматично. Его лагерная курточка, особенно рукава, представлялась мне при этом каким-то очень хорошим костюмом. Из-под обшлагов рукавов точно выглядывали концы белоснежной рубашки с запонками — так он держал свои руки...
Я ушел от них в этот вечер очень довольный, как зачарованный. В бараке все уже спали. Места для меня осталось очень мало, кое-как я протиснулся, напирая на моего приятеля-журналиста. Он подался, бормоча во сне что-то нечленораздельное, как будто матерное... Но я не прислушивался — бог с ним.
С прокурором в КВЧ я без обиняков заговорил об этапе. Он или не знал ничего или сделал вид, что не знает. Но вообще очень мне посочувствовал. «Этапирования надо бояться, как огня», - задумчиво произнес он. Ему-то оно должно было представляться особенно страшным. Только узнают, что бывший прокурор — тут же укокошить могут. Но ему это, видимо, отнюдь не угрожало. Говорил он спокойно, отвлеченно. «Да, много времени проходит, прежде чем человек найдет здесь свое место и закрепится. Есть люди, которые весь свой срок так с этапа на этап и проводят...»
«Что ж, — подумал я с некоторой досадой, — вероятно, и к этому тоже можно привыкнуть. Утешил меня хоть этим». Он, видно, почувствовал, что утешение не из самых приятных. «Кваску выпьете? Только бродить начал...» Квас действительно оказался и на этот раз очень приятен, будто я никогда ничего подобного и не пил. Пил, конечно, но просто не мог этого соответственно оценить — ничего в этом не ощущал особенного по сравнению со всяким другим разнообразным питьем. А тут будто настоящая амброзия... Квас этот подбадривал дуплу и заменял собой очень многое... «Если бы на войне был этакий квас... — вдруг почему-то вспомнил я жажду и пустоту окопного быта. — Как трудно сравнивать пережитое, — еще подумал я. — Видно, есть во всем этом какая-то неповторимость...»
Наконец этап объявили. В барак пришел нарядчик — человек монгольского типа, но совершенно чисто говоривший по- 190
русски и, видимо, вполне грамотный. В списке, зачитанном им, значилась и моя фамилия. Было это с вечера. Приказано быть готовым к утру... Я сходил в стационар попрощаться с секретарем горкома. Он искренно огорчился. Сказал, что теряет во мне очень нужную ему моральную поддержку. Но настроение у него теперь было все же гораздо более спокойное и уверенное, чем когда мы с ним познакомились. Двухнедельное пребывание в стационаре вернуло ему в какой-то степени душевное равновесие и уверенность в себе. Он знал уже—доктор ему это обещал, — что если ему станет лучше и его выпишут, он уже не попадет в бригаду, а получит спецтруд. Если же ему станет хуже — он говорил об этом совершенно спокойно и даже не без тени некоторой надежды, — то его переведут в туберкулезную больницу, где и жизнь и питание совершенно другие, чем в лагере.
Я понимал, что мой отъезд для него состоялся уже тогда, когда он попал в этот стационар и отрешился в значительной мере от лагерного распорядка жизни. К доктору Гинзбургу и другим моим приятелям-медикам я решил не ходить. Я был уверен, что им известно об этапе и что они найдут меня сами, если захотят видеть и если могут что-нибудь для меня сделать. Ничего не сказал я и моему банному начальству — еще чего доброго заставят на прощание произвести назначенную было на завтра уборку...
Этот вечер я провел в своем бараке. Обитатели его, из которых многие должны завтра вместе со мной его покинуть, казались этим немного возбуждены: везде шли разговоры и мало кто спал. Хотя надо сказать, что все эти более старые и опытные, чем я, лагерники относились к предстоящему переходу спокойно и даже довольно равнодушно - они ко всему этому привыкли и как-то уже приспособились. В этапах было для них и некоторое разнообразие. Мой сосед-журналист отправлялся вместе со мной. Он, казалось, даже не без удовольствия уходил отсюда. «Скучный ОЛП, - говорил он. - Народу тут мало и народ неинтересный. Вот теперь мы попадем на 46 ОЛП, там будет совсем другое дело...» В чем будет именно состоять это «другое дело», объяснить толком он не мог, но все же я понял, что пункт этот является в какой-то мере центром воркутинской интеллигенции. «Там инженеров полно, в конструкторском бюро работают».
У меня мелькнула мысль, что, может быть, сама судьба направляет меня в этот лагерь, где я наконец смогу найти себе более подходящую работу и закрепиться на месте.
191
Соседом моим на нарах с другой стороны был крупный и довольно еще не старый человек лет 35—40. Он вообще, несмотря на явное свое добродушие и простоту, не любил разговоров, так что я плохо себе представлял, что это за человек. Судить о нем мог только по тому, что он оказался в числе ярых противников дезинфекции в нашем бараке и именно он-то и изрек, что «с клопами веселей». Заметил я еще, что у него недостает левой стопы — заметил совершенно случайно: он не хромал при ходьбе, и протез его, видимо, совершенно ему не мешал. Подобное увечье создавало в лагере спокойное и прочное положение, обеспечивавшее душевное равновесие. Хотя его на этап и не брали, но общее настроение передалось и ему: впервые за время нашего совместного пребывания и самого тесного соседства он со мной разговорился в самом приветливом тоне и стал рассказывать о себе без того, чтобы я его к этому понуждал расспросами. Он был квалифицированный сапожник- моделист — «художник», как говорил он о себе сам. Наше время всяческих дефицитов в отношении обувного сырья приучило его к махинациям и воровству казенного материала, который он перепродавал на сторону. На этих махинациях он уже попадался не один раз. Говорил обо всем этом спокойно, трезво, не без некоторой даже иронии. «Мне оно, собственно, и не нужно было даже — это воровство, - но жить без него на моем месте никак невозможно. Очень уж это было нужно другим, через меня только и пробавлявшимся материалом...»
Срок у него — поскольку уже не первый — получился очень порядочный — двенадцать лет, но он, как и памятный мне маляр из горьковской тюрьмы, не рассчитывал сидеть долго. С добродушной уверенностью он считал, что что-нибудь будет — то ли амнистия, то ли актировка для инвалидов, но по двенадцать лет никто из таких, как он, не сидит — это он представлял себе точно.
— Да мне и сидеть-то не больно тяжело. Я сапожничаю, получаю с начальства большой магарыч. Что захочу, то и получаю. Мне и пропуска дают и другие всякие поблажки...
— А чего же вы тут не работаете?
— Э, тут ерундовое хозяйство, работать не на кого. Не хочу я тут приземляться, пусть отправляют. Меня бы вот с вами отправить должны, да все надеются, уговаривают...
Потом он перешел на совершенно доверительный тон:
192
— Я тюрьмы не боюсь. И на волю бы меня не тянуло, да привязалась ко мне недавно девчонка одна — Лидка — совсем молоденькая — лет пятнадцати. Полюбили мы очень друг друга. Она было ко мне, как к отцу, ну а я на ней решил подженить- ся... Смирная, добрая. Я ее и так и этак, а она говорит: «Не чую я этого ничего. Делай, что хочешь, если тебе приятно, только я не чую... Тянет меня ктебе, но не потому, чтобы я замуж за тебя хотела». Я говорю ей: «Погоди — взойдешь в охоту, поймешь...» Один раз прильнула она ко мне, что-то почувствовала... Говорю: «Ну вот, хорошо тебе теперь, Лидочка?» — «Ничего я не чую, только слабость какая-то по всему телу пошла...» — «Вот, — говорю я ей, — Лидочка, это ты кончила...»
Повторение этих, когда-то сказанных ею слов, вызывало в нем прилив самых нежных чувств. Легкость, с которой этот человек выкладывал мне всю свою интимнейшую подноготную — очень ему при этом, видимо, дорогую — то, воспоминаниями о чем он здесь жил, поражала меня и была мне чем-то очень приятна. Точно и я сам, через его проникновенный рассказ, приобщился каким-то боком к этой и мне очень недостававшей интимности... Этой-то Лидой внутренне он был полон и жил, рассчитывал к ней скоро вернуться.
— Ждет она вас домой, как вы думаете? Пишет она вам?
- Как же ей не ждать? Она ко мне приклеилась всей жизнью. Я ведь и отсюда ее содержу - позволяет мой заработок. А писать - что ж эти письма? Когда-никогда пишет, конечно...
46 лагпункт
Вывели наш этап — около сотни человек — в светлый и морозный мартовский день. Так уж оно почему-то получалось - как на этап, так мороз. Но путь оказался не долог, добежали мы до узкоколейки не замерзнув, а там нас — о чудо! — ждал пассажирский вагон. Сели мы, как люди. Ехали, как ездят на воле, — в теплом вагоне дачного типа. Конвоиры наши поместились у дверей, так что их можно и не замечать. От тепла меня сейчас же разморило, и я начал дремать. «Вылезай!» Опять ночь, опять быстрая ходьба по разъезженной автомобильными скатами скользкой дороге, снова я падал из-за моего неуклюжего вещевого мешка, из-за валенок на резине... Пришли к какому- то большому, колючей проволокой огороженному лагпункту, с 193
7 Лагерный дневник
очень яркими прожекторами на вышках. Вообще, кругом светились огни. Это была уже Воркута — и город и река. Но реки даже и днем не было видно под снегом — она угадывалась только по рельефу местности. На этом берегу реки, рядом с лагпунктом — перевалка с узкоколейки на широкую колею, а на другом берегу стояла ТЭЦ — она-то и примыкавшие к ней домики и бараки давали, как представлялось с отвычки от него, целое море света. Некоторые из прибывших с нами оказались сразу же запущены в лагерь, но меня, поскольку в лагере содержались суки, а я прибыл в составе бригады воришек (гордо называвших себя ворами), посадили в изолятор. Поскольку мы попали сюда не в штрафном порядке, нам разрешался свободный выход надвор изолятора, но на работу никого из нас не выводили. Так продолжалось, вероятно, дней десять. Надзиратели наши говорили, что начальство решает, кого отправить — сук или же нас. За это время я узнал кое-что новое из лагерной жизни. Во-первых, поглядел на изолятор. Он мало чем отличался от обычного барака, только помещения в нем меньше и напоминали камеры пересылки в Кирове. Нары двойные и сплошные, а окна маленькие и забраны решетками с козырьками. Я поместился внизу. Рядом со мной расположился человек по фамилии Коган-Корин. Меня удивила эта странная фамилия, и я спросил его об ее происхождении. Оказалось, что Корин — это псевдоним, придуманный им в плену, с помощью которого он избежал еврейского лагеря и смерти. На еврея он не похож, волосы у него были русоватые, нос картошкой, так что ни немцы, ни свои, из числа наиболее подозрительных и заинтересованных в уничтожении евреев, его не опознали. Характер у него был добродушный и на редкость уравновешенный, что тоже, конечно, способствовало сохранению его жизни. И в этом его единственная вина перед МГБ, начальство которого не верило, что немцы не распознали в нем еврея, и решило, что он «завербован». Посадили его сразу же по окончании войны и по освобождении из плена, и он «разменял» уже половину своей «десятки».
Но в собеседники мне он не годился, так что я оказался совершенно одинок в этом изоляторе — журналиста моего сразу же запустили в лагерь, и я волей-неволей должен был предаться наблюдениям.
Воришки вели себя относительно спокойно. Хотя мы ничего не делали, но эксцессов, порождаемых в подобной среде 194
бездельем, покуда не было. Может быть, этому способствовало несколько содержание наше в изоляторе, где труднее заполучить что-либо недозволенное, чем в лагере, трудно даже обзавестись самодельными картами. Все же они появились по прошествии нескольких дней, и незатейливое лагерное обмундирование начало переходить из рук в руки. Однажды сели играть два воришки постарше, ребята лет 22—23. Играли они неподалеку от меня, играли с азартом, но мне надоело следить за ними в полутьме нижних нар, и я уснул. Не знаю уж, сколько проспал, но проснулся я от каких-то стонов, оханий, выкриков... Я огляделся спросонья. Ифа продолжалась, но уже с совершенно невероятным накалом. Один из партнеров в пух проигрался, но так как он был физически сильней, то принуждал другого играть и играть, в надежде на отыгрыш. Но другой явно играл лучше. Делал он это хотя и спокойно, но уже крайне неохотно. «Чего играть, — говорил он, — все равно я тебя и так и этак обыграю...» - «Играй, сука», — шипел партнер в полнейшем исступлении и при каждом новом проигрыше испускал завывания и стоны. Не знаю, чем у них все это кончилось, так как я в конце концов уснул снова, притерпевшись и к этому своеобразному концерту.
Однажды к нам забежал каким-то образом с ОЛПа парнишка. Вообще, к нам из лагеря никого не пускали во избежание нападения сук на воришек. Но этот, видимо, проник за нашу ограду, исполняя какое-то поручение начальства. Он остановился прежде всего в нашей камере (она ближе к входу) и, обращаясь к сидевшим на верхних нарах, сказал: «Ребята, я больше не вор. На черта мне это нужно...» (Дальше следовало что-то мне непонятное, но из чего можно было заключить, что им кто-то несправедливо помыкал.) «Конечно, помочь или что, я всегда готов, но вором больше не буду...»
Он был выслушан при полном молчании сидевших на верхних нарах. Физиономии их выражали полнейшее равнодушие. Потом паренек перешел в другую камеру, где повторил сказанное у нас слово в слово. Мне стало ясно, что мои воришки, к которым я отнесся было с презрением, котировались в своей среде достаточно серьезно, если к ним обращались с такими заявлениями. Я спросил у Когана как у старого лагерника, что это должно означать. Он покачал головой: «Зря это он, чудак. Хочешь отстать — отставай втихаря, чтобы о тебе забыли. А после этого его еще пристукнут где-нибудь, скажут “ссучился”. Не любят они, когда от них демонстративно уходят...»
195
Через несколько дней нас все же перевели в лагерь, а сук, как оказалось, определили на наше место в изолятор в ожидании возможности их куда-нибудь отправить.
Как только мы оказались в лагере, состоявшем из довольно большого числа чистых, белых, мазаных глиной бараков, нас в этот же день комиссовали, и спецтруд мой сразу же заменился второй категорией. Меня, вместе с бригадой воришек, назначили на узкоколейку — чистить снег. Выпуская нас из изолятора, лейтенант — «начальник режима» — строго предупредил, чтобы в лагере не бегали по чужим баракам. Этого не практиковалось в тех двух местах, где мне довелось побывать. Здесь режим, видимо, построже. «“Попутаю” в чужом бараке, — сказал он, — на пять суток посажу». Поэтому я боялся зря ходить по территории лагеря и встретил моего журналиста далеко не сразу. Он мне обрадовался, сообщил, что и здесь нигде не работает — сидит в инвалидном бараке. Я было стал его пугать здешним строгим режимом: «Тут чуть чего в изолятор сажают», но он не понял меня и оскорбился: «Я дня одного не был в отказе», — произнес он гордо и даже высокомерно, будто я его напрасно в чем-то укорял, и после этого заметно ко мне охладел.
Впервые увидел я на этом ОЛПе каторжан с номерами, нашитыми, вернее вшитыми на отдельных кусочках материи в каждый предмет верхней одежды: шапку, бушлат, брюки. Сроку им было не двадцать пять лет, как нам, а двадцать, но зато рабочий день их равнялся десяти часам, а не восьми, как у нас, и зарплата им за работу начислялась еще более скромная, чем нам. А в остальном положение их не отличалось от нашего с той опять-таки разницей, что судили их во время и сразу после войны. За последние же годы каторжан не прибавлялось нисколько, что означало, что каторгу давать перестали. Мне объяснили, что имелись вообще еще и режимные каторжане, содержавшиеся в режимных лагерях.
Вечером того же дня к нам в барак пришел какой-то довольно упитанный — по крайней мере для лагеря — парнишка и заявил, что я у него в бригаде. Я решил пока не искать ничего другого, а попробовать, что это за «общие работы», как их официально называли.
Хотя на завтрак ходили довольно рано — часов в 6, но весна брала свое — стало уже совершенно светло в это время. К 7 часам перед воротами лагеря нас собралось человек 40 — большая бригада. Проделана вся церемония — произнесены «установоч196
ные данные», а по выходе за ограду — «молитва» начальника конвоя. Конвой был серьезный, с собаками, как на этапе.
Растянувшись метров на 30—40 — все время раздавалась команда «подтянись» — в морозную, градусов на 30, погоду, с лопатами на плечах, мы двинулись к узкоколейке, вдоль которой прошли километра три, отбрасывая в некоторых местах в стороны от полотна легкий пушистый снег. Когда солнце поднялось повыше, стало значительно теплей. Работалось без особого труда. После каждых 30—40 минут работы совершались передвижения метров на 200—300. В бригаде, кроме десятка воришек, с которыми я сюда пришел, все прочие были мне неизвестны.
Проработав часов шесть таким порядком, мы двинулись обратно при быстро усиливавшемся к вечеру морозе. Но мысль, что мы уже возвращаемся в лагерь, подогревала и утешала - ни холода, ни усталости не чувствовалось. После сдачи инвентаря и небольшого разоблачения (долой лишнюю пару портянок и платок, защищающий лицо), съедался обед, он же и ужин. По его окончании еще оставалось сколько-то светлого времени, но усталость и сонливость загоняли в барак.
Надо было бы отважиться и сходить в барак инженеров — познакомиться с ними и хотя бы осведомиться о возможности какой-либо квалифицированной работы. После одного морозного дня, когда я продрог до самых костей и все во мне безостановочно дрожало, я решил более определенно, что все- таки надо искать каких-то других возможностей, а может быть, действительно и какого-то более или менее настоящего дела. Мне очень хотелось побывать в шахте, где я отроду не бывал, посмотреть, что это такое. Есть же тут, наконец, Мерзлотная станция - может быть, на ней я нашел бы себе какое-нибудь применение - ведь я же в сущности немного геолог.
Скрепя сердце, я отправился в барак к «инженерам». Инженеров оказалось всего два или три, среди них один полусумасшедший еврей, прошедший через немецкий плен. Фамилия его — Шоломович, и вида он довольно типичного. Но он выдавал себя за караима, быт и обряды которых ему были известны. «Мне очень больших моральных усилий стоило держаться за то, что я караим, — рассказывал он. — Меня преследовали не столько даже немцы, сколько свои. “Ну чего ты врешь, — тянули они меня за душу... — Какой из тебя караим? Ты же Шоломович, Шлемка, тебя насквозь видать...” А я напускал на себя, 197
сколько только мог, равнодушия — еврею это нелегко — и говорил: “Нет, не Шоломович, а Шолмак, караим, а не еврей...” Так весь мой плен прошел у меня в страхе перед моими же товарищами. А потом, не дав даже на родных поглядеть, бросили меня вот сюда... Но у меня хорошая работа, я здесь нужен и полезен, как я понимаю». И он с некоторой важностью и гордостью поглядывал вокруг...
Участие во мне принял один белорусский инженер-механик, изобретатель, как-то пристроившийся на Мерзлотке, но не оставлявший и своего прежнего дела — изобретательства в области сельскохозяйственного машиностроения. Какое-то изобретение ему удалось переслать куда-то, минуя лагерное начальство, которому он не доверял. Изобретение приняли, но он за то, что действовал не по правилам, не получил за него ничего, кроме неприятностей.
В общем, он очень жаловался. На мои попытки его образумить, внушить ему, что я за мое короткое тюремное и лагерное житье видел много такого, что заставляет ему завидовать, он только покручивал головой и повторял: «Всё унистожено, всё унистожено...» Это сказывался его «белорусизм». Мне он советовал добиваться, чтобы меня вывели к ним на Мерзлотку. «Как только вы к нам придете, я вас моментально устрою. Нам там во как нужны образованные люди. Там у нас литература валяется на иностранных языках, может и важная, а поглядеть и перевести некому». Я загорелся. «Но как же мне туда к вам выйти?» Вот тут-то и оказалась загвоздка. Начальство ко всему безразлично. Лагерные офицеры - им, кроме водки, ничего не надо. Скажет «да, да, обязательно», — а сам ни черта не сделает. « Пойдите к нарядчику, попросите вывести вас на один день для переговоров. Скажите, что вы со мной в контакте, что вас там ожидает конкретная работа...»
Я пошел. Нарядчик оказался грубым и на редкость неприятным типом полууголовно го вида. Он даже и головы на меня не поднял, что-то пробурчал нечленораздельное. Понять можно было только: «Ладно, копай, копай...»
Прошел день-другой, меня на Мерзлотку' не занаряжали. Мой инженер посоветовал мне сходить к начальнику ОЛПа. Опять начальство? Я уже познакомился с ним на 25 шахте. Но ничего другого не оставалось. Начальник — капитан, пожилой человек, с безличными, какими-то характерно эмвэдэшными чертами лица и повадками. Выслушав меня, он сказал: «Хо198
рошо, будет дана команда». Но прошло еще несколько дней, а команды никакой подано не было. Я еще раз от отчаяния отправился к нарядчику: «Почему меня не выводят на Мерзлот- ку?» На этот раз он ответил вполне отчетливо: «Команды нет, понял?» Я понял только, что слова начальства й тут ничего не стоят. Скажут только, чтобы отбрехаться, заведомо обмануть... Я решил прекратить эти попытки. Глупо же, наконец... Будь, что будет...
А положение мое в бригаде вдруг неожиданно осложнилось. Во-первых, несмотря на конец марта, морозы крепчали. Утром и вечером доходило до 40°, а то и ниже. Иной раз они еще сопровождались ветром. Это становилось уже совершенно невыносимо. Однажды я кидал снег, легко помахивая лопаткой, как вдруг у меня около правого плечевого сустава точно что-то оборвалось, даже как будто с легким треском, и я почувствовал острую, непрекращающуюся боль. Думал — пройдет, не тут-то было. Болело, даже когда и не двигал рукой, а каждое движение сопровождалось очень острыми болевыми ощущениями. Что случилось? Я не мог этого понять. Растяжение сухожилия? Странно. По возвращении в лагерь пошел в санчасть. Посмотрели. «Миалгия, — сказал мне фельдшерок. — Грейте соллюксом1». И он указал мне на яркую лампу на высоком штативе, которую они, как и все лагерные электролампы, никогда, видно, не выключали. А я-то надеялся денек отдохнуть. Не тут-то было. Сел под соллюкс. Погрел минут десяток. Стало очень тепло, немного полегчало, но как только сеанс прекратился, болезненные ощущения возобновились. Внутри у меня все дрожало от холода. Пообедав, я сразу же улегся, стараясь согреться, но это мне так и не удалось, покуда я не уснул. Это был какой-то всепроникающий озноб, когда дрожит в тебе каждая жилка, каждая клеточка, мелкой-мелкой и непрерывной дрожью...
Уснув рано, когда еще почти никто, кроме меня, не ложился, я проснулся среди ночи. До меня доносились звуки поистине райской музыки. Сначала мне показалось, что это, если и не снится, то подымается из собственной души, а не приходит извне. Но когда я совсем освободился от сна, я понял, что это радио, которого за обычным шумом в бараке вечером почти не бывает слышно. А теперь — абсолютная тишина. Все спали. И откуда-то из-под потолка, из обычного репродуктора в виде 1 Соллюкс — лампа накаливания с рефлектором.
199
черного диска, который всегда имеет обыкновение хрипеть и сипеть, неслись чистейшие, свободные от всего постороннего, звуки рояля. Генрих Нейгауз играл Шопена и Шумана. Как и во время войны, я опять представил себе Большой зал Консерватории с его матово-серебрящимся органом, портретами знаменитых музыкантов в оконных простенках под потолком — всю его сухую, казенную неуютность, которая делала раздававшуюся в нем музыку особенно замечательной и проникновенной. Как будто бы и не было этого времени, когда я снова жил в Москве, ходил, как и прежде, в этот зал и реально пребывал в нем после галлюцинаций 1942 года, когда я просыпался в холодной избе, измерзший и издрогший за день, совсем как теперь, и слышал подобную музыку только в мечтах, но, вероятно, не менее остро и ярко, чем теперь по радио... Я уснул, не дослушав всей ночной программы, о чем потом горько сожалел утром. Когда еще снова выпадет такое же счастье?..
А на работе к ревматическим болям прибавились у меня еще и другие, тоже совершенно неожиданные неприятности. Среди нас был один не молодой уже — на вид лет сорока — и, как мне казалось, по всем повадкам очень типичный лагерный человечек. Он был очень шумен, говорлив, вечно ругался, вечно на что-то претендовал. Заметив, что я работаю не в полную силу, то и дело останавливаюсь из-за боли в лопатке, он принялся поносить меня на все корки: «Тут тебе не в Ленинграде с портфелем прохаживаться (видимо, он прибыл из Ленинграда), тут надо работать. Я тебя обрабатывать не буду, не обязан. У меня вон спина мокрая, а ты как на прогулочке — норовишь за чужой счет срок отбыть...»
Сначала я старался не обращать внимания на него, ничего ему на его истошные крики не отвечал, как не реагировали и все другие, не вмешивался и конвой. Но его мое молчание, видимо, только подзадоривало, он стал пристраиваться около меня и сопровождал своими причитаниями каждое мое движение. Внутри у меня все кипело. Боль в плече усиливала раздражение, я себя чувствовал как преследуемый зверь, совершенно не представляя себе, как бы я мог от этого человека избавиться. Перебраниваться с ним бесполезно, уйти некуда. Меня охватывало полнейшее отчаяние. Брань его в моих ушах возникала как что-то роковое и неизбывное, как наваждение, от которого избавиться можно разве только каким-либо очень резким усилием воли, каким монахи избавлялись от дьявольских наущений.
200
Доведенный в конце концов до полного отчаяния и готовый уже на все, как человек, идущий в лесу на зверя, как преследуемый зверь, оборачивающийся против охотника, я в полном исступлении поднял вверх свою лопату и закричал: «Пес смердящий! Отвяжись от меня, сатана...» Этот театральный прием как будто подействовал. Он остолбенел и как бы оторопел от этих непривычных для него слов. Он видел во мне явно некое бывшее советское начальство с портфелем, ненавистное существо легкой жизни, а перед ним вдруг предстал не то священник, не то сектант — нечто одинаково непривычное и непонятное.
Да кто-то из соседей, пожалев не то меня, не то его, буркнул со спокойной рассудительностью: «Смотри... у него двадцать пять, ему море по колено, двинет тебя лопатой по чердаку и освободишься с ходу...»
Тот, видно, понял, что в движение пришли какие-то силы, недоступные его пониманию и учету. Хотя не вдруг и не сразу, но он все же умолк. А через день или два нашу бригаду разбили на две, и в той половине, куда попал я, оказалась преимущественно одна 58-я и люди все пожилые, к тому же главным образом прибалтийцы. Общий тон стал сразу совершенно другим. Не слышно мата, никто никого не погонял, работали спокойно и втихомолку. Нас поставили на перестановку щитов противоза- носных заграждений, уже доверху занесенных снегом. Их надо было откапывать и укреплять на верхнем гребне сугробов.
***
Я перед каждым днем, как перед глыбой камня, Который надлежит дробить и волочить.
Во мне энтузиазм отчаяньем приправлен, И судорожный тик в плече моем стучит.
Скорее и полней свои истратить силы, Вложить себя в удар, в натугу и напор; Отдаться прямоте и абсолюту цели, Чтоб даром не пропал торжественный задор,
Чтоб силы не ушли в мечты и ожиданья, Не изошли тоской сомнений и надежд, Чтоб чувствовалась жизнь в сопротивленьи камня, Лежащего ребром на сдавленном плече.
Посоветовали мне еще поговорить с культоргом. Говорили — 201
хороший человек, художник, может быть, подскажет что-нибудь в отношении моего устройства...
Хотя я и не надеялся больше на чью-либо подсказку, знакомство с культоргом, да еще с художником по профессии, представилось мне заманчивым, и я направился в КВЧ, где застал только одного дневального.
— Культорг работает и на других ОЛПах — он ведь художник...
- Что же он картины, плакаты пишет?
— Этого не знаю, не видал. Пишет больше надписи всякие...
— Ах, вот он какой художник.
- Нуда, а вы думали?..
Я не стал распространяться о том, что я об этом думал. Дневальный дал мне газетку недельной давности — в качестве самой свежей, и я примостился в уголке.
— А вот он и сам... - Ко мне приближался человек довольно высокого роста. В движениях, хотя они были свободны, чувствовалась некоторая выправка.
— Вы ко мне? — И он остановился прямо передо мной. Я встал, откладывая газету. — Сидите, сидите. Передо мной стоять не обязательно — не такое еще большое начальство...
Сказано это было полусерьезно, но не без известного убеждения в собственной весомости. Охота с ним разговаривать как-то сразу отпала.
Когда я выходил из КВЧ, то обратил внимание на большое количество лозунгов и надписей — старых, выцветших и исполненных только что. На одном листе фанеры большими буквами значилось: «не снимай абожур»... Наверно, ни к чему убеждать его, что не так это слово пишется. Еще обидится...
Моя подлопаточная миалгия хоть и не проходила, но я к ней немного притерпелся. Аккуратно ходил каждый день после работы на соллюкс. Фельдшер утешал меня тем, что все пройдет, как только потеплеет. «А когда оно тут, на этой чертовой Воркуте, потеплеет? Мне говорили — бывают годы, когда и речка все лето подо льдом остается...»
Инженеры с Мерзлотки, убедившись, что меня к ним никак не занаряжают, утратили ко мне интерес, и когда я заявлялся по вечерам в их барак, уже не подымались мне навстречу и ни о чем 202
больше не расспрашивали. Не желая быть навязчивым, я сам перестал к ним ходить, потеряв при этом их полуинтеллигентную среду, и остался в своем бараке среди воришек и всякого другого уголовного элемента. Среди этих воришек один паренек привлек меня к себе тем, что он, видимо, как и юноша, прибегавший в изолятор, разочаровался в своей воровской карьере. В то время как другие занимались изысканием бумаги для изготовления карт и обсуждали все время, где бы им перехватить сук, сидевших в изоляторе, и учинить с ними побоище, он держался в сторонке и не прочь был чего-нибудь почитать. С этим вопросом он ко мне обратился сам, я постарался раздобыть для него у инженеров книжицу, на этой почве мы с ним и познакомились. 11аренек казался довольно веселым и разбитным, возбуждавшим симпатию многих из нашего окружения. Воришки относились к нему с любовью. Когда он на несколько дней лег по какой-то причине в больницу, а в это время выдали сахар, что в лагере, как я мог убедиться, происходило довольно редко, они, получив его порцию, отдали ее на сохранение мне. Он им платил искренней симпатией, но не было в нем ни того залихватства и разгильдяйства, которое отличает настоящих воришек, ни стремления и азарта в карточной игре. Как-то раз признался он мне даже и в том, что, мол, попробовал и будет - больше никогда не потянет его ни на воровство, ни тем более в лагерь.
По-настоящему страшновато для него, еще имевшего впере ¬ ди изрядную толику срока, могло стать то, что он был складен и миловиден — это привлекало к нему ребят постарше, чье поведение и устремления резко окрашивались физиологически.
Присоседился ко мне по не совсем понятным причинам еще один человек, совершенно другого возраста и пошиба. Откуда- то из-под Воронежа, какой-то торгово-административный работник в маленьком городке, где он обладал домиком и крепким хозяйством. Жил он с семьей, хотя детей, кажется, не было. Их заменяла любовь, или как он говорил «охота», к свиноводству. Но почему-то не сиделось ему спокойно, не устраивало его, видимо, то умеренное воровство, которое привлекает в торговую сеть значительную часть занятых в ней людей. «Привезли, - говорит, - как-то нам машину меду - бочек восемь. И вот мы его с двоюродным братом и хапнули». Однако хапнули, видно, крайне неловко. Он получил пятнадцать лет по 59 статье — вооруженный бандитизм, — но рассказывал про этот случай с явным удовольствием и, видимо, о происшедшем все-таки не 203
жалел и лагерной жизнью не особенно тяготился. Лет ему набежало уже пятьдесят с хвостом, но он чувствовал себя в полном здравии и не боялся физического труда.
Работал он тут, однако, некоторое время на кухне. Почему- то пришлось ему с этой деятельностью расстаться, но, видимо, без особенного скандала, так как связи свои он там сохранил и пользовался серьезными поблажками. Однажды, видимо для начала знакомства, он явился с кухни с миской очень жирной тушеной картошки, густо политой мясным соусом. У меня даже мурашки по телу пошли при виде такой штуки, но я наотрез отказался, так как совершенно не понимал его намерений — не знал, что ему собственно от меня нужно, — а кроме того, и попросту боялся ответственности за соучастие, так как это было, с моей точки зрения, явное воровство.
Как-то он спросил — пишу ли я домой. «Пишу, конечно, — ответил я, — да вот жена что-то мне до сих пор не отвечает, только мать пишет... ну, пишет, однако, будто бы всё там в порядке».
«Пиши, Андреич, пиши, — наставительно говорил он мне. — Они тебе, глядишь, посылочку подбросят...» Может быть, он имел какой-то прицел именно на посылочку, которую я, кстати, очень в это время ждал?
Но, видимо, никаких особенных прицелов у него все-таки не было. Нужды он явной ни в чем не испытывал, в поддержке не нуждался, с начальством отношения у него держались хорошие. Чувствовал он себя в связи со всем этим вполне сносно и говаривал: «А ведь я еще, Андреич, вполне способный человек. И работу могу какую угодно делать, и с женщинами...»
Сидел он, однако, уже порядочный срок, и оставалось, действительно, только удивляться тому, что он так приспособился к лагерной жизни.
При всех этих возможностях и физических данных он ходил, однако, вместе с нами на снег — работа, которая не сулила никакого путного заработка. К ней вообще относились с презрением и посылали на нее людей физически неполноценных. Когда я добивался у начальника ОЛПа вывода на Мерзлотку, со мной как-то заговорил один «гражданский» сотрудник управления лагеря. Гражданские лица тут были в общем все из числа отбывших заключение, да и вид у него казался довольно недвусмысленный - то ли жулик, то ли взяточник... «А почему 204
вы, собственно, от добра добра ищете? — спросил он меня. — Работа-то ведь ваша — не бей лежачего...» Я тогда с горечью подумал, что даже и эта, самая легкая физическая работа мне в тягость, не столько, впрочем, сама по себе, как из-за очень морозной погоды да из-за разных привходящих обстоятельств.
И все же я недельки через три стал постепенно в эту жизнь на свежем воздухе втягиваться. Перестал очень страдать от холода. Работал вместе с бывшим свиноводом, и он заражал меня своим спокойствием, ленивым ритмом своих движений, тем, как эти движения ему легко доставались — точно в чижика играет... И на лице его при этом написано полнейшее добродушие.
Но человек он был недобрый — мне в этом как-то пришлось убедиться, наблюдая его совершенно несерьезное столкновение с каким-то неповоротливым латышом. Тот стал так, что очень мешал моему приятелю и задевал его ручкой своей лопаты. Этому подвинуться некуда, а латыш из какого-то упрямства или непонятливости уступить не захотел. Тогда мой приятель, гак же легко, как и все, что он делал, применил к нему силу с приговором: «Мало будет, так я еще тебя лопатой по черепу садану — сразу Эстонию свою увидишь...» Лицо у него при этом сделалось очень злое и хищное. Латыш пробурчал в ответ весьма недовольным тоном что-то совершенно непонятное.
Незадолго перед этим познакомился я еще с одним человеком. Мне его рекомендовали как пропускника, могущего свободно двигаться по Воркуте и бывать, где захочет. «Он мог бы от вашего имени поговорить с каким-нибудь начальством», — советовали мне. «А что это вообще за человек?» — осведомился я. Этого мне толком объяснить не сумели. «Человек хороший, серьезный», — вот и все, чего я мог добиться. А застать его оказалось нелегко — всё то время, когда его можно было бы повидать, то есть до самого отбоя, он обычно проводил за проволокой, возвращался поздно. Довольно долго мне так и не удавалось его поймать. И вот, этот человек оказался передо мной и сам ко мне обратился. Назвал себя Ризаевым — азербайджанцем по происхождению, чего в нем почти совершенно не ощущалось. Говорил он на чистом и абсолютно грамотном языке, в прошлом жил в Москве и находился на партийнопреподавательской работе. Десятку свою получил по какому-то совершенно бессмысленному поводу, и это обстоятельство по- способствовало резкой перемене его мировоззрения. «Дотого,— говорил он, — я был очень партийно-верующим. Потерял эту 205
веру уже здесь, убедившись в том, что никаких законов у нас не существует... То есть законы-то существуют, но заставить их действовать правомерно невозможно. Действуют не законы, а какие-то нигде не зафиксированные порядки, меняющиеся к тому же разными неисповедимыми способами».
Он уже досиживал срок, давно обладал пропуском и работал на бычке (менее прихотливые бычки заменяли на Воркуте не уживавшихся там лошадей). Воришки называли этих бычков Му-2, видимо перефразируя популярное тогда наименование советского легкового автомобиля М-1. Он возил почту и исполнял всякого рода другие поручения, связанные с применением этой тягловой силы. Все шло нормально, как вдруг на 46 ОЛПе стало неблагополучно с вывозом нечистот, чем занимались другие пропускники, работавшие на таких же бычках. Начальство решило и его заставить по совместительству возить нечистоты или, как говорили, «фекалий», но он по непонятным для начальства мотивам отказался. Тогда его лишили пропуска и послали работать к нам в бригаду. Он к этому отнесся совершенно спокойно, будучи уверен в том, что начальственный гнев пройдет и что человека, обладающего правом на пропуск, да еще при этом не уголовника, способного с этим пропуском тут же пуститься воровать или грабить, не смогут долго держать втуне. Он не ошибся. Вместе мы пробыли только недели две, но это были весьма для меня приятные недели разного рода интеллектуальных бесед. Ризаев оказался совершенно свободен от каких бы то ни было партийных шор — лагерь на сей раз повлиял благотворно, выправил его и вытравил из него все ложное или напускное. Он был широко образован в области социологии, но интересовался также и художественной литературой, не утратив этого интереса и в лагере, пытаясь следить за нею, используя довольно случайные возможности, предоставляемые воркутинскими лагерными библиотеками. Мне было особенно приятно, что мое имя оказалось ему знакомо по небольшим и довольно случайным рецензиям, каюде я печатал в начале 30-х годов в журнальчике «Литературный критик». Разговаривая на литературные темы, предаваясь воспоминаниям об идеологической жизни 20-х и 30-х годов, мы с ним обращали наши рабочие часы в удивительный клуб, не замечая, как они проходят, сожалея о том, что солнце клонится к вечеру и надо уже возвращаться в лагерь. Я теперь выходил из лагеря с удовольствием, тем более что дни стояли солнечные, 206
безветренные, и мы даже довольно порядочно загорели за это время.
Было уже начало апреля. На солнышке иногда подтаивало. Снегопады прекратились, бураны тоже. Работа нашей бригады теряла уже свой смысл. Заградительные щиты, которые мы вырывали из-под снега и укрепляли на гребне сугробов, больше становились не нужны. Однажды вечером после работы нам объявили, что бригада расформировывается и та ее часть, в которой снова находился я, состоявшая преимущественно из молоденьких ребят-воришек, назначается для погрузочно- разгрузочных работ на перевалочную станцию, где производилась перегрузка с узкоколейки на широкую колею и обратно.
Мои воришки этому необычайно обрадовались. Им такая работа сулила общение с «вольняшками», через которых добывались всяческие запретные блага. Кроме того, нас посылали почему-то не днем, а в ночь. Это обстоятельство добавляло им удовольствия. Я же почувствовал облегчение в том отношении, что воришки вообще работали мало, больше сидели в обогревалке у печки, пили чифирь (чай для его приготовления они раздобывали через «вольняшек»), а напившись, предавались всякого рода буйным радостям — бегали с шумом и гиканьем по территории «перевалки», играли в какие-то игры, предавались «любви». Работа же состояла преимущественно из перегрузки гравия, или как тут говорили «гравера», с платформ на землю и с земли на платформы, чем я и занимался полегоньку и почти всегда в одиночестве. Мне в этом не мешали — все-таки вид такой, что кто-то работает, но меня никогда и не понукали.
Бригадиром у нас был парнишка из тех же воров, но постарше, кажется даже со средним образованием. Ко мне он относился с некоторым почтением. «Ты у нас, Андреевич, как старший блатной», — шутил он, и мне эта шутка даже нравилась - я и сам себя стал так называть, когда меня спрашивали посторонние люди — заключенные или вольные — кто я такой и что тут делаю.
Не знаю уж какими судьбами, но только и мой «свиновод» через несколько дней тоже оказался в нашей бригаде. Ему, может быть, по каким-то причинам не хотелось расставаться со мной - не берусь об этом судить, как-то я в эту сторону дела не очень вникал, но только он явно пытался использовать меня 207
в качестве своего напарника на работе. Попытка эта потерпела неудачу, и пришлось ему от меня отступиться. Он было все агитировал за то, что мы должны с ним вдвоем брать на себя платформу гравия, которую надо разгрузить ровно за три часа. И что это нам сулит довольно порядочный заработок, особенно, если за смену нам доведется разгрузить по две платформы. Я, совершенно не представляя себе, что это такое, легкомысленно согласился. А когда подали платформу и мы, разместившись по разным ее сторонам, стали скидывать гравий, я тут же увидел, что дело идет у напарника куда быстрей моего и что мне, вероятно, в положенное время ни за что не очистить свою половину платформы. Так оно и получилось. Несмотря на то, что закончив свой урок, он сбросил что-то уже и с моей половины, оказалось, что в три часа с таким как я помощником никак нельзя уложиться. Подошел паровоз и потащил немного недоразгруженную платформу за рабочую зону. Напарник мой кричал, уговаривал машиниста повременить и брать покуда другие платформы, но тот настаивал на чем-то своем, и труд наш по здешним правилам пропал даром. Деньги, как объяснил мне напарник, пришедший уже в совершенное отчаяние, будут начислены тому счастливчику из «вольняшек», кто несколькими взмахами лопаты дочистит уже почти полностью разгруженную нами платформу.
На этом наш трудовой союз и прекратился. Я опять предоставлен самому себе и кидаю помаленьку тот же гравий, только уже без всяких надежд на какой бы то ни было заработок... Свиновод, однако, не перестал водиться со мной на бескорыстной почве. Он находил что-то в моих беседах и находил во мне слушателя, когда предавался воспоминаниям. Однажды только мелькнула у меня мысль, что он после нашей производственной неудачи остался не совсем бескорыстен. Посетовал однажды как бы невзначай на то, что я здесь уже давно, а еще не получил ни одной посылки из дому... Но я отнюдь не был уверен в том, что у него существовали какие-либо расчеты на эти воображаемые посылки. Во всяком случае, являясь лицом заинтересованным, сколько я его к тому времени себе представлял, он должен бы действовать гораздо активней по части внушения мне соответствующего поведения в отношении моих родных. Из нашей бригады он перешел в другую, работавшую за зоной по ремонту каких-то лодок. Работа, по его словам, очень легкая: «Как печенье перебираешь... Собри- 208
гадники частенько перекуривают, — сам-то он не курил, — ну прямо дремлется, Андреич», — приговаривал он не без явного желания возбудить во мне зависть.
Посылка действительно довольно долго не приходила. А я-то надеялся, что мне станут присылать из дому хотя бы раз в месяц, как я просил, немного жиров и сахару - то, в чем люди здесь больше всего нуждались. Я очень настойчиво просил не посылать ничего лишнего — в особенности ничего такого, что одним своим домашним видом могло усиливать во мне тоску по невозвратно утраченной жизни. Но прошло уже значительно больше двух месяцев по получении первой посылки — стоял уже далеко зашедший апрель, и ничего мне не присылали. Я уже стал подумывать, что посылка могла попасть на 43 ОЛП и там какими- нибудь неправдами, на которые в лагерях люди очень горазды, осесть. Или, может, думал я, бродит по разным лагпунктам Воркуты в поисках меня... Тем более, что я стал свидетелем, как один человек получил наконец долго блуждавшую за ним посылку, и в ней, кроме какой-то гнилой трухи, ничего уже не было.
Хотя весна все решительнее вступала в свои права и днем снег бурно таял, по ночам, когда мы работали, морозы временами достигали порядочной силы, а по небу пробегали лучи северного сияния. Именно здесь наблюдал я одно из красивейших сияний, когда его отдельные части, быстро перебегая с места на место, вдруг собирались на какой-то момент в середине небесного купола, образовав сказочный шатер, переливавший разными оттенками радуги. Редкостное зрелище, которым Воркута платила мне за все горести и невзгоды.
Мы на перевалке работали по ночам, а в дневное время выходили всё еще жившие в изоляторе суки. Наши воришки, державшиеся первоначально спокойно и никак на них не реагировавшие, постепенно стали приходить от незримого соседства сук в возбуждение. В обогревалке они обнаружили следы того, как суки занимались изготовлением из толстых железных прутьев колющего оружия — так называемых «пик» — чего-то вроде больших заостренных клиньев. Один экземпляр такой испорченной пики был ими тут же обнаружен. Они восприняли это как подготовку к нападению и в свою очередь начали строить агрессивные планы. Жить рядом с суками и не попытаться их убить представлялось им, должно быть, несовместимым с их воровским достоинством.
Мы иногда встречали этих сук по дороге на работу, когда 209
те возвращались с работы, - всё ражих и дюжих парней, не то что наши заморенные, тщедушные воришки. Встречи эти сопровождались потоками взаимных угроз и самой невероятной брани.
В особенности сознание того, что суки готовят оружие для нападения на них (в действительности же они изготовляли его, вероятно, с оборонными целями), приводило моих воришек в неистовство и толкало к тому, чтобы предупредить нападение со стороны сук собственным нападением. Однажды стало известно, что между суками в производственной зоне произошла драка и один из них зарубил другого топором. Это тоже произвело ажиотаж среди воришек. Событие обсуждалось с необыкновенным злорадством, а когда труп убитого санитары протащили на носилках в стационар на предмет вскрытия, то все воришки столпились на их пути и сопровождали процессию радостными возгласами: «Досрочно освободился! Вот бы так они все друг дружку потюкали...»
Воришки готовились к нападению на сук чрезвычайно серьезно. Я не видел, чтобы они тоже занимались отковыванием оружия, - видимо, они в этом не нуждались, и ножи у них у всех имелись наготове. Они тщательно со всех точек зрения выбирали место, где им удобнее всего было бы броситься на сук при встрече с ними, в пространстве между зонами, так, чтобы те не могли занять более выгодную позицию или разбежаться и чтобы конвою было неудобно вмешаться. Когда они наконец пришли между собой к соглашению в отношении места, один из тщедушных и молоденьких воришек, игравший, однако, в этой подготовке роль заводилы и организатора, решительно сказал, обращаясь ко всем прочим: «Вот на этом самом месте мы их и покончим...»
Я посмотрел на его лицо. Оно меня поразило своей отчаянной решимостью. Его исказил страх перед необходимостью убийства, которое представлялось этому юноше совершенно неизбежным. Именно глядя на его удивительное, совершенно еще детское во многом лицо, но полное ужаса смерти, я понял страшный смысл непреклонной борьбы между ворами и суками. Понял также и то, что нападающей стороной являлись воры, а не суки. Те принуждены только обороняться, и эта оборона, видимо, была безнадежно обречена на неудачу, если уж даже такие полудети, лишенные при этом какого-либо руководства со стороны воровских заводил, о которых я покуда 210
еще только слышал, совершенно готовы на такое страшное действие, грозившее им многими бедами, равно в случае поражения или успеха. Такая драка неизбежно должна повлечь за собой лагерный суд и увеличение наказания - у некоторых оно не превышало двух-трех лет — до двадцатипятилетнего срока.
Пошли разговоры о том, что подготовляется этап на Кож- ву. Станция Кожва на реке Печоре, почти у самого железнодорожного моста через эту реку, служила перевалочным пунктом для леса, сплавлявшегося вниз по реке и подымавшегося сюда снизу на баржах, с воды на железную дорогу. На Кожве имелся большой лесорейд с десятком лесотасок для подъема бревен из воды и раскатки их в длинные и высокие штабеля по сортам: шпальник, пиловочник и рудстойка, а из штабелей — в железнодорожные вагоны. За лето должен был создаваться такой запас леса, чтобы его хватило на всю зиму для отправки на Воркуту и в самые разнообразные южные адреса.
На Кожве имелось лаготделение, включавшее в себя несколько лагпунктов. На Воркуте многие с вожделением говорили о Кожве. Там совсем другая жизнь: кругом леса, большая река. Совсем не тот воздух, что на Воркуте, но зимой морозы, пожалуй, еще и покрепче, хотя Кожва южней Воркугы километров на четыреста. Там более легкий режим — ни каторжан нету, ни режимников, а преобладают уголовники и бытовики. 58-я — преимущественно с небольшими сроками. Наконец, на Кожве женщины, общение с которыми на Воркуте сделалось совершенно невозможным уже на протяжении нескольких лет.
Я вспомнил, что слышал подобные россказни еще на 25 шахте. И только украинский актер рассказывал об этой Кожве, где он прожил года два или три, без всякого восторга. «Выкатка леса — это самая тяжелая работа. А зимой погрузка леса в вагоны, пожалуй, ничуть не легче. А другой никакой работы там нет. В придурки с нашими сроками не берут. Здесь на Воркуте мы можем в КВЧ работать, дневалить наконец, а там все эти удовольствия только для бытовиков — 58-ю и на выстрел к лагерным должностям не подпускают».
Все это я вспомнил сейчас, когда начались разговоры о том, что суки останутся на ОЛПе, а воров отправят на Кожву. Неужели меня тоже снова отправят? Я уже свыкся с тем, что меня повсюду гоняют с этими воришками.
Подтверждением слухов об этапе могло служить и то, что 211
работой нашей бригады начальство совершенно перестало интересоваться. С лопаткой на гравии оставался чуть ли не один только я, а воровская ребятня находила для себя другие занятия. Например, лазили на вагоны где-нибудь поближе к проволоке, чтобы поглазеть на проходящих по дороге людей. Вышки с часовыми находились на большом расстоянии друг от друга, так что охрана не имела возможности препятствовать подобному времяпрепровождению. В конце апреля ночи почти уже не было. Выходили мы на работу в 11 часов вечера, но почти при дневном освещении. Так что видно было все очень хорошо. Вот залезет парнишка на вагон и начинает орать какой-нибудь проходящей мимо женщине: «Гражданочка, гражданочка... ну постой, голубушка, очень нужно, ей-богу!» Та, наконец, не выдержит, остановится и оглянется. Тогда паренек с невозмутимым видом машет ей досадливо рукой: «Не вас, не вас, тоже подумаешь...» И доставляет ему это огромное удовольствие.
А то затевают какую-нибудь куплю-продажу с «вольняшками», которых и днем и ночью немало на перевалке. А то начинают ловить бродячих собак, до мяса которых воришки были большие охотники. Или просто подымут какой-нибудь очередной «хипеж» (скандал, шум) для своего полного удовольствия. Так, конечно, долго продолжаться не могло. Это даже и мне становилось ясно.
Не могло уже хотя бы по одному тому, что это состояние сделалось для меня временем замечательной внутренней свободы. Я подолгу оставался один, совершенно предоставленный самому себе. Наблюдал не без интереса все, что происходило вокруг меня; во время этих неожиданных досугов писал стихи. Вернее, я за это время придумывал темы, делал в уме предварительные наброски, а писал в бараке, по возвращении в лагерь.
Долой войну
Я мало видел в жизни промелькнувшей. Шедевры древности, чужих народов быт Остались за пределами послушной Суровым обстоятельствам судьбы.
Я видел только дымы и разгромы, И грезил сны под пулеметный тик, Скитаясь без надежды и без крова, Был перед смертью смолоду старик.
212
И ненависть к войне во мне созрела Совместно с отвращением к рукам, Ведущим нападенья и обстрелы По жизни расцветающим росткам.
***
Перед глазами строгая гравюра: На углистых откосах мертвый снег, Местами серый, а местами бурый, Пожухлый и истонченный на свет.
По этим черным или серым пятнам Коробочки белесые домов;
Их линии за далью аккуратны, Весь строй пейзажа в плане их рядов.
Они на дальнем берегу долины, Открытой широко и глубоко, Богато наполняющей картину Пространством и объемностью веков,
Пошедших на гигантскую работу Перетасовки масс тяжелых глин, Чтоб стала ощутимее свобода Просторов мира, шири и глубин.
Дружба
Мы подружились с двумя паровозами, Нам подававшими щебень и лес, Любим машин этих с дымными косами Хлопотно-бесперебойную спесь.
Мысль, опираясь на прочную истинность, Их создала из подобий живых,
А потому, как рысистую выспренность, Мы принимаем их пламенный дых.
Глядя на них, познаешь психологию Происхождения «Берт»1 и «Катюш» —
1 «Берта» — крупнокалиберное немецкое орудие.
213
Этой чудесно-наивной условности Вывода в свет механических душ.
Мы ощущаем сердец их движение, Слышим их голоса радость и грусть, Воспринимаем их стук, нетерпение Как проявленье характерных чувств.
В этом особенность нашего мышленья, Сила и слабость природы людской - Мы награждаем повадкой и смыслом Познанный числами мир неживой.
И в дерзновении к высшему, лучшему С помощью ловких и дружных машин Верим мы в их напряженную душу, Терпим их шум, и капризы, и дым.
В лагерь нас приводили под утро, по часам, но на дворе уже опять был белый день. Самое темное время, не темнее ленинградских белых ночей, продолжалось с часу до трех. Возвращался я вовсе не утомленный и все время до подъема и завтрака легко проводил без сна за писанием, покуда другие спали, а спать укладывался сразу же после завтрака и спал до обеда. После обеда и до выхода на работу опять было довольно много свободного времени, которое делить мне тут оказывалось совершенно не с кем, не считая свиновода, который, впрочем, перейдя в другую бригаду, тоже от меня понемногу принялся отставать. К Ризаеву я должен был сам ходить в гости. Он опять вернулся к своему бычку и проводил все свое время за зоной, так что я иногда уже почти что перед самым нашим выходом на работу (и перед отбоем для всех работавших днем) - в десятом часу вечера - встречал его прямо у лагерных ворот. Он погонял своего бычка, впрочем очень его жалеючи, с лирическими отвлечениями: «Ну, давай, миленький... Бедняга ты, бессрочник. У меня-то, по крайней мере, срок есть...»
Он, впрочем, не очень-то верил в реальность и своего срока. У него, как и у меня, не судебный приговор, а решение Особого совещания, которое очень легко могло быть пересмотрено в смысле продления срока, что очень нередко происходило... Я шел обычно за ним в барак. Он усаживался за остывший в котелке обед, и мы с полчаса о чем-нибудь беседовали. Но ходил я к нему далеко не каждый день.
214
Наконец, мне и сюда пришла посылка: две пачки сахару, порядочный кусок сала, такой же кусок масла. Очень вкусные чайные сухарики... Я за все время, истекшее от получения первой посылки, опять порядочно изголодался. Посылку можно было оставить в камере хранения. Я было этим воспользовался, но тут сразу же сделалось известно, что наша бригада завтра уходит на этап... «Едем на Кожву», - говорили все в один голос. Мне подавались самые разнообразные советы: «Постарайтесь там закрепиться (как будто бы это от меня могло хоть в какой-то мере зависеть)... Поживете там до зимы, потом вас привезут обратно, и снова попытайтесь устроиться где-либо на Воркуте...»
На сей раз к моему грузу прибавилась еще и новая посылка. Я насилу добрался до пересылки со здоровенным мешком (на спине у меня висел еще присланный в этой же посылке очень хороший рюкзак)...
Воркутинская пересылка
Погода уже совершенно весенняя. Слежавшийся снег на дороге хотя и крепче, чем на ее обочинах, но и он уже перемешан с глиной. Идти еще труднее, чем зимой. Дошли все-таки. На пересылке все было так же, как и осенью. Только народу тьма тьмущая. Все бараки забиты. Нас размещали побригадно, так что я оказался вместе со своими воришками, которые, впрочем, тут же соединились с какими-то другими - их приятелями, прибывшими с разных ОЛПов. В том месте, которое нашей бригаде отвел дневальный барака, я вскоре остался один. Рядом со мной расположился какой-то довольно симпатичный паренек, работавший, как он сказал, мотористом на шахте. Был он горьковчанин, бытовик, но явно никакой не преступник — «указ- ник», как и многие другие. Он бросил свой мешочек рядом с моим обширным багажом, который он мне тут же посоветовал отнести в камеру хранения. Но, во-первых, у меня сохранились недобрые воспоминания об этой камере еще с зимы, когда мои пожитки там явно перерывались, одни изымались, подсовывались другие... Кроме того, мне казалось, что, может быть, это не имеет смысла еще и потому, что нас скоро должны ведь отправить дальше. Во всяком случае, я решил пойти посмотреть, что там в этой камере делается — может в ней при таком количестве народу на пересылке и места-то никакого нет?
215
Выйдя из барака, я решил прежде всего немного осмотреться на пересылке, где теперь все гораздо более доступно взгляду, так как растаяли огромные снежные сугробы, между которыми зимой тонули бараки. Вот стоит небольшое, довольно чистенькое здание, как бараки оштукатуренное и обмазанное известью. Что бы это могло такое быть? Подхожу поближе и догадываюсь - кипятилка. У ее двери стоят два человека хотя и явно лагерного вида, но одетые не в казенную, а в свою одежду. Один из них, обращаясь ко мне и кивая головой, как знакомый, говорит: «Эй, инженер, поди сюда». Я подхожу и силюсь узнать человека. Он-то меня, видно, знает?.. «Я с тобой давно шапками поменяться хотел...» Ни слова больше не говоря, один из них сдергивает с моей головы шапку-ушанку — самую простенькую, только что довольно еще новую, и нахлобучивает на меня свою — какую-то рыжую, потрепанную, но тоже не лагерную. «Ну, вот и все...»
Я оторопело гляжу на человека: зачем он это сделал? Пошутил? Хочет таким образом завязать знакомство? Но они оба меня уже и не замечают, а продолжают обсуждать что-то, употребляя всякие непонятные мне выражения. По всему видно, что они совершенно уверены в своем поступке. Пойти заявить об этом начальству? «Да ну ее к свиньям, эту шапку... Пропади она. Может, мне еще и эта-то не понадобится?» До того тревожно и бесприютно стало сразу у меня на душе. Мир, в котором мне, наверно, совсем невозможно жить. К которому не привыкнешь и не приспособишься... Ни слова не говоря, я пошел прочь, на что они как будто не обратили ни малейшего внимания.
Я уже забыл, зачем и куда шел, и поворотил обратно к своему бараку. При входе меня остановил ражий, краснощекий парень. Начал он с улыбкой и вежливо: «Садись на минутку, я тебе что скажу... Слушай, у тебя, говорят, деньги есть? Отдай их сразу мне, все равно их у тебя отнимут...» Я поглядел на него с удивлением. Еще новость. Оказывается, я тут в центре внимания. «Какие деньги? У меня уже скоро год, как ни одной копейки в кармане не было... И что это вообще за манера — останавливать человека и как на большой дороге требовать у него деньги. Постыдитесь, я такой же заключенный, как и вы...»
Но мои увещевания не произвели впечатления. Он их даже не слушал, а продолжал твердить свое. Впечатление было такое, будто он повторяет какую-то заранее ему известную и уже не раз произносившуюся тираду. Я вспомнил при этом систему 216
и манеру моих следователей в Москве, без конца повторявших, почти как попугаи, одно и то же. «Вот она откуда идет, эта система», — подумал я. А вор, между тем, уже и не стремясь сохранить этот разговор между нами, кричал мне: «Так вы воров не уважаете? От сук набрались наглости? Вижу теперь хорошо, чем вы дышите...»
Я только позднее убедился, что каждая из этих фраз находилась в числе наиболее заезженных воровских выражений в арсенале обращений и угроз фраерам. «Мы знаем, чем вы дышите...» - повторил он. Я не понял тогда переносного смысла этого выражения. «Чем дышу? Тем же, чем и вы... Той же лагерной вонью», - ответил я ему. Он не понял в свою очередь и как бы немного оторопел. Я не стал дожидаться возможного продолжения этого разговора и пошел на свое место. Там встретил меня с озабоченной физиономией мой новый друг - паренек, расположившийся рядом со мной: «Ворята к твоему мешку подбираются...» Я ничего ему не ответил. Мне это все начинало уже осточертевать. Вот, небось, к его мешку никто не подбирается. Весь и мешок-то у него в кулаке поместится. «В лагере нельзя и не нужно ничего иметь», — думал я. Надо на все это наплевать. Не думать обо всей этой гадости. Я вытащил из мешка рюкзак, в котором вместе с содержимым последней посылки упаковал письма из дому, стихи и писчебумажные принадлежности... Я решил перечитать последние стихи, писанные на 46 ОЛПе. Я их еще не перечитывал все вместе. Мне хотелось почувствовать — можно ли их воспринимать как цикл. Я положил рюкзак по другую сторону от себя и, покуда рылся в нем в поисках блокнота со стихами, услыхал препирательства с кем-то моего соседа. «Ну и куда ты лезешь, подлюка, — тихо, но решительно говорил он. — Не видишь, что ли, человека?» Я обернулся. Совершенно беззастенчиво в моем мешке рылся один из наших воришек, так, как будто он уже делал это не в первый раз. В движениях его не было ничего «воровского», скорее наоборот, было нечто совершенно уверенно-хозяйское. У меня уже и язык не поворачивался, чтобы его ругать или с ним спорить. Я просто протянул руку и схватился за верхнюю часть мешка, стараясь оттянуть ее к себе. Воришка, однако, не оказывая мне большого сопротивления, продолжал держать свою руку в мешке, стараясь приспособиться к его новому положению. А я все тянул мешок к себе. Покуда это происходило, я вдруг почувствовал, что кто-то тянет в сторону мой рюкзак, 217
на котором лежала моя другая рука. Повернув туда голову, я увидел, что другой воришка тянет за лямку свой рюкзак. Так как я мог удерживать его только левой рукой — правой я старался притянуть к себе верхнюю часть вещевого мешка — то рюкзак у меня с большой легкостью вытянули.
Я пришел в неописуемое бешенство. Схватив свой мешок обеими руками и отстранив от него воришку, который, впрочем, и сам уже готов был ретироваться, я сбросил мешок с нар, вывалил на пол его содержимое и заорал истошным голосом. Крик мой переходил в хрип: «К чертям! К чертям собачьим. Забирай всё, сукины дети... Чтоб я ничего этого больше не видел».
Через несколько секунд с нар раздался спокойный голос: «Ты, отец, не психуй, не швыряйся. Что нам надо, мы и сами возьмем...»
С другой от меня стороны раздавался досадливый голос моего нового приятеля: «Ну зачем вы так это? Они бы порылись, порылись, ну взяли бы чего-нибудь. А остальное бы вам осталось. Воры — они не без соображения». — «Ничего не хочу. Ничего не надо. Видеть не могу все это барахло...»
Между тем, вещи с полу и самый мешок быстро исчезли. Я немного поуспокоился и тут заметил, что вместе с рюкзаком исчезли письма и письменные принадлежности. Я закричал на весь барак: «Прошу не уничтожать письма и писчую бумагу, мне это нужно...» Через некоторое время откуда-то сверху на пол сбросили рюкзак. Я его поднял и убедился, что письма, бумага и конверты целы. «Слава богу, больше мне вообще ничего не нужно», — подумал я и с облегченной душой сунул себе пустой рюкзак под голову. Дело уже было к вечеру. Впечатления этого дня меня утомили. Волнение и раздражение, испытанное мной, сменилось удовлетворением по поводу того, что ко мне вернулись мои самые большие драгоценности — письма из дома, стихи тоже при мне. Я моментально и, видимо, очень крепко уснул.
Сквозь сон я слышал будто какой-то шум, какую-то возню и стоны...Кто-то прикасался ко мне, точно стараясь поднять меня и передвинуть в другое место. Но я не реагировал. Я не мог и не хотел реагировать ни на что. Всё во мне было внутренне сковано, как склеено. Я продолжал спать, не отдавая себе в секунды полусна отчета в том, что вокруг меня происходит. Мне хотелось и было необходимо только спать и спать...
Проснулся я наконец в довольно уже позднее время. Сосед 218
мой сидел, обняв руками колени и глядя перед собой: «Поработали здорово воры-то...»
Я невольно повернулся в направлении его взгляда. Но все казалось тихо, спокойно, барак еще спал. Мне уже спать больше не хотелось, и я сел. Оглядевшись толком, я понял, в чем дело. Весь пол в бараке усыпан мусором. Повсюду валялись обрывки бумаги, какие-то тряпки, битые очки, тесемки, веревочки, коробочки и прочий вздор... Стало понятно, что покуда я спал воры произвели всеобщий шмон и всё, что только можно у фраеров взять, было изъято. Всё ненужное ворам — выброшено. Валявшиеся на полу остатки не нужны уже никому.
Барак понемногу просыпался, и началось обсуждение происшедшего. На наших нарах, шагах в двух, обретался техник из барака специалистов 46 ОЛПа. Он, хотя лицо его было еще заспано и измято, довольно оживленно комментировал ночные происшествия, перемежая их какими-то воспоминаниями о том, как подобные же вещи на его глазах происходили в других местах. Опыт у него, видимо, довольно порядочный, а манера выражаться такова, что, несмотря на его техническое образование, выдавала вполне его принадлежность к здешнему лучшему обществу. Лексикон этого общества, во всяком случае, доступен ему в совершенстве. Оживленно бегал по бараку высокий юноша, довольно приятного вида, в одежде, напоминавшей какую-то спортивную форму - то ли лыжник, то ли конькобежец... «А мне, ребята, — говорил он, обращаясь к кому-то с внутренним подъемом, вызванным ночными впечатлениями, — мне ведь все равно -- я и с ворами, как вор...»
Что он этим хотел сказать, мне осталось не совсем понятно. Впрочем, и не интересно. Я не вдумывался. Все эти блатные истории и порядки начинали мне очень претить. Романтики в них никакой я не чувствовал.
Потом я увидел, как все мои воришки плюс еще какие-то — в общей сложности человек пятнадцать — уселись за большой стол, стоявший посреди барака, и, выложив на него содержимое моей посылки, принялись завтракать. Сало заедалось сахаром. Я сидел голодный и глядел на эту процедуру, впрочем, без всякой злобы. Слишком уж невинные и уверенные в правоте всего происходившего были у них при этом физиономии. Замелив меня, кто-то из них сказал: «Аты, батя, если есть хочешь, садись с нами, мы тебя теперь считаем за своего...» Я поблагодарил за доверие и приглашение, но есть отказался: «Что-то не хочется...» Уговаривать меня они не стали.
219
Пересылка нас еще ничем не кормила. Действовал сухой паек, выданный нам на 46 ОЛПе и тут же уничтоженный. Но сегодня для нас уже должен вариться обед.
В столовой царил ажиотаж. Блатники, и постарше и помоложе, пытались устанавливать контакты непосредственно с поварами. Просьбами, угрозами у них требовали какой-нибудь еды. С важным видом по помещению прохаживался чернявый молодой человек в каком-то чудноватом костюме цвета хаки, одновременно и щегольском и замызганном. Физиономия его не скрывала выражения презрения и наглости. «Ну и сука же этот зав. столовой, — то и дело раздавалось вокруг. — Как это он тут держится, педераст, как это его еще не подвесили на первом гвозде...» Он, действительно, держал себя по отношению к нам весьма презрительно, даже ненавистнически. Ходил он здесь именно для того, чтобы пресекать попытки блатников проникать на кухню в надежде на поживу. Безжалостно выгонял пообедавшую партию, не оставляя никаких надежд на добавок... Шли разговоры, что он содержит тут для обслуги свиней, да и свиньи-то всего не поедают, каждый вечер остатки выливаются на помойку, но людям — никому еще ничего не дал... Что за странный, действительно, человек? Может быть, это воришки его так раздражили вечными приставаниями, может быть, ко мне он отнесется иначе?
Баланда была очень жидкая и в минимальной дозе. Только разбередила чувство голода. Я подошел к нему: «Может быть, можно у вас получить еще полмиски супа? Нас давно не кормили...» Он даже не взглянул на меня. Досадливо передернулся только, как от прикосновения мухи. Видимо, какая-то очень большая внутренняя необходимость заставляла его так себя вести. Угрозы, раздававшиеся в его адрес, разумеется, не были для него секретом, и он не мог не знать, что воры весьма скоры на руку.
Однажды я услыхал, как после очередного скандала, когда он выдворил из столовой каких-то настойчивых посетителей, костивших его на все корки, он с особенной злобой сказал: «Может быть, меня тут и действительно зарежут, но пока я жив, ни одна подлюка не получит лишней ложки...»
Как-то это даже не по-русски — такая настойчивость и последовательность действий. На немца он совсем не похож, но говорил с каким-то странноватым акцентом, которого я не мог распознать...
Какие вкусные вещи лежали в моей посылке! Голод подпи220
рал все сильней, и во мне тоже шевелились самые нехорошие чувства к заведующему столовой.
Под вечер этого второго дня на воркутинской пересылке к нам в барак пришел очень крупный, с признаками значительной физической силы, человек — темнокожий, чернявый, чем- то напоминавший негра. Звали его Мишка-жид. Говорили, что он среди здешних воров сейчас самый главный. Наша воровская мелкота обступила его гурьбой. Они о чем-то пошушукались. Всей ватагой раза два прошли по бараку. Потом вдруг Мишка-жид подошел к технику, сидевшему совсем недалеко от меня, и спросил его отрывисто, был ли он на таком-то лагпункте. Техник побледнел, что-то ему такое ответил, чего уже я не мог разобрать, потому что вся ватага тотчас же бросилась к нему, его схватили за руки и за ноги и вытащили на середину барака. «Подняли», — скомандовал стоявший немного в стороне Мишка-жид. С десяток рук подняли техника на высоту человеческого роста. Он что-то кричал, барахтался. «Бросили!» Руки с некоторым усилием, направленным вниз, ударили техника об пол. Он завыл диким голосом. «Подняли. Бросили». И так до трех раз. После этого техник уже не подавал голоса, а только хрипел. Он потерял сознание. Удостоверившись в этом, Мишка скомандовал: «Под нары!» Техника подтащили к краю нижних нар, у того места, где он перед тем сидел, и, раскачав его за руки и за ноги, швырнули под нары...
А потом ушли на другой конец барака. Оттуда послышалась какая-то возня. На середину выволокли того рослого молодого парня, в спортивном костюме, которому вчера еще было так весело в бараке. Он отчаянно отбивался и кричал: «Ребята, ах, ребята, что же вы делаете... Ведь я вас спасал... Я же вас от сук, от сук спасал...»
Мишка-жид спокойно сказал, как бы раздумывая: «Как и кого спасал, знаем. Ты думаешь — можно жить и с суками и с ворами?.. Подняли!»
Повторилась та же процедура. Парня грохнули три раза об пол, так что всякий раз явно слышался как бы хруст костей. И потом тоже отправили под нары. Такая же расправа ожидала и еще одного человека, которого я до этого не примечал. Потом Мишка-жид ушел, а воришки влезли на верхние нары. Барак стал засыпать. Из-под нар доносились стоны, но никто не решался приблизиться к жертвам. Заметив мои колебания в этом 221
отношении, мой моторист пробормотал: «Тебе что — жизнь не дорога?» - «Так надо же хоть в санчасть сообщить...» — «Не придет сюда никакая санчасть...»
Так мы и уснули. Утром первое, что я увидел, был сидящий на нарах техник. Весь в синяках, с опухшим лицом и налитыми кровью глазами, он сидел на прежнем своем месте. Вид у него был страшный, но жив все-таки... Конечно, ему могли отшибить почки. Да мало ли что могло случиться со всеми внутренними органами после такой гимнастики? Техник тупо смотрел вокруг. Люди уже не спали, но ни у кого не было охоты с ним заговорить. Что тут скажешь...
Немного погодя появился Мишка-жид в сопровождении еще нескольких человек. Он удовлетворенно поглядел на техника. «А где остальные?» - спросил он. Наши воришки бросились по углам и вскоре представили на середину барака и других двоих. Вид и у тех оказался достаточно страшный, но юноша в спортивном костюме пострадал, видимо, несколько меньше. Он даже силился улыбаться, давая этим, должно быть, понять, что даже после такой встряски он против воров ничего не имеет...
Мишка-жид оглядел их внимательно и произнес во всеуслышание: «Так вот, пусть всякая сволочь знает, как издеваться над ворами. Мы вас убивать не хотели. Живите, суки. Живите, но знайте, что в другой раз вам пощады от воров не будет. И найдем мы вас где угодно...»
Тут техник наш подал голос: «Да какой же я сука? Я фраер. Ничего никому не сделал...» — «Врешь. Ты жил с суками, которые издевались над нами, гноили воров, за их счет жрали...» — «Я действовал по-фраерски...» — «По-фраерски... — передразнил его Мишка-жид. — Вот тут целый барак фраеров. Все всё видели. Что — заступилась за тебя хоть одна душа? По-фраерски...»
И он пошел прочь из барака. В нем, оказывается, кроме вора, жил еще и недурной демагог. Умел апеллировать к массам. К тем самым массам, которые за сутки перед тем его командой были начисто ограблены, а теперь сидели на своих нарах тише воды... За кого они могли заступиться, даже если бы и считали это нужным...
День развернулся солнечный, шумный. В бараке загалдели. Надо было понимать это так, что воры уже сделали все что могли, и теперь жизнь в бараке могла войти в обычное русло. Мы уже было и позабыли о том, что имеется на свете 222
лагерное начальство, как вдруг в барак вошел старший лейтенант. Ни на кого не глядя, он прошел по бараку, утопая ногами в валявшемся на полу мусоре, и произнес, наконец, в пространство брезгливым тоном: «Что же это у вас тут за беспорядок? Как на конюшне. Нету у вас что ли дневального?» - «Не видали», — пробурчал кто-то довольно безразличным голосом. Офицер вышел. «Начальник КВЧ», — пояснил кто-то.
Минут через двадцать явился, как встрепанный, дневальный и произвел приблизительную уборку. Но на этом воровские дела не кончились. В гости к кому-то из находившихся в нашем бараке пришел здешний бухгалтер - из заключенных, но уже готовившийся к освобождению. Сел он на нары, и начались воспоминания. Около беседовавших образовалась группка любопытных. Подошел и я в надежде узнать что-нибудь новое и для меня полезное. Бухгалтер чувствовал себя и разговаривал почти как «вольняшка»: с некоторой безмятежностью, немного покровительственно. Речь зашла о вчерашних происшествиях. «А обслугу не грабили?» — спросил кто-то. «Ну, обслугу... Обслугу нигде не тронут. Они знают, у кого можно, а у кого нельзя взять...» Одет он уже не по-лагерному. На нем сапоги офицерского образца. И в этот момент к нам подошел какой-то тщедушный воришка. То ли не разобрав дела, то ли в опровержение того, что утверждал бухгалтер, и обращаясь именно к нему, он спокойно и деловито сказал: «А ну-ка сменяемся сапогами». Бухгалтер сник моментально. Стал бормотать, что сапоги старые, рваные... «Ты их и даром не возьмешь». В доказательство он поднял ногу и показал проносившуюся подошву. И поскольку воришка этим был немного смущен и стал поглядывать по сторонам — за чей бы счет еще поживиться, — бухгалтера тут же как ветром сдуло.
Не кончилось все это, как выяснилось, и для меня. Слоняясь по бараку и приглядываясь к людям, прислушиваясь к разговорам, я не ждал в тот момент для себя никакой новой беды. Но вот около меня оказался какой-то до того неизвестный мне человек средних лет и совсем будто не блатного вида. Он взял меня за локоть и внимательно уставился на мои ноги, обутые в лагерные ботинки. «Слава тебе господи, наконец-то нашел, — довольно ублаготворенно произнес он. — Понимаешь, два дня по всей пересылке ищу, — говорил он добродушной доверительно, — и нет как нет. Нигде нету. А вот и нашел-таки... Носки-то ведь на тебе шерстяные». Я, еще толком не понимая, в чем дело,
223
подтвердил: «Да, именно шерстяные». — «Ну, вот и разувайся, голубчик, снимай носки-то», — так же просто, без тени какого- либо сомнения говорил этот человек. Видя, что я колеблюсь, он прибавил более настойчиво: «Снимай, снимай, ну куда ты тут денешься?..» Действительно, деваться, видимо, некуда. Я сел на нары и стал разуваться. Носки были грубошерстные, как у лыжников. Он их бережно сложил один к одному и ушел, как из магазина после покупки. К счастью, на мне под этими шерстяными носками надеты были еще простые нитяные носки. А не то бы пришлось пощеголять на босу ногу...
«Колька, а ты чего же, — услыхал я неподалеку от себя, — все запас делают, а ты один, как и был?..» Речь обращалась к молодому, симпатичного вида пареньку, которого я еще и раньше заприметил среди прочих. Он обретался в другом бараке, но часто заходил сюда в гости. «Ведь ты тоже вор?» — настаивал собеседник. «Я не в законе», — улыбаясь и простодушно, с некоторым смущением, ответил тот... «Не в законе». Я еще не понимал толком, что это, собственно, значит. Но ясно мне стало из его слов, что, следовательно, далеко не всякий желающий мог здесь заниматься грабежом. Видно, и это как-то регламентировалось в воровской компании. Удивительный мир...
Кожва 1951—1954
Лагерь на Кожве
На другой день объявили отправку. С раннего утра нас выгнали из бараков и сгрудили около ворот. Всего оказалось человек, наверно, до четырехсот. Публика разношерстная, и ни одной интеллигентной на взгляд физиономии. Поглубже-то, может быть, у кого-то оно и было такое, да ведь сразу этого не приметишь...
Стоим не час, не два, уже надоело, все разбрелись, кто куда. Дошел слух - кухня работает. Значит будем еще здесь обедать... Как и насчет обеда, стало известно, что в одном из бараков, примыкающих к женской зоне, на чердаке, происходят встречи с женщинами и при желании можно попользоваться... Я выслушал это сообщение как какую-то дичь, но она, быть может, в каком-то смысле чему-то реальному соответствовала, потому что расположившийся неподалеку от меня и очень томившийся ожиданием Мишка-жид, исчерпав все свои лексические возможности, заявил наконец, что пойдет туда, на чердак, — может, оно что-нибудь и выйдет... Времени для этого оказалась, во всяком случае, больше чем достаточно.
Выводить за ворота начали часа в четыре дня. Отсчитывали полсотни, доводили до железной дороги, расположенной тут же совсем поблизости, и загоняли в товарный вагон, который сейчас же и запирали за нами. Пока шла наша партия, конвой отдал распоряжение снять и сдать поясные ремни. Ко мне подошел конвоир и потребовал рюкзак: «Военного образца, не
225
8 Лагерный дневник
положено». А он вовсе не военного образца. Нет у нас вообще в заводе рюкзаков военного образца, но спорить оказалось бесполезно. Вернее, я еще не соображал, что если обратиться к начальнику конвоя и сделать его, таким образом, свидетелем этого грабежа, на сей раз не со стороны воров, а со стороны его же подчиненных, то позднее, быть может, удалось бы чего-нибудь добиться через лагерное начальство. Но я всего этого еще не понимал, научился много позже. Итак, я остался даже без рюкзака. Лежавшие в нем письма и письменные принадлежности пришлось завернуть в какую-то оставшуюся у меня портянку. После этого я уже совершенно пал духом, и все происходящее сделалось мне совершенно безразлично.
В вагоне с обеих сторон были устроены сплошные нары в два этажа, середина оставалась пустой. В двери, противоположной той, через которую нас сажали в вагон, в нижнем углу выпилено небольшое отверстие и к нему приставлен узкий и короткий деревянный лоток — это наша уборная, пользуйся сколько хочешь.
Поскольку нас сегодня покормили обедом, сухого пайка не дали. По слухам, это должно произойти завтра, где-то в пути. В этом же вагоне оказался и Мишка-жид, с какими-то своими тремя приятелями, тоже, видимо, из числа воровского начальства. Они вчетвером заняли с одной стороны все верхние нары. Там были расстелены два стеганых одеяла, и это чем-то напоминало кочевническую юрту — может быть тем еще, что кто-то из них сидел, поджав под себя ноги.
Мучительно хотелось пить. Конвою стали кричать, что помираем от жажды. Часа через полтора-два дверь отворилась, и нам поставили деревянную кадку, ведра на два, с деревянной же поварешкой вместо кружки. Сказали, чтобы все напились за пятнадцать минут, — другие ждут. Все кинулись на эту воду как звери, стали ее расплескивать. Я взмолился и стал просить, чтобы мне доверили распределение воды - всех оделю поровну. Многие отступились от кадушки и согласились на мое предложение. Другие ругались, но не препятствовали тому, что поварешка оказалась у меня в руках. Я стал давать каждому по одной поварешке, для начала, обещая потом повторную поварешку — и так далее, пока не выпьем всю воду. Воровское начальство с презрением наблюдало за этой процедурой. Один из них в это время вел переговоры с самоохранником-конвоиром, через забранное крупной решеткой окно, о покупке двух пол226
литровок водки и бросил ему в конце концов деньги. Водка не замедлила появиться. Из их реакций по этому поводу можно было понять, что расторопность этого самоохранника вовсе не вменяется ему в заслугу и рассматривается не более как подхалимство, которое ему отнюдь не поможет и не приведет к спасению, если он когда-либо попадет в воровские руки. А исполнением подобных поручений самоохранник подвергал себя по меньшей мере именно этому риску. Заметь это начальство, его бы тут же выгнали из самоохраны и пихнули обратно в лагерь...
Раздача воды проходила не без скандала. Среди нас имелись воры, которых я еще не отличал от других людей, - ничем они, собственно, и не выделялись, в начальство воровское не попадали, но соответственными претензиями обладали с лихвой. Один этакий тип, выпив поварешку, тут же потребовал вторую. Я ему объяснил, что это будет сделано во вторую очередь, почему надо делать для него исключение? «Я вор, - сказал он, - и плевать хотел на твою очередь. Давай воды, или я тебе дам в лоб за неуважение к ворам». Я пытался было объяснить, что воров всячески уважаю, но в этом деле люди для меня все равны — пить хотят не только воры... К счастью моему, спор этот заметили с начальственных нар, и мой оппонент получил оттуда какое-то краткое, но, видимо, достаточно определенное распоряжение отступиться. Вид у него по-прежнему оставался крайне недовольный и злой, но в лоб я от него на сей раз не получил. Я попытался ему объяснить, что в этом нет и не может быть для него обиды или принижения достоинства, но он и слушать не стал все эти мои фраерские упражнения.
Симпатию многих других людей я этим всем, однако, завоевал. И прежде всего, на меня обратило внимание самоё воровское начальство. Когда я после раздачи воды стоял, прислонившись к двери вагона, — на нарах места для меня не нашлось, и я устроился на полу посредине вагона, где сидели и некоторые другие менее расторопные люди, и о чем-то своем думал, мне показалось, что воры на верхних нарах, в частности Мишка- жид, чего-то кивают в разговоре в мою сторону. А немного погодя кто-то из них подозвал меня и протянул мне порядочный кусок колбасы — в тех условиях невиданная вещь. У меня во рту ничего подобного не было уже больше года.
Ехали мы очень медленно. Где-то простаивали долгими часами. Расстояние километров в четыреста между Воркутой и Кож- вой проделали за трое суток. Для меня особенно мучительной 227
8*
представлялась необходимость испражняться не только что при народе, но и буквально в его тесноте. Даже и на фронте все же имелась возможность отойти куда-то в сторонку. Здесь же я старался терпеть до тех пор, пока все не угомонятся, не уснут, и пользовался лоточком среди глубокой ночи. Конечно, о ночи речь могла идти лишь условно, поскольку на дворе круглые сутки тянулся день. Дело осложнялось еще и тем, что наше питание — хлеб и сырая вода - вызывало запоры, и необходимую операцию невозможно было проделать быстро. Дождавшись часа, когда, казалось, весь вагон спал, я направился к заветному лоточку и кое-как справил свои дела. Но когда я вернулся на место, то услыхал сочувственный шепот кого-то из соседей: «Что, папаша, похезал?..»
Наконец-то приехали и выгрузились. Впечатление такое, что на Воркуте весна наступила раньше, чем здесь. Под ногами очень сыро. Кое-где по впадинам и овражкам лежал еще снег. Вокруг нас какие-то кустики, а дальше пестрой стеной стояла тайга. На фоне хвои высвечивались тощие березняки, над ними подымались монументальные, но еще совсем голые лиственницы.
Подали нас почти к самому лагерю. Так что грязь месить пришлось совсем недолго. Подвели к высокому забору из горбылей, тянувшемуся на большое расстояние, над которым, как башни, торчали вышки, украшенные прожекторами. Лагерь казался очень большим. Когда наша довольно-таки длинная и неровная колонна — строй держать в ней было немыслимо — подошла к воротам лагеря, из них выходили на работу две или три бригады. Началось бурное перекрикивание, приветствия, а потом даже и перебежка из одного строя в другой, несмотря на самое резкое сопротивление этому со стороны конвоя, открывшего ужасную автоматную стрельбу, разумеется в воздух. Огневые очереди, беспорядочные крики...
Но это ни на кого не производило устрашающего действия. Один белобрысый паренек, с которым я работал еще на воркутинской перевалке, оказавшийся и тут рядом со мной, спокойно и глубокомысленно заметил: «И чего только настроение портят? Тут ведь, если только раздразнят, фиг кого соберешь... Так и брызнут во все стороны...»
Кой-как с нами разобрались и завели наконец в зону. Бараки все бревенчатые. Ни дать, ни взять — аракчеевское поселение.
228
Неподалёку от вахты, на косогоре, высилась монументальная столовая, похожая не то на театр, не то на церковь без купола и креста. В небольшом приземистом оштукатуренном бараке помещался штаб лагеря. На другом конце зоны, у самого забора, светлела свежими бревнами и тесом, видно, совсем недавно выстроенная санчасть с довольно большим стационаром.
Прежде чем развести нас по баракам, учинили «инвентаризацию». Состояла она в регистрации казенного имущества. Хотели записать как казенную мою собственную, присланную мне еще в Бутырки из дому телогрейку. Я не сопротивлялся, не понимая путем, в чем тут дело. Но инвентаризаторы — оба из заключенных — заспорили, и один из них доказал другому, что телогрейка не лагерного образца. Я спросил его, почему он, собственно, так горячо спорит. Он раздраженно ответил: «А вот “уведут” ее у вас да и сдерут с вас же за промот десятикратную стоимость, тогда и поймете...»
Среди инвентаризаторов болтался какой-то неинтеллигентного вида человек в синем, довольно новом костюме, с кепкой на голове - вид у него был оборотливого хозяйственника. Оказался врач да при этом еще и заключенный. Он все время чего- то пошучивал, приглядывался к нашему вновь прибывшему брату, но явно с каких-то немедицинских позиций. Об этом говорило не только то, что он ходил без халата, но и то, что у него не было при себе не только что каких-либо инструментов или лекарств, но даже карандаша с бумагой, чтобы взять кого- либо на предварительную заметку. Не было с ним никого и из вспомогательного персонала.
Но кто-то из бывавших уже здесь и прежде заключенных мне все разъяснил: «Это доктор известный, он и сидит за спирт...» — «Как это за спирт?» — «Спирт воровал, перепродавал, что ли. С ним ни один настоящий врач работать не хочет. А здесь вот уже третий год подвизается. Вы думаете, чего он тут ходит? К барахлишку приглядывается. Заметит у кого что-нибудь для себя интересное, потом на комиссовке станет выторговывать. Тому даст спецтруд или в больницу на месячишко положит, а барахло - себе. На нем и костюм-то так же вот купленный...»
Барак, куда я попал, забит до отказа. Заметно было, что в нем вообще-то не сплошные нары, а «вагонка», но теперь промежутки заделаны тесом. «Летнее положение, - объяснили старожилы. — Летом тут повсеместно бараки до отказа забиты.
229
А к зиме, как “подымут” народ обратно на Воркуту, жить будет опять свободно».
Первые дни всех нас новоприбывших скопом выгоняли за лагерные ворота и заставляли рыть дренажные канавы на заболоченной местности в торфянистом грунте. Погода резко изменилась. Сильно похолодало. Временами падал обильный снег, бывали крепкие заморозки. Но валенки обувать нельзя — снег быстро и бурно таял, а в ботинках холодно, и ноги всегда все равно мокрые.
Кожвинский климат по этим первым впечатлениям представился мне ужасным. Мы так намокали и сверху и снизу за часы работы, что под конец двигаться уже не могли больше. Совершенно так же, как и на Воркуте в большие морозы, стояли опустив руки, дрожмя дрожали и ждали, когда же наконец эта мука кончится. Один раз она почему-то особенно долго затянулась. Уже, видно, и время давно вышло, а нас всё не заводили и не заводили в лагерь. Среди конвоя происходила какая- то суматоха. Кто-то куда-то бегал, чего-то искали... «Убежал что ли кто-нибудь?» Высказывались самые различные предположения, но позднее стало известно, что один из конвоиров -- молодой паренек, служивший здесь действительную, уронил в снег и долго нс мог найти магазинную коробку от автомата.
Сушилка, куда сдавались на ночь верхние вещи, не помогала. Одежда возвращалась сырая и обувь тоже. Меня это особенно нервировало. Я отправился задневальным в сушилку, чтобы выяснить — почему же вещи не сохнут? Дневальный костил на чем свет стоит сушильщика — никудышный, говорил, человек. Это оказался первый интеллигент, встреченный мной здесь на Кожве, - учитель откуда-то из-под Вологды, с характерным северным говорком, с массой всяких северных привычек и наблюдений. Сразу же мы с ним и подружились. Я стал наведываться для разговоров. Поражало меня только, как это бывало уже и на Воркуте, крайне резкое озлобление этого человека. У него 10-й пункт - десять лет. Срок свой он, собственно, только еще начинал, и ненависть ко всему на свете кипела в нем страшная. Сначала это еще разбавлялось фольклором, а потом сделалось до того невыносимо, что я с огорчением почувствовал в себе нарастание по отношению к нему непреодолимого отвращения. Я все искал хоть какого -то утешения и примирения, а не подобного злобствования, окончательно отрывавшего душу от окружающего мира. Отсутствие в подобных случаях 230
общего языка с теми редкими представителями интеллигентного мира, с которыми меня здесь нет-нет да и сводила судьба, повергало меня в подлинное отчаяние.
Рытье канав приходило к концу. Нас комиссовали в санчасти. Комиссовку производил тот самый врач, которого я видел на инвентаризации, но на этот раз уже в халате и со стетоскопом в руках, и еще один человек довольно интеллигентного вида и довольно выраженной еврейской принадлежности. Мне сказали, что это майор, начальник санчасти. Я получил «вторую легкую» категорию. Практически это мне не давало никаких поблажек. Вторая категория здесь работала в тех же бригадах и на тех же объектах, что и первая. Различие это имело некоторое практическое значение только на Воркуте. Там, как мне говорили, вторая категория означала по-преимуществу оставление на поверхности, на всяких подсобных работах, которые, однако, тоже могли быть достаточно тяжелы в физическом отношении.
Я уже знал, что относительно работы нужно разговаривать в спецчасти. Туда я прямо и направился сразу после комиссовки. Мне объяснили, что если на Воркуге я мог по моим установочным данным работать в КВЧ или на каких-либо других внутри- лагерных работах, то здесь 58 статья очень ограничена в подобных возможностях: только десятый пункт и небольшие сроки. То есть, если бы у меня было десять лет сроку да я бы еще отсидел из них сколько-то, то меня могли бы взять на какую-либо должность в лагерной обслуге. Моя статья позволяла мне работать в бригаде на лесорейде. На интеллигентных должностях я мог бы работать только в качестве специалиста. Но у меня ведь нет никакой подходящей для них специальности. Впрочем мне сказали, что с недельку я могу проработать и у них: нужно привести в порядок архив, подшить и переплести большое количество всяких бумаг. Но это дней на пять — не больше. «Что ж, не будем думать о будущем, — решил я. — Проработаем здесь пять дней, а там будет видно».
В спецчасти работало несколько заключенных — почти все бытовики, из бывших военных — проштрафившиеся интенданты. С 58 статьей был только один бледный, высокий молодой человек, но и он угодил сюда из армии, сразу же после войны, нагрубив какому-то начальству «с длинными руками». Вольный персонал составляли преимущественно женщины — жены здешнего же лагерного начальства. Уровень у них у всех был 231
очень низкий, разговоры, ведшиеся ими, были для меня совершенно неинтересны. Впрочем, они меня жалели, высказывали сочувствие и подавали советы. В частности, мне было сказано, чтобы я, когда меня выведут на работу на рейд, обратился там к одному инженеру. Он в свое время отсидел срок по 58-й, на рейде фактически заправляет делами именно он и может меня, конечно, куда-нибудь пристроить. Фамилия этого инженера звучала как еврейская. Я подумал, что они и меня, наверно, принимают за такового, раз к нему посылают...
В моем распоряжении находился ручной пресс, которым я зажимал сложенные в толстую пачку бумаги. Потом длинным шилом просверливались две дыры, через которые с помощью толстой иглы и бечевки производилось сшивание бумаг.
Однажды меня попросили переписать донесение начальству о том, что некий офицер использовал в своих личных целях труд заключенных. Мне объяснили, что из них никто не хочет с этим офицером ссориться, поэтому лучше, если бумага будет написана совершенно неизвестным почерком.
Рядом со спецчастыо помещалось КВЧ, в котором, кроме его начальника — майора, производившего впечатление хотя и добродушного, но уж очень простоватого человека, работал культоргом некий гармонист цыганского вида и дневальный — литовский мужичок, неглупый, расторопный, с которым я и подружился за те несколько дней, покуда сидел в спецчасти. Ему я мог вполне позавидовать: вот уж человек действительно не знал горюшка — убирал помещение КВЧ и спецчасти, иногда бегал с какими-нибудь поручениями, когда надобилось кого-нибудь разыскать из начальства или из заключенных. И это всё. Делал он свои дела с песнями и прибаутками. При уборке помещений не отказывался, впрочем, и от моей помощи. Так что когда мой срок работы в спецчасти истек, это был, пожалуй, единственный человек, искренно и по реальным соображениям об этом пожалевший.
Меня зачислили в бригаду человека с какой-то простой немецкой фамилией - не то Шмидт, не то Вольф. Я подумал, что, может быть, с немцем будет легче и лучше работать — у них, мол, какое-то природное чувство порядка и организации (я даже вспомнил при этом хвастливые слова Гитлера: «Das verstehen wir schon — in Ordnung zu bringen»1, слышанные мною по немецкому 1 Это мы умеем — наводить порядок.
232
радио незадолго до сталинградского поражения). Для того чтобы узнать о моей судьбе, мне пришлось сходить в нарядную, тут же по соседству со спецчастью, в маленьком отдельном домике. Старший нарядчик, как говорили мне, был по гражданской специальности педагог. Я втайне надеялся, что он, увидев меня, захочет мне помочь определиться на какую-нибудь другую работу. Но он даже не взглянул в мою сторону. Только буркнул что-то, кивнув на соседний стол, за которым сидел небольшой человек вида младшего офицера. По его голосу я узнал того человека, который вызывал людей на разводе. И только когда я выходил из нарядной, старший нарядчик произнес что-то — что-то как будто ироническое, как мне показалось, именно по моему адресу, но я толком ничего не расслышал...
Да, вот она и Кожва. Я шел мимо бревенчатых бараков. У некоторых двери посредине, с небольшими крылечками, у других- по две с торцовых сторон. Вогромной кухне-столовой, как я углядел еще по приезде, было даже что-то монументальное, но в то же время и бесформенное. Какой-то дачкой с двумя кокетливыми крылечками показался мне в этот раз совсем недавно отстроенный и еще пахнущий свежим лесом стационар. Он еще, кажется, даже не функционировал.
Вот тебе и Кожва, о которой так мечтательно мне говорили на Воркуте. Меня наполняло чувство совершенной бесприютности и неприкаянности. Связи, даже те небольшие, которые у меня образовались на Воркуте, здесь отсутствовали. Некому буквально слова сказать. Пойти в сушилку? Но, во-первых, она уже, наверно, не действует, и моего вологодского учителя куда-нибудь перебросили, а во-вторых, опять начнется это ужасное злопыхательство, нашептывание всяких ненавистнических, бессмысленных вещей. Нет, не хочу. С этими мыслями я незаметно оказался у вахты, где меня отвлек от моих горьких размышлений некоторый шум у сквозных ворот с деревянным переплетом, позволявшим хорошо видеть происходящее с той стороны. У ворот стоял небольшого роста человек в овчинном полушубке и что-то оживленно кричал женщине, находившейся по ту сторону ворот. Женщину очень быстро оттуда отогнали, и человек разочарованно отошел в сторону. Заметив мое по отношению к себе любопытство, он обратился ко мне первый: «Вот, не дают два слова с женой сказать, точно из-за этого советская власть пострадает...» — «А каким образом тут могла оказаться ваша жена?» — «Приехала из Печоры. Знаете, городок
233
Печору? Слыхали? Вон — его даже немножко и видно отсюда, если кто знает... — И он показал мне на ту сторону реки, где за растительностью — зарослями ивняка, с торчащими среди него отдельными огромными лиственницами — угадывались как будто то ли какие-то дымки, то ли еще что-то. — Очень неплохой городок...»
Он рассказал мне, что с 1946 года жил в Печоре в качестве административно-ссыльного, заведовал местной радиостанцией. Чувствовал себя, как ему казалось теперь, глядя на вещи из лагеря, совсем неплохо. Года два тому назад женился. А месяц тому назад его арестовали, прочли какое-то постановление, в силу которого ссылка ему и ему подобным людям должна быть заменена двадцатью пятью годами заключения, и очень просили не иметь на них зла. Мы-де тут ни при чем, говорили ему люди, с которыми он вчера еще общался если не как равный с равными, то все же на совершенно других условиях: «Мы не виноваты и ничего против вас не имеем, это все московское начальство придумывает...»
Вот и стоит он теперь по сю сторону ворот и смотрит, как его жену отгоняют от них самым грубым образом с другой стороны. И сделать ничего-ничего нельзя...
Через два-три дня я потерял этого человека из вида. Видимо, его вообще убрали из нашего лагеря. По действовавшим правилам человека не полагалось держать в лагерном заключении в том самом месте, где он жил на свободе, ради пресечения недозволенного общения с близкими и прочими местными людьми. Жена его больше не приезжала и не льнула к лагерным воротам...
Мне некогда было все это особенно глубоко переживать — мои собственные дела неожиданно приняли довольно крутой оборот.
Я перешел в барак, занимаемый моей новой бригадой. Мне показалось, что в этом бараке немного больше порядка и поменьше народу, чем в том, где я до этого обретался. На следующее утро нас встретила свежая и яркая погода. Холодок казался даже приятен. Повели нас на лесорейд, где я еще ни разу не был. Идти оказалось недалеко, но шагали мы через ужасную грязь, изгваздались основательно еще до всякой работы. Вывод из лагеря произошел обычным порядком - по одному, с провозглашением всех установочных данных. На рейде такая же 234
вахта, как и в лагере, но она уже не требовала подробностей - принимала нас просто по счету. Я никого не знал из числа моих новых собригадников и с интересом к ним приглядывался. Но ни одной мало-мальски интеллигентной физиономии. К нам вышел какой-то человек в больших и высоких резиновых сапожищах и сильно окая и глотая согласные, как все комяки, заявил, что будем сегодня вылавливать из воды оставшийся от прошлого сезона лес. Нам всем выдали длинные багры с металлическими наконечниками, напоминавшими остроги.
Лесорейд занимал большую территорию - вероятно, не меньше километра в длину по берегу Печоры. Зданий на нем немного, но выделялись небольшая электростанция, мастерские и административный барак. Кроме того, виднелось еще несколько маленьких домиков — обогревалки для зимнего времени.
Пока суд да дело, я решил поискать того инженера, о котором мне говорили как о человеке, могущем помочь моему определению на более подходящую работу. Мне не пришлось его искать, он сам — судя по всему это был именно он — попался мне на дороге. Куда-то очень спешил. Я не стал его останавливать, но через минуту он уже шел образно. Тогда я спросил его, нельзя ли мне с ним поговорить. «У нас авария, — сказал он мне, не отвечая прямо на вопрос, и стал с жаром говорить о том, как тут трудно работать, — каждый день что-нибудь неожиданное случается...»
В общем стало понятно, что хотя он и представляет себе, кто перед ним и что мне от него нужно, ио его занимали и беспокоили его собственные обстоятельства. Говорить же на посторонние и прямо его не касавшиеся темы ему, видимо, не хотелось. Или, может быть, он ждал с моей стороны какой-то более определенной реакции? Но я извинился и разочарованно ретировался.
История с моим имуществом, брошенным мной на пересылке на поживу воришкам, стала предметом разговоров между заключенными не только на воркутинской пересылке, но и на Кожве. По нашем туда прибытии меня спрашивали некоторые новые знакомые — правда ли, что воры отобрали у меня тысячу рублей денег. Я смеялся: «Да откуда же у меня здесь в заключении могли бы оказаться такие деньги?» Разумеется, подобные доводы не останавливают распространения слухов.
Некоторые мои вещи приехали на Кожву уже в чужих руках. Я видел, например, как один паренек блатноватого вида нес на 235
лесорейд из лагеря под мышкой мои валенки с калошами, присланные мне из дому еще в Бутырки. Видимо, он их собирался продать да должно быть и продал кому-нибудь из гражданских работников рейда.
— Правда ли, что на пересылке шел грабеж и что вы от него очень пострадали, - спросил меня один из молодых заключенных, довольно интеллигентного вида, работавший в конторе лесорейда, где я справлялся об инженере. — Потому спрашиваю, что скоро освобождаться, тоже ведь придется ехать на воркутинскую пересылку.
— Грабеж-то был, но я не считаю себя особенно пострадавшим. Речь ведь идет о всяком ненужном в лагере барахле... — В это время у моего собеседника распахнулся бушлатик, и я увидел на его шее мое кашне, бывшее на мне еще при аресте. — Вот, например, в числе потерянных мной вещей и то кашне, которое вы теперь носите...
Он очень смутился, густо покраснел, но кашне мне все же не возвратил, а только перестал его после этого надевать, как я мог убедиться, встретив его еще раз-другой на работе.
Наша бригада, между тем, уже направилась к берегу, и я стал прыгать, догоняя ее, через бревна и колдобины. Везде стояла вода. Почва местами казалась болотистой и торфянистой. От воды по берегу шли длинные помосты на сваях, в конце которых располагались моторные будочки. Посредине каждого такого помоста лежала металлическая лента, приводившаяся в движение дизельными моторами. Это — лесотаски. Но они еще все стояли. Еще не было нового леса. Нам нужно, видимо, только несколько почистить рейд для предстоящей его работы.
Тут я увидал, вернее угадал, впервые и нашего бригадира. Это молодой и совершенно кубической формы человек, с расплывшейся бессмысленной физиономией. Ничего в нем не было ни немецкого, ни вообще человеческого. Повадки все — самые лагерные. Он, видимо, обратил на меня внимание еще и раньше, а может быть, от его взгляда не ускользнула моя попытка поговорить с инженером, но во всяком случае он немедленно принялся за меня и не давал мне спуску весь рабочий день. Из него выпирал наружу со всей несомненностью очень опытный лагерник, понимавший с первого взгляда, в отношении кого можно действовать безнаказанно, ничем решительно не рискуя, хотя тот факт, что в лагере, как на войне, все полно неожиданностей, невольно действовал охлаждающе даже и на 236
очень горячие головы. Это не относилось, конечно, к матерым уголовникам—для них именно все возможные неожиданности, вся эта мутная вода, которой захлестывалась и захлебывалась жизнь заключенных, и составляла нормальную обстановку.
На мое счастье наш бригадир, как и всякий другой бригадир, сам не работавший, имел много поводов, чтобы отлучаться. И когда он исчезал, я мог передохнуть и поразмыслить. Но как только он появлялся, сейчас же отрывал меня от того дела, которое я делал по собственной инициативе и которое мне представлялось посильным. «Эй, жид», — кричал он, действуя в определенном смысле безошибочно, хотя, наверно, и достаточно инстинктивно. Вряд ли он не чувствовал, что в его устах — устах человека с немецким именем — подобное обращение к кому бы то ни было должно звучать совершенно по-фашистски. Но также совершенно инстинктивно он понимал безнаказан ¬ ность этого в тогдашних условиях, не только в лагере, но и на воле. «Жид» лицемерным образом было объявлено столь же невинным словом, как кацап или хохол. Хотя каждый, кого называли этим именем, будь он и не еврей, должен чувствовать себя униженным.
«Эй, жид, иди-ка сюда. Перекати-ка это бревно вон туда. Ну, давай, давай, не жалей кишку, здесь надо работать...» Не успевал я выполнить это распоряжение, как уже следовало другое: «А потом переложишь вот этот штабель — ишь накидали». Он заставлял меня действовать в одиночку, чтобы ниоткуда нельзя было получить помощи. К счастью, нагромоздив эти распоряжения, он уходил. Я, конечно, не мог выполнить всех его заданий. Многие из них представлялись заведомо непосильными для одного человека. Но я, ощущая свою неполноценность в физическом труде, злился на себя и иногда старался сделать больше, чем мог. Кроме того, я, как и многие другие в лагере, обессилел от недоедания. От мало-мальски резких усилий начинала кружиться голова...
Во мне подымались самые несвойственные мне чувства и мысли. Багор мой при этой работе оказался не нужен, но он лежал неподалеку и зловеще поблескивал своей свежей, еще не потускневшей сталью. И мне начинало видеться ясно, как я подымаю его на бригадира, захожу сзади и всаживаю ему его между затылком и шеей, в самый мозжечок... «Шутки шутками, — думал я, но ведь может получиться и так, что только этим способом от него и можно будет избавиться. Я же ведь в полной его 237
власти. Кто меня тут защитит? Начальство специально подбирает именно таких бригадиров...» Прошло всего каких-нибудь три-четыре часа его надо мной издевательств, и мысль эта уже неотступно ходила за мной и сверлила меня: «Дай ему багром пониже черепа, и все будет в порядке...»
Между тем, бригадир появлялся снова. «Что ж ты, жид, бревно до места не докатил?» — «Там бугор, через него не перекатишь, мне это не под силу...» — «А ну, иди, я тебе помогу...» Я уперся в бревно, а он сзади подталкивал, как бы помогая мне... К бревну прикасаться ему не хотелось. Или, вернее, он считал, что я придуриваюсь и, таким образом, подталкивая, он добивается от меня более полной отдачи... Я думал при этом, что решено мною должно быть так: как только он меня ударит, я его хвачу при первой же возможности багром. И как бы в оправдание и в подтверждение реальности всего этого кто- то из мужичков мне шепнул: «У тебя, браток, небось двадцать пять?» — «Двадцать пять, точно». — «Ну, так ты скажи о том бригадиру-то: у меня, мол, двадцать пять. Тебе, в случае чего, и не прибавишь...» В каком именно случае, мне предоставлялось догадываться самому, но это было не трудно...
Когда мы, по окончании рабочего дня, подгоняемые сзади лучами крутившегося над горизонтом зеленовато-желтого солнца, скользили по грязи, подымаясь на пригорок, к лагерю, передо мной опять маячила широкая и крепкая шея бригадира. Я был весь измочален. Болели изодранные руки. Но я с ужасом думал о том, как реально и неотвратимо мерещился мне, еще совсем недавно, багор, впивающийся в эту шею. Я догнал бригадира и сказал ему возможно более спокойно: «Ты меня спиши из бригады, я завтра с тобой не выйду...» Мне думалось, что в ответ на это заявление я услышу угрозы и брань. К моему удивлению, этот дубовый обрубок остался к моим словам равнодушен и только бросил: «А мне плевать...»
На другой день, когда мы узнали, что нашей бригады больше не существует, а бригадира отправляют куда-то «наверх», в подкомандировку7, занимавшуюся ремонтом речных судов, я понял, что он, видимо, знал все это уже заранее, и ему действительно было на все наплевать...
И вот я опять среди моих воришек, которые мне уже кажут ¬ ся привычными и родными. Бригадир у них - неизвестный мне лет тридцати пяти коренастый блатняга, в меру добродушный и озабоченный тем, чтобы по выходе на работу как-нибудь не 238
проморгать чекушечку водки, добываемую через «вольняшек». Ко мне он относится хотя и с некоторой подозрительностью, но, в общем, непредвзято. Ему явно льстит мое с ним обращение. «Вот, — шутливо-назидательно говорит он своим ребятам, тыча себя пальцем в грудь, — товарищ Колесников... А то ведь у нас что — “заяц”, “копыто”, “гвоздило”... Товарищ Колесников, вот...»
Опять приводим в порядок территорию лесорейда. Подбираем и складываем в штабеля всякие валяющиеся, полусгнившие или полузасосанные болотом бревешки. Другой работы нашей бригаде, видимо, поручить и нельзя. «Нам что, - оправдывается Колесников, — я им прямо говорил, — кивает он в сторону лагеря... — что работа тогда по нас, когда надо поднять да бросить... Это мы, пожалуйста. А так, как они хотят, чтобы не сходя с места — не выйдет, ничего не выйдет...»
И действительно. Потаскав час-другой бревнышки, бригада разбежалась по своим делам, кто куда... Я оставался, будучи предоставлен самому себе, любоваться на печорские хмурые дали, на суровые, мертвенные краски северного неба.
Колесников мне как-то примирительно сказал, после того как я подошел к нему весь в жидкой грязи от только что вытянутого из болота бревна: «Ты, батя, не надрывайся. Какая с тебя работа? Мы тебя оправдаем. Ты вот туг будь, гляди, чтобы костер горел, как надо...»
Чтобы горел костер, временами, действительно, очень бывало надо. Снегопады нет-нет да возобновлялись, сопровождаемые пронизывающими ветрами. Становилось чертовски холодно. Воришки, в ботиночках на босу ногу, плясали вокруг костра, отбивая зубами дробь... Один из них, мой старый воркутинский приятель, а теперь сосед по нарам, по прозвищу «глухарь», выпросил у меня чудом сохранившуюся после разграбления на пересылке «москвичку». Простудившись на рейде, он дрожал в лихорадке. И вот, на другой или третий день, вижу снова пляшет, как черт, вокруг костра. «Глухарь, а где же “москвичка”? Ты почему опять в одной рубашечке?» — «Проиграл...» — «Вот тебе на. Плакала наша “москвичка”». Но мне на этот раз уже не трудно вернуться к мысли, что в лагере нужно только то, что на тебе, — и никаких запасов, ничего лишнего. Так что эту потерю мне уже пережить ничего не стоило.
Увы, бригаду Колесникова, у которого я себя чувствовал, как у Христа за пазухой, отправляют куда-то неподалёку на какие-то 239
заготовки — на вольготное внелагерное житье. «Аты, батя, тут останешься, - сочувственно сообщил мне бригадир. - Тебе статья твоя с нами ехать не позволяет...» Это всё ему разъяснили в нарядной. Я искренно горевал. Мало того, что мне было сравнительно легко и хорошо с этими людьми; чувствовалось, что они должны теперь сколько-то приблизиться к свободе, выйти за эту изгородь, отделявшую нас от мира своими поставленными торчком горбылями или своей проволочной паутиной.
С отправкой Колесникова и его ребят чего-то медлили, и меня от него покуда никуда не переводили, так что мне иной раз начинало казаться, что, может быть, все-таки, несмотря на режимные запреты, мне удастся проскользнуть вместе с ними на природу, в комариное царство — ведь не может же начальство не понимать, с кем оно имеет дело, и что в отношении дисциплины и возможностей побега я им должен представляться безопасней самого маленького и краткосрочного воришки...
Так или иначе дни шли, шла жизнь в набитом битком полутемном бараке — полутемном потому, что из-за непрерывного дня окна старались чем-нибудь занавешивать - очень уставали глаза от непрерывного солнца.
Я приводил в порядок написанное за эти последние, проведенные на лесорейде дни. Всё на клочках, на обрывках. Но даже и здесь оказалось не так уж трудно раздобывать бумагу. Все мне говорили: «Что это вы на каких-то клочечках пишете. Пойдите в КВЧ или в спецчасть, они обязаны... Заключенному положено письма писать, значит и бумага для этого предусматривается...» Я уж было хотел последовать этому совету, но на ловца и зверь бежит. Мимо меня проходил какой-то человек: «Тебе, батя, что — писать не на чем? Вот возьми тетрадочку, мне она ни к чему...» И я сделался обладателем очень порядочного блокнотика.
За этими занятиями, всякий раз с одной и той же стороны барака, до меня доносился один и тот же довольно громкий, немного скрипучий голос, разводивший все время разнообразные рацеи. Внимание мое этот голос привлек в особенности тем, что он очень убежденно выступал на защиту советских порядков, которые здесь в лагере со всех сторон, убежденно и неприкрыто, ежесекундно подвергались осуждению. В особенности остро и горько критиковались судебные порядки. Даже люди, знавшие за собой вину, говорили все время о том, что их 240
покарали не по закону — и более сурово и, в сущности, даже не за то, за что следовало...
— Нет, ты погоди, — слышится спокойный писклявый голосок, - ну ладно, два раза меня за дело судили — грабил, а вот третий раз ей-богу не знаю, за что схватили... И ведь никому ничего не докажешь, слушать не хотят — вор и вор... Так как же я могу от этого отстать, куда же мне деваться?..
— А ты думал как, паря? — отвечал ему скрипучий говорок. Раз у тебя две судимости, откуда же к тебе доверие возьмется?
— А если хочу исправляться?
— Хочешь исправляться — показывай это и днем и ночью. Вот, мол, я исправляюсь. Днем я тут и ночью тут. А ты, может, хоть в третий раз сам и не воровал, а от компании прежней не поотстал... Украл другой, а схватили тебя. Кто там с вами особенно разбираться-то будет?.. Тем более, про тебя давно уже известно, кто ты есть...
Откуда-то из глубины барака в разговор встревал слабоватый, но придирчивый и настырный голосок:
— Нет, ты вот что объясни: почему заключенного, который и так всего лишен, со всех сторон обирают. Попробуй ты добейся хоть того, что тебе положено, — не добьешься... Закон у нас даже и в этом не соблюдается.
— Зако! i, паря, на бумаге. А творят его живые л юди. Ты думал как? Ты видал, какие с нами красавцы сюда понаехали? Будут они сидеть на твоем пайке? Не будут. А где взять, чтобы их прокормить? Только у тебя, паря. Откуда же еще возьмешь? Поставь тебя поваром — ты что, пойдешь против вора, тебе жизнь не дорога? Не пойдешь, и никто не пойдет... Закон тут ни при чем. Закон — там, за проволокой...
Эти не очень последовательные речи произносил небольшой человек с выразительным смуглым лицом.
— Кто он такой? — стал допытываться я у ребят.
— А шут его знает. Говорят, начальник ОЛПа.
— То есть как начальник ОЛПа?
— Ну, был на воле начальником ОЛПа...
— А за что же его?
— А шут его знает...
Около него всегда стояло человека три-четыре, преимущественно из уголовников, которые вели с ним разговоры на юридические и общеполитические темы. Я тоже стал приставать к 241
этой компании, поддакивая начальнику ОЛПа в тех случаях, когда речь шла о советских порядках на воле. Он принимал мои поддакивания как должное. «Кто может говорить сейчас здесь против советской власти? Только человек ею справедливо покаранный. Да и из этих все большее число начинает сознавать свою неправоту...»
Очень интересно узнать, как он очутился в лагере, но я не решался прямо задать ему этот вопрос. Я спросил, как это вообще бывает, что сотрудники МВД попадают в лагеря. «А бывает очень просто... Как другие попадают, так и сотрудники тоже. Например, есть у вас на руках казенная сумма. Вы твердо знаете, что у вас через три дня будут те деньги, какие вам нужны сегодня. Взяли вы из казенных, а назавтра ревизия. Вот вы и в лагере...» Он, видимо, поделился со мной именно собственным опытом. Несмотря на свою велеречивость и охоту к политическим спорам, он был, в общем, осторожен в выражениях, понимая всю глубину внутренней враждебности к себе той среды, в которой он находился. О себе он лишнего ничего не рассказывал и то, что был эмвэдэшным начальством, — отрицал. Только уверившись в моей лояльности и безвредности, стал называть себя в разговорах со мной чекистом, как это делали с гордостью все старые эмвэдэшники.
Разговоры с ним мне бывали приятны прежде всего тем, что, хотя и велись подчас на эмвэдэшные темы, все же выводили меня из лагерной обстановки. То ли потому еще, что он, как и я, внутренне не ощущал себя лагерником?..
В это время начали уже распространяться среди заключенных «параши» на тему о том, что по отношению к некоторым категориям лагерных обитателей — так называемым бытовикам и другим малосрочникам — будет проведена колонизация, то есть содержание в лагере заменится для них поселением без права перемены места жительства, но с правом семейной жизни. Конечно, он вряд ли мог бы сколько-нибудь достоверно подтвердить или опровергнуть эти слухи. Но все же казалось, что годы работы в МВД выработали в нем определенную компетенцию, за счет которой он и мог высказывать какие-либо убедительные суждения по поводу этого волнующего нас вопроса...
Он не отрицал известной справедливости подобных слухов:
— Да, есть разговоры о том, что готовится такое мероприятие. - Но странное дело - он относился к нему достаточно равнодушно.
242
- Неужели вам это безразлично? — спрашивал я. — Ведь это коснется в первую очередь именно вас?
- Коснется это немногих и когда-то еще коснется. Легко сказать - колонизация, а где жить? Сколько надо бараков понастроить? Не скоро все это будет, не скоро... Сейчас строят спецлагеря да тюрьмы.
— Где это строят тюрьмы?
— А здесь на Воркуте, например.
— Зачем, для кого?
— Для наиболее злостных. Сейчас тюремное заключение для отбытия наказания применяется мало, а будет — больше. Кан- дальчики еще будут, кандальчики...
Я уже и раньше слыхивал подобные разговоры. Что будто бы для штрафников должны быть учреждены кандальные лагпункты. Слышал, но не верил — бред лагерников, полагал я. А теперь мне это подтверждал чекист. «Кандальчики»... Он произносил это слово с какой-то не то лаской, не то, употребляя уменьшительное, хотел несколько ослабить его зловещий смысл...
Воришек моих на вольготное житье все что-то не отправляли, а пока суд да дело, нашу бригаду бросали на погрузку в вагоны остававшегося с прошлого года разнокалиберного леса — мокрого и тяжелого. Подымать его приходилось с земли и катить по неаккуратно положенным, разъезжающимся жердям к сколоченному из толстых бревен устройству, по которому лес закатывался на высоту вагона. Катить вверх особенно трудно. Бревна не слушались, концы их двигались неравномерно и часто срывались вниз, под свист и брань... Слезай за ними наземь и начинай все сначала. Настоящая сизифова работенка... Спасение мое только в том, что воришки не способны работать размеренно и подолгу. После краткого аврала они разбегались по своим делам, и работа фактически приостанавливалась на неопределенное время — покуда не появится начальство, не напустится на бригадира, а тот не начнет шлепаками и тумаками собирать ребятишек для продолжения погрузки...
Усталость и голод как-то очень сужали мой кругозор. Я сразу не мог заметить всего того, что происходило вокруг. Сваливался на нары и засыпал или же лежал в каком-то отупении, ни на что не глядя. Все же и я в конце концов заметил, что барак наш почему-то удивительным образом опустел. Многие из воришек, несмотря на строгое распоряжение жить побригадно, 243
перебрались в другие бараки. Я этому только обрадовался и, воспользовавшись обилием свободных мест, выбрал себе на нижнем этаже у задней стены барака отдельную полочку на одного человека. Однако на другой же день по возвращении с работы я нашел мой незамысловатый багаж сброшенным на пол, а на моих нарах оказался матрац с подушкой и одеялом, словом, настоящая постель. Я обозлился бесцеремонностью, с которой произведено было мое выдворение, и стал было перетаскивать матрац непрошенного гостя на другие нары. На мое счастье, это заметил дневальный, объяснивший мне, что это место облюбовал себе Петька. «Что за Петька, какой еще Петька?» - «Петьку не знаете? Центровой. Он с Мишкой первый приятель. Мишку-то, небось, знаете?» Мишку я, кажется, знал. Речь шла, видимо, о том Мишке-жиде, с которым мне посчастливилось ехать сюда в одном вагоне. Так. Стало быть Петька — это воровское начальство, спорить с которым было бы бесполезно. Я собрал мои тряпки и мешочки. Расположился на сей раз хотя и неподалёку, но уже на верхних нарах — там показалось мне посвободней.
Дня два Петькина постель пустовала или мне не доводилось его на ней заставать. Но наконец-таки сподобился его увидеть. Это был молодой худощавый парень с очень бледным, изможденным лицом. Держался он сдержанно, молчаливо. Много лежал. Мне объяснили, что у него туберкулез: «Как только откроют стационар, так его туда и положат...» Мне было его сделалось даже жалко.
Ботинки свои по наивности я оставлял около нар, на полу. Придя с работы, разувшись и проспав некоторое время, я слез с нар и обнаружил отсутствие ботинок. Искал под нарами, опрашивал соседей — никаких следов. Ботинки-то главное лагерные, «четвертого срока», то есть никудышные. Ну, кому бы пришло в голову их украсть? «Что ж, - сказал я, ни к кому собственно не обращаясь, — видно, надо пойти заявить о пропаже. На работу что-то обуть нужно?»
Петька, лежавший до этого спокойно и равнодушно в своем углу, при этих словах подскочил, как ужаленный:
— Только и умеете, что по начальству ходить, - закричал он на меня. — Уши развесят, а потом - «ах, украли»... Почему у других ничего не воруют?
— А вы напрасно беспокоитесь, — сказал я ему очень сдержанно. — Заявлять я хочу не о пропаже и подозревать никого не 244
могу. Заявлю об утере. Потому что иначе за невыход на работу меня в изолятор посадят.
— Утере... - передразнил он меня. - Кто это поверит, что в бараке ботинки потерялись. Я ручательство дал, понимаешь, что ничего такого не будет... Никуда не ходи, — сказал он мне строго, но примирительно, — найдутся твои ботинки...
Оказалось, что их надел, для того чтобы выйти с бригадой на рейд, один из блатников. Вышел в ночь и к утру должен был возвратиться. Некоторые из соседей, как оказалось, даже знали об этом, но не решились сказать...
С Петькой у нас после этого инцидента установились довольно хорошие отношения. Он оказался москвич, вспоминали город, я подавал ему медицинские советы. Но через пару дней его действительно перевели в открывшийся уже стационар.
Рядом со мной поместился вдруг странного вида молодой человек — лет двадцати четырех. Я замечал его в бараке и раньше. Он довольно легко ладил с ворами, свободно с ними держался, но в то же время в нем присутствовало что-то такое, что очень резко отличало его от всех прочих обитателей нашего лагеря.
Мне он начал рассказывать о себе сам, не дожидаясь вопросов:
— Я американский подданный. Эти негодяи, мои начальники, могли бы обменять меня на какого-нибудь шпиона...
— Вас обвиняли в шпионаже?
— К сожалению, нет. Если бы меня обвиняли в шпионаже, я, как дипломат, был бы просто выслан на родину. Я сижу за убийство. Я защищал честь мундира... - Я удивленно поднял на него глаза. — Я военный атташе американского консульства в Ленинграде.
Я подумал было, что военные атташе бывают только при посольствах, а не при консульствах, но даже если этот человек и врал, все-таки все это довольно интересно.
— Я вижу, вы себя чувствуете здесь относительно свободно. Вам нравится наш народ, вы сочувствуете революции? - Он помрачнел.
- Я член куклуксклана... Но я приспосабливаюсь к обстановке, это верно...
Было в его словах многое такое, что заставляло меня отказывать ему в доверии. Хотя он и изъяснялся с некоторым, 245
впрочем мало уловимым акцентом, все же он очень уж хорошо говорил по-русски для американца. Конечно, он мог быть из семьи каких-нибудь эмигрантов.
— Вы работаете в бригаде?
— Нет, что вы. Я получаю достаточно содержательные посылки три раза в месяц — больше, к сожалению, ваши правила не разрешают — для того, чтобы купить свободу действий в лагере. Я числюсь при спецчасти, но ничего не делаю и там.
— Кем же вы числитесь в спецчасти?
— Дневальным.
Все это, в конце концов, довольно правдоподобно. Я было хотел более последовательными расспросами выяснить истину, но мой атташе вдруг исчез из барака. Искать его по лагерю не было у меня возможности: мои воришки, при которых я жил довольно вольготно, наконец уехали, и меня должны были перевести в другую бригаду. Почти всем остававшимся бригадам предстояло работать на лесотасках - на выкатке и сортировке леса, складывании его в штабеля или же на погрузке бревен со штабелей в вагоны. Тяжелая работа, требовавшая, кроме того, известной сноровки. Некоторые знакомые мне по Воркуте ребята работали на продовольственной базе. И хотя они тоже работали грузчиками, но хвалили эту работу, во-первых потому, что ее оказывалось сравнительно немного — хотя мешки с мукой и картошкой тяжелые, но таскать их приходилось не весь день подряд: бывали длинные «перекуры», во время которых можно печь из ворованной муки пресные лепешки и блины. «Там голодный не останешься», — заверяли они меня. Все это мне очень нравилось - в особенности возможность печь блины. Я очень изголодался. Скоро уже месяц, как я на Кожве, а пока еще ни писем, ни посылки, хотя я написал домой сразу же по прибытии сюда и сообщил мой новый адрес. А ведь последняя, полученная перед отъездом на Кожву посылка полностью досталась воришкам...
Как же бы это попасть на базу? Меня познакомили с бригадиром. Это был человек, видимо, очень спокойный и серьезный. Он поинтересовался моими установочными данными и обещал выяснить все в спецчасти. «Если там не возразят, по мне что же — пожалуйста, работайте... Зайдите завтра...»
Назавтра я бригадира не застал, но бригадники поспешили меня разочаровать: «Не светит тебе база — статья не та...» — «Что такое ‘ьне светит”?» — «Не светит, не светит...»
246
В отчаянии я решил сходить в спецчасть сам. На сей раз со мной разговаривал какой-то толковый и спокойный лейтенант. Он объяснил мне, что с моим сроком и статьей я не могу работать в тех условиях охраны, какие существуют на базе. Меня туда не выведут — конвой не примет. «Но вы не огорчайтесь, — добавил он. — И сама работа тоже совершенно не по вас. Там есть, конечно, вещи привлекательные для многих, нотам могут работать молодые, сильные люди. Они там час-два, а то и день сидят без дела, но когда прибывает груз, пятипудовики должны летать, как мячики... Я советую вам сходить к начальнику лаготделения и поговорить с ним насчет работы. Он очень хороший человек». Последние слова лейтенант произнес с ударением, настойчиво и доверительно глядя в мои глаза.
У меня сложилось твердое убеждение в бесполезности разговоров с эмвэдэшным начальством. Еще ни разу я у него ничего не добился. Всякий раз убеждался в том, что их заявления и заверения прямо противоречат действительности. Но начальник Кожвинского лаготделения майор Андреев вполне располагал к себе своей внешностью. И оказалось, что на сей раз внешность была не обманчива. Со мной разговаривали как с человеком.
— Не можете ли вы мне объяснить, гражданин майор, зачем меня сюда привезли? На Воркуте я мог быть полезен. Я археолог и годился бы для некоторых работ в качестве геолога. А здесь ведь я ничего не могу делать, кроме как плохо работать на выкатке и на погрузке?
— Я вам сейчас все объясню. Вас увезли с Воркуты, потому что не имели права там держать. Вы, по вашим установочным данным, не подлежите использованию не только что в шахтах, но и вообще на Воркуте. Лагерь эшелонируется как военная часть. Вы должны содержаться в тыловых подразделениях. Со временем вы себе и здесь найдете применение. Беда, конечно, в том, что вас здесь нельзя использовать по линии КВЧ. По положению, у нас в КВЧ должны работать только бытовики и из 58-й только малосрочники по 10-му или 4-му пункту... Не должны вы работать и в бухгалтерии. Но зато вас вполне можно использовать как специалиста. В отношении специалистов ограничений не существует. Нужны нам почти всегда медработники...
Он наталкивал меня на ту самую мысль, которую я прогонял от себя, считая по какой-то странной аберрации, что я не должен возвращаться к медицинской работе. А почему, собственно?
247
Я начинал отдавать себе отчет в том, что в условиях лагеря, так же как и на фронте, это наиболее гуманный и общеполезный вид деятельности. Особенно когда тут подвизаются такие врачи, как недавно виденный мной человек, напоминавший скорее лабазника, чем врача, одна мысль о котором отвращала меня от санчасти.
Итак, сама судьба толкает меня на эту работу...
— Пойдите поговорите с майором Гринштейном, — сказал мне на прощание Андреев.
Майор Гринштейн, хотя и ходил в военной форме, но совершенно не был похож на эмвэдэшного офицера. В облике его сквозило известное благодушие и гражданственность. Недавно я слышал по лагерному радио его лекцию на общесанитарные темы, обращенную ко всему населению Кожвы. Затем — и это произвело на меня особенно сильное впечатление — я случайно оказался свидетелем его разговора с наседавшими на него блатными. «Вы поймите, — говорил он им совершенно не начальственным и не казенным тоном. — Вы не можете отрицать, что я во всем решительно иду вам навстречу. Делаю все, что только возможно. Но вы хотите еще большего. А это большее — уже открытое беззаконие. Как только станет известно, что я это делаю, меня сейчас же выгонят, и на этом вы потеряете, вероятно, еще больше, чем я. Тот, кто придет на мое место, почти наверняка не будет делать и половины того, что я делаю для заключенных...»
Меня он встретил как человека, уже им ранее замеченного:
- Ага, стало быть вы тоже медик? - Я объяснил ему, насколько и при каких обстоятельствах я был медиком. — Что ж, обязательно буду иметь в виду. Напишите мне заявление. Сейчас вакансий нет, но буквально на днях в Кожве должен открыться еще один лагпункт, где будет амбулатория. Мы вас туда и возьмем. Будете вот с Шириным работать. Держите с ним связь, — и он указал мне на молодого чернявого человека в халате, с выправкой военфельдшера. Лицо его мне показалось приятным.
— Олег, — отрекомендовался он мне сам. — Начальником у нас будет там Мухетдинов. Вы его знаете?
_ ?
— Не знает Мухетдинова!? Его на Кожве все знают. Он сам бывший зек. Студент-медик из Казани, сидел по 58-й. Сейчас тут главная медицинская сила в поселке. Он и его жена. Тоже 248
бывшая зечка. Он парень хороший, главное понимает, что к чему. Лагерная медицина - это ведь штука особая... Не врач, конечно, но фельдшером работать может...
Так мы поговорили, подал я заявление, а на другой день мне объявили, что из бригады Колесникова я переведен в бригаду Волкова, которая работает на третьей лесотаске. Вот я и попал все же на выкатку, не миновала и меня чаша сия. Мне вспомнился украинец-актер на 25 шахте, говоривший, что на его веку это была самая тяжелая работа... Стало быть, и его тут пожалеть было некому. Может быть, и тогда заправлял делом тот же самый нарядчик?
Власть, даже ничтожная, даже эфемерная, способна кружить голову людям, даже и таким, которые, казалось бы, сколько-то должны знать цену вещам. Если правда, будто здешний нарядчик из школьных преподавателей, то крайне удивительно, что он себя так заносчиво держит... С этими мыслями я глядел на него по возвращении с работы и идучи из столовой. Он стоял перед дверью в барак, где видимо и жил, в небольшой группе мне еще вовсе неизвестных людей, наверно тоже из числа лагерной обслуги, с которыми благодушно разговаривал. Во всей его позе, в выражении лица, в ленивых жестах, в том, как он держал в руке папиросу, сквозило ничем не скрываемое превосходство и самодовольство. Как мало надо человеку, думалось мне, если здесь в лагере, около зловонного барака, будучи таким же заключенным, как и все другие, он способен вообразить себя начальствующим лицом! Удивительно рабская психология. Так, наверно, чувствовал себя какой-нибудь древний надсмотрщик над рабами и сам раб, получивший в руки кнут, чтобы стегать себе подобных...
Едва я успел дойти до нашего барака, расположенного на другом конце ОЛ Па, и приготовился было лечь спать, как кто- то вбежал в помещение и закричал: «Нарядчика убили!»
Никто было не поверил. Многие, как и я, видели его только что, идучи из столовой, стоящим на дворе лагеря. «Вот сию минуту и убили... Подошли три шпаненка, один с топором. Стукнул его по затылку, так что мозги вылетели вон, а сами пошли на вахту, даже и прятаться не стали... Айда, поглядим, он еще там лежит пред бараком... Кровищи...»
Я не пошел смотреть на убитого нарядчика. Он, очевидно, думал я, самым глупейшим образом демонстрировал свою власть не только «мужичкам», неспособным поставить его на 249
место, но — а это уже совсем другое — также и ворам. Расправа оказалась скорой и радикальной. «Воришек этих теперь судить будут. Дадут по двадцать пять лет, а им это до фига - зато из ложкомойников выйдут теперь в законные воры...»
Бригада, в которую меня зачислили, состояла из блатников всего процентов на 30. Остальные в той или иной мере «работяги» — 58-я и бытовики-указники, то есть элемент в общем не уголовный. Блатники с нами ходили только от лагерной вахты до ворот лесорейда, а потом расходились по своим делам. По окончании работы их еще приходилось собирать по разным концам...
Работа на лесотаске по степени трудности бывала разная. Проще всего человеку, сидящему на самом ее верхнем конце у дизельной будки и держащему в руке рычаг, которым по крику бригадира или самих работающих останавливалась или пускалась в ход цепь, тянущая лес. Наиболее трудным делом, по-моему, было вытаскивание бревен баграми из воды и втягивание их на цепь, которая их и подхватывала. Тут требовалась и сноровка и сила. Значительно легче было тем, кто сбрасывал бревно с цепи шестом перед соответствующим штабелем. Канительней да и утомительней всего — раскатка по штабелю, в особенности когда он уже становился длинным и каждое бревно нужно было катить метров тридцать, а то и гораздо больше. Тяжелые бревна катились по инерции лучше, чем легкие и тонкие, и устойчивее лежали на тех двух слегах, которые служили для них как бы рельсами. Я вместе со всякими шпанятами поставлен был на раскатку рудстойки. Во-первых, ее сравнительно больше, чем прочего леса, так что пока докатишь одно бревнышко до конца штабеля, на другом его конце - у лесотаски — лежит уже несколько новых бревен. Требовалось раскатывать бегом. Бревна рудстойки — по сути даже не бревна, а как их еще называли — хлысты, очень разнились в диаметре и весе у комлевой и верхней части, где они бывали уже совсем тонкими. Это вызывало их завороты и соскальзывание со слег во время раскатки. Тут уж приходилось бросать рычаг-дрючок, которым передвигалось бревно, и затаскивать его обратно на слеги руками. Роль бригадира после расстановки рабочих состояла в том, что он благим матом орал на всякого, кто замедлял темп или тем более — не дай бог — останавливался передохнуть. Смысл его брани состоял в том, что-де если не можешь работать - иди в санчасть, а уж если вышел - изволь поворачи250
ваться. Поскольку 30% бригады не работало, остальные должны были «обрабатывать» и их. Чтобы что-нибудь заработать, нужно работать соответственно дольше. Рабочий день наш, таким образом, достигал 12—13 часов, при этом «добровольно». Лагерное начальство не имело права задерживать нас на рейде больше восьми часов. Но работа производилась в две смены, которые фактически растягивались на полные сутки.
Выходила наша бригада в ночь, на вахту отправлялась часов в 11 вечера. Так как дело происходило в июне месяце, то солнце не заходило полностью, а лишь слегка пряталось за лесистую линию горизонта. Одиннадцать вечера - это, пожалуй, самое темное время. Позднее, когда мы выходили на рейд, солнце уже подымалось над горизонтом и освещало округу как уже не очень ранним угром, но не веселым утренним, а каким-то особым, весьма мрачноватым светом. Это было полуночное, как бы потустороннее и инфернальное солнце. Впечатление это создавалось, вероятно, вследствие усталости глаз от переизбытка солнечного света, от того, что они нс успевали как следует отдохнуть от него во время дневного сна.
От реки несло тиной и холодком. Древесина, размокшая и почти вся хвойная, дополняла этот запах своим разнообразным и острым букетом. На другом берегу Печоры тянулись низкорослые ивняки и ольшаники, переходившие в хвойный лес. За деревьями кое-где проглядывали деревянные постройки — как я уже знал, это начинался городок и железнодорожная станция Печора.
Река текла — это становилось заметно, когда к ней удавалось немного приблизиться, — очень бурно, в переплетении мощных струй и водоворотов. Уклон ее представлялся более крутым, чем у среднеевропейских рек, а видимые для меня верховья исчезали в густых и высоких хвойных лесах. Где-то там начинался и невидимый здесь Северный Урал. Я нашел потом в лагере место, откуда вершины его виднелись на небольшом протяжении, но в то время года они еще скрывались под снегом и воспринимались как отдаленные белесые облака.
Над Печорой
Стою, как Петр, над темною Печорой, Поросшею тайгою, как травой, По берегам далеким, невеселым, С их иссиня-туманной пеленой.
251
И я провижу новые селенья, Которым быть через недолгий срок На всем необозримом протяженьи Холодно-неприветливых широт,
Пустынно протянувшихся на север... Но мыслями-надеждами не теми, Что у Петра, я провожаю плеск Печорских волн и их свинцовый цвет:
Не о престиже и не об угрозах
Врагам-соседям сердце мне поет;
Надеюсь я, что в новых селах слезы Мать о погибших детях не прольет.
И искры радости мои ресницы греют — Пусть тяжело, пускай мы лишены Необходимого — надежды в эмпиреях Витают, как в гостях весны.
Гостят по городам, которые построят
Усилья наших рук на здешних берегах;
Гостят в живых сердцах, взращенных на покое, Цветами мир наполнивших, как сад.
Несмотря на июнь и на яркое, порою уже и очень жаркое солнце, так что в одной рубашке спина потела, несколько раз на дню падал снег. Тучки набегали быстро и неожиданно. На какое-то время все сразу вокруг мрачнело, и нас обдавало косым мокрым снегом, ложившимся порядочным слоем на штабеля, но тут же и таявшим. Приходилось спешно натягивать телогрейку, но вот она и опять не нужна, снова яркое солнце, и так до следующей тучки...
Первые дня три-четыре усталость от этой работы так сильно меня одолевала, что я едва добирался до барака и спал почти все свободное время — часов с десяти утра, когда мы обычно возвращались в лагерь, и до позднего вечера, с коротким перерывом на обед. А потом я, во-первых, довольно быстро стал привыкать к работе, а во-вторых, меня донимал такой феноменальный голод, что я почувствовал самую острую необходимость в каком-либо дополнительном питании. Съев свою порцию, я собирал миски со столов, чтобы отнести их на кухню, и доедал попадавшиеся в них иногда остатки. Это заметил один из поваров, паренек южно-русского типа... «Папаша, — сказал 252
он мне, - приходите к нам мыть посуду, каждый раз будете получать миску каши. Вы, я вижу, подголодали...» Я с радостью согласился. Мыть меня заставляли, однако, не миски, а котлы, кастрюли и противни, что в свою очередь требовало некоторых усилий, но уж куда ни шло. В этой посуде тоже бывали остатки пищи. Во время первого же мытья я уже так наелся, что поданная было мне миска сухой каши, видимо, вызвала на моем лице какие-то признаки разочарования, не укрывшиеся от моего приметливого повара. «Что, папаша, не так что-нибудь? А, я вас понимаю», — сказал он, не дав даже мне ответить. Взяв у меня из рук миску, он плеснул в нее порядочную порцию растительного масла.
Так я на протяжении некоторого времени ежедневно после работы еще часа два проводил на кухне за мытьем кухонной посуды. Конечно, это не то, что раскатка рудстойки, но все же в общей сложности я уставал адски, и все остальное время спал как сурок. Голод меня уже не мучил.
Бригада
Когда, отлученный от всех друзей, Один остаешься в чужой среде, Кончается действие личных связей И жизнь — в принадлежности к бригаде.
В ней ты стоишь и с нею ешь, Ритму ее подчиняешься весь, И этих креп стихийная сила Может держать до самой могилы.
И чем скупее жизни просвет — Чем плечи теснее в тяжелом сне, Тем социальный инстинкт острее В его безудержном чувстве и мере.
Для нас коммунизм не песнь, не идея, И даже не план великих строений - Он в ежедневном труде и быту, Всегда на памяти и на виду.
Мы еще сами не понимаем, Насколько — признан и заклинаем -
253
Он пребывает во всех сердцах, В каждом движении и на устах.
С ним реже любишь, чем ненавидишь, Живешь в глубоком сознаньи обиды, И быт суровый на каждом шагу Перед собой считаешь в долгу.
Всякую ложь и всякую слабость
Ловит инстинкт с затаенным злорадством, Как неисправности в механизме
И безупречности коммунизма.
И мы сознаем еще смутно и плохо, Насколько в себе его носим глубоко, Какую ему придаем всеобщность В том бытии, на которое ропщем.
***
Вы от меня безумно далеки, Как и в войну, за тридевятым царством.
И между нами, как простор реки, Несется время и гудит пространство.
Я радуюсь-страдаю от того,
Что, несмотря на долгую разлуку, Вас чувствую с предельной остротой Моим шестым, неподконтрольным чувством.
Объятия обмана, как елей, Как сладость наркотического средства;
Сознание утраты тем больней, Чем чаще ваши письма и приветы.
И я б не примирился ни за что
С трагизмом этих выплаканных бедствий, Когда б они не мнились торжеством Каких-то неизбежных соответствий:
Жизнь движется дорогой совершенств, Которых цели нам не сразу ясны.
Страданья наши, в свете перемен, Не так бессмысленны и горестно-напрасны.
254
***
В моих несчастьях-страданьях Подымет меня над болью Упрямое сознанье Реальной и явной пользы
Людям каким-то, где-то, Рукой моей отведенным От страданий подобных, Теплом моим защищенным От меня казнящего холода.
Мне чуждо и непонятно То, что иных нервирует Чужое благополучие, С бедами их контрастируя.
Если счастие чье-либо
На костях моих может вырасти, Сознание радости мыслью Сыто — заботы волею:
Были бы кости не тонки, Легли бы компактной грудой - Пусть улыбается солнце Идущим над ними людям.
Джордано Бруно
Пусть встретить смерть в сознаньи правоты Не так, как в нерешительности, трудно — Но как узнать, что грезилось в пути К высокому костру Джордано Бруно?
Живя для нового, он умер, как и жил, Во утвержденье правды парадокса. Нам чудится - тем пламенем горим И мы, за будущее бившись вдосталь.
Он мужество нашел в себе — не осудить Судей своих глухих и недалеких мыслью, В них находя все той инерции корысть, Которую он понял и исчислил.
255
Пусть так, как встретил он улыбкою простой Фанатиков, костер его поднявших, Приму и я мой жребий и на том С судьбою расквитаюсь страшной.
Прошло еще недели две, прежде чем до меня начали доходить письма из дома и пришла, наконец, долгожданная посылка. Я просил в письмах очень настойчиво не посылать мне ничего лишнего, но мать всякий раз нарушала это условие. На сей раз в посылке оказались очень хорошие белые сухарики, не сдобные, но какие-то очень вкусные и сытные. И они меня очень выручали на работе. Трудно бывало работать не евши часов 12—13, хотя надо сказать, что и к этому режиму я начал было уже привыкать. Но тут я стал брать с собой на работу по нескольку таких сухариков и мог, в случае нужды, немного заморить червячка. Это представлялось даже более важным для поддержания настроения, чем для утоления голода.
Работая в этой бригаде, я почти совершенно потерял возможность общения с посторонними людьми. И даже в санчасть забегал только на минутку, чтобы с огорчением узнать о том, что новый ОЛП еще не открылся, хотя должен открыться вот-вот, но когда в точности — все еще неизвестно. А в бригаде нашей не было собственно ни одного человека, с которым можно было бы перемолвиться словом. Ко мне некоторый интерес проявлял один красивый и еще довольно моложавый человек украинского типа, коллега мой по статье и сроку. Из плена его освободили американцы, у которых он пробыл до осени 1945 года, научился немного по-английски - в пределах good Evening и good Day — и нюхнул, так сказать, демократии. В нем кипела очень острая обида на нашу судьбу.
Охотно заговаривал со мной тоже довольно еще молодой горьковчанин — хозяйственник или бухгалтер, человек явно совершенно честный, угодивший под указ 1947 года. Имел он пятнадцать лет, сидел еще совсем недавно, и его очень возмущали лагерные несправедливости и жульничества, в частности порядки в нашей бригаде.
Мне бывало совершенно достаточно тех разговоров с ними обоими, какие возникали в столовой и на работе — всякий раз о каких-то совершенно конкретных вещах, душу же отвести оказывалось не с кем.
Горьковчанина мне приходилось урезонивать в его попыт256
ках сцепиться с бригадиром, которого он считал главным виновником всех наших трудностей. Он никак не хотел понять, что и то, что мы так перерабатываем и что часть бригады не работает вовсе, это-то как раз и есть лагерный порядок. Впрочем, позднее я сам должен был убедиться, что существовали бригады, лишенные всех этих безобразий, где и бригадиры и бригадники набирались из людей честных и сплошь работящих, но и там приходилось отчислять какие-то деньги бригадирам для дачи взяток нарядчикам и гражданскому лесорейдовскому начальству. Но это всё были очень редкие люди. В лагере столь же редкие, как, вероятно, и на воле.
Работа в амбулатории. Фельдшер Ширин. Свидание с женой
Наконец стало определенно известно, что через несколько дней новый ОЛП откроется: уже набирали новых самоохранников для его караула. Фельдшер Ширин познакомил меня с неким молодым человеком, назвав его Борисом, — мрачноватого вида, говорившим преимущественно о футбольных состязаниях, — и сказал, что он будет статистиком амбулатории на новом ОЛПе. Еще один молодой человек, очень тучный и вида уже довольно специфического, которого они с Борисом называли ласково «Мишаня питерский», намечался туда же в качестве санитарного инструктора. Так должна была выглядеть наша амбулатория. Из всего этого состава покуда что работал в здешней санчасти один только Ширин еще с одним фельдшером, которому он помогал вести здесь амбулаторный прием. Единственный наш врач, как правило, вызывался лишь в более серьезных случаях.
Так как мне уже не приходилось больше мыть кухонную посуду, я вызвался помогать в процедурной на утреннем приеме, и это охотно приняли. Работы оказалось хоть отбавляй — процедуры производились очень приблизительно. В особенности страдали физиотерапевтические назначения, растирания и массажи. А в тех условиях, когда очень большое количество больных — ревматики, именно эти лечебные средства надобились больше всего. В общем, дело у меня пошло на лад довольно быстро. Я очень скоро вспомнил все прежние навыки военного времени — преимущественно малую хирургию, которой я 257
9 Лагерный дневник
довольно много занимался во время войны. Но я не умел делать вливаний, которые очень вошли теперь в моду. Мой коллега по процедурной — ленинградский военфельдшер - тоже не умел этого делать, а соответствующие назначения исполнял сам Ширин, которому приходилось чередовать эти процедуры с работой на приеме. Я очень приглядывался к Ширину и через несколько дней выполнял уже назначения по аутогемотерапии и по вливаниям глюкозы и аскорбиновой кислоты. Никотиновую кислоту и хлористый кальций я все же еще вводить не решался из боязни вызвать некроз, ибо игла у меня нет-нет да и выскакивала из вены во время вливания, из-за чего получались небольшие гематомы, которые приходилось разгонять компрессами.
Мои собригадники, видя меня работающим в санчасти, стали проникаться ко мне уважением. Оно увеличилось еще больше, когда по переходе в новый лагпункт меня перевели из бригады, перешедшей туда в полном составе, в санчасть. Работая в амбулатории, я все же старался не порывать связи с бригадой — то ли к людям привык, то ли девать еще себя после работы бывало некуда — литературные занятия после отъезда из Воркуты как-то у меня еще тут не налаживались.
Со мной советовались по медицинским вопросам и охотно разговаривали на всякие другие темы более или менее отвлеченного характера. Раньше те же самые молодые ребята полууго- ловного толка не прочь были, хотя и в достаточно мягкой форме, поиздеваться над неловким и слабосильным «старичком» из интеллигентов, у которого никак не клеилась такая простая работенка, как раскатка рудстойки. Теперь, когда я приходил в бригаду, вокруг меня усаживалось человек пять-шесть и начинались обсуждения всяких «параш» и лагерной судьбы вообще. Несмотря на разнохарактерность и разношерстность этих людей, на которых все же сказывалось в какой-то мере полученное ими семи- или даже девятилетнее образование, сходились они на одном: «Все бы ничего, и работа, в конце концов, не такая уж трудная, да вот “мораль” убивает - не считают тебя за человека... Да что там — человека. Ведь и про зверей понимают, что нельзя разъединять самцов и самок, а нас вот к женщинам и на выстрел не подпускают. А ведь здесь не тюрьма — лагерь. Раньше этого не было в лагерях. Жили вместе. Все строгости пошли после войны, из-за фашистов».
Фашисты — это мы - 58 статья. В бригаде имелся один настоящий немец - в лагерях вообще содержалось довольно много 258
немцев, не только привезенных вновь из Восточной Германии, но и из числа военнопленных, признанных военными преступниками или осужденных лагерным порядком. Этот немец происходил из Берлина. Жил он в Восточном Берлине, занимался торговлей, и у него были какие-то дела в западной части города. Это не понравилось, ему дали двадцать пять лет за шпионаж и привезли на Воркуту. Но так как он оказался не в режимном лагере, ничего, видимо, даже отдаленно напоминающего реальные преступления за ним не числилось. Звали его Грассе, но все произносили его фамилию как Гроссе. Это был очень благодушный и спокойно принявший свою судьбу человек. Как-то притерпелся он к лагерным условиям. В бригаде он появился совсем недавно, на главном ОЛПе его, во всяком случае, еще с нами не было. Узнав о моем существовании, он стал обращаться ко мне с просьбами перевести ему что-либо из сказанного другими или сказать кому-либо что-либо от его имени. Мне его было особенно жалко. Я себе представлял, что он должен чувствовать себя особенно одиноким и потерянным навсегда в русских лагерях. Лет ему с виду не меньше пятидесяти. Как-то раз он попросил меня написать ему какое-то невинное заявление в спецчасть о каких-то невыплаченных ему небольших деньгах. Я написал и перевел ему слово в слово на немецкий язык русский текст. Он остался доволен и только заметил, что, по его мнению, в конце должно стоять «к сему». Действительно, лагерные грамотеи откуда-то выкопали и восприняли эту древнюю канцелярскую формулу и заканчивали нередко свои заявления по начальству словами «к сему», за которыми следовала подпись. И Грассе каким-то удивительным образом это уловил и запомнил.
Как-то я угостил его печеньем из посылки. «Не думайте, — сказал я ему, — будто вся жизнь у нас идет на том же уровне, что и в лагере. Где-то там люди продолжают жить нормально. Не могу ли я чего-нибудь попросить для вас у моих родных?» Он оживился, поблагодарил и попросил самую простую курительную трубку. «Zu Hause habe ich immer die Pfeife geraucht»1. Просьба его мною была исполнена, и месяца через полтора или около того в следующей посылке оказалась вложена также и его трубка. Он остался очень доволен: «Zieht wunderbar»1 2, — говаривал он, обкуривая трубку.
1 Дома я всегда курил трубку.
2 Чудесная затяжка.
259
На этом ОЛПе имелось большое здание стационара, однако оно не использовалось по назначению неизвестно почему. Может быть только потому, что расположен был этот ОЛП сравнительно далеко от того места, где находилось начальство лаготделения. Палаты этого стационара обстроили нарами и в них помещались бригады. Только две небольшие комнаты отвели под амбулаторию. В одной из них мы жили, а в другой, где стояла кое-какая аппаратура (соллюкс, кварц, бикс со стерильным перевязочным материалом и др.), помещалась и приемная, и процедурная. Санитаром у нас оказался маленький молодой башкир Семигуллин — очень тихий и исполнительный паренек. У него был привычный вывих плеча, рецидивировавший довольно часто, а вправлять его оказывалось не всегда просто — иной раз весьма для него болезненно. Этот недостаток обеспечивал ему спецтруд, но, конечно, не работу в санчасти. Этим он был обязан, как я узнал потом, нашему начальнику, отобравшему его по национальному признаку и говорившему с ним иногда по-татарски, так чтобы мы, прочие, не понимали.
Но поначалу этого нашего заведующего еще не было: он не вернулся из отпуска. Нас почти ежедневно навещал Гринштейн, проводивший у нас с полчаса и просматривавший больничные карточки, а исходя из них и более серьезных больных. Кроме того, он прикрепил к нашей амбулатории вольную санитарку, которая использовалась у нас также для связи: когда что-либо из отсутствующих лекарств или инструментов срочно оказывалось нужным, ее посылали на центральный ОЛП или в аптеку, обслуживавшую на Кожве и лагерную и вольную медицину. Хотя это была совершенно малограмотная женщина, невольно получалось так, что в наших глазах она выглядела чем-то вроде начальства.
«Интеллигенция» нашего ОЛПа состояла всего из нескольких человек. Помимо нас - двух медиков и нашего статистика Бориса, имелся нарядчик — бывший старший лейтенант интендантской службы Пашук, получивший пять лет за какую-то совершенно смехотворную недостачу: «Валялась, — говорит, — у нас на складском дворе какая-то никем не учтенная и нам совершенно не нужная дранка. Складские рабочие из местных жителей нет-нет да и выпрашивали ее у меня для ремонта крыш. “Берите, черт ее подери...” А она оказалась все же где-то заприходована. С меня и спросили. Ну, хоть бы вычли - грош 260
ведь ей цена. Нет, судили по всей строгости за разбазаривание военного имущества...»
На фронт он попал с вузовской скамьи и сохранял об этом еще и тогда какие-то воспоминания. Уровень интересов его, впрочем, отличался от лагерного преимущественно тем, что он был завзятым шахматистом. Вместе с ним — они занимали какую-то получердачную каморочку в нашем же здании — жил пожилой и тучный еврей из бывших партийцев-уклонистов с лагерным стажем в 17 лет. «Сказал будто я когда-то что-то не гак, сам уже даже не помню, что и сказал, вот меня и возят они восемнадцатый уже год...» Он числился у нас чем-то вроде блюстителя бараков и прочих лагерных учреждений. Нигде в других местах такой должности больше я не встречал. Вероятно, она возникла специально для него, и начальство вообще к нему хорошо относилось. Он, вопреки своему национальному характеру и несмотря на очень больное сердце, оказался не дурак выпить. Водку ему таскали надзиратели, и после каждого очередного возлияния он отлеживался по нескольку дней.
Подобным ему по степени интеллигентности и по судьбе представлялся мне один из двух поваров, тоже бывший партиец, грузин, сидевший, как и «комендант», с незапамятных времен. На кухне вместе с ним работал кооператор из-под Харькова — человек тоже несомненно совершенно честный, но не без завиральных фантазий, к тому же завзятый, как и нарядчик, шахматист. Его напарник-грузин казался в моральном отношении на две головы его выше. Как-то при снятии пробы пищи на кухне я извлек из котла длинную соломину и протянул ее кооператору. Тот, не моргнув глазом, брякнул: «Это укроп...» — «Помилуйте, какой же тут укроп, в лагере? Да тут скорей сахарный тростник найдешь, чем укроп». Кооператор мой покраснел, а грузин потом долго и укоризненно его передразнивал: «укрёп, укрёп...»
Несомненно к «интеллигенции» необходимо отнести и парикмахера, имевшего на воле какой-то небольшой чин в гражданском Морфлоте. Вообще он казался сдержанным и довольно нелюдимым. Иногда только заходил в санчасть вечерком — перекинуться словом. Но откуда-то он раздобывал чай. Напившись чифиря, вылезал наружу из своего парикмахерского закутка и оглашал территорию ОЛПа бравурными ариями и романсами.
Тем временем северное лето 1951 года совершенно вступило в свои права. Июль месяц на исходе, наступало самое теплое 261
время года, и ходить в ватных брюках становилось невмоготу. Я уже несколько раз пытался получить летние казенные брюки, но не оказывалось подходящего размера. А тут еще у меня из амбулатории украли мою, присланную из дому ватную телогрейку. Я оставил ее легкомысленно на топчанчике, полагая, что на телогрейку-то никто не польстится - она почти ничем от казенной не отличалась — но польстились-таки, и найти ее не удалось. Так что надо было получить и брюки и телогрейку, без которой по вечерам все-гаки невозможно. Телогрейка нашлась подходящая по размеру, а штаны оказались так коротки, что заканчивались где-то посредине между коленом и щиколоткой. «Вот педерастические штаны», — сказал возмущенно кто-то из моих товарищей, но выбора не было, пришлось довольствоваться ими.
Появился наконец и наш заведующий. Им оказался красивый и нестарый брюнет среднего роста, без чего-либо специфически татарского в лице. С ним мы разговаривали совсем по-свойски, держась почти на равной ноге. Нам стало известно из неоднократных рассказов бывших зеков, работавших на лесорейде, что побывавший в лагерях по 58 статье человек на воле человеком уже не считается, и ни один эмвэдэшник не сядет с таким за один стол обедать в общественной столовой. Гак что Мухетдинов был «наш» и от этого не отрекался. Ходил он к нам редко, объясняя это тем, что ему приходится заведовать этой амбулаторией по совместительству с работой в вольной амбулатории поселка, где он тянул на себе уже всё решительно, а на процедурах ему помогала жена, также бывшая зечка и фельдшерица по образованию. Можно было представить себе, что жизнь его здешняя складывалась если и не очень тяжело, то крайне однообразно. Водиться почти не с кем, а так как бывших зеков (из числа сидевших по 58 статье) норовили упрятать снова и нередко это осуществляли, то их пустой и крайне элементарной жизни сопутствовал вечный страх перед возможностью нового заключения.
И все-таки я мучительно завидовал Мухетдинову и другим таким же людям. Мне представлялось, что огромная свобода заключалась уже в возможности сходить в лес, на Печору, съездить куда-нибудь, хоть недалеко. Можно, наконец, соединиться здесь с прежней или, при невозможности этого, завести себе новую семью. Если чувствовать ко всему этому вкус, то свобода, даже и такая урезанная, могла стать достаточно привлекательной и сладкой. Мне еще представлялось, что можно 262
заниматься каким-либо небольшим хозяйством и выстроить себе настоящий дом, а не ютиться в бараке.
Во сне и в мечтах я нередко представлял себя вышедшим на каких-то неведомых условиях из лагеря (в порядке колонизации или амнистии) и занимающимся домостроительством. Так мне казалось приятно самому обтесывать бревна, пилить горбыли и доски, соединяя все это постепенно — по твоему же собственному плану — в задуманную постройку... Это были очень сладкие мечты, облекавшиеся иногда в весьма яркую, реалистичную форму: я вдыхал запах свежего леса, прелой болотной травы, слышал зудение комаров, которых зловоние нашего лагеря отпугивало почти совершенно.
Но мы изнывали от огромного количества мух, тараканов, клопов и даже вшей, хотя и призваны были со всем этим бороться. У нас обитало также большое количество крыс — огромных и наглых. Они и при свете дня не боялись людей. На этом ОЛПе ввиду заболоченности почвы вели от барака к бараку и к вахте деревянные мостки. Под ними всегда слышалось движение и возня крыс...
И сквозь все это иногда вдруг проскальзывало что-то из совсем другого мира, точно в наше адское, мертвое царство врывалась живая струя...
Особенно нудной и отвратительной представлялась наша еда: супы с гниловатой кислой капустой, мороженой или сушеной картошкой. Однообразные овсяные или перловые каши, соленая рыба — мелкая треска или тюлька... Но вот два или три раза нам разрешили на свои деньги купить по мисочке настоящего свежего молока, вкус которого показался совершенно божественным. Пользуясь удаленностью от начальственных глаз, надзиратели стали посылать своих детей к вахте продавать нам лесные ягоды — землянику и голубику. Разок-другой и мне перепало по стаканчику этих замечательных ягод. Наконец, кто-то из пациентов подарил нам несколько рыбешек, выловленных на рейде во время работы чуть ли не просто штанами, привязанными к палке в качестве импровизированного сачка. Мы из них сварили совершенно удивительную уху, почти что без всякой приправы. Такие вещи на короткое время возвращали вкус и ощущение настоящей жизни.
Неожиданно к нам прислали еще одного фельдшера. Собственно, неожиданным показалось лишь самое его появление, потому что об этом Николае Жданко я уже слыхивал неоднократно и от Ширина и от других людей — старых воркутинцев.
263
Мне рассказывали, что в Воркутлаге, наряду с другими снискавшими широкую известность людьми, имеется и этот фельдшер, он же украинский поэт и борец за самостийную Украину.
Мухетдинов даже не успел нас предупредить - так скоропалительно Жданко перевели к нам с главного ОЛПа. Перед самым его прибытием, узнав, видимо, от нарядчика, Ширин мне сказал: «К нам посылают Жданко. Чудной тип, потехи будет немало. Вам-то с ним покажется интересней, чем со мной. Поговорить мастер...»
И тут же явился и он сам — очень здорового вида, коренастый невысокий человек, с очень сосредоточенным, неспокойным лицом. В первом же разговоре он принялся бранить русских угнетателей украинского народа. Когда я сказал, что на Украине действительно многие считают, что под немцами им жилось бы лучше, чем под русскими, он стал истошно кричать, что Украина должна быть независимой ни от кого.
— А возможно ли это, как вы считаете?
— Тем хуже, если невозможно... — И он стал читать на память украинские стихи, в которых описывались бедствия украинского народа, в общем, в шевченковском духе.
— Это ваши стихи? — Вопрос оказался бестактным.
— У меня нет стихов, мне запрещено что бы то ни было писать...
— Как это можно запретить писать? В наших условиях вы вполне располагаете бумагой, карандашами и чернилами. При обысках никто не интересуется тем, что я пишу. Изымают только острые или тяжелые предметы...
— У меня второй срок, полученный в лагере за антисоветскую пропаганду. И суд официально запретил мне писать.
- И вы действительно не пишете?
— Не пишу. То, что я сочиняю, я стараюсь запомнить наизусть... И он снова принялся читать мне стихи, на этот раз о Воркуте и об ужасах лагерного быта.
Действительно, первые несколько дней мне было интересно все это слушать. Мы спорили, но он очень быстро переходил на крик, на истерику, и сколько я ни убеждал его в том, что здесь кричать и исходить желчью бесполезно, урезонить его бывало трудно, и разговоры становились утомительными и раздражающими.
Но он, несомненно, был добрый человек, с совершенно за264
губленной молодостью. Посадили его еще до войны, в возрасте немногим больше двадцати лет. Теперь он казался человеком средних лет, с седеющими волосами.
Он и Ширин стали чередоваться на приеме, а я работал и с тем и с другим. Нарядчик и Борис — оказалось, что они приятели чуть ли еще не с воли — всячески подтрунивали над Жданко. То вдруг Борис начинал, клянясь и божась, рассказывать, как он видел своими глазами Жданко в пустой бане, занимающегося онанизмом. Почему-то все присутствовавшие начинали ему поддакивать и хохотать, хотя, несомненно, здесь в лагере не было человека, который бы этим не занимался. Жданко принимал эти издевки спокойно. Нарядчик подговорил кого- то из нарядной главного ОЛПа позвонить сюда по телефону и, вызвав Жданко, сказать ему, что он напрасно выдает себя за украинца. Известно, мол, что это неправда... Он попал в самое больное место Жданко, и тот учинил форменную истерику. Он перешел на украинский язык, клянясь и заверяя, что он и говорить-то может по-настоящему «тильки на ридной мови».
Жданко представлялся мне предельно честным. Никогда не разбазаривал лекарств и нс прикасался к аптечному спирту. Когда я однажды сказал ему, что на наш спирт, по-моему, нельзя положиться, так как он, видимо, разбавлен, Жданко пришел в совершенное бешенство и с зубоврачебными щипцами в руках устремился на «Мишаню питерского», нередко крутившегося у шкафчика с «группой А». Насилу мы их растащили.
С приездом к нам Жданко совпало появление на главном ОЛПе двух новых молодых, только что окончивших институты врачих. Они обе стали работать в стационаре, но инспектировали также и ОЛПы, посещали нас для осмотра больных и присутствовали изредка на приемах. Фельдшера наши к ним относились с презрением — в лагерной медицине эти молодые женщины ничего еще не понимали. Кроме того, Ширин, например, обладал очень тонким слухом и в качестве фтизиатра мог дать много очков вперед иному врачу. Помню, как в одной из комиссовок принимал участие пожилой врач, приехавший из Печоры, видимо для контроля наших врачей. Выслушав какого-то воришку, он на его вопрос — услыхал ли он что-нибудь, ответил: «Всё в полном порядке...» — «Да уж куда больше», — съязвил воришка и протянул врачу свидетельство о рентгеноскопии, в котором фиксировалось отсутствие значительной части правого легкого. Но старичок не поверил 265
рентгенограмме и вновь принялся выслушивать и выстукивать юношу. И если после Ширина врачиха говорила, что она не слышит того, что удалось прослушать ему, он не довольствовался снисходительно-презрительной улыбкой, а добивался всякий раз подтверждения своих наблюдений врачом, чем обычно и заканчивалось дело...
Меня эти встречи со свободными людьми, совершенно спокойно и равнодушно относившимися к тому, что мы заключенные, считавшими нас за настоящих преступников, всякий раз очень ранили. Такое отношение представлялось мне естественным со стороны эмвэдэшников-мужчин. Но эти врачихи- женщины, и женщины в конце концов все-таки интеллигентные, жившие, несомненно, примерно теми же чувствами, с тем же отношением к окружающему, с каким жили на свободе и мы, как они могут не понимать, среди кого они находятся?
Впрочем, отношение их к нам было все же очень хорошее; то же, чего внутренне требовал я, было, конечно, совершенно чрезмерно. А как бы вел себя я на их месте? Вероятно, тоже не кидался бы заключенным на шею...
Появление этих врачей и даже нашего начальника оборачивалось всякий раз если не праздником, то определенным развлечением. С ними в нашу жизнь входил мир, от которого многие из нас считали себя навсегда отрезанными.
Наш лагпункт располагался на высоком берегу, над самой Печорой. Верхнее течение реки скрывал от нас начинавшийся неподалеку лес, тогда как значительное пространство нижнего течения, вдоль всего лесорейда и дальше, вплоть до железнодорожного моста через Печору, открывалось нашим глазам. По мосту, громыхая, шли поезда. С Воркуты шли угольные составы. Досужие люди, каким в сущности был наш статистик Борис, на чьей обязанности было держать в алфавитном порядке амбулаторные карточки да составлять списки освобожденных от работы, — насчитывали за день до двадцати составов. В обратном направлении громыхал порожняк. Раз или два в сутки проходили пассажирские поезда, но они не производили шума, так что их мы почти что не замечали. По реке ходили катера и маленький однопалубный пароходик. Катера таскали баржи, груженые лесом, — снизу, а сверху - плоты и кошели. Река, однако, всегда казалась мрачной и пустынной, несмотря на это движение, чем она и оправдывала свое название Печоры.
На ОЛПе обычно бывало довольно тихо. Люди — те, что ра266
ботали днем, находились на рейде, выходившие в ночь — спали. И только во время разводов слышался торопливый топот ног да мат бригадиров, не всегда поспевавших собрать вовремя свои разбегающиеся и рассыпающиеся команды.
Хотя мне и приходилось нередко ходить по баракам, когда дневальные являлись с сообщениями, что у них кто-то заболел, или когда нужно было дать лекарство кому-нибудь из лежачих больных — с простудами или с небольшими травмами мы в стационар не отправляли, но я все же совершенно не представлял себе положения вещей в отдельных бригадах и внутренней жизни в бараках. Судя по тому, что на нашем ОЛПе находились бывшие самоохранники да два человека из тех, которых при мне «подбрасывали» на пересылке, надо полагать, у нас не было особенно ретивых и принципиальных воров, хотя незаметно было и классических сук. Впрочем, однажды, когда я утром перед разводом пришел в один барак, чтобы проверить одного больного парнишку, который не поднялся с постели, меня предупредил бригадир и на моих глазах с ужасной злостью сошвырнул этого мальчугана с верхних нар. Когда я заявил, что прислан его освидетельствовать, бригадир грубо заорал, что нечего и свидетельствовать: «А ну, ландай на работу!» И тот покорно засеменил па вахту...
Слышал я и о враждебных отношениях между некоторыми бригадирами, но проявления этой вражды наблюдал только тогда, когда она разыгрывалась у нас в амбулатории или где- либо в непосредственной близости от нее на моих глазах.
Был у нас один бригадир - Русанов, ростом и станом раза в полтора больше обычного и, видимо, большой силы. Как многие подобные люди, он стыдился и своих размеров и своей мощи. Отличался скромностью, даже застенчивостью, в трезвом состоянии никогда не повышал голоса. Но бригадирам легко доставать водку, поэтому он нередко бывал на взводе. Тогда он приходил в раж, проклиная свою судьбу. Своих со- бригадников — сплошь мальчуганов — называл не иначе как «ворье» и «шпана», но ласково, даже любовно. Видно, и он им был по душе, и они за него стояли горой.
Как-то я застал его у нас в амбулатории, в жилой комнате, сильно пьяного. Он сидел с Шириным и изливал душу. Тут-то я и узнал его историю.
— Я богатырь, Олег. С первого дня на фронте. За родину, за Сталина... Три ранения. Стояли мы в деревне на отдыхе.
267
С фронта пришли голодные, как черти. А хозяева — два старика — на нас глядели волками — немцев ждали. Попросил я у них пожрать — не для себя, для ребят. Сам терпеть могу, не могу глядеть на голодного человека. Старуха говорит: «И не проси, ничего нету...» А видно — зажиточно живут, попрятали только всё. «Смотрите, — говорю, — не дай бог найдем чего — пристрелю. Фашистов в тылу у себя не оставлю...» Послал ребят в подпол, и выволокли они оттуда и сала, и еще кой-чего. Я, как стояли они передо мной, их и прострочил из автомата. Ну и схватил десятку за разбой мирного населения. А я богатырь, Олег. С первого дня за родину, за Сталина...
Вот он-то и ненавидел, как оказалось, двух других бригадиров, славившихся высоким процентом выработки, за глаза называл их суками, но в глаза отношения своего до поры не выказывал. Как-то у нас сидел один из этих двух бригадиров — вид у него действительно был какой-то на редкость несимпатичный, что-то в нем сквозило смердяковское. День был по какому-то случаю праздничный. Бригадир сидел в хорошем костюме, какие в лагере и носить-то не разрешалось, но крупным ворам и сукам на этот счет начальством делались скидки. Пришел Русанов. С виду был трезв. Скромненько сел в сторонке. Молча слушал разговоры. Бригадир рассказывал о том, как сегодня по случаю праздника в бригаде состоялась небольшая выпивка, кто-то с кем-то повздорил... Русанов все это слушал, слушал, потом подсел поближе и стал говорить нравоучительным тоном: «Нельзя нашему брату праздновать. Покуда работаем — туда-сюда, люди как люди. Только руки свободны — сейчас же за бутылку, а там и до драки недолго. Толи дело у нас в бригаде... Встали в восемь часов. Спали бы и подольше, да суки-повара завтрак оставить нам отказались. Позавтракали — пришли в барак. Сидели ладно, тихо. Поиграли, поговорили. Ну, вот как мы сейчас. Ну, с чего я, скажем, полезу в драку или кого оскорблять начну? Нужно ведь характер дурной иметь, чтобы — тут он поднял с полу порядочное полено — так, ни за что человека обидеть?» Он размахнулся и хотел поленом огреть бригадира, но тот, видимо, предвидел эту возможность, уклонился с ловкостью от удара и исчез из комнаты в одно мгновение, как его и не бывало.
Русанов выругался со злостью и, не сказав никому больше ни слова, тоже вышел из комнаты. Все мы с некоторым удивлением наблюдали эту сцену. Мои товарищи заподозрили 268
какую-то личную неприязнь между обоими бригадирами. Но по прошествии нескольких дней, в вечернее время, когда мы все находились в нашей жилой комнате, в коридоре раздался неистовый рев и топот многих ног. Прежде чем кто-либо из нас успел подняться и выглянуть в коридор, дверь наша распахнулась настежь и в комнату ввалилась бригада Русанова в полном составе. Ребята были вооружены чем попало, всяким дрекольем. Вломившись в комнату и убедившись, что в ней нет того, кто им нужен, они повернули обратно и с таким же ревом ринулись дальше по коридору. Зрелище это имело устрашающий и в то же время комический характер. Я не выдержал и расхохотался, хотя и понимал, что если бы они наткнулись на искомого человека, он был бы немедленно ими растерзан. Видимо, им не удалось обнаружить его и в других местах, потому что никто не был ни убит, ни избит, и вообще дело это не возымело никаких последствий и, видимо, даже не дошло до начальства.
Вообще же, вероятно, начальство при желании могло бы многое знать, вплоть до относительных мелочей. Служба стукачества поставлена была на довольно твердую ногу, я в этом убеждался не однажды. Например, к нам заявился как-то один из оперуполномоченных — их у нас имелось на лаготделении три, из них одна очень симпатичного вида и недюжинной красоты женщина. Но к нам пришла не она, а человек, казавшийся мне далеко не симпатичным, хотя это не имело реальных оснований, как выяснилось через некоторое время. Но про него говорили, что он жуткий пьяница, и это читалось на его физиономии. Меня уже одно это от него отталкивало.
Зайдя в нашу комнату и толком не поздоровавшись, он принялся обшаривать тумбочки. Борис, вообще державший себя с начальством нагловато, не преминул поинтересоваться — не краденое ли тот ищет. Опер спокойно заметил, что хотя и не краденое, но полученное незаконно, а именно продукты лагерного питания. Борис заявил, что у него, например, имеются свои продукты в достаточном количестве и даже, в частности, мандарины... Тот столь же спокойно заметил, что его цитрусовые не интересуют, поскольку не входят в лагерный рацион, а интересуют именно казенные булочки. Я припомнил, что видел у Жданко после того, как он снимал пробу, штук пять или шесть таких булочек, вообще выдававшихся по одной на человека в счет положенного заключенному белого хлеба. Булочки эти бывали очень маленькие — грамм по 25 — и достаточно темные.
269
Видимо, об этом полученном Жданко на кухне подарке стало известно оперу через его лагерную агентуру, но булочки, к счастью, оказались давно съедены.
Среди дня у меня теперь оставалось много свободного времени, как, впрочем, и у всей лагерной обслуги. Занимались, кто чем может. Борис получал из дому спортивные газеты и составлял какие-то сложные сводки по футболу. Нарядчик и повара играли в шахматы. Я старался писать. Но почему-то мне это сейчас, на относительном покое и при наличии всяких других благоприятных условий, давалось трудней, чем весной, в перерывах между тяжелой работой и на голодный желудок, где-нибудь на штабеле непросохших бревен.
***
Тучи, как у старых мастеров, Синими тяжелыми массивами, В небесах высоких и суровых Над горами, реками и нивами.
И когда становится велик
Мир, как у старинных флорентийцев, Живописью созданный язык Расширяет зримые границы.
Необычно дальний кругозор Заключает горести и радости, Жизни преткновенья и просторы И прозрений будущего сладость.
И на первый выступает план Общность человека и природы: В мировом порядке — небеса, Даль земли и северные воды.
Стоял теплый и сухой август. Необыкновенно тянуло на природу. Мучительно хотелось искупаться. Я с завистью слушал рассказы моих бывших собригадников о том, как они во время работы полощутся в печорской водице, ловят налимов...
Ширин как-то словчился и с помощью нарядчика устроил нам выход на рейд часа на полтора для купанья. Затея, которая, конечно, не удалась бы ни за что на центральном ОЛПе. А тут у нас мы и так, почти не видя надзирателей - поверка произ270
водилась один раз в сутки, а вторая только на рейде, — не очень назойливо ощущали тюрьму. А на солнце, на бревнах прибитого к берегу плота, с перспективой реки и лесов за ней, не заслоненной никакими заборами или проволокой, чудилось, что вот он кусочек мечты о выводе из лагеря, о жизни без лагерных вышек и без собак вокруг забора на проволоке...
Купание получилось прекрасное, и вода на поверхности была теплая. Но тело держать в воде надо было строго в горизонтальном положении. Чуть только ноги углублялись хотя бы на метр, как попадали в совершенно ледяную, настоящую Стиксову струю... И так не хотелось возвращаться в лагерь.
В один из первых дней сентября майор Гринштейн после обычных разговоров на лечебные темы подозвал меня к себе и сказал, что на Кожву приехала моя жена. Свидание нам с ней, сколько ему известно, будет разрешено. Он ей оказывает возможную поддержку. Я чрезвычайно взволновался этим и всячески его благодарил. Для меня это произошло тем более неожиданно, что от жены я почти не получал писем. Писала мне регулярно и при этом часто одна только мать. Причины молчания жены в точности я не знал, но допускал, что она опасалась каких-либо нежелательных последствий у себя на работе из-за слишком явных со мною связей. На другой день сообщение о прибытии жены мне подтвердил также и наш нарядчик.
В тот же день меня вызвали к начальнику ОЛ Па и сообщили, что мне разрешено свидание с женой, по ее просьбе, на вахте на два часа. Когда я с этим известием вернулся в амбулаторию, оно вызвало общее ликование. Меня поздравляли, предлагали надеть чей-нибудь хороший костюм, неизвестно зачем предлагали денег. В этом было много неожиданной доброты и товарищества, но, с моей точки зрения, не много смысла. Для чего переодевание и уж совершенно неизвестно, зачем деньги. «Сунете надзирателю, может быть он вас оставит вдвоем...» — «Никогда в жизни ничего никому не суну. А костюма тоже не надо. Пусть она увидит меня и то, что на мне, как оно есть...»
Свидание произошло в помещении начальника режима, за столом, в присутствии надзирателя. Надзиратель попался довольно темный, глупый, бестактный. Свидания случались тогда очень редко, и поэтому он пялил на нас в любопытстве глаза, не позволяя даже свободно взглянуть друг на друга. Разговоров наших он, впрочем, не перебивал, но о чем можно говорить в 271
такой обстановке? Эти два часа тянулись невыносимо. Жена выложила перед надзирателем вещи (продукты), которые она мне привезла, и после его апробации сунула-таки и ему пару яблок и огурцов, от которых он не отказался. А потом мы сидели и обменивались односложными репликами. Домашние новости мне были известны из писем, а о прочих говорить казалось немыслимо или во всяком случае неловко. Я вздохнул с облегчением, когда наше время истекло. Жена мне сказала, что ей назавтра обещано такое же время. На этом мы и расстались. Мне можно было кой-чем угостить товарищей, рассказать же им я не мог почти ничего.
На другой день она пришла несколько позже, к вечернему разводу. Я боялся, что это вообще может помешать свиданию, но получилось наоборот. И надзиратель оказался другой, более умный и душевный, и сами обстоятельства нам благоприятствовали. «Мне некогда с вами сидеть, — сказал надзиратель, — бригады принимать и отправлять надо. Я вас посажу вот тут на скамеечке, — он вывел нас при этом за вахту, — сидите тут и разговаривайте. Будете у меня на виду...»
На самом же деле мы не только что не были у него на виду, но скамейка эта стояла так, что нас вообще почти что никто не видел, мы же могли разговаривать совершенно свободно и кое-что наблюдать из того, что происходило вокруг. Передавая жене тетрадочку переписанных начисто стихов, накопившихся у меня за время пребывания в лагере, я должен был отметить известную нервозность в том движении, с которым она приняла ее у меня и сунула в сумочку. «Боится», - подумал я. Конечно, это могло оказаться и рискованно. Но, с другой стороны, стихи в политическом отношении ведь более чем лояльные. И вообще, не мог же я не передать их ей? Ведь это же для меня единственная, быть может, возможность попытаться сохранить их.
Вскоре затем в стороне от нас, но в пределах отличной видимости и пяля на нас любопытствующие глаза, стали проходить побригадно наши лагерники в грязной и драной казенной одежде. Через вахту людей всегда старались прогонять быстро. Усталые, они это проделывали с напряжением, со своеобразной экспрессией.
— Какая серая скотинка, - задумчиво произнесла, глядя на них, жена. — Одного от другого не отличишь... Водишься ли ты тут с кем-нибудь?
272
— Да нет, собственно, водиться-то не с кем.
— Почему, как это так?
— Да потому, что здесь сидят люди, которым, собственно, тут и следует находиться... - несколько неожиданно для самого себя и с горечью за свое внутреннее одиночество высказал я эту явную неправду...
— Ты знаешь, — как будто бы даже с оттенком некоторого внутреннего удовлетворения и даже как бы радости подхватила она, — я тоже так думаю...
Эти ее слова ударили меня в самое сердце. «Значит, она считает, что и я тоже сижу здесь по справедливости?..» Но я ничего больше не сказал ей по этому поводу. Говорили на разные темы, без всякой оглядки. Никто нас не слушал. Затем она сказала, что завтра уедет. Хотя майор Гринштейн и действительно проявил о ней заботу, но жить ей тут плохо, смотрят на нее косо.
Мне тоже не хотелось ее здесь задерживать. Зачем? Все, в сущности, сказано. Все она видит, как оно есть. Для того, чтобы узнать нечто большее, и к тому же, может быть, даже при этом и не такое уж существенное, жить тут надо было бы долго. Вольный поселок наш состоял к тому же в значительной мере из вышедших на свободу уголовников. Мало ли на что этот народ способен? Пусть-ка лучше поскорей уезжает. И мы попрощались. Я с таким чувством, что вряд ли ее еще когда-нибудь увижу. Приятно мне было лишь сознание, что то, что я здесь написал, отсюда ушло и, может быть, уцелеет как некая иллюстрация здешней жизни.
Перед тем как ей уехать наш нарядчик и еще кто-то из моих лагерных знакомых выражали мне соболезнования по поводу краткости и публичности моих свиданий с женой. «Попросите начальника ОЛ Па, чтобы вас вывели на рейд, и пусть ваша жена со своей стороны попросит инженера Гринберга, чтобы он ей исхлопотал пропуск туда же. Там вы могли бы побыть вместе и дольше и гораздо укромней...» Я, подумав, категорически отверг это предложение, заподозрив его даже в провокационности. Подумать — чего только ей не могло бы быть приписано за подобную попытку обойти правила МВД? Мне-то что? То, чем я за это мог бы быть наказан, вероятно, мало усугубило бы горечь моего положения. Но она, а также и те гражданские лица, которые, быть может, пошли бы ей в этом навстречу, могли понести очень жестокое наказание. Кроме того, свидание украдкой, 273
где-то за штабелями бревен, с постоянной мыслью, что тебя могут увидеть, уличить в жульничестве, представлялось мне гораздо более унизительным, чем свидание под любопытным взглядом надзирателя.
Прошло несколько дней, и жизнь для меня снова вошла в колею, так, будто никто и не приезжал, никто не тревожил и не бередил душу. Наступила осень с ее яркими холодными закатами, тяжелыми тучами и резко укорачивающимся днем. Пошли разговоры о предстоящих этапах на Воркуту, о том, что значительную часть кожвинского лагерного населения из числа привезенных сюда весной, снова скоро «подымут» в шахты. Я не так уж боялся шахт, хотя, после того как я вернулся к медицинской работе и уже опять к ней привык, это могло показаться страшно. Я боялся самого переезда в битком набитых товарных вагонах, последующей неустроенности, обреченности на милость нарядчиков и других уголовных или им покровительствующих лагерных администраторов. Впрочем, всякий срыв с места не по своей воле неприятен, конечно, и на свободе. Достаточно было вспомнить о разных перемещениях во время войны — страшных, в особенности, своей неизвестностью. И я заранее старался примирить себя с мыслью об этапе.
Но, удивительным образом, с нашего ОЛ Па отправили только очень немногих. Видимо, здесь находился тот контингент, который администрация лагеря хотела сохранить для работы и в зимних условиях. Два или три больших этапа отправились на протяжении октября-ноября с центрального ОЛПа. Тогда стали муссироваться упорные слухи о том, что нас на зиму переведут на главный ОЛП, потому что зимой этот ОЛП никогда не функционирует — делать здесь становится нечего...
Переход на тот ОЛП, хотя он ни в коей мере не казался так страшен, как путешествие на Воркуту, все же мог поставить меня снова в трудные условия. Там ведь есть свой медицинский персонал, и вполне может получиться так, что я зимой снова окажусь на физической работе, как это получилось в прошлую зиму. Я старался примирить себя и с этим, привыкая к мысли, что лагерь - это именно физический труд в наиболее трудных условиях, а кратковременные избавления от него — не более чем подарки судьбы, за которые надо быть ей благодарным, но отнюдь на них не рассчитывать, ибо это уж как бог даст...
Тем временем мы распрощались со Жданко. С одним из 274
последних этапов его отправили на Воркуту. Он уезжал совершенно спокойно. Ему даже сообщили пункт, на котором ему предстояло работать в больнице. Он даже знал тех людей, с которыми вместе придется ему там работать. Старый воркутинец, он хорошо знал медиков Воркутлага — как заключенных, так и вольнонаемных. Ему общие работы, по-видимому, не угрожали, и я не мог втайне не позавидовать этому. Он трогательно попрощался со всеми, со мной особо, потому что мы находили с ним общее и за пределами медицины - даже читали вместе Некрасова, оказавшегося случайно у кого-то из заключенных.
Ввиду сезонности нашего лагпункта тут не было даже самой захудалой библиотеки, а КВЧ занималась только выдачей посылок. Не было даже камеры хранения, так что если бы я не жил в санчасти, от моих посылок и здесь оставалось бы, вероятно, не больше, чем па пересылке. Санчасть в этом отношении помогала не только своим изолированным положением, но и тем, что воровать или вымогать что-либо в санчасти считалось невозможным, — санчасть в нужные моменты приходила на выручку освобождением ли от работы, или наркотической таблеткой, до которых здесь всегда бывало много охотников.
Но вот, получив очередную посылку, я наткнулся у входа в КВЧ на человека, не виданного мной раньше. Этот новичок выглядел как классический бандит: среднего роста, крепкого сложения, с некоторым предрасположением к полноте, лет около сорока, с физиономией несколько одутловатой и выражающей абсолютное отсутствие каких-либо гуманных чувств. Он стоял переминаясь, злобно, как зверь, поглядывая вокруг. Когда я с ним поравнялся, он сказал: «Ну-ка, покажи, что у тебя там?..» Поскольку я не намеревался исполнять это предложение, он прохрипел: «Все равно отниму, падло!» Я ускорил шаг. Заметив, что я направляюсь в санчасть, он отстал и, видимо, вернулся к исходной позиции.
Я довольно-таки сильно удивился, когда дня через два увидел его сидящим у нас в амбулатории, уже по окончании вечернего приема, и беседующим с Шириным. А я только что вернулся из барака обслуги, где констатировал смерть одного из сапожников. Человек лег спать и вдруг упал с нар. Поскольку он не подавал признаков жизни, послали за нами, но всякая помощь оказалась уже излишней. На вид ему было лет около пятидесяти. К нам он никогда не ходил и, говорят, ни на что не жаловался. Ширин просил меня озаботиться переноской трупа 275
в амбулаторию, что и было осуществлено очень быстро его же товарищами. И когда мы положили мертвого сапожника на топчанчик для больных, бандит все в той же позе продолжал разговаривать с Шириным. Тот, когда все у нас с переноской трупа было закончено, привлек к разговору и меня. «Вот, человек жалуется на острые боли в области почек...» Я заметил, что Ширин сознательно театрализует этот наш консилиум. «Давно ли?» — с деланным любопытством спросил я. «Со вчерашнего дня, — буркнул бандит... — Подбросили меня, понимаешь?» Из дальнейшего выяснилось, что он, не поделив чего-то с мелкими воришками, нажаловался на них надзирателям, а воровское руководство постановило подвергнуть его обычному наказанию для предателей, не подлежавших окончательному убийству. Его три раза подбросили в бараке и, видимо, повредили одну из почек. Администрация немедленно перевела его на наш ОЛП, считавшийся очевидно «сучьим», поскольку высшего или, как говорили, «центрового» воровского контингента у нас тут действительно не было.
Бандюга вдруг вытащил из кармана горсть дорогих конфет, видимо у кого-то отнятых им при раздаче посылок, и принялся нас угощать. Мы оба отказались. Наш пациент был этим явно дезориентирован. «Что же такое, кому же дать-то? — говорил он, как бы сам с собой. — Этому, — он ткнул конфетой в сторону мертвого сапожника, - совсем уже ничего не надо...»
Ширин пообещал ему вызвать с главного ОЛП а врача для обследования. Тот злобно отмахнулся. «Смотрели меня уже эти врачи...» Видимо, у него тогда еще нельзя было ничего серьезного обнаружить, да этого, конечно, не очень-то и хотели. «Ну, приходи в пятницу на вечерний прием. Тут будет сам начальник санчасти, майор...»
Сапожника, пролежавшего у нас до утра, потребовали из больницы на вскрытие. Сопровождать его должен был заведующий амбулаторией, ввиду такого происшествия, у нас достаточно редкого, явившийся в тот день спозаранку.
А через два дня Гринштейн, как всегда мягко и терпеливо, объяснял явившемуся к нему бандиту: «Вы понимаете, больница на Воркуте вас не примет, вы же ведь скоро освобождаетесь...»
Видимо, этого-то как раз и не хотелось нашему бандюге. Он рассчитывал полежать месяц-другой где-нибудь на Воркуте, покуда здешние воры о нем не позабудут и не перестанут 276
его преследовать. Но он, даром что сам бандит, плохо, видимо, знал их повадки. Они вообще ничего и никого не забывали. Мне рассказали недавно, как одного освободившегося здесь суку убили на станции при посадке на поезд... Я, между прочим, несколько волновался и за Жданко. Мне как-то рассказал наш Борис, что Жданко несколько лет тому назад работал на «Известковом». Это такой воркутинский штрафной ОЛП, где условия содержания очень тяжелые и где, естественно, ни на кого и никак не угодишь. Он сам попал туда в штрафном порядке, но занимался медицинской работой. Одного из тамошних медиков воры будто бы уже убили, грозились убить и Жданко. Когда я ему сообщил об этом разговоре, он хотя и нахмурился несколько, но заявил, что это все чепуха — убивать его не за что, да никому и в голову не придет...
А как раз ко времени этого нашего с ним разговора предстоял большой этап на Воркуту. И вот, в дни подготовки этого этапа, к нам на короткое время перебросили вдруг заключенного забулдыгу-врача с центрального ОЛПа. Опять же говорилось, что сделано это начальством в порядке предусмотрительности, так как имелись агентурные (то есть стукаческие) данные о том, что воры перед отъездом хотят прикончить доктора за то, что он уж больно ретиво брал взятки...
Такая же угроза в отношении Жданко представлялась мне тем более реальной, что у нас буквально на днях произошел соответствующий трагический случай. На нашем ОЛПе с недавнего времени оказался бывший нарядчик с 43 ОЛПа Воркуты, которого я запомнил по его выраженно монгольской физиономии. У него, судя по разговорам, имелись какие-то нелады с ворами, которые он, однако, не считал достаточно серьезными, и все порывался выйти на рейд для переговоров с воровским начальством, которое его, должно быть, всячески к этому же побуждало. Но начальник ОЛПа выпускать его на рейд не желал. И вот вдруг этот человек исчез. О побеге не могло быть речи — ему предстояло в самом ближайшем будущем освобождение... Через несколько дней, однако, труп его нашли на рейде в укромном месте под штабелем с туго затянутым на шее ремнем и со следами удара, нанесенного чем-то тяжелым в висок. Видимо, он какими-то неправдами выбрался-таки на рейд, идя навстречу воровским ложным посулам, надеясь договориться и помириться...
277
Майор Гринштейн после вскрытия трупа нарядчика рассказал нам об обстоятельствах его гибели: «Асфиксия... Смерть наступила от удушья. Удар по виску каким-то железным горбылем всего лишь его оглушил...»
Перед моими глазами отчетливо встало очень своеобразное, с некоторой хитрецой в узких глазах, лицо этого человека. Товарищи мои высказывали удивление по поводу того, что воры так легко его обманули. «Старая воркутинская крыса, — говорили они, — как он не понимал, что воры ничего не прощают тем, кого считают в числе своих, хотя бы и прежних, врагов...»
Когда бандюга, ничего не добившись в разговоре с майором, ушел, я взглянул на майора, а он, подхватив этот взгляд, сказал с горечью:
— Ведь вот же через несколько дней выйдет человек на свободу...
— Ну и дай ему бог, — ответил я, почти автоматически радуясь за всякого, кому предстояло освобождение.
— Ну, как это вы так говорите, ведь он же с места в карьер бросится грабить.
— Будет грабить — поймают...
— Покуда его поймают, можете себе представить, чего он натворит?
От таких мыслей и представлений я, увы, оставался очень далек, поскольку внелагерный бандитизм не содержал для меня в себе никакой реальной угрозы... как и вообще все внелагер- ные обстоятельства казались мало реальными и представлялись чем-то вроде потустороннего мира, как древнегреческий Элизий или Острова блаженных...
Где-то там на воле, «в России», как говорили лагерники, живут свободные люди. Ну и пусть, дай им бог жить получше, если это возможно. И если для того, чтобы они там могли жить, необходимо, чтобы мы были здесь, то против этого у меня, как и прежде, нет ни капли протеста. Пусть так и будет...
На дворе тем временем наступил глубокий декабрь. Зима покуда стояла довольно мягкая, большие морозы знать себя не давали. Да и Печора стала только в самом конце ноября. Этой мощной реке, для того чтобы стать, необходим был мороз до —30°, удерживавшийся продолжительное время. Уже с конца октября по реке начала идти шуга — мелкий, точно размокший кусковой сахар, лед, но в большом количестве, так что им за278
полнилось почти все русло, и над рекой все время стояло характерное шуршание льдинок, хорошо слышное и у нас, когда направление ветра этому благоприятствовало. И только почти через месяц река стала совсем. Произошло это как-то незаметно, и помогли этому ночные морозы. Привыкнув уже к шуге, как-то вдруг мы заметили, что шуга эта уже не идет, а стоит неподвижно. Поверхность реки была торосиста и неровна настолько, что, вероятно, воспроизводила в миниатюре поверхность Карского моря в зимнее время.
Кончался 1951 год — второй год моей тюремной и лагерной жизни. Время это прошло для меня, если оглянуться назад, довольно быстро, но, однако, как далеко казалось все то, что этому предшествовало. Особенно далека и нереальна московская домашняя жизнь в промежутке между пленом и арестом. Эти два периода слились как бы в одну длинную неволю, в период принудительных жизненных условий, голодного, нечистоплотного, какого-то недостаточного, ущербного существования. А промежуточное время, с его трудами и тревогами — время бесконечных внутренних переживаний заново войны и плена и время боязни и предчувствия ареста, — мне как будто бы приснилось или примерещилось сквозь какой-то тяжелый и беспокойный сон...
Для меня наступление зимы знаменовалось еще довольно значительным увеличением амбулаторной работы. Участились простудные заболевания. Многие из обитателей северных лагерей страдали от ревматизма, радикулита и других острых миалгий. Радикулит и миозиты — заболевания, не дающие повышенной температуры, не заметны на глаз и в то же время причиняют очень большие мучения. Я сам испытал это на себе на Воркуте, и сам себя лечил по вечерам соллюксом, тогда как днем должен был ходить на работу и махать лопатой, превозмогая ужасную, до крика, боль. Тут у нас тоже относились к радикулитчикам недоверчиво. Очень уж легко этот радикулит симулировать. Скажи, что, мол, спина разламывается, нету терпежу и мочи, ноги не стоят, - вот тебе и все. У Жданко, старого и опытного воркутинца, я перенял безошибочный способ определения степени серьезности радикулита. Бросаешь на пол какой-нибудь небольшой предмет и говоришь больному: «Подыми!» Если он подымает почти не сгибая колен, значит у него радикулит легкий; если при этом садится на корточки — 279
дело хуже; а если и этого сделать не в состоянии — падает, как только сгибает колени, - значит человеку надо дать отдохнуть и побыть денька три-четыре в тепле. А амбулаторное лечение (кроме лампы-соллюкса) одно — растирание. Оно, если даже и не давало большого лечебного эффекта, то, во всяком случае, действовало благотворно на общее состояние. Но так как подобных больных становилось к зиме все больше и больше и на растирание у амбулаторных работников не хватало ни рук, ни времени, а разумеется, и охоты, то больному обычно давали на ватке какое-то количество беленного масла с хлороформом и говорили: «Иди, друг, в барак, помажь больное место и растирай в свою волюшку...» Растирать же свою собственную поясницу очень неудобно и неэффективно. Поэтому я растирал больных сам. У меня для этого отводилось время после приема и иногда до самого сна, когда сил уже больше нет и слипаются веки. Делать это надо не жалея сил и с упорством. Слава про меня в связи с этим пошла по ОЛПу большая, ко мне тянулись все радикулитчики и миозитчики. Растирал я им поясницы, плечи, лопатки...
Я считал, что раз уж судьба меня избавила на какое-то время от хождения «на боланы» — так у нас, по-комяцки, что ли, называли бревна, — то я обязан всю мою физическую энергию употребить на пользу тех, кто продолжает их ворочать. А эта каверзная работа почти что вовсе не позволяла уберечься от простуды. В особенности уязвима оказывалась именно поясница. Как ты ни одевайся, как ее ни закутывай, во время работы вся одежда расползается в двух направлениях - кверху и книзу, а поясница остается голая. А когда разгоряченную, вспотевшую поясницу прохватит хорошим морозом — радикулит обеспечен, если тебе больше тридцати лет от роду.
Был у нас один старичок. Не так уж он и стар — в наших лагерях людей старше шестидесяти лет вообще не держали, а направляли в инвалидные ОЛПы. Но некоторое количество инвалидов в возрасте от пятидесяти до шестидесяти лет всегда сохранялось для всяких подсобных, не требующих физических усилий работ. Ему же, конечно, не было еще и пятидесяти, он ходил в составе хорошей бригады на погрузку бревен, только держался этак по-стариковски... После того как у него произошло обострение радикулита и я ему несколько раз основательно растер поясницу, ему это, видимо, очень понравилось, и он стал ходить каждый вечер. Дожидался, пока я не оставался в 280
амбулатории один, приспускал штаны и ложился на топчан... «Ну, что ж, доктор, полечимся?» И я ему в этом лечении никогда не отказывал. Нрава он был совершенно безответного и беззащитного. Такой человек мог выжить в лагере только в составе очень хорошей бригады, где со стороны бригадира и товарищей ему была бы обеспечена любовь и поддержка.
Так он ходил и лечился, но в конце декабря с ним вдруг произошло что-то серьезное — что именно толком мы понять не могли. Начались какие-то мозговые явления, может быть в результате микроинсульта — этого термина тогда в нашей практике еще не существовало. Во всяком случае, его привели под руки два собригадника и положили на топчан.
Ему стало больно подымать голову, начиналось головокружение. Может быть, впрочем, лишь по причине резких вестибулярных явлений. Ширин мой перепугался и сказал ему, что завтра же утром отправит его на другой ОЛП в больницу. Тогда старичок попросил позвать бригадира. Это оказался молодой, очень сдержанный в словах и движениях парень. Ширин и ему объяснил, в чем дело. Он присел как бы совсем по- родственному около старичка, и тот все повторял ему через короткие промежутки времени: «Сергей, не брось меня... не брось ты меня, Сергей...» — «Нет-нет, что ты, Степаныч, нет...»
Все это выглядело очень трогательно, даже как-то странно и нереально в той обстановке...
Новогодняя ночь выдалась светлая и довольно морозная. Все было тихо, хотя я и знал, что кое-кто из наших придурков, а бригадиры уж и подавно, припасли спиртного. На всякий случай мы решили в амбулатории подежурить и распределили между собой время по три часа. Я просидел до двух за всякими посторонними мыслями — как-никак порог нового года, что- то он принесет и куда-то бросит — и хотел было уже ложиться, как снаружи раздались очень тяжелые шаги и нетерпеливый стук в дверь. Когда я ее распахнул, то сначала даже не понял, в чем дело, — на фоне светлого пятна в темноте угадывалось что-то большое и бесформенное. Покуда я пытался понять, что это, меня оттолкнули, и в комнату ввалился тот самый техник с Воркуты, которого весной «подбросили» и который именовал себя тогда фраером. На плечах у него лежал Русанов без сознания и совершенно окровавленный. Техник подошел к топчану, свалил на него Русанова. «Получайте», — произнес он нетвердым голосом - видно, был пьяноват. Как он ушел, мы даже и 281
не заметили — все кинулись к Русанову. На нем виднелось с десяток ножевых ран, но, к счастью, ни одной проникающей. Некоторые пришлось зашивать, на другие мы понаставили скобок, провозившись со всем этим добрых часа два. Так что новогодняя ночь получилась совершенно в лагерном стиле. Нечего и говорить, что остатки жалости, сохранявшиеся у меня к технику, исчезли в связи с этой историей совершенно. Для меня теперь не оставалось сомнений в том, что это настоящий сука, и у воров, следовательно, имелись реальные основания для сведения с ним счетов.
Через несколько дней после этого нас перевели-таки на центральный ОЛП. Гринштейна к этому времени уже успели сместить из начальников санчасти (ходили слухи, что прочие эмвэдэшники его недолюбливали и как еврея, и вообще как человека, чуждого их среде). Что-то ему даже будто инкриминировали. Замещала начальника одна из молодых врачих, может быть и менее внимательная к нашему брату, но все же постаравшаяся сохранить всех нас на медицинской работе. Так что, хотя я и попал в бригаду, - мне сказали, что это одна из самых лучших бригад на лагпункте, — но фактически, выходя с нею на лесорейд, дежурил там в качестве фельдшера на медпункте. Ходили мы туда в ночь, а в дневное время там дежурила вольная медсестра, с которой у меня, как у солнца с луной, произошли две или три случайные встречи. Работы во время таких дежурств обычно бывало совсем немного, так что я мог и писать и спать, используя одиночество, а возвращаясь в лагерь, работал в амбулатории на утренних, а иногда частично и на вечерних приемах. Нас как-то пригласили наши здешние коллеги посмотреть новый стационар. Мне все там показалось необыкновенно благоустроено, как в настоящей больнице, и я очень позавидовал тем, кто там работал: вот уж действительно настоящая обстановка для медицинской работы, не то что на нашем ОЛПе. Особенно мне понравился очень богатый инструментарий. Имелся даже палатный рентген и в стадии организации находился хирургический кабинет.
Бригада, в которую я попал, слыла необычной, может быть только потому, что в ней не было свободных от работы блатников, да процент 58 статьи несколько выше обычного. Но общий колорит оставался все же уголовным. Когда мне однажды пришлось задержать бригаду на несколько минут неожиданной перевязкой, — человек с сильной травмой явился в самом 282
конце работы, — меня встретили дружной и громкой бранью: гак твою так, ноги оторвем, как смеешь задерживать бригаду. Сколько я ни объяснял, как ни отругивался, ничего не помогало. Наконец мне стал кричать один из собригадников, которого я было принимал за некоего колхозного деятеля, а оказалось — сельский учитель... «Что вы с ними спорите, они вас убьют. Вы не понимаете, что это за народ — ведь это преступный мир. Я вот тоже, как и вы, интеллигент, так я им и виду об этом не подаю — убьют за одно это...»
К счастью, ему не так трудно было прятать в себе интеллигента... Как бы там ни было, я почувствовал в нем некоторую поддержку и понимание.
Был у нас еще один немец из ГДР, совсем еще молодой, не нюхавший армии, но войну вполне переживший дома. Он многому удивлялся в наших порядках и совершенно не понимал, отчего это у нас все само собой не разваливается ввиду полнейшей, как ему казалось, несогласованности действий и несоответствия слов делу. Я пытался ему кой-что втолковать, но давалось это с трудом.
Еще и раньше, до моего перехода на верхний ОЛП, мне рассказывали об одном человеке, которого тогда не было в лагере — его увозили на Воркуту, в лагерный суд в качестве свидетеля. «Вот кто был бы вам интересен, - говорили мне не раз, - Новинский, москвич, величина в Комитете по делам искусств...»
Меня это все, конечно, интриговало, и когда я снова очутился на главном ОЛ Пе, я спросил, не вернулся ли Новинский. Оказалось, что вернулся. Я без замедлений пошел с ним знакомиться. Передо мной оказался человек моего же примерно возраста, осанистый, несмотря на лагерную одежду, и в высшей степени сдержанный. Сдержанность эта переходила у него в затаенность и скрытность. В повадках было что-то от памятного мне прокурора из-под Москвы, с которым я жил на Воркуте, на 43 ОЛПе.
Оказалось, что мой новый знакомый работал в Управлении эстрады, в репертуарном отделе. Как угодил сюда? 58-10. Казалось бы, все ясно, но нет. Я увидел перед собой человека необычайной советской лояльности. Мало сказать лояльности — он оказался неусыпным и неустанным апологетом всего, что ни исходило не от власти даже и не от лагерного начальства, а от самого последнего лагерного надзирателя. Он даже и людей-то, тех, кто у начальства слыл на хорошем счету, то есть нарядчиков, 283
бригадиров, обслугу, старался всячески выхвалять. Одним из первых его вопросов было, в какой я бригаде. «Павловского». — «Павловского, да неужели? Имейте в виду — одна из самых лучших бригад. А уж какой же хороший человек сам-то Павловский. Обязательно им поинтересуйтесь, совершенно замечательный человек...»
Мне, конечно, трудно было судить о Павловском, поскольку я в бригаде только числился, а не работал, и бригадир мне не сказал буквально ни одного слова. Это означало, что претензий у него ко мне никаких нет. А вообще, я убедился действительно, что он заботится о том, чтобы бригада его зарабатывала, но добивался он этого не только организацией труда, но и сбором денег у собригадников для взяток рейдовскому гражданскому начальству. «Каждую получку даем ему по пятерке», — не без гордости и лукавства сообщали мне товарищи. Но, видимо, они не сомневались в том, что деньги эти идут на дело и возвращаются им в конце концов с лихвой. Когда же я спросил, сколько зарабатывают у него в среднем бригадники, то оказалось, что не так уж намного больше того, что мне доводилось получать на медицинской работе. Я же зарабатывал от 80 до 100 рублей в месяц, ну а они выгоняли в среднем рублей по полтораста.
Новинский в общем меня разочаровал. Очень уж мне о нем наговорили вперед как об интересном и образованном человеке. Хотя он и был из числа управителей искусства, но об искусстве с ним говорить становилось сразу же неинтересно. Очень уж из него выпирало чиновничье и конъюнктурное нутро. Речь у него шла преимущественно о том, как он здорово держал нос по ветру и чуял заранее, откуда и куда подует. Радовался этим воспоминаниям, не отдавая себе отчета в том, что все же его чутье ему совершенно не помогло. А его скрупулезная апологетика лагерных порядков, как и наших порядков вообще, меня стала очень быстро раздражать. То ли я в нем чувствовал в преувеличенном и утрированном виде мои собственные скрытые представления? Во всяком случае, как это нередко с людьми бывает, я охотно становился почти что на его позицию, когда слышал чьи-либо злобствования и огульные нападки. Когда же я в нем натыкался на возведенную бог знает в какую степень официозность, меня подмывало на всяческие опровержения и контры. Неудержимо хотелось хоть в чем-нибудь стать ему в оппозицию. Но только я принялся что-то с некоторым пылом порицать, как он тотчас же меня остановил и очень строго 284
предупредил: никогда и ни о чем не говорить с ним в оппозиционном нашему строю тоне. Ни строю, ни лагерному быту. Он положил себе это теперь за правило - иметь только официальное, только положительное суждение. И он предупреждает об этом каждого своего собеседника. И если после этих предупреждений с ним все же не захотят считаться, он будет расценивать такое поведение как провокацию... Что ж, это, по крайней мере, честно. И я сказал ему, что вполне понимаю и уважаю его позицию. «Поймите, — обрадованно сказал он, — ведь мне через полтора года на волю. Ведь я могу и хочу еще работать. Я решил поселиться в Сыктывкаре. Бог с ним, с большим светом. Постараемся быть полезными здесь...»
Но беседовать с ним о чем-либо еще охота у меня после этого разговора почему-то отпала. Да и обстоятельства очень быстро нас разлучили.
Стало известно, что «подкомандировка» на реке Каменке (притоке реки Кожвы), километрах в тридцати отсюда, где до сих пор жили женщины, превращается в мужскую. Туда предполагалось направить лучшие бригады, так как там скопилось очень много леса для погрузки. Туда шла железнодорожная ветка, проложенная прямо по снегу, функционировавшая, естественно, только зимой. Амбулатория должна была работать там в том же составе, как и на Верхнем ОЛ Пе. Но меня, в частности, отправляли туда в составе моей бригады. Я даже стал было подумывать — не хочет ли новое медицинское начальство от меня отделаться? Однако перед нашим уходом меня вызвала Галина Сергеевна, исполнявшая обязанности начальника санчасти, и объявила мне, что я буду работать в амбулатории и участливо осведомилась, пройду ли я пешком по морозу тридцать километров. Заверив ее, что пройду, я успокоился относительно моей судьбы, по крайней мере на зимние месяцы.
Каменка
Хотя эта Каменка находилась от нас очень близко, знать о ней толком никто ничего не знал. Только перед самым выходом стало известно, что бараков там, в сущности, нет, и заключенные живут в вагонах. Представить себе это реально довольно трудно, и я шел туда с большим интересом и с надеждами на какой-то иной, отличный от лагерного, быт.
285
Заведовал амбулаторией тот же самый Мухетдинов, а под ним два фельдшера - Ширин и присланный еше на верхний ОЛП в последние дни его существования вместо Жданко Добролюбов, показавшийся мне первоначально настоящим чеховским фельдшером из «Палаты № 6», но потом я несколько изменил к нему отношение. Был он и груб, и ограничен, и малограмотен, но дело свое в положенных пределах делал на совесть, имел прекрасное тонкое ухо, а главное честь и порядочность, что в тех условиях особенно важно. Он отсидел «десятку» и должен был к весне выйти на волю. Это сдерживало иногда его грубые порывы. При всей своей совестливости и честности в отношениях с людьми он рассчитывал преимущественно на кулак и обладал незаурядной силой. Угроз ни с чьей стороны не терпел. Раньше, видно, в соответствующих случаях лез в драку, а теперь, на моих глазах, отговаривался тем, что драться не может — осталось несколько месяцев до освобождения, и он не хочет портить свои новые вольные документы.
Мне он рассказывал, что где-то на Воркуте к нему пришли двое за освобождением от работы, и когда он спросил одного, на что жалуется, тот приподнял телогрейку и показал торчавший из-под нее нож. Добролюбов будто бы имел на такой случай в столе своем молоток, который он теперь и пустил в ход. Один из этих двоих будто бы вскоре после происшедшей потасовки отправился на тот свет, а другой, говорит, «до сих пор, как видит меня, — снимает кепочку: “Здравствуйте, Пал Вла- димыч”...»
Бог его знает, правда это или нет, но на моих собственных глазах произошел такой случай: пришел на прием какой-то детина, видно и вправду нездоровый, и начал с надрывом:
- Пашка!
— Не Пашка, не Пашка — Пал Владимыч...
— Ах ты, сука, да я тебя вместе с дерьмом схаваю... — Добролюбов сколько-то помолчал не двигаясь, а потом сказал примирительно:
- Вышел бы я с тобой на минуту-другую, но не могу, счастье твое, через четыре месяца освобождаться... — Тогда и тот переменил сразу тон.
— Ты прости, Пал Владимирович, я не знал, что ты духарь, я бы тебе так не сказал...
— Ну вот, это разговор. И тебе спасибо за уважение - говори теперь, на что жалуешься...
286
Мы с ним за зиму тоже очень улучшили отношения, хотя во всех других смыслах он, по моим представлениям, оставался насквозь лагерником и горизонты его оканчивались у «запрет- ки». Готовясь выйти на волю, он интересовался только хорошими сапогами, ради которых, видимо, чем-то поступился из медикаментов. «Ну вот, — сказал он очень довольным тоном, обув эти новые сапоги, — есть у меня теперь “колеса”, можно и на волю выходить...»
Выступили мы — всего человек сотен до трех — в позднее морозное утро, когда стало совсем светло. Шли побригадно. Спустились сначала с довольно высокого холма, на котором стоял лагерь, к железной дороге и пошли на юг, вдоль железнодорожной насыпи. Шли этим путем километров с десяток. За это время по высокой насыпи проходили в ту и другую сторону поезда. Особенное впечатление произвел на меня пассажирский поезд Москва-Воркута. Вот едут люди из Москвы в Воркуту, потом поедут обратно, как ни в чем не бывало, как в любое другое место на свете. А я на все это смотрю, как с того света. Не сесть мне в эти вагоны и не поехать в Москву... Пока я так размышлял, мимо прошел хвостовой вагон — знакомый «столыпинский», с решетками на окнах. И если только что я глядел на поезд как на какой-то мираж, как на что-то потустороннее, то этот вагон представлял собою самую живую реальность. «В таком-то вагоне, — подумал я, — чего доброго может когда и придется съездить в Москву, только уж лучше не надо...» Вспомнились рассказы о поездках на «перееледствие», после чего люди обычно возвращались с сильно увеличенными сроками.
Пройдя так часа два, свернули мы вправо и углубились в лес. Сначала тянулось мелколесье, видимо сильно заболоченное, а потом местность начала повышаться, деревья становились выше и толще, иногда попадались величественные лиственницы, метров под тридцать высоты. Шли по дороге, наезженной машинами. Вскоре показался совсем у дороги небольшой лагерек, а поблизости от него — две-три группы заключенных под «самоохраной», пилившие дрова, кидавшие снег. «Это не наши, — говорили ребята вокруг меня, — это печорлаговские». В этих местах, оказывается, чересполосно располагались лагпункты Воркутлага и Печорлага. Но Печорлаг был как будто сравнительно не велик и располагал преимущественно уголовнобытовым контингентом. Километров еще через пяток прошли мы снова мимо такого же небольшого лагпункта.
287
Дело уже шло к вечеру. В воздухе стало серо, туманно. Шли мы уже, наверно, часа четыре без отдыха. Нас остановили. Предложили оправиться и подкрепиться сухим пайком, выданным на дорогу. Паек состоял из дневной «пайки» хлеба, на которой с одного края лежал кусок селедки, а на другой край насыпана кучка (в две чайных ложечки) сахарного песку. Разумеется, взять с собой представлялось возможным только хлеб. Селедку и сахар пришлось ликвидировать до выхода. И то и другое многим нести было просто не в чем, да и нужды в этом, собственно, никакой не возникало. И такой сухой паек никого, в сущности, не удивил. Приходилось получать в этом же роде и раньше. Только тот молодой немец из ГДР, с которым я раньше несколько раз разговаривал, не удержался от возмущенных восклицаний: «So, so — Hering mit dem Zucker zusammen, direkt auf dem Stück Brot... Anstatt Wasser braucht man Schnee1... Нитче- го. Скоро-скоро...» Бедняга ошибался. То, на что он, быть может, надеялся, произошло далеко не так скоро. Но все же, надо отдать справедливость, произошло...
Но есть этот хлеб в пути оказалось невозможно. Он замерз и был тверд, как ледышка. Его сначала надо было оттаять. Мы и сами, как только остановились, стали сейчас же мерзнуть. Одежда наша — бушлаты поверх телогреек — совершенно побелела от осевшего на нее инея, особенно интенсивного на швах и разных других углублениях в одежде. Особенно страдали те, кто из ухарства вообще не имел бушлатов. Таковыми были наши бригадиры — им подолгу не приходилось торчать на морозе, всегда можно посидеть в обогревалке или в конторе. Теперь же наш бригадир в коротенькой телогрейке прыгал на месте сколько мог, тер себе уши и ворчал: «Замерзаловка какая- то, мать ее так...»
Стали раздаваться голоса, понукавшие конвой двигаться дальше. Двинулись и пошли резво. Но к лагерю подошли уже в кромешной тьме, когда, кроме слепящего света электроламп на столбах, ничего уже не было видно. К счастью, нас не стали морозить, как обычно, у вахты — запустили против правил всех разом за проволоку. Все бросились в помещение — как оказалось баню — греться. Забили ее так, что вскоре нечем стало ды-
!Так, так — селедка вместе с сахаром прямо на куске хлеба. И снег вместо воды...
288
шать. Начальник ОЛПа, тот же самый, что и на Верхнем, отдал приказ дневальным от каждой бригады отправляться по своим вагонам и растапливать печки.
Я отправился искать вагон санчасти. Это оказался самый обыкновенный товарный вагон, с приставленной к нему деревянной лесенкой и с небольшой площадочкой перед дверью в виде крылечка. Из торчавшей над крышей вагона трубы гостеприимно клубился дымок. Внутри я застал обоих наших фельдшеров, прибывших накануне, и знакомого мне по Верхнему ОЛПу санитара-башкира, который здесь был особенно необходим: тепло в вагоне держалось, пока топилась железная печка. Как только топка прекращалась, температура быстро подравнивалась к наружной. Так что на ночь, вместо того чтобы раздеваться, приходилось напяливать на себя все, что только возможно.
Встретили меня весело, радостно. «А, наконец-то! Думали, пропадем тут без вас. Работать пришлось бы по очереди на приеме и на процедурах. Есть тут еще один медработничек, но его нельзя подпускать к медикаментам — все поедает, это уже проверено. Он будет ходить на лесобиржу с медицинской сумочкой для оказания первой помощи».
Так что все сразу и определилось, без каких-либо для меня волнений. Началась очень размеренная жизнь. Приемы больных отнимали часа два с половиной — три и вечером часа два, не больше. Свободного времени оказалось хоть отбавляй. Приемы проходили совершенно спокойно. Контингент оказался очень хороший, почти всё 58-я, так что поножовщины никакой не происходило. Не было и «мастырок», всякий раз неприятных для медиков, — лечить их бессмысленно, так как больной непрерывно возобновляет и растравляет свою искусственно причиненную болезнь или увечье. Разоблачить и выгнать мастырщика тоже невозможно, потому что это было бы сочтено за предательство, за выслуживание перед начальством. Мастырщики в этих случаях становились очень мстительны и готовы бывали идти на любые крайности, вплоть до убийства. Всего этого у нас тут не было, и это очень нормализовало и упрощало работу. Один только раз принесли повара, вернее раздатчика, с раскроенным до кости надвисочным пространством. Кто-то из недовольных получателей баланды изловчился дать ему по башке нижним краем тяжелого котелка, 289
10 Лагерный дневник
прорубив щель сантиметра в четыре. К счастью, на это место еще могли быть поставлены скобки и шрам вследствие этого не должен был стать очень заметным. Оперуполномоченный, тоже знакомый мне хорошо по верхнему ОЛПу, счел этот случай достойным своего внимания и допрашивал повара прямо у нас в амбулатории, сразу же после перевязки. Но тот наотрез отказался назвать виновника - не углядел, мол, его да и всё тут. Это могло быть похоже на правду — окошко в раздаточной не открывало достаточного поля зрения.
Вагон наш разделялся на две неравные части. Меньшая была предоставлена под жилье обоих фельдшеров. Там стояли две их койки и маленький столик между ними. В большей части стояла железная печка, стол довольно большого размера, на котором размещались инструменты, и два топчанчика. Во время приемов они служили для больных, а в свободное время — для меня и для санитара. В вагоне и днем света недоставало, но наш Мухетдинов упросил начальство о разрешении вырезать и застеклить большим толстым стеклом окно в квадратный метр. Это сразу преобразило и нашу работу и нашу жизнь. Вагон стал казаться каким-то необыкновенным, и заходившие в него люди невольно испытывали некий пиетет ко всему здесь происходившему.
Спокойное существование, с определенным распорядком дня, опять привело меня в такое состояние, что я мог писать. По окончании утреннего приема я освобождал для себя уголок стола у самого окна, которое тоже чем-то способствовало укреплению во мне чувства равновесия и покоя. Проволока, отгораживавшая вагон от леса, исчезала в снегу. Можно было подумать, что это даже и не проволока, а заснежённые, заиндевевшие ветви каких-то гигантских хвойных деревьев или какие-то, свисающие с этих деревьев, огромные пряди мха. А за этим стоял замечательный в своей неподвижной девственности и белоснежности хвойный лес.
Я переписывал или переделывал кой-что из написанного раньше и хранившегося у меня на отдельных листочках. Обдумывал пьесу в стихах об Александре Македонском и амазонке Фалестрии. Мне было трудно сначала. Забылись кое-какие названия и имена. Но постепенно память привела все это в порядок так, как если бы я прочел несколько новых книг о восточном походе греков.
290
Фрагменты из пьесы об Александре Македонском
1. Молитва Александру
Здесь, за хребтом Индийского Кавказа, Молюсь тебе, божественный мой царь.
Ты поражений не терпел ни разу И подвигов таких не знали встарь.
Ты славою приблизился к Гераклу, Собрату и предтече по трудам;
Его гигантский след неоднократно В пустыне путь указывает нам.
Ты нас привел к истокам океана, На край земли, в блаженную страну. Весь круг земли да будет основаньем Торжественному трону твоему.
2. Перед битвой
Друзья, не опозорим славы Александра!
Друзья, фаланги стройте тесный ряд! Ни шагу дальше! Слушайте команду И копий подымите грозный сад.
Должны мы устоять перед презренным сбродом, Должны вернуть потери прежних лет...
За нами боги, слава и свобода;
За нами Александр и честь его побед!
О, вот он сам, наш бог, наш грозный Эниалий, Глядите, как доспех сияет золотой, И на самих крылах Гермесовых сандалий Несет его судьба нам помощью благой.
3. Александр и амазонка Фалестрия1
Фалестрия:
Как странно ощутить в действительности то, Что столько раз уже в мечтах осуществилось,
Согласно древнему сказанию, Фалестрия, царица амазонок, явилась к Александру Македонскому и заявила, что хочет иметь от него ребенка, так как он превзошел всех мужчин своими подвигами, сама же она превосходит всех женщин своею силой и храбростью.
291
10*
Как будто снова что-то повторилось, Что раз уже цвело и отжито.
Как будто мы с тобой уже когда-то жили, И сблизились, и умерли любя, И вот теперь нам судьбы возвратили Сладчайший вкус земного бытия.
Александр:
Мне тоже этот миг великим наполненьем Предчувствованных судеб предстает. Дыханья твоего и глаз свеченье Как к сферам неба небывалый взлет.
Как будто мы и впрямь божественное племя, И силою твоих, нежнейших в мире рук Я поднят над вселенной и над временем И жизни созерцаю полный круг.
Еще твоя любовь — над Скифией победа, Славнейшая из всех одержанных побед. Гляжу в твои глаза и вижу хлопья снега Над степью и высот туманно-сизый цвет.
Товарищи мои не мешали моим литературным занятиям. Они были настолько тактичны, что даже не задавали лишних вопросов. Между нами установились очень хорошие отношения и полнейшее доверие друг к другу. Ничто не выходило за пределы нашего вагона такое, что не должно было становиться предметом огласки. Но общались мы мало. Я пребывал в одиночестве. В этой Каменке не было никого, с кем бы мне могло быть интересно. А у них имелись приятели, навещавшие их - кто днем, кто по вечерам. Днем приходил почти ежедневно парикмахер — тот самый бывший моряк, который исполнял эти же обязанности на Верхнем ОЛПе и любивший вести разговоры на самые разнообразные темы как из лагерной жизни, так и политики. Он почитывал газеты — единственное, что можно было раздобывать иногда в КВЧ. В разговорах с ним и я иной раз принимал участие через перегородочку, так как гостей принимали у фельдшеров.
Но вот как-то Ширин ни с того ни с сего вдруг заявил: «И чего это ходит к нам этот парикмахер? Надоел. Давай его отвадим». Добролюбов, хотя и без большой радости, но, видимо не желая 292
идти против товарища, поддакнул. Произошло это удивительно просто на следующий же день. Когда, как обычно, с парикмахером немного поговорили, Ширин ему вдруг и заявил: «А ты знаешь, мы тебя считаем сексотом и стукачом. Нам сказали, что это опер тебя сюда посылает разузнавать, о чем думают фельдшера и не пьют ли они казенный спирт».
Хотя спирта у нас почти никакого и не бывало — следить не за чем, но парикмахер принял сказанное всерьез и смертельно обиделся: «Я — сексот, я — стукач, да я... да я вам... да ну вас в таком случае туда и растуда...» Он вскочил с места красный и злой. Визиты его до конца нашего пребывания в Каменке не возобновлялись.
Чувство отрешенности от всех решительно проявлений общественной жизни, ощущавшееся особенно сильно в тюрьме, где нас на большие праздники даже лишали прогулок и вообще всячески ущемляли, вместо того чтобы хоть немного приветить, почти не ослабевало и в лагере. Поэтому всякое проявление к нам отношения как к людям, не утратившим окончательно связи с советским обществом, меня очень подымало в собственном сознании. Впервые это случилось здесь, на Каменке, когда вдруг объявили, что проходящая на воле подписка на очередной государственный займ коснется и заключенных. По вагонам прошел культорг и агитировал, чтобы мужики подписывались, кто на сколько может — хоть на 30 или на 20 рублей. И хотя эти ежегодные займы в домашней жизни меня раздражали и представлялись доказательством неумелой финансовой политики, здесь я обрадовался этому займу, как некоей протянутой нам с воли дружеской руке. Многие, однако, весьма и весьма злились на то, что у обездоленных, исключенных из общества людей пытаются вытянуть посредством этого займа последнюю копейку. Иные хмуро отмалчивались на агитацию культорга, но были и такие, которые на эти призывы отвечали грубейшей бранью и угрозами. На одного такого ретивого паренька культорг даже нажаловался офицеру из КВЧ, приехавшему с Кожвы возглавить эту кампанию.
— Так ты что же — на займ не желаешь подписываться? А почему?
— Не стану я подписываться. Посадили ни за что, всего лишили... Я враг теперь стал советской власти...
— Ах, так ты враг? Ну, ну. Вот мы тебя и отправим туда, где у нас враги сидят. Тут у нас не враги. Тут у нас люди, которые 293
всего-навсего совершили ошибку. А враги у нас, брат, в другом месте. Да, да...
Хотя и представлялось ясным, что это только одни досужие разговоры, но и то было приятно, что вот начальство, оказывается, не считает тебя за врага. Все-таки на душе как-то вроде бы и полегче...
Поздними вечерами к нам являлись некоторые молодые бригадиры. Мои коллеги всегда находили, о чем с ними поговорить, хотя разговоры касались преимущественно воспоминаний о встречах с женщинами уже тут в лагере или еще на свободе. На этой почве разгорались какие-то беспредметные и докучливые споры, к которым я старался не прислушиваться и под которые обычно засыпал, так как они затягивались иногда допоздна.
Вагоны наши не были радиофицированы, но зато у вахты на высоком столбе висел громкоговоритель, поздними вечерами передававший иногда очень хорошую музыку. Как-то я слушал прекрасную игру Карло Цекки, гастролировавшего в то время в Москве. Слушал так, как будто сам сидел в этот момент в Большом зале. Всякие посторонние звуки, помехи исчезали куда-то. В воздухе разливались свободно и неудержимо волны чистейшей музыки. Я обычно гулял в эти часы вдоль наших вагонов так, как будто бы вышагивал по станционному перрону в долгом ожидании поезда...
Радио
Над здешним лесом, где птица — редкость, Где сиплый ветер один поет, Расплескан воздух грозой оркестра, Гремящей в радиусе верст.
А в перерывах чуть слышен кашель, Скрипенье стульев и смутный гул Далекой залы, где сам я раньше Качнуть боялся скрипучий стул...
Реальность этих привычных звуков Мне возвращает былую жизнь — Ту, для которой я умер в муках, Приняв Аида слизь и гниль.
294
Вот точно снова я в этой зале, Где между окон портретов ряд Старинных гениев музыкальных, К нам обративших внимательный взгляд...
И в мутном блеске высокой люстры Органа пыльное серебро
Таким уютным, родным и грустным Меня одаривает теплом,
Что за поблажки моим обманам, За вспышек жизни радость-боль, К изъянам рупора-грубияна Суровым очень мне быть легко ль?
Воспоминания
Когда вся жизнь одни воспоминанья, Они остры становятся и ярки,
И их неугасающее пламя
Во времени все выше и все жарче.
Идут они друг друга обгоняя, Как ветром подстрекаемые тучи, И северное солнце затемняют Своим сияньем мертвенно-горючим.
То вижу я себя в библиотеке — Бумаги слышу шелест, чую запах Чуть уловимый сыровато-терпкий Тревожимых нечасто фолиантов.
То вдруг отрезок улицы встревает Между реально-здешних впечатлений, Как будто я и впрямь по ней шагаю — Упругость ноги чувствуют асфальта...
И только милых сердцу я не вижу С той стереоскопией почему-то — Как ни ищу, как ни томлюсь, ни брежу, Их руки далеки и лики смутны.
***
Слушай музыку. Внутренний слух отвори Сочетаниям звуков, таким же серьезным,
295
Как поэзия или наука. Уйми Свистопляску тщеты, отвлекающе-праздной.
Слушай музыку. Чувств возбудитель она Наиболее искренних и благотворных, От условностей слова всесильно-всевластно свободных, Полноценных, как влага густого вина.
Слушай музыку грудью, всем духом, всем сердцем, Дай свободу звучать ей в тебе, как звучит Голос птицы в лесу или голос младенца, С первым вздохом живой издающего крик.
Слушай музыку так, чтоб ее напряженье Не слабело, глубин достигая души, И чтоб жаркие слезы твои без зазренья И без удержу в знак очищенья текли.
Слушай музыку собственных чувств недремучих, Горя-радости перемеженный прибой — Неустанный оркестр грозовой, но беззвучный, Как зарниц симфонических лёт бредовой...
Нарядчиком у нас в это время являлся один странный человек итальянского происхождения по фамилии Мелудини. Посадили его зато, что он, с одной стороны, не желал отказываться от итальянского подданства и не хотел принять советское, с другой — отказывался покинуть пределы СССР. Естественно, его сочли за шпиона. Тем более, что по окончании в Москве Плехановского института он обосновался в Архангельске — портовом городе, где связи с иностранцами действительно не исключены. А не уезжал он только потому, что не знал ни одного языка, кроме русского, и жить ему на родине, где у него никого не было, попади он туда, оказалось бы невозможно. Отказываться же от итальянского подданства он не хотел ради сохранения известного чувства независимости, в сущности совершенно ложного и нереального. Глупо, конечно, как очень многое на этом свете, в особенности в условиях нашей действительности. Не менее странно и то, что этот человек с высшим образованием, при этом как-никак гуманитарий, оставался мне внутренне совершенно чужим. Иногда, в тоске по собеседнику, я бросался к нему с таким чувством, будто наша разобщенность с ним - плод какого-то недоразумения, что мы должны найти 296
какие-то общие темы и общие чувства... Но, увы. Всякий раз я убеждался в том, что этот действительно немало знающий и остроумный человек то ли вообще таков от природы, то ли испорчен лагерем, но говорить способен только о лагерной педерастии и о лагерных женщинах, которых он знал в большом числе, и о всякой тому подобной ерунде, которую очень быстро с тановилось трудно выслушивать. Наводя его на другие темы, я добивался иногда некоторых воспоминаний о студенческих годах, но тут его хватало только на короткие минутки. Искусство он ненавидел как какую-то ложь, как нечто, не имеющее отношения к действительности...
«Слушаете? Наслаждаетесь? — это он крикнул как-то мне, заметив, что я прохаживаюсь под репродуктором и слушаю музыку. — Сейчас я вам от себя добавлю...»
Он шел вызывать на работу ночные бригады. Это делалось посредством ударов по рельсу, гулко разносившихся по всей округе.
Выходы наших бригад на работу бывали связаны с подачей вагонов под погрузку. А это, в свою очередь, связывалось с уводом уже нагруженного состава. Недалеко от лагеря рельсовый путь, проложенный без всякой нивелировки местности, подымался на какую-то высотку, которую два маленьких и очень стареньких паровозика, курсировавших с лесом от Каменки до Кожвы, преодолевали с трудом. Вот они с громким и грозным пыхтением протягивают мимо нас на быстром ходу гружёный состав, изрыгая клубы дыма и пара. Но вот где-то неподалёку пыхтение сбивается, замирает, и через некоторое время состав откатывается назад, для того чтобы с нового разбега еще раз попытаться преодолеть этот трудный участок. Иной раз попытки эти повторялись трижды или четырежды. И всякое откатывание состава назад означало, что бригады могут лишний часок посидеть в вагонах, в тепле. Когда же, наконец, состав перескакивал через горку, это значило, что скоро прибудет порожняк и нужно спешить на лесобиржу.
Зима таким порядком прошла довольно спокойно и незаметно. А с наступлением весны начались сразу же перемены. Прежде всего проводили мы Добролюбова. Весна-то задалась ранняя, давала себя чувствовать главным образом только среди дня, да и то лишь когда пригревало солнышко, а к вечеру температура падала градусов до -30, а то и еще ниже. Но Добролюбов освобождался с фасоном. На нем красовалась 297
кепочка, демисезонное пальто и новые сапоги — идеал лагерника. В руках он держал деревянный крашеный чемоданчик и в таком виде промелькнул перед нашими глазами в последний раз, стоя в тамбуре груженой лесом платформы. Действительно, ведь человек поехал на свободу, разменяв, как говорится, десятку. Как-то он там приживется на этой «свободе»? «Буду медпунктом заведовать где-нибудь под Вологдой. Здесь у комя- ков не останусь. Ну их к ляду, за десять лет надоели. “ Кто там кодит?”» — передразнил он, произнося слова на комяцкий лад.
Совершенно неожиданно потеряли мы и нашего фельдшера на лесобирже. Он все ходил ко мне и выпрашивал карболки. «Зачем она вам?» - «Лечусь я ей...» Как это и от чего можно лечиться карболкой? Сам он не говорил. Приставать к нему как-то мне представлялось неловко, и я однажды спросил у Ширина. «Некоторые принимают внутрь при вторичном сифилисе...» Вон оно что, оказывается... Видно, карболка ему помогала мало. Он как-то потихоньку от нас где-то подгадал Мухет- динова, и тот эвакуировал его без дальних разговоров куда-то в больницу. Вен-зон уже к тому времени, кажется, больше нигде не существовало.
Мы узнали об этом потому, что от нас потребовали человека на лесобиржу.
— Придется вам пока походить, — сказал мне Ширин, — пока не пришлют Лугового.
- А кто это Луговой?
— Увидите. Ух и пьяница. За спирт и посадили...
На следующий день я с медицинской сумкой через плечо отправился с утренними бригадами на биржу. Идти надо было километра полтора редким лесом. Ни в лесу, ни на бирже, открытой всем ветрам, весны еще не чувствовалось, хотя солнышко, конечно, и тут пригревало. Помещения там для медика не было. Приходилось гулять, пока не замерзнешь, а потом отсиживаться в обогревалке.
Прогулки там замечательные. Растянувшись по берегу Каменки, биржа и в глубину занимала порядочное пространство. В самой глубинной части проходила железная дорога. Лучше всего ходить по шпалам. Не видно никаких заборов или проволоки. Кругом лес да спрятавшаяся глубоко под снегом неширокая река, за которой опять лес. Просто глаз отдыхает после кожвинских ОЛПов, где все-таки прежде всего чувствуешь, что 298
гы взаперти. А здесь кажется — взял да и пошел в любом направлении. Убежать в лес, конечно, ничего бы не стоило. Но куда уйдешь по пояс в снегу, оставляя за собой такой след, что его никакая пурга не скроет. Сразу же накроют и еще три годика пристегнут. Мне-то оно, конечно, все одно — 25 или 28, но я не бегун, а для бегунов три года, когда у них, у иных, всего-то по тройке или от силы по пятерке — для них это весьма существенно. С меня же достаточно и того, что тюрьмы не видно. Гак бы и жить весь век на этой Каменке...
***
Неистощимый оптимизм В напрасных поисках лазеек Терзает чувства-ротозеи, Шныряющие вверх и вниз.
Вверх — к бесприютно-безнадежным И беспросветным небесам;
Вниз — к смутным линиям прибрежным, К приречно-низменным местам.
Мир в тесноте своей, в бесцветьи И в отчуждении хорош, Приманчив, люб, как перед смертью День жизни, не ценимой в грош...
И я выходил на биржу, как на прогулку. Бывший наш нарядчик с Верхнего ОЛПа стал теперь здесь бригадиром — зарабатывал себе день за три, чтобы скорее освободиться. У него тоже пятерка, которую он уже добивал. Вот мы и гуляли с ним вместе по бирже, коротали время.
— Скоро погрузка здесь закончится. Смотрите — штабеля уже все почти что повыбрали, остаются одни «зенитки»... — Так назывались бревна, одним концом ушедшие в снег, а другим торчащие в воздухе. Их порядочно, но вытаскивать их из снега охотников не было — предпочитали бревна, которые можно катить и грузить без больших усилий.
— Так что же, значит нас скоро двинут отсюда?
- Вероятно, хотя пока об этом среди начальства нет еще никаких разговоров...
Так я гулял недельки две, покуда действительно не прислали нам Лугового.
299
— Не хотели было его нам давать, он там ходил в санинструкторах, — сказал Мухетдинов, — да я разжалобил начальницу: пожалейте, говорю, Андреевича, он у нас теперь на биржу ходит... Видно, она к вам неравнодушна, — сказал он с хитрой ухмылкой. — Глядите, еще Олег приревнует, он ее, говорят, мацал... Мацал, Олег? — Ширин состроил деланно недовольную мину.
— Мацал или не мацал, что это еще за разговоры?..
Прекращение походов на лесобиржу мало что меняло в моем рабочем положении. Я и так по возвращении с биржи всегда работал на вечернем приеме, который бывал у нас гораздо более многолюдным, чем утренний.
Луговой оказался украинским деревенским фельдшером, дремучим, но доброй и простой души человеком. Нас с Шириным хотя он и уважал, но как-то несколько сторонился. «Один я тут среди вас бытовичок затесался. Кругом 58-я - фашисты», — шутил он на блатной лад, но было что-то в этих шутках и от реального положения вещей. Конечно, он совершенно другого сорта. Хождение на биржу означало для него общение с «вольняшками», а стало быть и получение — правдами-неправдами — водки, от которой он, как старый пьяница, сразу же терял всякий смысл, стоило только, как говорится, на пробку ему наступить. Однажды сбило его вовсе с копыт, и лежал он на бирже, как где-нибудь в деревне у себя под забором. Встать сам не может, а подымать его тоже никому не охота. В таком виде застал его опер, тут же принявшийся было его строго отчитывать и угрожать карцером. А тот ему руку протягивает — помоги, говорит, человек, встать... Опер и сам был не дурак за воротник заложить, пожалел нашего Лугового, поднял и даже карцер скостил.
Тем временем будто и действительно лес весь повывезли, и земля между нашими вагонами обнажилась и даже на пригорках подсохла, так что можно стало на солнце погреться, присев где- нибудь между сосновыми веточками, не на глазах у начальства.
1-е мая
От музыки маршей в глазах светло, Ногам шагать — нипочем.
300
Алое реет крыло-полотно Над каждым моим плечом.
Это не крылья, а стяги шумят, Как алые гребни волн, И окрыляют, за рядом ряд, Шеренги людских колонн.
Зрачками два цвета отражены: Алый и голубой —
Цвет неба и праздничный цвет земли, Очищенные весной.
...Здесь нету ни улиц, ни толп людских, Ни алых цветов-знамен,
А только музыка маршей ритм Вливает в сердце мое.
И увлекает его за собой, В круг улиц и площадей, Где алыми гребнями прибой Кипит у семи морей.
Ясно было, что и железная дорога, проложенная по снегу, доживает свои последние дни, а нас все никуда не увозили, и «параши» уже пошли, что ОЛП этот сохраняется на круглый год и мы тут так и останемся. В особенности все это зазвучало определенно, когда приехал инженер Гринберг - тот самый, с кожвинского лесорейда, к которому меня прошлой весной посылали определяться на легкую и теплую работу. Приехал — и прямо к нам в вагон. Спросил не глядя: «Есть у вас пенициллиновая мазь?» Тогда она была в моде. Нету, говорю, пенициллиновой мази. Он узнал меня, видно, по голосу, поднял глаза. «А, это вы. Вот бы вам тут и “припухать” подольше». Я говорю ему, что и сам бы не прочь подольше тут оставаться, «да ведь, наверно, скоро нас отсюда турнут в лучшем случае обратно на Кожву?»
«Ничего подобного. Меня прислали сюда проектировать строительство ОЛПа и предлагают принять заведование этим рейдом, на что я, конечно, вполне готов согласиться. Жить тут, мне кажется, лучше и от начальства немного подальше».
«Ну, раз он так говорит, - подумали мы, - видно, и вправду хотят нас оставить на Каменке. Поживем, что ж, гут ей-богу не плохо...»
301
Возвращение на Кожву. Хирург Василий Михайлович. Приезд матери
На следующий день нас вывели из вагонов, построили и скомандовали «шагом марш»... Несколько ошарашенный инженер, присутствовавший при нашей эвакуации, оправдывался тем, что никогда не бывает известно, какой именно контингент заключенных будет работать на объекте. Об этом знает только спецчасть Воркутлага...
Ширин мой, по случаю ликвидации амбулатории, выпил весь запас имевшегося у нас спирта и шел на Кожву пьянехонький, распевая немецкие солдатские песни, памятные ему еще по плену:
О Lore, Lore, Lore...
У него был прекрасный музыкальный слух. Это ему не только помогало в медицине, но и скрашивало лагерную жизнь.
На Кожве нас продержали перед вахтой до поздней ночи и в конце концов завели не в главный лагерь, а на малый ОЛП, пустовавший в зиму. На этом малом ОЛПе обычно круглый год жили женщины. Но в этом году он оставался пустым. Ходили слухи, что женщин на Кожве не будет вовсе. Ясно только, что начальство само путем не знало, что с нами делать, и несколько часов дожидалось каких-то распоряжений.
А когда нас туда наконец завели, выяснилось, что самоохрана прихватила откуда-то «по ошибке» целый ящик яблочного вина, которым не прочь была поделиться с теми из нас, у кого водились деньжата. Бригадиры в эту ночь все спали пьяные. Продолжал пьянствовать и мой Ширин. Утром он впал в буйное состояние, так что мне пришлось запереть его на замок в нашем помещении, чтобы таким образом скрыть от начальства. Авось, пока суд да дело, проспится. Но, к ужасу моему, на ОЛП пришла оперша — очень мне с виду приятная и симпатичная женщина, — но все же оперша. Оказалось, что ее прикрепили к нам, и она стала требовать, в числе других людей, Ширина. Я было начал врать, что запер его по его же просьбе - дать ему выспаться и чтобы никто не мешал... а ключ задевал неизвестно куда... Она, быть может, уже и поверить была готова или, по крайней мере, принять мои россказни как благую ложь, но в это время из нашего помещения раздался стук, а за ним голос Ширина, с пьяными интонациями и с присовоку302
плением весьма крепких выражений требовавшего, чтобы ему открыли дверь. Она было, со своей стороны, пыталась его через дверь урезонить - я бы сказал, очень мягко и даже ласково, — но он, видимо, еще совершенно в себя не пришел, на уговоры не реагировал, ее по голосу не узнавал, а продолжал стучать и ужасно сквернословить. Она махнула рукой и ушла. Особенно меня поразило, что дело это не возымело для Ширина никаких последствий и, стало быть, оперша никому ничего не сказала. Удивительно добрая и благородная душа. Ширин же на другой день ничего даже не припоминал и поверить мне тоже не пожелал — решил, что это я его пытаюсь разыгрывать.
Через неделю нас перевели на главный ОЛП, а на Малый пришли, как мы в этом отчасти могли убедиться сами, представители самого что ни на есть воровского контингента. Они как саранча облепили амбулаторию, жаловались на самые невероятные болезни и требовали освобождения.
«Тыканый в рот, чего же ты не веришь, посмотри, сука...» — пели они на один голос, демонстрируя всякие липовые членовредительства или термометры с температурой 40, при совершенно нормальной на ощупь температуре тела. Мы были очень рады, что убрались от них подобру-поздорову, а то бы, вероятно, не миновать эксцессов.
Оказалось, что имеется новый начальник санчасти — пожилой долговязый украинец с немецкой фамилией — Беккер, а по специальности — зубной врач. В амбулатории действовали два незнакомых нам фельдшера. Один — весьма выраженный еврей откуда-то из Западной Украины, другой — веселый и симпатичный москвич, очень здорово передразнивавший нового начальника. «Он вот с нами работает уже больше месяца, а никого ни по фамилии, ни в лицо не помнит. Вызовет другой раз к себе и начинает: “Чекай, де я тебе бачив? В кине? В метре? У метре... Нейначе, яку метре...”»
Дня два просидели мы без работы, потом Ширин пошел к начальнику сам с вопросом - не податься ли ему в какую- нибудь бригаду. Тот посоветовал «поперед батька не лизть у пекло». «Чекай, я разберусь туточки з усеми...» Ничего другого не оставалось, как «чекать».
Через несколько дней начальник санчасти поменял нас местами. Сознательно ли он это сделал или нам просто повезло, но мы остались на главном ОЛПе, а товарищи наши, тут работавшие, пошли на Малый ОЛП, в самое блатное пекло.
303
Довольно быстро наметились контры между начальником и обеими вольными врачихами. Особенно резкую антипатию к новому начальству испытывала наиболее для меня симпатичная из них — Полина Александровна, до того исполнявшая обязанности начальника, а теперь заведовавшая стационаром. Разумеется, этим молодым ленинградским врачихам было очень трудно отвешивать реверансы малограмотному деревенскому зубодеру, ходившему, как он сам рассказывал, из колхоза в колхоз, как какой-нибудь коновал или коробейник, со своими зубоврачебными инструментами в мешке за спиной, понатыканными в клеенчатую ленту, как в какую-то детскую готовальню. И он был еще как-то особенно глуп и туп от природы.
Его любимым времяпрепровождением было, собрав вокруг себя нескольких фельдшеров и санитаров, рассказывать им, похваляясь, разные истории из своей жизненной практики: «Я без бабы николы не був...» — разносился по всей санчасти его пронзительный тенор. И он, в полном самозабвении, со всеми деталями, изображал, как это он обеспечивал себя всякий раз, всегда и везде, бабой.
Он ежедневно являлся в амбулаторию с ампулой какого-то темноватого лекарства, не сообщая его названия и говоря только, что это специфически возбуждающее средство. Всем это становилось известно, все над ним за его спиной потешались, а Ширин грозился, что запретит мне делать ему уколы, если он не сообщит названия этого медикамента.
С Воркуты к нам прислали хирурга. Хирургический кабинет дожидался его уже довольно давно. При нем уже работала вольная сестра в качестве его заведующей, но операции делать было некому.
Хирурга я впервые увидел на пятиминутке. Это был тучный человек, на вид лет пятидесяти, с простоватым, немного бабьим лицом. Держал он себя спокойно и сдержанно. Когда мы через несколько дней разговорились — а он стал приходить раза два в неделю в амбулаторию и смотрел более серьезных больных, - выяснилось, что он тоже бывший военнопленный, за что у него тот же, что и у меня, срок, и бывший ополченец и что служили мы с ним в одной дивизии, а одно время даже в одном полку... Я сначала подумал, что насчет полка-то он как будто ошибается. Мне казалось, что я помнил всех врачей нашего полка, но потом сообразил, что худощавый и кудрявый человек 304
со светлыми волосами, бросившийся при появлении немецкого самолета прятаться в рожь, когда мы были еще на марше, километрах в шестидесяти от фронта, и на которого мне мой начальник санвзвода смеясь указал: «Поглядите, как доктор-то улепетывает» — скорее всего именно он. Прошло десять лет, и он очень сильно изменился. Я спросил его, долго ли он находился под следствием. «Да, нет...» — сказал он как-то нехотя. Видимо, ему было неприятно вспоминать об этом времени. «Я понял — тут убьют... Я им сразу же все подписал...» И это весь его сказ. Он с удовольствием и довольно много читал, и мы иногда разговаривали на темы русской литературы — о Толстом, об Успенском. Его, правда, в литературе интересовали преимущественно некоторые частности — живые и удачно схваченные бытовые черты и словечки. У Толстого он, например, смаковал разговор Левина с приказчиком на пути от какого- то купца. Левин заметил, что купец — чудаковатый человек, а приказчик, покрутив головой, сказал: «Один предмет-с...»
У Успенского его особенно забавлял разговор полицейского с приставом из «Нравов Растеряевой улицы»: «И морду ему набил, в том числе...» — «Чего ты плетешь, в каком числе?» — «В числе драки-с...»
Наши молодые врачихи относились к хирургу с большим уважением, которое им как-то приходилось согласовывать с тем, что перед ними заключенный. Ему, впрочем, и начальство шло всячески навстречу. Как хирург, в особенности как хирург- гинеколог, он пользовал не только весь кожвинский лагерь, но и все вольное население поселка, то есть делал аборты женам начальствующего состава, иной раз прямо на квартирах. Он питался гораздо лучше нашего. Не говоря уж о приношениях от вольных (а иногда и от лагерных) пациентов, его и наша кухня кормила совершенно несравнимо с прочими — даже с ворами - и это, видимо, по указанию начальства. Как-то я зашел к нему вечером — а у него была при больнице очень маленькая, но совершенно отдельная комнатенка - и увидел на столике ужин, состоявший из целой миски жареного мяса — грамм, вероятно, 400. А он был тучен и жаловался на катар желудка... Очень скоро обнаружилось, что он отнюдь не дурак и выпить. При этом в случае неудачной операции он выпивал все спиртное в больнице и напивался до полного умопомрачения.
Один случай обернулся особенно трагично. Освобождался немолодой уже бригадир. Выходил он с язвой желудка от 305
употребления всяких чересчур крепких и едких алкогольных напитков. Она его и мучила-то не очень. Здоровый, видно, был в других отношениях человек. И наш Василий Михайлович не хотел его и оперировать-то. Говорил: «Вот выйдешь на волю, там тебя и без операции вылечат...» Но тот очень уперся — хочу, говорил, вернуться домой здоровым человеком... И, видно, отвалил хирургу куш — бригадиры народ богатый.
Сделали операцию, проходят сутки, а в кишечнике никакого движения. Больной чувствует себя очень плохо — живот, говорит, у меня как мертвый, как каменный... Пришел Василий Михайлович, потянул его опять на стол, поковырял чего-то, зашил, пошел к себе и напился мертвецки пьяный. Перерезал он ему, видно, блуждающий нерв по ошибке. Ничего уже сделать в таком случае нельзя. А в больнице появился недавно очень приятный медбрат, молодой еще человек, с большой внутренней интеллигентностью и ответственностью, быстро и хорошо учившийся медицине на наших глазах. И он не мог понять, как это можно так загубить, зарезать человека. Все это произошло в воскресенье — из вольных врачей никого не было, Василий Михайлович лежал колодой, а Сережа бегал то и дело из больницы, где он в этот момент являлся единственной медицинской силой, в амбулаторию и с дрожью, с надеждой, выспрашивал: «Каким образом можно вызвать перистальтику? Только бы вызвать перистальтику любым искусственным способом...»
Никто из нас ничего ему не мог посоветовать — так далеко наши познания не шли. Да уж раз и хирург напился, видно, сделать ничего невозможно. Наутро больной умер. На вскрытии констатировали что-то не очень вразумительное. Но Василий Михайлович совершенно успокоился. И после вскрытия долго убеждал врачих приступать к хирургической практике.
— Что вы, Василий Михайлович, ведь мы же не умеем...
— Вот и научитесь. Только так и можно научиться на живом деле. Трупы — это все чепуха. Труп-то он все стерпит...
— Ну а вдруг ошибка, вдруг больной умрет?
— И обязательно умрет. Этого бояться не нужно. Несколько человек умрет, зато остальные останутся живы и вам благодарны...
При всей его правоте, от подобных разговоров веяло очень большим цинизмом.
Меня тоже тянуло к хирургии. Мне хотелось работать с Ва306
силием Михайловичем и чему-то от него научиться. Я завидовал Сереже, который ассистировал ему при операциях.
Однажды какой-то уголовник попросил удалить ему со щеки липому. Просил он нас об этом в амбулатории, в довольно категорической форме. Мы пошли за Василием Михайловичем. Он, к удивлению, довольно быстро согласился и предложил мне ему помогать, на что я тоже согласился с большим удовольствием. «Вот мне и представился первый случай», — подумал я. Сбегал в хирургический кабинет, взял у Сергея необходимые инструменты и вернулся в амбулаторию.
Хирурги, я это слышал и раньше, делятся на две категории. Одни работают молча, спокойно, помощники их понимают с полуслова. Но такие хирурги довольно редки. К другой категории принадлежат люди орущие, нервничающие, ругающие персонал матом — работать с ними весьма неприятно, и это могут делать лишь люди, обладающие ангельским терпением или очень большим безразличием. Наш Василий Михайлович принадлежал именно к этой последней категории. Операция, которую он предпринял у нас в амбулатории, была по существу совершенно ерундовской. Кроме скальпеля и шпателя, не понадобилось никаких инструментов. Под руками у него стоял бикс со стерильным материалом, так что моя роль заключалась лишь в том, что я держал бобовидный тазик, в который стекала кровь. Вылущивание такой липомы не предполагало повреждения сколько-нибудь крупных сосудов, но все же кровь была, и тазик следовало ловчиться держать так, чтобы кровь не капала на пациента и на пол, но чтобы в то же время тазик никак не мешал хирургу. Приходилось очень внимательно следить за его движениями и изменениями позы, вовремя подымая и опуская тазик.
Несмотря на то, что тазик мой ни разу не коснулся руки или халата Василия Михайловича и придираться, видимо, было совершенно не к чему, он во время этой, продолжавшейся минут 15—20 операции исходил криком и бранью. «Да держите же вы, черт вас возьми, держите как следует... Левую-то руку уберите за спину... Да держите же вы обеими руками...» И непрерывно все в таком роде.
Когда операция благополучно закончилась, он еще долго не мог прийти в себя — весь красный, потный и очень взбудораженный. Он закурил и вышел из амбулатории, покуда я накладывал скобки и повязку. После ухода больного он вернулся уже 307
в совершенно спокойном и веселом настроении. Ему, видно, все же было немного неловко передо мной. «А вы знаете, чего я так волновался во время операции? Тут же ведь в непосредственной близости проходит лицевой нерв — перережешь его ненароком, и вся физиономия перекосится, а сделать уже ничего нельзя будет...»
Я хотел было ему сказать, что в таком возбужденном состоянии, в какое он себя приводит во время работы, легче всего чего-нибудь напортить, но понял, что дискутировать бесполезно. Дело не в нервах пациентов, а в его собственных нервах и в какой-то природной невоздержанности да и в невоспитанности. Будущего хирурга, вероятно, прежде всего нужно учить поведению во время операции.
Добролюбов, работавший с известным воркутинским хирургом Петровым, знаменитым еще и на воле (он отсидел сколько-то по «делу Горького»), вспоминал, что тот всякий раз доводил своей грубостью ассистировавших ему сестер до слез.
Василий Михайлович окончил Московский мединститут, а работал хотя и в провинции, но не так далеко от Москвы, связанный с нею очень частыми наездами. Он любил похвастаться своим положением в том городке, не таком уж и маленьком, где он являлся чуть ли не единственным хирургом.
— Я эту зарплату мою казенную, когда получал, а когда так даже и нет. Не нуждался в ней совершенно.
— Так много давала частная практика?
— Да нет, какая же частная практика? Не имел я частной практики. Частная практика для хирурга запрещена...
— Ну так, а как же тогда?
— А вот как. Идешь из больницы домой, догоняет тебя мужичок. Приехал на лошади откуда-нибудь верст за тридцать. «Доктор, грыжа меня замучила, соперируйте, сделайте милость». — «Сделаем, только сейчас места нет. Приезжай через неделю». - «Помилуйте, доктор, у меня же хозяйство, работа. Не могу я взад- вперед ездить. Уж вы, пожалуйста, похлопочите как-нибудь, я вас отблагодарю...» — «Ну, ладно, приходи завтра в больницу». И на другой день говорю регистратурной сестре: «Маша, кого бы там можно было выписать?» - «Да вот Иванова, наверно, можно уже выписывать, температура давно нормальная...» — «Ну, так ты, Маша, выпиши Иванова, а вот этого мужичка положи». Ну, а после операции приносит он мне домой сто рублей...
308
Рассказывал он обо всем об этом с таким полнейшим достоинством, таким уверенным самодовольством, что и тени сомнения не могло возникнуть в том, что именно так и положено действовать хорошему доктору, мужицкому благодетелю...
Приятно было, однако, видеть, что молодые врачи выслушивали эти воспоминания хотя и довольно подобострастно, но без всякого реального понимания и сочувствия. Во-первых, и люди эти внутренне уже совершенно не те, да, видимо, и обстановка, в которой они проходили свою подготовку, была уже гоже совсем не та.
Как раз этим летом объявили об аресте группы очень знаменитых врачей за якобы вредительское лечение Сталина. Василий Михайлович реагировал на это сообщение с нескрываемым злорадством.
— А Григорий Никитич, это ведь мой учитель, я у него терапию слушал... Ну, вот и хорошо, вот и слава богу...
— Да что же вы такое говорите, Василий Михайлович, что же тут хорошего, как это можно?..
— Ничего, ничего. Пусть и они почувствуют, что это такое — тюрьма. Не все нам одним...
Однажды, еще семнадцатилетним юношей, я побывал у этого Григория Никитича1 дома, на приеме. Он мне чем-то напомнил Распутина — вероятно, своей кряжистостью и тем, что волосы у него были подстрижены в кружок, по-старокупечески. Со всем этим согласовывалось и то, что денег он за прием брал немало. Подобные воспоминания нельзя назвать приятными. Но как можно радоваться его аресту да еще по такому идиотски-страшному поводу?
— Ничего, ничего — пусть-ка теперь понюхают тюрьмы да баланды попробуют...
Вольные наши врачи на подобные темы с нами не говорили, и мы их на это не провоцировали. После этого сообщения стало как-то еще страшнее жить. Представилось, будто то, что тебя постигло, это еще не все. Могут к тебе применить и еще какие-нибудь репрессии. Могут вернуться военные времена, когда 58 статью переводили и изничтожали любыми способами... И злорадствовать в такой момент, если даже и имелись для 1 Виноградов Г.Н.
309
этого какие-то основания, представлялось мне непроходимой близорукостью и тупостью.
Конец июня. На Кожве опять наступало лето. Прекратились снегопады и резкие вихри, налетавшие с севера. Прекратились ночи. Прожектора над лагерной изгородью горели впустую, однако горели — так им было положено...
***
В отличие от тонких созерцателей, Мы бытие боками познаем
И болью подтверждаем познаваемость Вещей, между которыми живем.
Температуры амплитуду, голода Мучительные щупальца-тиски Испытывали полно и подолгу мы, Пространство измеряли на шаги.
Хоть маловато прожито и видано, Но впечатленья накрепко-крепки, И не изгладят памяти извилины Из вписанного жизнью ни строки.
Живым глазам суровый мир так нравится Черсзо все лишения и боль, Что с ним в минуту смерти не расстанется Без сожаленья сердце ни одно...
***
Мыс революцией вломились в мир.
Его в борьбе познали и смятеньи.
Мыв будущее рвемся, и эфир
Наполнен дрожью наших вожделений.
Мы делим на друзей и на врагов Все вещи, учрежденья и идеи;
Мы ищем формул и коротких слов, Чтоб эти чувства выразить точнее.
Да здравствует всемирная страда — Суровая и горькая година. Нас привлекает жизни полнота, А не ее благая середина.
310
Когда глядим мы на холодный свет, В нас каждый миг присутствует сознанье Готовности расстаться с ним навек И в наших взглядах жадность любованья.
Мы мало спим. Как жизнь, нам сладок сон, А пища, как для хищника добыча. Сырой вдыхаем воздух, как озон.
Наш разум ни к чему не безразличен.
Да здравствуют тяготы этих дней, Хоть мы и не желаем для потомков Ни нашей жизни бедственных страстей, Ни нашей смерти горечи бездомной.
Ко мне обратился с какой-то невинной просьбой по медицинской части маленький человечек с подслеповатыми глазами и крайне угнетенного вида. Просил он у меня что-нибудь нервно-успокаивающее. Я его принялся однажды расспрашивать в подробностях о внутреннем состоянии и вообще о себе. Оказалось, что он был школьным учителем географии в Курске. Был на войне и в плену. Арестовали в 1949 году, но дали только десятку. Видно, даже и в этом учреждении над ним сжалились. Очень уж у него растерянный и беспомощный вид. Непонятно, как он мог попасть в армию. Определился он для меня как человек очень душевный и симпатичный, со склонностями к некоторому мистицизму, к вере в предопределение и всяческое непротивление. О себе он говорил, как о некоем медиуме, через которого проходят всякие биотоки, дающие ему иногда почувствовать разные невероятные вещи.
Мне хотелось докопаться до каких-нибудь психологических корней всего этого. Понять — наигрыш ли это или все же известная паранойя. Но за некоторыми странностями, по крайней мере, оказались совершенно реальные и только неправильно осмысленные вещи.
«Мне кажется, — говорил он, - что я иногда вижу свое нутро, свою собственную кровеносную систему. Я как бы гляжу внутрь себя...»
Сначала мне это представилось чем-то психопатическим, но потом я сообразил, что иногда человек действительно видит перед глазами отражение собственной сетчатки. Это можно вызвать искусственно, стоит только с некоторым напряжением 311
и продолжительное время глядеть себе на нос, скосив глаза. Я ему об этом сказал и кажется убедил его, что в таком видении собственных кровеносных сосудов нет ничего необыкновенного и сверхъестественного.
Он привлек меня к себе тем, что не матерился, не высказывал никаких политических резкостей. Совершенно спокойно, как к чему-то неизбежному, относился он к своей лагерной судьбе. Меня заинтересовало, как именно он добивается подобного внутреннего равновесия, что и как он при этом думает. И тут я узнал от него такую важную вещь, которая и мне оказалась очень необходимой и полезной, но до которой я сам как-то ни разу не додумался, хотя, вероятно, и бывал близок к высказанному им убеждению.
В то время я начал посылать жалобы в разные инстанции — в Прокуратуру СССР, в Верховный суд на имя всяких высоких деятелей с просьбой о пересмотре моего дела. Жалобы мои не шли, по-видимому, дальше Воркуты. Во всяком случае, лаконичные ответы на какой-то почти черного цвета бумаге, где что-то очень неразборчивое напечатано ротационным способом и что-то приписано от руки, получал я именно из управления лагеря: дело пересмотру не подлежит...
Я спросил его — пишет ли он куда-нибудь.
— А зачем? Вдруг еще возьмут и освободят?..
— Так ведь для того и писать надо, чтобы освободили... — Он посмотрел на меня очень серьезно, очень грустно и спросил:
— А вы думаете, что сейчас можно жить на свободе? — Меня будто ошарашил его вопрос. Я даже Tie нашелся сразу, что и ответить... — Мне кажется, жить можно только в лагере. Иначе ведь неизбежно принятие на себя ответственности за все, что происходит на свете, и за то, например, что так много других людей сидят в лагерях. Это ведь все равно, как если ты едешь сидя в переполненном трамвае, а многие другие стоят. Я, например, не могу усидеть в таком положении. Мне легче стоять. Тогда я не чувствую себя виноватым в том, что другие стоят. Ведь я тоже стою. Разве не правда?
И я вдруг почувствовал, как мне недоставало именно этого сознания. Вот она в чем настоящая правда и истинная причина того, что я в лагере. Да, жить можно только здесь. На свободе жить невозможно, не принимая на себя ответственности за происходящее...
312
На моей обязанности — посещение изолятора для оказания медицинской помощи содержащимся в нем заключенным. Хотя вообще в изоляторе не полагалось держать человека больше десяти дней, но практически, разумеется не в штрафном порядке, а по каким-либо другим причинам, некоторые люди находились там очень подолгу. И случаи, с которыми там приходилось сталкиваться медикам, бывали нередко совершенно особого свойства. Например, в изолятор попадали «отказчики», то есть не желавшие работать, так же, как и отказавшиеся ехать на этап. И те и другие прибегали ко всякого рода уловкам, чтобы помешать исполнению в отношении к ним воли начальства. Чаще и тривиальней всего применялись какие-нибудь «мастырки».
Лагерникам хорошо известно, что введение керосина под кожу вызывает обширную флегмону, лечение которой обычно затягивается на довольно неопределенный срок. Начальство в подобных случаях нередко требовало у медиков письменных подтверждений того, что членовредительство причинено самим больным. Но на это далеко не всегда шли даже вольные врачи, наш же брат заключенный медик всякий раз отговаривался незнанием. Это оборачивалось для нас лучше, чем апелляции к закону, запрещающему использовать заключенных в качестве экспертов по уголовным делам. Начальство обычно не принимало подобных возражений, и за это можно было и самому угодить в карцер.
Некоторые «духарики» действовали более смело. Они шли на открытое причинение себе каких-либо трудноликвидируе- мых членовредительств. Чаще всего портили себе глаза, прижигая их чем-нибудь или раздражая слизистые. Например, приходилось подолгу лечить людей, втиравших в глаза разведенный химический карандаш, покуда они не становились сплошь синими и не распухали от раздражения. Один молодец натолок стекла и втирал его себе в глаза, повредив, к счастью, преимущественно веки. Нередко вскрывали себе артерии в сгибе локтя. На это отваживались немногие, так как и сама операция требовала мужества и уменья. Страшен бывал и вероятный смертельный исход.
Психопатичность поведения всякого такого мастырщика проступала в отдельных случаях достаточно отчетливо.
Мне известен случай, когда не желавший уходить на этап человек нашил себе на кожу в области груди и живота два ряда 313
больших пуговиц. Другой приколотил гвоздями к нарам мошонку.
Один сидевший в изоляторе юноша на моих глазах проглотил термометр, полученный им только что из моих рук. Мое заявление об этом в санчасти вызвало сначала всеобщее недоверие. «Он сфокусничал, — говорили мне, — и термометр как- нибудь припрятал или закинул куда-нибудь подальше...» Я, однако, был убежден в реальности этого происшествия и настоял на рентгеноскопии. Термометр оказался в желудке. Но вместе с тем в области его живота обнаружился прежний хирургический шов, свидетельствующий скорее всего о том, что парень проделал этот фокус с термометром не в первый раз. Вследствие чего наш хирург категорически отказался его оперировать. Так беднягу и увезли с термометром в желудке, причинявшим ему, несомненно, очень сильные боли.
По лагерю распространился слух, что в изолятор привезли из Каменки трех женщин: двух бандиток и одну 58-ю, которых не принимал ни один женский ОЛП, после того как идейно возглавлявшая эту троицу Бондариха (Бондарева) — сухопарая, маленькая женщина лет сорока с гипнотическим блеском в глазах — зарубила на Каменке начальника ОЛПа. Рассказывали, что вошла она к нему в кабинет с топором в руке, заявила ему, что пришла его убить, а он будто даже и не мог встать с места... Кто его знает, как оно там на самом деле произошло, но я видел своими глазами, как от нее во время ее прогулки на дворе изолятора удирал двадцатилетний силач-армянин, вооруженный к тому же здоровенной палкой, в то время как она шла на него с голыми руками. Чем он ей не угодил и что она ему намеревалась сделать, не знаю, но удирал он от нее на ОЛП — туда, откуда убежал в изолятор, ища в нем спасения от смерти, угрожавшей ему за неоплаченный карточный проигрыш.
О появлении этих женщин на ОЛПе стало известно от воровского начальства, явившегося ко мне в амбулаторию и вручившего заржавленную инъекционную иглу. «Ходишь в изолятор, передай нашим бабам. Скажи, чтобы норовили в стационар любыми средствами...» Я объяснил, что передать им эту вещь и эти слова я смогу только в том случае, если они меня вызовут. По собственному почину я доступа к находящимся в изоляторе не имею... «Вызовут, это ты не беспокойся...»
Прежде всего мне довелось познакомиться с этими женщинами по их голосам. Вели они себя шумно. Из надзирательской 314
изолятора очень хорошо слышалось, как они перекрикивались с ребятами, сидевшими в других камерах. Особенно звонким и пронзительным голосом обладала Нинка — циркачка- акробатка, в лагерь попавшая за убийство из ревности и освоившаяся с воровской средой. «Да что с тобой разговаривать, — кричала она на весь изолятор, видимо какому-то суке, — дать тебе раза ножом в брюхо и в расчете...»
Уже и по этим выкрикам, по модуляциям ее голоса следовало предположить в ней резко повышенную нервную чувствительность. Она-то меня и вызвала, первая из этих женщин. В камеру к ним меня в этот раз не пустили. Ее вывели в надзирательскую. Ко мне вышла небольшая, хорошо сложенная и очень худенькая молодая брюнетка, с мелкими, но очень подвижными чертами лица и быстрыми, но в то же время пластичными движениями. Не дожидаясь вопросов, она сразу же заявила: «Понос, срачка напала...» И засмеялась немного деланно. Мне сразу сделалось понятно, что разговаривает она так, видимо, от некоторого смущения. Как бы в подтверждение этого, она добавила уже совершенно другим тоном: «...говоря по-лагерному... Небось, уже и вы привыкли?..» — «Хоть и не привык, но значения не придаю. Ну-ка, язык покажите...»
Так мы с ней поговорили минут пять-шесть, спокойно, весело, дружелюбно. Вошедший надзиратель, уловив, что разговор у нас уже не медицинский, оборвал его, сделав ей какое- то довольно грубое замечание. Господи, что тут началось. Она моментально преобразилась в некую психопатическую мегеру. Изо рта ее полился безудержный мат, долго еще потом раздававшийся из камеры.
Когда я рассказал об этом у нас в санчасти, ею сейчас же заинтересовался Василий Михайлович: «Хочу на нее взглянуть, — решительно заявил он. — Вечером пойдем с вами вместе». — «Но ведь не вызывали же, Василий Михайлович?» — «Ничего, мы скажем, что есть подозрение на инфекцию...»
Нину к нам вывели хотя и без особых разговоров, но напротив нас уселся старший надзиратель, решивший, видимо, проследить - нет ли тут какого подвоха. Я объяснил ей, что сообщил о моих наблюдениях врачу, и вот он пришел ее освидетельствовать. Она выразила свое одобрение по этому поводу.
Василий Михайлович попросил ее подойти к нему поближе, вооружился фонендоскопом с металлическими наушниками: «Снимите-ка, пожалуйста, блузку». Она это выполнила 315
без стеснения и колебания, обнажив очень стройный бюст с небольшими грудными мышцами. И вся прочая мускулатура «играла» у нее при движениях, обнаруживая ее спортивную закалку.
После выслушивания и выстукивания хирург стал ей задавать вопросы, постепенно удаляясь от медицинской темы. Это заметил надзиратель, тотчас же вмешавшийся в разговор:
— Вы, Павленков, — сказал он, называя его по фамилии, а не как обычно — «доктор», подчеркивая этим, что говорит с заключенным, — посторонних речей с моей заключенной не ведите.
— А что я такого сказал постороннего? - деланно добродушно спросил Василий Михайлович.
— Я к тому, что пора заканчивать медосмотр, у нас будет поверка...
Стало ясно, что настаивать на чем бы то ни было не приходится. Поняла это, видно, и Нина. На этот раз она ушла без всякого скандала, поблагодарив нас и сопровождаемая надзирателем. Ушли и мы. А на другой день я был вызван в изолятор экстренно, прямо с приема, который пришлось прервать.
На этот раз меня провели к женщинам в камеру. Уже через дверь я почувствовал запах крови. Войдя внутрь, я оказался в крови по щиколотку. Камера была маленькая, одиночная. На метр от двери начинались сплошные ординарные нары, на высоте сантиметров восьмидесяти от пола. Маленькое окошечко, забранное решеткой, помещалось под потолком над нарами, напротив двери. Было полутемно. Когда я немного пригляделся, то увидел лежащую на самом краю нар Лиду Ступину — третью из этих женщин. Она была очень бледна и признаков жизни не подавала. Пульс почти не прощупывался. На ее левом локтевом сгибе виднелся большой разрез, из которого кровь уже не вытекала... В глубине камеры, на нарах, почти не видные от двери, сидели две другие женщины. Они молчали. Я наложил Ступиной повязку, действуя как можно быстрей, и хотел было уже уйти, чтобы сообщить о происшедшем в санчасти. Но тут Бондарева остановила меня. «Ты знаешь, почему она саморез сделала? Ее отделить от нас хотели. Если только ее возьмут, я себе сразу брюхо вспорю. Пусть только тронут. Я крови не боюсь. Только почуяла кровь — сразу на душе легче стало...»
316
Я объяснил им, что если они хотят видеть Ступину живой, им придется отпустить ее на несколько дней в стационар. Ей надо вливать физиологический раствор. Здесь этого сделать невозможно... Слова Бондаревой я передам начальнику санчасти, и если Ступина к ним через три дня не вернется, пусть тогда и приводят свои угрозы в исполнение. А пока прошу не мешать нам вернуть ее к жизни, если это еще не поздно...
Явившиеся через двадцать минут санитары стационара унесли Ступину без сопротивления. Женский организм легче переносит большие потери крови, чем мужской. Через два дня Ступина своими едва отошедшими руками удерживала дверь, в которую ломились наши воровские начальники. Она умоляла отправить ее обратно в изолятор, что и было тут же исполнено. Я некоторое время навещал ее ежедневно. Меня беспрепятственно и без сопровождения пускали в женскую камеру. И я наконец получил возможность передать им данную мне ворами иголку, вместе со всеми требованиями воровского начальства. Меня поразила трезвость, с которой восприняла все это Бондариха. «Ты им вот что скажи: сами, мол, виноваты — стали к Лиде ломиться с первого дня, ее и убрали из стационара. А нас, мол, не пускают теперь, как ни стараемся. А сам знай, что мы в стационар не пойдем. Понимаем, что они большие воры — уважаем, но обслуживать всю компанию не можем и не будем. Этого ты им, конечно, не говори. Да ты и сам, я вижу, понимаешь, какое тут дело...»
Было непонятно, почему этих женщин так долго содержат на мужском ОЛПе. Но и это вскоре сделалось ясно. Мужчин с малого ОЛПа отправили на сенокос, а туда привезли женщин. Туда же перевели и этих трех.
Я не мог понять еще и того, как Лида Ступина, производившая впечатление человека, попавшего в лагерь совершенно случайно (она была в оккупации), оказалась связана с этими матерыми бандитками и психопатками. Она на меня производила впечатление человека вполне спокойного, уравновешенного и вполне здравомыслящего. Почему она ради сохранения общения с ними перерезала себе артерии? Ничто не указывало на то, что она сделала это под каким-либо нажимом с их стороны. Как будто бы не указывало, ну а там кто ж его знает?..
Вот и опять август месяц. Август 1952 года. Второй август в лагере. Если стать на самую высокую точку нашего ОЛПа, 317
там где столовая и откуда начинается спуск к вахте, то оттуда, именно в августе, когда вершины Северного Урала освобождаются от снега, открывается величественный вид на довольно большой участок горной гряды, подымающейся над бесконечными запечорскими лесами. Эти скалистые вершины несут в себе что-то до такой степени первобытное и дикое, безжизненное и неприступное, что при виде них возникает в груди такая же дрожь, какую я испытывал первое время на Воркуте при виде северного сияния.
Северный Урал
На горизонте Северный Урал
Встал неожиданным виденьем Холодно-белых лунных скал Над леса низменным равненьем.
Лес не зовет, не мучит глаз, Но гор внезапная заметность Их понукает, как приказ, И направляет в неизвестность.
Мученье умножает страх,
Что к тем горам рельефно-точным Не подойти, на них не стать И склонов не видать восточных.
Они мне сказочней Рипеев1;
За ними дивные народы — Счастливцы-мудрецы гипербореи, Не знающие ни нужды-невзгоды,
Ни диких войн, ни страшных тюрем;
Живущие по избранному сроку. И ни один из них не обездолен, Не подневолен чужевластью-року...
Неожиданно ко мне приехала мать. Мать не родная и носившая другую, чем у меня, фамилию. Я боялся, что ей не разрешат свидание со мной. Однако начальство ко мне благоволи-
{Рипейские горы — в греческой мифологии сказочные северные горы, за которыми жил легендарный народ гипербореев, любимый богами.
318
jio настолько, что даже в случае, когда я не имел формального права на свидание, оно мне было разрешено — один раз на два часа.
Меня, как и при встрече с женой, поразил совершенно обычный вид моей матери. Как если бы мы и не расставались, как если бы не прошло двух с лишним лет.
Психологически это расставание умерялось для меня отчасти тем, что она мне сравнительно часто писала, так что я многое в отношении нее чувствовал, касавшееся вообще-то преимущественно общесемейных дел. Писем ее у меня накопилась большая пачка, я ими очень дорожил и со страхом думал не раз, что могу их потерять на каком-нибудь этапе: не желая их контролировать, возьмут да и уничтожат во время обыска...
Билет у нее был до Воркуты. Она хотела взглянуть на этот новоявленный городок, интересовавший ее и как знаменитое место заключения вообще, и как то именно место, где я провел первую лагерную зиму.
Мне пришло неожиданно в голову, что было бы очень хорошо отдать ей эти письма. Сумасшедшая мысль. Как ее осуществить? Это ведь не тетрадочка со стихами, которую я сунул в сумочку жены, воспользовавшись отсутствием надзирателя. Тем более, что обо всем этом я подумал впервые именно во время свидания, идя на которое я этих писем с собой не взял...
С решимостью отчаяния надумал я обратиться за разрешением о возвращении писем к старшему оперуполномоченному. Я отдавал себе отчет в том, что это совершенно безнадежное предприятие, но тем не менее я попросил мою мать подойти к вахте часа через два-три и спросить, не собираются ли ей что- либо передать. А сам немедленно отправился к оперу. Прежде всего мне повезло в том отношении, что он не только оказался в лагере, но и сидел на скамеечке перед своим помещением с какими-то еще нашими эмвэдэшниками.
— Гражданин старший лейтенант, разрешите обратиться.
— Давай... — Он, разумеется, очень удивился моей просьбе. Сначала не мог даже понять, о чем идет речь.
— Ты что ли матери письмо написал? — Когда я все-таки объяснил ему, о каких письмах идет разговор, он удивился еще больше. — Ведь это же не ей от тебя, а тебе от нее письма? Зачем же их ей обратно передавать?
319
- Мне эти письма дороги, гражданин старший лейтенант. Я боюсь, что они здесь у меня потеряются...
— Ну и что же, если потеряются, а зачем их хранить-то?.. — Тут я и брякнул ему неожиданно для себя то, что менее всего, казалось бы, могло мне помочь в этом деле:
- Я думаю, что эти письма со временем могут приобрести общественное значение... — То ли он уже совершенно не понял того, что я ему сказал, но только он мне на это ничего не ответил, а, помолчав немного, сказал:
— Ну ладно, принеси эти твои письма, поглядим...
Я бросился к себе в амбулаторию и через минуту буквально прибежал обратно. Но опера уже не было на скамеечке. Он уже прошел к себе в кабинет и там с кем-то разговаривал. Когда мне разрешили войти, я увидал в кабинете симпатичную опершу с Малого ОЛПа. Она глядела на меня с любопытством. Я извлек пачку писем из сеточки-авоськи, в которой они у меня хранились. Опер бегло их перетасовал, убедился, что они все просмотрены лагерной цензурой (я, по счастью, не уничтожал и конверты) и сказал лениво-спокойно, обращаясь к оперше: «На, вот, Лиза, посмотри...» У меня захолонуло сердце. Неужели разрешил? Я поспешил передать оперше и авоську. На всякий случай поблагодарив, ретировался, не чуя под собой ног...
Чтобы как-нибудь убить время, я принялся чистить инструменты и мыть аптечную посуду. Явившаяся через некоторое время вольная врачиха Галина Александровна сразу же мне заявила: «Вас там на вахте какая-то пожилая женщина дожидается. Ваша матушка, кажется?» Я ей объяснил, в чем дело. Но ее мои объяснения не удовлетворили. «Так пойдите же вы еще раз к оперу, как же можно старого человека заставлять ждать на вахте?» Напрасно я пытался растолковать ей, что от меня тут уже больше ничего не зависит, а необходимо ждать распоряжения старшего опера. «Нет-нет, уж вы, пожалуйста, сходите, поторопите их там...»
«Их поторопишь, как же... сходила бы сама попробовала...» Я думал в этот момент о том, что она, так же как и я, чувствует свое бессилие, но не считает возможным оставаться равнодушной... Чтобы как-то успокоить Галину Александровну, я вышел из санчасти и медленно пошел, но не к оперу, конечно, а к вахте, чтобы успокоить и обнадежить мать, если бы мне удалось ее увидеть. У вахты я столкнулся с опершей. «Я так в сеточке 320
и передала письма вашей матери, честное слово, я ничего не читала... Вы пройдите, она еще, кажется, здесь, вы еще, быть может, с ней попрощаетесь...»
Я добежал до барьерчика-калитки, через которую в лагерь и из лагеря проходили в индивидуальном порядке и которая отворялась посредством рычажка из надзирательской. Действительно, мать еще была здесь, и мы перемолвились несколькими словами и поцеловались на прощание через этот барьерчик, чему не воспрепятствовал дежурный вахтер.
Я был на седьмом небе — ну, что за оперта, вот какой замечательный человек! Могут же пребывать в этой среде подобные люди... Если раньше она на меня производила очень приятное впечатление, то теперь мое отношение к ней граничило с обожанием. И вообще вся эта история с письмами представилась мне каким-то чудом. Расскажи, так никто и не поверит... И я не стал об этом трепаться. Люди тут бог знает какие. Пусть уж оперы не будут принуждены сожалеть о проявленном ими либерализме.
Старшим блатным этим летом оказался какой-то необыкновенно истерический субъект, смотревший на всех окружающих ненавидящими глазами. Он и со своими приближенными — другими центровыми ворами — очень часто ругался.
У меня, между тем, переменилось начальство. Ширин, у которого не так много уже оставалось сроку, решил перейти в бригаду, чтобы получать зачеты день за три. Я было поначалу взгрустнул по этому случаю — с ним очень хорошо работалось. Человек он был, несмотря на некоторую склонность к алкоголю и к наркотикам, очень дельный и деликатный. У нас с ним никогда не возникало никаких конфликтов. Но на его место пришел присланный к нам еще по весне литовец Петравичус, бывший студент-медик, также на исходе своего срока, с которым мне в общем жилось интереснее, чем с Шириным, так как он был пообразованнее и даже читал по-немецки. Но он очень проникся лагерной психологией и накрепко усвоил, что главное начальство в лагере — это воры и им необходимо всецело подчиняться и потрафлять. Он при этом делал вид, что хорошо разбирается во внутриворовских отношениях и знает точно, кто из них какое место занимает по воровской табели о рангах. Как-то он с возмущением жаловался мне, что наш санитар, человек на мой взгляд вообще очень трезвого ума, проявил 321
11 Лагерный дневник
крайнюю бестактность, обидев центрового вора. «У него они все центровые, — отругивался санитар. — Проходу не стало в санчасти от этой сволоты...»
Как-то я пришел к Петравичусу с кусочком венгерского сала из полученной только что посылки и с несколькими кусками сахара, предложив ему организовать чаепитие. Только было мы принялись задело, как совершенно неожиданно вошел один из представителей воровского начальства и бесцеремонно уселся за стол. Первым моим движением было прикрыть чем-нибудь сало, но тут же я сообразил, что побеспокоился об этом поздновато, и остался сидеть на месте. Движение мое все же, видимо, не укрылось от вора. Он сейчас же стал распространяться на тот счет, что ему-де ничего такого от нас не нужно, у них-де все такое имеется в большем количестве и ассортименте... Однако потом Петравичус мне все же сказал, что вор этот как бы невзначай спрашивал у него, не знает ли он, что еще имелось в моей посылке. «Уберите-ка вы ее куда-нибудь подальше...»
Одна небольшая малярно-ремонтная бригада нередко зана- ряжалась на женский ОЛП. По этому случаю в нарядной отбоя не было от воров, которые требовали фиктивного включения в эту бригаду с целью проникновения в женское царство. Нарядчики по собственной инициативе не могли, разумеется, этого делать, чего не желали понять воры, расценивая это как антиворовскую «сучью» политику с их стороны. Воры угрожали нарядчикам расправой, и когда зашла речь об этапе на Воркуту, старшего нарядчика начальство спрятало в изолятор. Видимо, опер через своих стукачей узнал о готовящемся его убийстве.
Но наши воры настроились так агрессивно, что им кого-то понадобилось убить обязательно в отместку за неудачи с женским ОЛПом. И был избран один из младших нарядчиков, бывший офицер, с небольшим сроком за какое-то должностное преступление. Оказался он на виду у воров только потому, может быть, что именно он на разводах зачитывал наименования бригад. От него абсолютно не зависело, кто и куда наряжался на работу.
Исполнителем этого террористического акта оказался дюжий, но весьма недалекий парень, кажется именно за убийство и осужденный. Всё рассчитали довольно аккуратно. Выбрали время, когда в нарядной почти никто не присутствовал. Парень этот пришел и сначала сел за стол, потом стал за спиной у младшего нарядчика, как бы приглядываясь к тому, что и как 322
он пишет. Потом он выхватил из-под телогрейки «пику» и нанес нарядчику удар в спину, под лопатку. Но молодого и довольно сильного человека не удалось убить сразу. С криком он выскочил из нарядной в коридор барака, в котором помещались бухгалтера и другие вольные и заключенные сотрудники лагерных учреждений. Парень выскочил за ним, препятствуя его бегству и нанося повторные удары пикой куда попало. На крики люди выглядывали из дверей и, удостоверившись в том, что совершается убийство, старались покрепче запереть свои помещения изнутри. Нарядчику ни одна душа не пришла на помощь. Все же он вырвался еще раз и выскочил из барака наружу, но упал. Убийца навалился на него, продолжая наносить удары. Он отнюдь не помышлял о бегстве и не пытался скрыться от набежавших надзирателей. На вахте, куда его доставили, собралось все лагерное начальство. Нарядчик был для них своим человеком — офицером, пострадавшим, во всяком случае, без серьезной вины. Они в неистовстве кинулись на убийцу, били его каблуками, табуретками, чем попало. После этой экзекуции его поместили в изолятор, в одиночку, а мне приказано было осмотреть его - нет ли серьезных телесных повреждений.
Когда я вошел в полутемную камеру, на нарах передо мной сидел человек, которого трясло как в лихорадке. Руки его покрывала кровяная короста. Невозможно разобрать — его ли это кровь или убитого им нарядчика. С трудом я добился у надзирателей тазика с теплой водой и стал отмывать ему руки. Он после некоторого, очень тягостного молчания прерывающимся от страха, слабым голосом спросил: «Вправду скажи - убил я его до смерти?..» Ясно стало, что он больше всего боится того, что не убил, то есть не выполнил поручения, и что его за это теперь самого убьют... «Убил, — сказал я ему. — Убил до смерти».
Больше мне не хотелось у него ничего спрашивать. Кровь на кистях рук оказалась чужой. Раны имелись только на левом предплечье, их он, очевидно, нанес себе сам во время борьбы с нарядчиком той самой пикой, которой в конце концов он его и убил. Тело было в синяках от побоев, нанесенных ему на вахте. Он производил жалкое впечатление своим потерянным и как бы совершенно беззащитным видом. Меньше всего он походил на убийцу.
Перевязав ему руку, я с облегчением ушел. Вернувшись в санчасть, пошел взглянуть на труп нарядчика. Разобрать ока323
и*
залось что бы то ни было невозможно. Все тело его и лицо, как толстой коростой, сплошь покрылось почерневшей запекшейся кровью. Вскрытие производили на следующий день. Когда труп отмыли, он производил впечатление живого человека. На нем насчитали девятнадцать ран, но ни одной смертельной. Умер он, стало быть, от потери крови...
Когда мы выходили из санчасти по окончании вскрытия, от вахты и чуть ли не до самой санчасти, расположенной в глубине лагеря, растянулись бригады, назначенные на этап. Воры, видимо, знали о своем предстоящем отъезде на Воркуту, к которому и приурочили это убийство. Когда кортеж их двинулся за лагерные ворота, из рядов заключенных несколько раз прозвучали торжествующие голоса. Кто-то громко, на весь лагерь высказал свое удовольствие по поводу совершенного террористического акта.
Над убийцей, как стало известно, должен был произойти лагерный суд. Все говорили, что ему ничто существенное не угрожает. «Ну, подумаешь, прибавят ему еще двадцать пять лет. А у него их, может, и так уже семьдесят пять... По 58-й его судить не будут — он скажет, что убил из собственной мести, ни на кого больше не покажет... да и что показывать-то...»
Однако когда через некоторое время я увидел снова этого человека — его как раз выводили из изолятора для отправки на суд, на Воркуту, — он произвел на меня впечатление совершенно рехнувшегося: бессмысленно улыбался, бормотал что-то бессвязное, ничто не привлекало его внимания. Если он все это разыгрывал, то, надо сказать, необыкновенно правдоподобно.
Осень и зима 1952—1953 годов.
Болезнь и смерть Ульянова
Хотя стояла еще не поздняя осень, но лагерь уже довольно- таки опустел, точно зимой, а главное, в нем стало гораздо спокойнее после удаления наиболее активных уголовных элементов. Впрочем, они появлялись на короткое время и быстро исчезали снова — через нас шли этапы на Воркуту с различных летних «подкомандировок» - сенокосов и других подсобных сельскохозяйственных работ. В этих этапах попадались иногда интересные люди, знакомиться с которыми, однако, я получал возможность только в тех случаях, когда они сами являлись ко 324
мне в амбулаторию. Так явился однажды маленький человечек, назвавшийся москвичом и радиоинженером. Он рассказал мне, что довольно долгое время — около двух лет — находился в одном из спецлагерей для научно-технических работников, в самой Москве. Работал по специальности, что-то изобретал или совершенствовал. «Возили, — говорил он, — меня на научные заседания в разные институты в сопровождении одетого в штатский костюм, как и я, охранника. Я там речи держал. Никто и не подозревал, конечно, что перед ними заключенный с двадцатипятилетним сроком. Но в конце концов я не выдержал. А кажется, что еще надо? Работаешь свою работу, питаешься нормально, можно как будто и не замечать тюрьмы, а на поверку это труднее, чем вот здесь, в лагере. Не выдержал я такой сытой жизни и попросился на этап. Мотают меня с ОЛПа на ОЛП уже больше года. Приземлиться нигде до сих пор не удалось. Но черт с ним, и так все-таки лучше, чем там, в спец- лагере: люди вокруг меняются, природа тоже, дышу свежим воздухом...»
Я его не понял. Мне казалось, что попади я в такой спецла- герь — не ушел бы из него по своей воле до конца жизни. Шутка ли сказать - жить среди интеллигентных людей, заниматься умственным трудом... Что это такое в действительности, я понял только много лет спустя с помощью Солженицына...
Были и очень чудные встречи. Однажды пришел на прием человек, похожий не то на матерого бандита, не то на английского матроса давних времен, знакомого по «Острову сокровищ».
— Фамилия?
— Гуйо... — Вот это да!
— Вы, что же, француз? — Молчит. — Был такой французский поэт и философ — Гюйо.
— Я знаю, — мрачно ответил он. Но большего я так от него и не добился.
С одним из последних этапов из какой-то сенокосной командировки, откуда-то из глубины лесов, прибыл мой давнишний приятель с 43 ОЛПа Воркуты — москвич-дипломат, лагерный поэт и медик. Я ему очень обрадовался. Пребывание этого этапа у нас затянулось недели на две, так что мы с ним всласть наговорились. Узнал я от него и всякие невероятные новости.
325
—У нас с сенокоса в этом году совершен побег. Вы слыхали? — Я ответил, что как будто об этом что-то неопределенное слышал. -- Ушли-то ведь три рецидивиста-двадцатипятилетника. Вообще, непонятно, как эти люди попали на сенокос. С большими сроками не посылают в такие условия, где нет никакой настоящей охраны, а только два-три самоохранника. Одного из них они, уходя, разоружили и унесли его винтовку... Пути для побега оттуда ведь только два — или по железной дороге, где всё, конечно, самым тщательным образом обыскали, или в тайгу, в направлении на Архангельск. Нотам болота, необитаемая тайга, никаких дорог, никаких людей, нечего жрать...
— Вы думаете, они избрали именно это направление?
— Да, так думает и начальство. Вот почему: они взяли с собой одного человека — паренька лет двадцати, с небольшим сроком, ужасного увальня и пентюха. Пользы им от него абсолютно никакой — мертвый груз, если, впрочем, не считать, что... - Он вдруг замолчал.
— Что вы хотели сказать, вернее, чего вы не договариваете?
— Я вам скажу об этом, если разрешите, завтра. Завтра должна подойти последняя партия с сенокоса, задержавшаяся там на две недели. Ее приведет знакомый мне надзиратель. Если что-нибудь известно новое об этом побеге, то он, конечно, уже все знает и мне расскажет.
На другой день он, с совершенно особым чувством, в котором сквозило превосходство человека над зверем, смешанное при этом с некоторым злорадством, стал мне рассказывать.
— Ну вот, видите ли, мои подозрения, которые я не решился вам вчера высказать, подтвердились. Наших беглецов поймали где-то уже на Мезени. Они вырезали какое-то одиноко жившее вдалеке от селения семейство, сразу была поставлена на ноги ждавшая уже их оперативная группа, и этих троих поймали...
— А четвертого, — спросил я, предчувствуя что-то особое. Глаза моего товарища блеснули зловеще.
— Четвертого... От четвертого нашли только голову. Я тогда же подумал, когда узнал о его побеге с этими тремя, что они его берут на мясо. — Встретив мой бессмысленный взгляд, он объяснил: - Они его убили и съели, когда их особенно стал мучить голод, а голову зарыли. Сами потом и показали, где она зарыта...
— Господи, какой ужас, ~ сказал я.
— Да, эти люди ни перед чем не останавливаются, - про326
должил он это мое восклицание, не без некоторого чувства превосходства надо мной в том смысле, что подобная история его не столь уже удивляет и не ужасает, именно поскольку не удивляет...
Я вспомнил, как он мне рассказывал когда-то, что очень любит всяческие мастырки и саморезы. Любит незаживающие язвы и неизлечивающиеся болезни... Как-то еще Ширин, узнав, что я с этим человеком встречался на Воркуте, спросил: «А вы знаете, что он пассивный педераст и предавшийся блатным человек?» Я тогда этому как-то не поверил. Слишком он казался мне для всего этого интеллигентен. Интеллигентность, как мне представлялось и представляется, исключает возможность причастности к блату в каком бы то ни было смысле...
Но в этом случае я, по-видимому, ошибся. Он отказался переселиться к нам в санчасть, куда я его пригласил, а продолжал жить в бараке вместе со своими этапниками. Когда же я как-то зашел за ним в этот барак и увидал его среди непосредственных соседей по нарам, я понял, что он, видимо, действительно довольно тесно связан с какой-то воровской компанией. Это подтвердилось еще и тем, что он привел как-то ко мне одного юношу из своих, заявив: «Мне нужно его оторвать от этапа и оставить здесь». — «Как же вы думаете это осуществить?» - «А вот увидите». Он попросил у меня некоторые наружные средства и стал давать их этому пареньку внутрь. У того довольно стойко поднялась температура до 37,8 — 38,0, и при анализе крови обнаружились ненормальности, а также, естественно, и ускоренное РОЭ. Сбитая с толку, наша врачиха, заведовавшая стационаром, положила его на основании этих показаний в больницу для обследования. Именно это и было нужно. Обследование предполагало пребывание в больнице по крайней мере на протяжении недели, а этап должен был уйти со дня на день.
Отчего мой товарищ, человек очень образованный и совершенно интеллигентный, не только проникся воровской психологией — понял, зачем именно три бандита взяли с собой в побег постороннего им паренька, но и поступился своей совестью — этикой медика — для выполнения воровских нужд? Легче всего, конечно, его за это порицать и осудить. Но надо подумать и о том, что те же самые качества — интеллигентность и образованность — делают человека в лагерных условиях слабым и беззащитным. А дружба со стороны воров обеспечивала ему прочную поддержку во многих обстоятельствах. Вряд ли ему 327
при этом очень уж приходилось действовать против совести. Такое ли уж это преступление — ввести в заблуждение врача по довольно невинному, в сущности, поводу? То обстоятельство, что я обходился до сих пор без подобных уловок, не давало мне еще права строго судить моего коллегу. Сколько раз я попадал в очень трудные положения. Голод и холод, плюс очень тяжелый физический труд человеку, к этому непривычному, переносить очень трудно. Мне его при мысли обо всем этом становилось прежде всего очень жаль. Его нездоровый, обрюзгший вид - может быть, он еще и злоупотреблял наркотиками — заставлял со страхом думать о том, дотянет ли он до предстоявшего ему через год освобождения, тоже сулившего не столь уж большие радости, ибо у него еще, кроме срока, имелось поражение в правах («пять по рогам») и высылка на вечное поселение в Красноярский край...
Расстались мы с ним как-то даже толком не попрощавшись— этап ушел быстро и неожиданно.
А по расставании я думал о том, что строго судить мне его не приходилось еще и потому, что вряд ли бы я мог поручиться головой в отношении абсолютной профессиональной честности также и за некоторых других лагерных медиков, пусть и не имевших столь определенных связей с уголовной публикой.
Не забуду при этом, что Добролюбов, с которым я работал в Каменке и которого очень уважал как медика, так и не объяснил мне секрета уловки, посредством которой он на моих глазах нагонял себе температуру до 39,0°, спокойно сидя на стуле и будучи раздет до пояса. Видно, и он берег этот секрет от других про какой-нибудь черный день...
Начальник ОЛПа отдал распоряжение, чтобы я выходил с ночными бригадами дежурить на медпункте лесорейда. А начальник санчасти — новый и совершенно неизвестный мне человек — заявил: «А я вас не отпускаю из амбулатории...» Ослушаться начсанчасти я не хотел, а начальника ОЛПа - не мог, получил бы сейчас же десять суток ареста, а может и еще чего похуже. Так и получилось, что уходил я на рейд прямо с вечернего приема в амбулатории, а возвращаясь оттуда утром, попадал опять прямо на амбулаторный прием. Но фактически в этом не было ничего страшного. Дежурство на лесорейде в осенне-зимнее время оборачивалось почти что одной формальностью. За ночь ко мне обращалось не более двух-трех человек с какими-либо незначительными травмами или с желудочны328
ми явлениями. Так что я мог довольно хорошо выспаться, а что не досыпал ночью, то «добирал» днем, между амбулаторными приемами.
Медпункт на рейде находился в обогревалке, за дощатой перегородкой. Комнатка была маленькая — в ней помещались только небольшой столик и висячий шкафчик с медикаментами в одном углу, деревянный топчанчик — в другом. Прибежав сюда с приема, я обычно сначала что-либо читал или писал, а если чувствовал усталость, то укладывался на топчанчик и засыпал.
Однажды я был уже очень близок именно к этому. В обогревалке, за тоненькой перегородкой, вполголоса разговаривали покуривавшие мужички-украинцы. Уснуть сразу мне, однако, не пришлось... Лежа, я смотрел на столик в другом углу и думал, что надо бы сесть и кой-что записать из того, что бродило у меня в голове на протяжении дня, как вдруг, именно в той половине дежурки, с ужасным грохотом с потолка обвалилась вся штукатурка. Это произошло так неожиданно и сопровождалось таким шумом, что я не пошевельнулся, а только обалдело и удивленно глядел на свалившуюся и разбившуюся на мелкие куски штукатурку... «Повезло, черт возьми», — подумал я. За стеной послышался спокойный и равнодушный голос: «Лехпома вбыло...» Ответа на это замечание ни с чьей стороны не последовало. Полежав так минут пятнадцать, я встал и стал лениво кидать в стоявшее у двери мусорное ведерко обвалившуюся штукатурку. Услыхав эту мою возню, тот же голос, с той же интонацией произнес: «Ни, нэ вбыло...» И опять на это никто из сидевших в обогревалке ничего ему не ответил...
В один из холодных октябрьских дней пришел ко мне в амбулаторию человек, о существовании которого в лагере я почему- то даже еще и не подозревал. Он показался мне очень бледен и изможден, как-то даже и по лагерным меркам легковато одет. На его бушлате остался след споротой нашивки с номером.
-Я из Речлага, Николай Карлович, -отрекомендовалсяон. — Через несколько месяцев у меня кончается срок. Меня сюда направили, видимо, для некоторого возвращения в себя и для подкрепления.
— И давно вы на нашем ОЛПе?
— Да уже недели три...
329
— Как же это я не видал вас до сих пор?
— Меня сразу же определили в бухгалтерию. Я и просиживаю там с утра до позднего вечера, чтобы меньше времени проводить в бараке.
Он оказался ленинградским химиком с докторской степенью. В тюрьму попал в 1942 году, так что перенес предварительно самую тяжелую часть блокады.
— Но я с женой и дочерью не голодал. Я заведовал большой лабораторией с огромным запасом реактивов. Я гнал спирт и менял его на хлеб и жиры. Даже и тогда не было более ходовой валюты... А посадили меня за то, что я, считая ленинградскую блокаду абсурдом, искал людей, которые помогли бы мне агитировать за объявление Ленинграда открытым городом.
— Неужели вы не понимали, что наше начальство никогда бы не поддалось на такую агитацию?
- Понимал. Но я думал, что этого можно добиться помимо начальства. Начальство вело себя необычайно трусливо. Я присутствовал однажды на митинге, где выступал какой-то из крупнейших руководителей города. Вся его речь свелась к мольбе о защите, о спасении их — наших руководителей — от немцев... Одним словом, в тех условиях я не мог ни думать, ни действовать иначе. Так что, не в пример вам, меня посадили правильно. С точки зрения начальства меня и нельзя было оставить на свободе...
Мой новый знакомый, несмотря на проведенный в лагерях десятилетний срок, почти не обнаруживал признаков духовной деградации. Правда и то, что, по его рассказам, до перевода его в Речлаг в 1949 году он отбывал свой срок в довольно легких условиях, жил почти что на свободе и все время разъезжал по лагпунктам. Он работал в общелагерной медико-санитарной лаборатории, в программу которой входили плановые обследования в разных пунктах, которые он и выполнял, пребывая в месячной длительности командировках. Так разъезжал он еще и тогда, когда уже произвели разделение на женские и мужские лагпункты. Этаже свобода служила для него, однако, причиной больших огорчений. Он очень любил свою небольшую семью - жену и дочь. С женой он неоднократно встречался на протяжении первого периода своего заключения, когда его свидания с ней были почти что неподконтрольны лагерному начальству. Жена, видимо, неоднократно высказывала ему свои обиды на 330
его неразумное поведение во время блокады, разрушившее их совместную жизнь. Она не отличалась практицизмом, не имела хорошей специальности, мало зарабатывала, так что не только не могла ему помогать, но он еще принужден был пересылать домой все то, что ему удавалось заработать в лагере. При всей своей любви к жене, он, однако, не мог избежать лагерных связей, обвинял себя в этом, тяжело угрызался и портил себе настроение даже и тогда, когда все это осталось уже далеко позади, когда можно было не предаваться этим горьким воспоминаниям, а следовало думать о предстоявшей ему вскоре возможности воссоединения с семьей. Он об этом и думал, но в том плане, что это воссоединение теперь, после всего пережитого, после десятилетнего отчуждения, вряд ли окажется возможно. Да и практически он себе этого не представлял: ему предстояло продолжать жить в этих местах. Поскольку он приговорен Особым совещанием, ему не грозила высылка в Красноярский край, но думать о возвращении в Ленинград или вообще в «Россию», конечно, не приходилось. Заставлять ехать сюда жену ему представлялось эгоистичным и никчемушным. Он был готов, как и прежде, отсылать ей все свои заработки и довольствоваться кратковременными свиданиями в летнее время.
Я возмущался позицией его жены, которая, как мне казалось, не имела никакого права для суда над ним ни за его поведение в блокаду, ни тем более за его лагерную жизнь. Я высказывал надежду на то, что она уже, быть может, поняла все это сама, и ему не придется даже предлагать ей приехать к нему на новое свободное местожительство - она сделает это без промедлений сама...
Его мрачные перспективы в отношении семейных обстоятельств не мешали ему высказывать чрезвычайный оптимизм по поводу обстоятельств политических, хотя это и представлялось мне совершенно непоследовательным. Нечего и говорить, что он был настроен весьма антисоветски, совершенно не допускал какой-либо нормальной эволюции нашего строя в сторону его улучшения, а единственно рассчитывал на пертурбации, вызванные внешними обстоятельствами. Хотя корейская война приняла весьма затяжной и локальный характер, он все же оставался при убеждении в ее неизбежном превращении в самом скором времени в большую войну между Америкой и Россией, в которой последняя потерпит поражение и вынуждена 331
будет пойти на внешние и внутренние уступки. «Вас посадили, — говаривал он мне в ответ на мои сетования по поводу того, что мне предстоит кончить дни в лагере, — в очень благоприятный момент. Война с Америкой неизбежна. Она будет очень быстрой, и одним из ее результатов явится ликвидация лагерей. Вы отделаетесь легким испугом, - уверял он меня. — Через какой-нибудь год будете на свободе, готов с вами спорить на бутылку шампанского. Считайте, что вы мне ее уже проиграли...» Было в этом, вероятно, и некоторое желание меня утешить, как утешают безнадежно больного, но присутствовал также и несомненный непоследовательный оптимизм, непонятный мне у такого серьезного и научно мыслящего человека.
Несмотря на то что мне претила и меня огорчала его непреложная враждебность всем нашим порядкам, — мне продолжало казаться, что именно в лагере нельзя так думать во имя наших близких и всех прочих, живущих на воле, - я все же очень отдыхал с ним душой. Он был широко образован, многое знал и понимал, не утратил интереса к совершенно отвлеченным вещам, и разговоры с ним доставляли мне очень большое наслаждение.
И он, и я днем бывали весьма заняты. Иногда мы встречались среди дня в обеденный перерыв, длившийся в лагере часа два-три, когда все вольное начальство отправлялось по домам. Хотя мы, в особенности после получения мной очередной посылки, и устраивали совместные трапезы, которые мне бывали очень приятны и отвлекали от лагерной обстановки и постоянного внутреннего одиночества, подобные возможности возникали очень редко. Зато мы с Николай Карловичем почти ежедневно гуляли поздними вечерами, когда лагерь весь уже спал и, собственно, ходить по его территории не полагалось. Нам это как-то сходило с рук. Другого времени для прогулок у нас явно не было, да и никто не ждал от нас никакого подвоха. Ему оставалось месяца два-три до освобождения, а во мне начальство было уверенно больше, чем в самом себе.
Эти прогулки в темноте и в совершенной тишине, по уже довольно основательному морозцу, который сам по себе приятен после дня, проведенного в душном помещении, доставляли мне большое наслаждение, наполняя меня запасом бодрости и свободы духа. О чем только мы ни говорили и ни спорили во время этих прогулок, о чем только ни вспоминали. Перед нами вставал довоенный Ленинград с его красотами, с его загородными пар332
ками и дворцами. Как он хорош летом, как вообще хорошо на свете в летнюю жару... Окружающий холод давал нам ее почти реально чувствовать в этих воспоминаниях: «Как-то я настолько обленился на даче, — рассказывал он, - настолько привык к жизни на воздухе, почти без всякой одежды, что однажды, когда жена подошла ко мне и сообщила с испугом о приезде какого- то человека с деловым визитом, я почти равнодушно сказал: “Ну что ж, пригласи его сюда...” — “Да ты бы хоть брюки надел, человек-то ведь совершенно посторонний”. — “К черту брюки, — заявил я. — Не могу ничего надевать, так вот и буду встречать его в одних трусиках...”» И мы с ним хохотали, воображая подобные возможности. Радовались и хохотали, почти физически ощущая эту температуру, когда брюки кажутся невозможно тяжелыми и жаркими. А в это время нас обвевали ноябрьские печорские ветры, под ногами хрустел обледеневший снег, а над головой, почти в зените, торчала Большая медведица...
Как бывает нередко, освобождение пришло для него неожиданно. Спецчасть заботилась о том, чтобы освобождаемый проделал все необходимые манипуляции, сводившиеся к сдаче некоторых носильных и спальных принадлежностей, а также к подписанию обходного листа в самый последний день и в возможно более короткий промежуток времени, чтобы никто в лагере не мог воспользоваться освобождением товарища в личных целях: передать кому-либо что-либо в письме или на словах... Так что мы с ним даже и не попрощались как следует. Просто исчез человек из моего поля зрения, да и все. Впрочем, он еще раньше обещал мне по освобождении написать о том, где и как ему удалось приземлиться. Недельки через две я действительно получил от него открыточку из Инты: «Заведую здесь маленькой химической лабораторией, получаю довольно большие деньги. Занят немного. Живу на частной квартире у одной старушки. В свободное время немного читаю, а больше лежу на постели и предаюсь всякого рода бесплодным мечтам...»
Странно было мне все это читать. Казалось, еще так недавно у нас с ним вершилась одна судьба... «Счастливый человек, — думал я, — и вот уже, как всякий счастливый человек, не понимает своего счастья и совершенно забыл о том, что с ним происходило вчера, как будто бы этого вчера никогда и не было...»
Оказалось, что я к нему все же очень привык за короткое 333
время нашего совместного существования. До сих пор я еще ни к кому так здесь не привыкал, а теперь довольно долго чувствовал его отсутствие, в особенности во время одиноких прогулок поздними вечерами...
Пустевший обычно к зиме, наш лагерь на этот раз, на пороге 1953 года, опустел особенно сильно. Многие бараки стали нежилыми и глядели слепыми окнами и открытыми настежь дверями. Людей, особенно в ночное время, стало не видно и не слышно. Это было и приятно и как-то тоскливо. Если вместе с Николаем Карловичем мы во время прогулок ходили через весь ОЛП, от забора и до забора, то теперь я инстинктивно жался к санчасти, совершая петли вокруг нее. И свет виднелся только в моем окне — окне амбулатории.
Я его не тушил всю ночь и дверей никогда не запирал, чтобы всякий человек легко мог найти ко мне дорогу. Иногда против этого пытались было возражать надзиратели, но начальство, видимо, меня понимало и запретов на этот счет никаких не делало. Гулять же на безлюдье и в одиночестве мне становилось грустно. Грустно до того, что когда однажды я услыхал у кухонной двери санчасти пронзительное кошачье мяуканье, оно прозвучало для меня музыкой. Мяукала известная мне и раньше несчастного вида лагерная кошка с обрубленным наполовину хвостом. Когда я пошел прямо на нее, она испугалась сначала и шарахнулась в сторону, а потом подбежала ко мне. Я взял ее на руки, и она принялась лизать мне ладони, видимо, в знак полнейшего доверия. Что же мне с ней дальше делать? Я подошел к кухонной двери и дернул ее. Она оказалась не запертой, и я, приоткрыв ее, пустил кошку в тамбур. Она скользнула туда без всяких колебаний, и мяуканье прекратилось.
Когда я на следующий день рассказал об этом маленьком происшествии санитару стационара, спавшему именно на этой кухне, он мне с некоторой нежностью в голосе пояснил: «У ней тут котята...»
Спокойствие, воцарявшееся на кожвинском мужском ОЛ Пе в зимнее время, само по себе действовало благотворно на мое сознание и душевное состояние. Жизнь как бы несколько нормализовалась и будто бы приближалась к той, которая текла за нашим забором. Поверки, шмоны и другие ухищрения режима приобретали в значительной мере формальное значение. Зимний контингент оказывался настолько «спокойным», что выполнял все положенные церемонии сам, даже без понуканий.
334
Так ведь оно гораздо приятней и проще. Такой порядок вещей позволял заключенным чувствовать себя хоть сколько-то органической частью одного административного и производственного коллектива вместе с лагерным и рейдовским начальством, вместе со службой надзора, сотрудники которой в эти зимние месяцы становились сами как-то спокойней, а следовательно добрее и человечней, разумней.
Но особенно подняло мое настроение — совершенно так же, как в прошлом году подписка на займ на Каменке, — привлечение меня вместе с некоторыми другими представителями лагерной обслуги к совещанию по поводу предстоявшей инвентаризации имущества заключенных. На этом совещании, проводившемся начальником ОЛПа, — в тот момент этот пост занимал один весьма толковый и серьезный капитан, запросто и по-человечески обходившийся с заключенными, — присутствовали начальники и сотрудники лагерных служб, надзора и оперативные работники. Неподалеку от меня сидела та самая оперша, через которую я передал моей матери письма. Из нее так и брызгало наружу доброжелательство и жизнерадостность. Помимо нее и наших врачих присутствовали и другие женщины — сотрудницы, а иногда и просто жены начальства, пришедшие на это собрание ради встреч с другими людьми и ради известного развлечения. На Кожве, надо полагать, подобные сборища происходили не часто. Так все это мне казалось приятно и уютно, что я забывал минутами, где я — не на профсоюзном ли каком или производственном совещании на воле? Настолько приятно, что моментами даже овладевало совершенно ложное ощущение некоего социального равенства вольного персонала и заключенных.
К новому году нас неожиданно перевели на Малый ОЛП. Все шли разговоры о том, что женщин вообще уберут с Кож- вы в другие места, на более легкие работы, а получалось явно наоборот. Когда нас выстроили перед вахтой, стало наглядно понятно, до какой степени нас, мужчин, тут мало: пять-шесть бригад, горстка обслуги да наша санчасть. В стационаре лежало человек двадцать пять, всё больше хроники. Идти собственным ходом не могли человек пять - для них подали двое розвальней... Мы двинулись последними. Выйдя за вахту, увидали стоявшую в стороне колонну женщин — раза в три больше нашей. Между шедшими впереди нас бригадниками и женщинами 335
поднялась шуточная перебранка. «Ну как вы там без нас, — кричали мужчины, — небось о стенки третесь?..» — «Да мы-то без вас еще проживем, а вот вы небось концы пообрывали...» — отвечали в тон женщины, не лезя за грубым словом в карман. И это надо было принимать за обоюдное сочувствие и ласковое приветствие...
Я шел вместе со стационаром. Когда мы подошли к воротам Малого ОЛПа, оказалось, что в них стоит его начальник, капитан Светлов, человек вообще неплохой, но грубоватый. «А это кто такие?» — спросил он громко и обращаясь явно ко мне. Будто он не знал, кто это такие... «Стационар, больные...» — ответил я. «Больные? С такими ряшками?» Но это тоже явная острота.
Больница тут была невелика. Она состояла из одной большой палаты, в которой можно разместить человек до сорока при необходимости. Так что наши два десятка расположились свободно. Вообще здесь угадывалось помещение клуба. В глубине его — небольшая и невысокая эстрада. Помещение за сценой — актерская уборная — обращено в настоящую уборную для больных. Запаха от нее, удивительным образом, в палате почему-то не чувствовалось.
При входе в палату имелись еще три небольшие комнаты. Одна из них представляла собой изолятор — палату для особо тяжелых или инфекционных больных, другая — ординаторскую и процедурную, а в третьей поместили нашего хирурга. Мне объявили, что ввиду малого количества людей на ОЛПе я буду обслуживать и амбулаторию, и стационар. Амбулатория помещалась рядом со стационаром, в отдельном домике.
Когда, устроив больных, я вышел, чтобы осмотреть амбулаторию, в которой уже сегодня же мне предстояло работать на вечернем приеме, я увидел около ее дверей некое очень юное существо женского пола, чуть ли не школьницу, стоявшую с довольно растерянным видом. Узнав, кто я, она объявила, что назначена сюда заведующей амбулаторией. Будет сегодня вести прием больных, а я должен ей помогать на процедурах... «Вот чудеса», — подумал я. Такое совершенно не оперившееся существо заведует амбулаторией! Да еще в лагере. Тут, правда, у нас должно быть все спокойно и чинно, но все же имелись ведь и среди нас всякие люди. Уголовники-то, во всяком случае, присутствовали, хотя, конечно, далеко уже не самые ретивые.
Во время первого же приема я убедился в том, что мое новое 336
начальство довольно-таки образовано в медицинском отношении: выслушивает, задает разумные вопросы. Тщательно записывает все в карточки. «Как ваше имя-отчество?» - «Люда, Людмила Павловна», — поправилась она. «Вы медсестра?» — «Нет, я фельдшер...» Оказалось, что она недавно кончила фельдшерское училище в Архангельске, откуда и сама родом. Сюда попала по разверстке и еще совершенно не представляет себе, что же это в сущности такое. В стационаре моим начальством оказалась медсестра Бурова, пожилая уже женщина, медицински почти не образованная и вообще малограмотная, но добрый и неглупый человек, жена начальника КВЧ на главном ОЛПе — капитана Бурова, человека, контуженного в войну, с большими изъянами по части психики. У него бывали удивительные провалы внимания и памяти. Он мог позвать человека, отдать ему распоряжение сделать то-то и то-то, а когда тот приходил доложить об исполнении, Буров способен был выгнать его со словами: «А чего тебе тут надо? Никто тебя не звал, отваливай отсюда...» Человек он, однако, тоже был, в сущности, очень добрый.
Врачи же наши — Василий Михайлович и Галина Александровна осматривали только стационарных больных, да и то не каждый день. Василий Михайлович, хотя ему полагалось жить у нас, в сущности дневал и ночевал на женском ОЛПе. Там у него тоже имелась маленькая комнатка при стационаре, где ему полагалось отдыхать днем, между операциями, но он оставался там обычно и на ночь под предлогом наличия больных, требовавших круглосуточного наблюдения. Так что за вычетом тех немногих часов, когда на ОЛПе бывали Бурова и Люда, я представлял собою единственную медицинскую силу. С начальством моим, и стационарным и амбулаторным, я сработался очень быстро и пользовался у того и другого полнейшим доверием.
Нельзя сказать, чтобы у меня не хватало работы. В стационаре лежало несколько очень тяжелых больных, уход за которыми, даже самый простой, я не считал себя вправе передоверять санитарам; их у меня было два: они делили между собою сутки и занимались преимущественно уборкой помещения и топкой печей. Кроме них, при стационаре существовали еще завхоз и повар-раздатчик, которыми я уже не распоряжался.
337
Самым тяжелым больным был Ульянов. Он стал таковым на моих глазах. Привез я его сюда с центрального ОЛПа как еще довольно здорового человека, у которого подозревали активную форму туберкулеза легких. У него временами происходило незначительное кровохарканье свежей кровью. Он уже лежал с этим довольно давно, еще и на главном ОЛПе, но там я как амбулаторный работник не имел к нему отношения. Один только раз меня позвали к нему, так как нужно было сделать внутривенное вливание хлористого кальция, а в стационаре в тот момент почему-то не оказалось никого, кто бы мог это сделать. Хотя все прошло гладко, но он мне, однако, заметил довольно резко: «Не можете вы делать вливания...» — «Почему вы так думаете?» — «Так, не можете...»
Меня это не столько обидело — я уже привык ко всяким, порой совершенно неожиданным реакциям моих пациентов — сколько заставило о нем задуматься. Мне объяснили, что у него открытый туберкулез, хотя БК и не найдены... Мне уже тогда смутно показалось, что что-то тут не так...
На Малый ОЛП он пришел своим ходом, не был ни слаб, ни худ, но раз в неделю немного плевал свежей кровью. Немного — всего несколько капель. Теперь, пользуясь тем, что он на моих руках, я находился при нем подолгу, неоднократно и очень внимательно его выслушивал. Никаких хрипов, никаких неравномерностей дыхания я прослушать не мог. Однако Василий Михайлович как будто бы серьезно был убежден в его туберкулезе. Даже однажды, во время очередного осмотра и выслушивания, ткнул его в одно место под лопатку и сказал: «Вот послушайте, здесь амфорическое дыхание. Здесь у него каверна». Галина Александровна взяла стетоскоп, послушала и не возразила.
Я допускал в отношении себя, что я туг на ухо и вообще не поднаторел еще в этих вещах. Но Ульянов меня все больше интересовал. Я стал к нему внимательно присматриваться и собирать анамнез. Мне удалось довольно легко выяснить, что он в прошлом работник аппарата какого-то крупного сельсовета в районе Москвы и срок отбывал за убийство. Что за убийство, при каких обстоятельствах — этого мне никто не мог рассказать. Сколько я себе представлял Ульянова, он не должен был быть охоч на откровенные разговоры. Вообще, определяющим в нем являлась, по-моему, довольно выраженная нелюбовь и недоверие к людям. Еще на том ОЛПе, где он был совершенно 338
в себе, держался он от больных в стороне, друзей у него, сколько можно было судить по расспросам, не водилось. Как больной он не капризничал, но казался угрюм и требователен.
Врачи наши очень из-за него волновались — имею в виду врачей вольных, — а он принимал их расспросы, советы, как и самое лечение, холодно, равнодушно, давая этим как бы понять, что причины и характер его болезни ему самому достаточно ясны и не являются для него предметом страха и беспокойства. Можно поэтому допустить, что будучи человеком канцелярского труда, он, как и многие прочие люди такого рода, отступавшие в страхе перед физическим трудом, искал способа избавления от него и причинял себе кровохарканье сам, что-то время от времени принимая внутрь или вдыхая такое, что это кровохарканье неукоснительно, но в небольших размерах, и вызывало.
Меня немного смущало, что подобных подозрений ни разу не высказал Василий Михайлович, насмотревшийся за свой лагерный медицинский стаж на разнообразные мастырки немало. Впрочем, я этому не так уж и удивлялся, потому что примерно в это же самое время на моих глазах и при моей помощи он дважды имел дело с искусственно вызванными легочными (или бронхиальными) кровотечениями. Последний раз это был молодой парень, которого хотели за какую-то провинность отчислить из сапожной мастерской. Он мне прямо признался, что вдохнул горстку металлической пыли. Однако Василий Михайлович, видимо из опасения мести со стороны больных, в обоих случаях в истории болезни не высказал никаких таких подозрений, а всякий раз в качестве объективной причины кровотечений выдвигал, под знаком вопроса, туберкулезный процесс. Также и с Ульяновым. Василий Михайлович упрямо настаивал на открытом туберкулезе, хотя подтверждений этому лабораторным порядком получено не было. В ответ на высказываемые сомнения он приводил случаи, когда коховские палочки не удавалось обнаружить уже и при далеко зашедших явлениях открытого туберкулеза...
Между тем, больной наш на новом месте явно и довольно быстро деградировал. Он перестал вставать с постели, кроме как за нуждой, лицо его начало отекать, он явно слабел, и у него нарушалась сердечная деятельность. При виде всего этого на одном из очередных осмотров Галина Александровна с большим беспокойством, с откровенной тревогой в голосе спросила его: 339
«Ульянов, что же с вами такое? Как нам вас лечить, что же нам с вами делать?» Он ничего не ответил. Сначала было криво и виновато улыбнулся, потом нахмурился. Может быть, ему показалось, что врач собирается выписать его из больницы ввиду безрезультативности лечения? Во всяком случае, когда в палату тут же зачем-то зашел наш завхоз, он резко и требовательно ему сказал: «Вот что, завхоз, а в порядке ли у тебя мои вещи? Не пропало ли чего при переезде?» Завхоз тотчас же перечислил все вещи Ульянова, находившиеся у него на хранении, и тот успокоился. Хотя все это прозвучало логично и здраво, у меня, тем не менее, осталось какое-то не вполне осознанное ощущение того, что Ульянов поднял этот разговор, будучи не совсем в себе. Так это было или нет, но он продолжал очень быстро и резко деградировать. Через день-другой у него обозначилась сильная общая желтуха. Это означало, что легочный процесс распространился на печень и, видимо, на весь организм. Еще через несколько дней у него произошло очень сильное кровохарканье, точнее рвота свернувшейся кровью, в результате большого легочного кровотечения.
Можно было ожидать, что это событие произведет на Ульянова удручающее впечатление, но он остался равнодушен, не произнес ни одного слова. Это еще больше укрепило мое представление о том, что его психическое состояние ненормально. Он продолжал очень быстро слабеть и худеть. Начал испражняться под себя. Санитары к нему больше не подходили из брезгливости и боязни заражения. Весь уход за ним мне пришлось принять на себя. Он перестал узнавать меня и врачей. Однажды, взглянув на меня, он вдруг улыбнулся: «А, здорово...» Он глядел на меня, явно принимая за кого-то другого. «А Николай где?» — «Какой Николай?» — спросил я его спокойно, но довольно настойчиво. Он задумчиво помолчал, а потом несколько нерешительно добавил: «Секретарем работал...» Мне вдруг почему-то стало ясно, что он говорит об убитом им человеке. Говорит в бредовой надежде на то, что он его не убил, и ждет от меня подтверждения этой версии...
Кормить его теперь приходилось с ложки и только жидкой пищей. Но вот настал день, когда он и ее глотать перестал - суп выливался обратно. Дыхание резко участилось. Он лежал с открытым ртом, иногда охал и подымал руки к горлу, тогда как ноги его были поджаты. Чувствовалось, что у него наступило острое кислородное голодание.
340
В этот день кожвинские ОЛПы инспектировал воркутинский лагерный прокурор. Все наше начальство было поднято па ноги. Прокурора сопровождали: начальник лаготделения, начальник ОЛПа, начальник санчасти. По больнице его водил также и наш хирург, которого вообще в связи с прибытием прокурора перевели на жительство к нам.
Ходил прокурор молча, сосредоточенно поглядывая вокруг, вопросов почти не задавал. При виде Ульянова на его лице отразилось недовольство и он спросил: «Какая статья?» Узнав, что уголовная, спокойно, но резко сказал, обращаясь почему- то ко мне:
— Зачем держать таких? Актировать надо...
Прокурор и прочие ушли. Ульянову становилось все хуже. Дышал он часто и неровно, сердце работало аритмично. Я пошел искать Василия Михайловича. Он гулял по ОЛПу недалеко от больницы. «Ульянов агонизирует...» Он не удивился, даже не приостановился. «Когда умрет, позовите меня...»
Умер он после этого через час-полтора, скорее, чем я думал. Дыхание вдруг сразу прекратилось. Рука, шевелившаяся у горла, соскользнула вниз. Я ему выпрямил ноги. Глаза он не открывал уже день или два. Я накрыл ему лицо простыней и пошел за Василием Михайловичем. Он пришел, констатировал смерть и сказал, что вскрывать будем завтра в этом же помещении. «Переложите его через некоторое время на деревянный топчан и приготовьте патологоанатомический набор...»
Вскрывал его я. Смотрели — хирург и Галина Александровна, протокол вела одна из вольных сестер. Каверн в легких у него не оказалось. Правое сохраняло нормальное состояние, а левое представляло собой творожистую массу — казеозная пневмония...
Смерть Ульянова я невольно воспринял с облегчением. В условиях нашей больницы и при отсутствии помощи со стороны санитаров — их, конечно, можно было бы призвать к порядку, но представлялось противным жаловаться — я с трудом управлялся с его обслуживанием. Судна у нас не было, приходилось пользоваться всякими консервными банками — мыть его и перекладывать одному тяжело. И очень угнетал запах нечистот... Так что когда он умер и все это прекратилось, я уловил в себе нотку радости... Слава богу.
341
У меня имелся и еще один тяжелый и трудный в обращении больной - бывший бухгалтер из украинских мест. У него уже довольно давно определилась непроходимость привратника — на какой почве, хирург наш решить не мог. Допускал рак, но больной лежал в стационаре уже месяца три без каких- либо определенных изменений в ту или другую сторону. Делать ему операцию Василий Михайлович почему-то не хотел или не решался. Больной получал у нас жидкую концентрированную пищу — молоко с сахаром и яйцами. По принятии ее у него через некоторое время начинались острые боли и приходилось содержимое желудка выбирать обратно посредством дуоденального зонда. Эта операция проделывалась два раза в сутки. Был он, конечно, довольно худ, но сохранял энергию и подвижность. Между приемами пиши он нередко участвовал в напряженных играх в лото, которыми увлекались чувствовавшие себя лучше больные. Судя по той энергии, которую он расходовал во время этих игр, приходилось допустить, что у него не было злокачественных явлений, о чем, впрочем, свидетельствовала и сама статичность его состояния.
Были у нас еще и паралитики и тяжелые диабетики, но трудности ухода за ними принимали на себя санитары. Лежал еще и один довольно здорового вида украинец, часто получавший из дому очень хорошие посылки. У него никак не заживал абсцесс легкого со свищем, происхождение которого мне тоже представлялось как-то не совсем ясным.
Имелись и просто инвалиды - люди на шестом десятке, еще недавно работавшие в лагерной обслуге, а теперь помещенные в стационар ввиду предстоявшего им в скором времени освобождения.
Я жил в ординаторской, спал на деревянном топчанчике, сохранившемся еще от времен пребывания здесь женщин: посредине топчанчика имелось квадратное отверстие, для того чтобы промывания стекали в подставленный снизу тазик.
Вечера — длинные и свободные, часов с 7-8 - я проводил в одиночестве и обычно писал, задумав повесть на материале собственной юности. Она меня занимала настолько, что весь день, занятый делами, я думал о ней, и к вечеру у меня в уме уже обычно содержалось в более или менее скомпонованном виде нечто, что оставалось только аккуратно записать.
Жизнь становилась на какое-то время довольно размеренной, и ритм ее нарушали только некоторые неожиданности — малые и большие. Например, совершенно непредвиденно меня 342
»друг посадили в карцер. Ожидал я этого меньше всего на свете. Часа в четыре утра в дверях стационара послышались голоса — пришлось встать и выглянуть в прихожую. Там стоял надзиратель и с ним человек десять заключенных. Они о чем-то довольно громко и сердито препирались. Увидев меня, надзиратель сказал: «Вони пьяни... обследуй их». — «Вы что, ребята?» — «Да какие мы пьяные, буровит не знай чего. Заморозил нас совсем на вахте...»
Я уговорил надзирателя отпустить заключенных в барак, что он и сделал. Но о происшедшем кто-то, видно, стукнул по начальству, которое и потребовало к ответу надзирателя. Атот все свалил на меня. К шести часам утра меня вызвали на развод, и начальник ОЛПа, не дав мне слова сказать, гаркнул: «Ты на кого работаешь? — и прежде чем я успел что-либо ответить: — Посадить его...»
Меня сейчас же увели в изолятор и посадили в одиночную камеру. Она была привычного вида, с одинарными нарами, занимавшими заднюю ее половину. Довольно высоко над ними — небольшое окно, прикрытое козырьком. Мне не пришлось долго размышлять о том, что же будет — долго ли мне тут сидеть... Вошел старший надзиратель, хитро поглядел на меня и сказал: «Ну, раз тебя посадили, ты мне, по крайней мере, вахту как следует вымоешь. Фельдшер должен же уметь пол мыть...» И он повел меня на вахту. «Караулить я тебя не стану, дай-ка мне твой бушлат, и вот тебе ведерко». Он запер караулку и ушел куда-то. Я остался в одной лыжной курточке и принялся за работу. За водой приходилось бегать через двор, а я довольно быстро вспотел. В раже я ничего поначалу не замечал, но вечером у меня разыгрался страшенный радикулит — как водится, ни лечь, ни встать, а работать-то ведь надо. Сляжешь — тут же потеряешь медицинскую работу неизвестно на какой срок. Недели три я не мог снять с себя штаны. Присесть на корточки тоже совершенно немыслимо. Всякая перемена положения вызывала боль, бросавшую в пот.
Из карцера-то меня отпустили почти что сразу после мытья пола. Начальницы мои страшно всполошились, узнав, что я в изоляторе, и побежали к начальнику ОЛПа.
— Как же теперь будет, ведь мы тут только до двух часов?
— Ну, до двух-то мы его еще выпустим, — примирительно сказал начальник. Так что настоящим наказанием оказался для меня не карцер, а радикулит.
343
Весна 1953 года. Переход на женский ОЛП
По календарю дело уже шло к весне, но мы ее еще совершенно никак не чувствовали. Только день начал прибывать очень заметно. Как-то я, занимаясь обычными процедурами, вдруг услыхал по радио сводку о состоянии здоровья Сталина. Все насторожились, и начались пересуды. Мало кто понимал, что такая сводка вряд ли могла попасть в эфир при живом Сталине. Меня охватил ужасный страх: что за этим произойдет и что теперь станет с нами? Скорее всего, нас просто перебьют на всякий случай, думал я. Однако из последующих сообщений можно было заключить, что переворотов или волнений никаких не происходило. И у нас все шло своим порядком. Довольно быстро, впрочем, начались разговоры об амнистии. Они как бы подтвердились сообщением, что для амнистии и акгировки должны быть представлены сведения об инвалидах и больных- хрониках. Заработала комиссия, которую возглавлял врач, прибывший с Воркуты. Он заявил, что хотя 58 статья амнистии и актировке не подлежит, но материалы должны составляться и на нее. Это нас потрясло. Что-нибудь же это все-таки значит?
Амнистия приняла колоссальные размеры. Отпустили всех самых страшных людей. Из поездов с амнистированными, шедших с Воркуты, чуть не на каждой станции снимали по нескольку трупов. Это блатные, суки, беспредельники и прочие сводили свои счеты. Буфеты на станциях все оказались разгромлены. Наше начальство спешно заказывало в лагерной кузнице на лесорейде оконные решетки и дверные навесы. Эта страшная волна бушевала недели две-три. Потом все успокоилось и пошло дальше так, как если бы ничего не случилось. Амнистия нам ничего не дала. Смерть Сталина — тоже. Но прошло еще немного времени, и наше начальство стало обходить паралитиков и прочих неизлечимых хроников из числа 58-й и стало их приглашать собираться домой. Актируют 58-ю! Чудеса!
Сактировали, впрочем, немного, отправили их, и опять воцарилась все та же тоска и беспросветность. Ждать нечего. Надеяться не на что.
Но вот кто-то из больных сказал мне, что по радио сообщили, будто врачей, лечивших Сталина и арестованных год тому назад, над которыми готовился судебный процесс, признали будто бы невиновными, и суда не будет... У меня захолонуло сердце. Вот это да! Неужели же все-таки началось?
344
Когда же был объявлен приговор над Берия, заволновалось и наше начальство, и воровское, в свою очередь. Как себя вела 58 статья, судить мне было трудно, потому что у нас ее оставалось довольно мало. Что касается женского ОЛПа, то там все пребывало в совершенном спокойствии. Муссировались только по-прежнему слухи о предстоящей будто бы «колонизации».
Все шло своим порядком. От кратковременных надежд настроение переходило к глухому отчаянию: измученному сознанию становилось вдруг ясно, что оснований для каких- нибудь серьезных надежд на изменение нашего положения по-прежнему не имеется.
У нас переменилось начальство на ОЛПе: к нам назначили мужа моей заведующей — капитана Бурова. С женой его у меня сложились очень хорошие отношения, но я побаивался, что именно это обстоятельство и может мне навредить — человек нелепый, психопатический, еще приревнует... Тем более, что он стал довольно часто наведываться в стационар и почти всегда заставал нас с ней вдвоем в процедурной. Впрочем, и свойственные ему скандалы не заставили себя долго ждать. Как-то я услыхал его истошный крик в палате. «Дураки, — кричал он больным, — вас обворовывают, а вы молчите...» Те, действительно, встретили его выступление гробовым молчанием, не понимая, что он, собственно, имеет в виду. Потом он ворвался в процедурную и приказал мне идти вместе с ним на кухню. Тут же велел повару при нем перевешивать все котлеты. Они, как и должно было быть, оказались разного веса, так как некоторые больные получали дополнительную, полуторную порцию мяса. Капитан этого не знал, втолковать ему что-либо оказалось невозможно, так как он не желал ничего слушать и убежал из кухни, извергая в пространство всяческие проклятия. Повар решил было, что его песенка спета, а я пытался его все-таки обнадежить: жена объяснит, в чем дело, и капитан успокоится...
Среди моих многочисленных обязанностей имелась и такая, как ежедневное снятие пробы завтрака и обеда. Процедура чисто формальная, делать какие-либо замечания или пожелания я был не вправе. Но вот однажды повара объявили мне, что привезли вонючую камбалу. «Она безвредна — пробовали, — сказали они мне, — и на вкус даже не плоха, но вот запах...» Что было делать? Запрещать смешно. Меня сейчас же выгнали бы за такое самоуправство, да еще и в изолятор бы посадили 345
суток на десять за срыв завтрака. Я все же написал, что камбала является ограниченно годной. При этом я имел в виду, что она требует отбивающего запах гарнира. Но это я уже сказал повару на словах. Многие эту камбалу есть не стали и проклинали жульническое начальство. И в этот же самый день взяла и явилась какая-то воркутинская комиссия — человек пять. Им, конечно, тотчас же заявили о камбале. Они на кухню. Там еще имелись ее остатки. Убедились в том, что она воняет, и потребовали меня. «Вы снимали пробу? Почему разрешили к употреблению?» Потребовали книгу проб. «Что значит “ограниченно годная”? Нет такой формулировки — или годная или нет...»
Комиссия с капитаном Буровым вышла из кухни, а я поплелся сзади. «Говорят, фельдшер ваш самозванный — зачем такого держите?» — слышу, как спрашивает кто-то из членов комиссии начальника ОЛПа. И, о чудо! Вот уж чего я никак не мог ожидать. «Он скоро освобождается», - брякнул вдруг Буров! Он не мог не знать, что я двадцатипятилетник. Это была явная ложь ради моего спасения...
Через некоторое время он, видя, как я топаю по снегу в ботинках, спросил - почему я не в валенках. «Обслуге не положены», — ответил я. И опять-таки он должен был это великолепно знать. «Ну, ничего. Сошьем ватные бурки», — пробормотал он. И хотя бурок мне никаких не сшили, я все же после этого случая понял, что, видимо, действует агитация жены Бурова, всегда мне во всем сочувствовавшей, и стал вести себя с ним смелее. Как-то даже попросил у него блокнот — не на чем, мол, лекарства из аптеки выписывать. Он тут же повел меня в бухгалтерию, где сидели преимущественно разные проштрафившиеся и проворовавшиеся интенданты. И я получил необыкновенное удовольствие от сцены полнейшего панибратства начальника ОЛПа с этими заключенными, из числа его коллег— военных хозяйственников. Такого я еще никогда не видел. Разговор велся, конечно, на матерном жаргоне, но до того уж он был товарищески добродушен, что просто душа отдыхала. И блокнот я тут же получил совершенно великолепный.
Жизнь наша на Малом ОЛПе приобрела настолько спокойный и размеренный характер, что не могло быть никаких сомнений в том, что она должна скоро кончиться. Лагерь не терпит спокойствия и благополучия. Что-то должно произойти...
Первым признаком конца нашего безоблачного существования послужило то, что от нас отправили вдруг в один прием 346
больше половины народу. Отправили повара и обоих наших са- нитаров. Из этого мне стало, во всяком случае, ясно, что стационар прекращает свое существование. Завхоз стационара, которого пока не тронули (за ним ведь числилось белье и прочее имущество), этого не уразумел и пошел к начальнику ОЛПа: «Гражданин начальник, оставьте хоть одного санитара — у меня ведь и силы нет дрова таскать...» Тот было оскалился, приготовившись его выругать, но потом сказал спокойно и не без иронии: «Чего ты меня уговариваешь, что я тебе — девочка?»
Об этом мне сокрушенно рассказал сам завхоз. Еще через несколько дней на ОЛП въехали подводы, и начальство отдало приказание больным отправляться на этап. Паралитиков и других лежачих больных положили на телеги. Прибежала взволнованная жена Бурова — ей, видимо, о предстоящем этапе стационара сделалось известно в последнюю очередь. «Вы подумайте, — говорила она запыхавшись, — пришел приказ об отправке мужской первой категории. А начальник лаготделения ни за что не хочет последних мужчин отправлять - на женщин-то в работе какая надежда? Вот и решили всем больным поставить первую категорию да и отправить...»
На последней подводе лежали вещи одной из наших вольных врачих — Антонины Васильевны — которая мне, да видно и другим, нравилась меньше, чем Галина Александровна. Она тоже уезжала на Воркуту, и я довольно равнодушно принял известие об ее отъезде. Впрочем, мне сделалось ее жалко, когда начальник конвоя, сопровождавшего заключенных, приказал троим из них, на которых, как на пешеходов, он не возлагал надежд, взгромоздиться на эту подводу. Бедная Антонина Васильевна заплакала, когда под ними затрещала ее никелированная кровать. А я подумал, что безразличие лагерного строя к людям, на которое ежеминутно натыкались мы, распространялось, в сущности, и на вольный персонал.
Стало известно, что для нас — немногих оставшихся на Кож- ве мужчин — отгораживают закуток при входе на главный ОЛП. Об этом сообщили пропускники, работавшие на подводах и ездившие на женский ОЛП. Действительно, еще через неделю- другую нас туда перевели. Хотя судьба моя представлялась мне совершенно неясной, я шел туда с легким чувством. Остальные же все откровенно радовались — идем к бабам. Хотя радость эта и умерялась тем, что женщины были им, собственно, уже давно 347
не в диковину: работа на лесорейде производилась совместно и общение в лабиринтах штабелей происходило беспрепятственно. Я же в то время, какое мы жили на Малом ОЛПе, ни разу не выходил на производство. Однако незадолго до конца нашего там пребывания у меня завелись друзья, много и остроумно об этом совместном быте женщин и мужчин на рейде рассказывавшие. Люди эти прибыли к нам вдвоем, отдельно от какого- либо этапа. Это были художники. Один — профессионал и совершенно интеллигентный человек по фамилии Остафьев, другой — его помощник — самоучка и при этом весьма блатного вида, хотя сидел по 58-й с двадцатипятилетним сроком. Фамилия его была Завадский. Я удивился, услыхав впервые. Редкая фамилия. «Вы не родственник Ю.А.Завадского?» Тот скромно потупился, не говоря ни да, ни нет. Но Остафьев тут же опроверг это предположение: «Какое там. Он с Волги, из- под Куйбышева. И фамилия-то его Заводский, а это он просто так ее произносит...»
Их привезли и поместили в отдельном домике, вдалеке от бараков, прямо как где-нибудь на хуторе. Раньше в этом домике находилась портняжная мастерская. А они поставили там два самодельных мольберта и, одну за одной, штамповали для лагерного начальства картины масляными красками: «Мишки на лесоповале» — так они называли «Медведей в лесу» Шишкина; обнаженную красавицу, купающуюся в пруду, по которому плавают лебеди, коня и т.п. Их заставляли кое-что делать и на производстве. Остафьев описывал мне времяпрепровождение наших ребят на лесорейде как сплошную погоню за удовольствиями. «Всё на бегу, всё второпях... На бегу обернется к тебе и только спросит: “Погулял? Я уже погулял...” И давай дальше».
Женщин он описывал с точки зрения того разложения, которому женская природа подвергается в лагере. Все матерятся, все грубят, отдаются с первого слова, сами норовят улучить какого-нибудь «красюка». Особенно смешной случай произошел, по его мнению, в буфете, где толпились мужики, покупавшие пирожки с мясом. Туда же пыталась пробиться и какая-то молодая, с довольно интеллигентным лицом, женщина. Но ее нещадно отпихивали. Видя бесполезность своих попыток, она отошла в сторону, громко произнесла два наиболее «изящных» по лагерному счету матерных выражения и закончила якобы восклицанием: «Никакого уважения к женщине...»
Я хотя и смеялся, слушая этот рассказ, но с другой сторо348
ны все, что я до сих пор слышал о лагерных женщинах, представлялось мне соответствующим действительности лишь на какую-то долю...
И вот теперь я входил на эту запретную для мужчин территорию, где мне предстояло взглянуть на женский лагерный быт собственными глазами. В огороженных обычным лагерным забором высотой метра четыре двух бараках мы разместились довольно свободно: в некоторых вагонках верхние нары оставались свободны. Что касается меня, то я сам взгромоздился наверх - так мне было уютней и создавалось впечатление изоляции. Во всяком случае, никто на тебя ничем не тряс сверху.
Медицинской единицы нам тут не полагалось. Поэтому меня назначили раздатчиком пищи, которую я должен был получать на кухне, где работали одни только женщины. Из мужчин, кроме меня, на кухню имели доступ еще пропускники- возчики, привозившие на кухню продовольствие из-за зоны.
Со мной обращались любезно, но и только. Никто не проявлял ко мне сколько-нибудь подчеркнутого внимания. Женщины там работали разных возрастов, простоватые в культурном отношении, по крайней мере с виду. Некоторые кладовщицы, труд которых казался особенно легок, были белы, румяны, и лица их выражали спокойствие, смешанное с довольством. Повторяю, никакого специфического любопытства они не проявляли даже в разговорах.
В отношении их уголовных статей они производили впечатление бытовиков. Впрочем, одна пожилая румынка, плохо говорившая по-русски, несомненно относилась к 58-й, что и подтвердилось, как только она со мной заговорила: обвинения, вмененные ей, — связь с заграницей, шпионаж. Настроена она была очень оптимистически, говорила, что ей хорошо известно, будто иностранцев всех очень скоро отпустят, а потом начнут отпускать и нас. Ей, конечно, не верили.
Еще одна повариха, к которой я обратился сам, когда она наливала мне из котла суп, на вопрос - за что она сидит, ответила, что работала на немецкой полевой кухне — картошку чистила. Пришлось допустить, что или ей не повезло, или она чего-то не договаривает; если бы пересажали всех женщин, чистивших немцам картошку или живших с ними, женские лагеря были бы, пожалуй, столь же многочисленны, как и мужские.
Я спросил ее, пишет ли она жалобы. Посадили-то, мол, ее, 349
по всей видимости, без всяких оснований даже с эмгэбэшной точки зрения. Она махнула рукой. «Тогда не разбирались. Показали соседи контрразведчикам, со страху или по злобе - вот, мол, немцам прислуживала... А кто не прислуживал?»
В разговор вмешалась еще одна пожилая женщина, с карикатурно смешным и хитроватым лицом. Я ее заприметил на кухне с первого раза и окрестил для себя «самогонщицей». Кухонные женщины, с оттенком некоторого презрения, называли ее «королек» (фамилия ее была — Королёва). Как оказалось, я ошибся. «Меня вот тоже неправильно осудили, — несколько прогнусавила она. — Я сама ничего не делала, я только инструмент давала...» Ага, понял я, — подпольная абортистка...
Как ни низковат казался, в общем, культурный уровень работавших на кухне женщин, заходившие к ним наши возчики представлялись несравненно грубее и неотесаннее их, но отчета себе они в этом несоответствии совершенно не отдавали и чувствовали себя на кухне хозяевами. При мне один такой, довольно при этом уже пожилой мужичок, вольно расхаживавший по кухне и постукивавший кнутовищем по полу, сказал, ничуть не понижая голоса, одной из самых привлекательных с виду и раздобревших кладовщиц, что она ему нравится и что он хотел бы с нею вступить в близкие отношения... Я думал, что она его тут же презрительно отвергнет, но она этого не сделала. Смутившись и закрасневшись, стала ему говорить не очень членораздельно: «Не понимаю, с чего это уж вы право? Просто так, наверно, вам чего-нибудь показалось?.. Вы же и не знаете меня вовсе...» Чувствовалось, однако, что самый этот разговор вовсе для нее не неприятен.
Как-то раз, придя на кухню за обедом, я услыхал звуки музыки, доносившейся из помещения столовой. «Что это там происходит?» — спросил я раздатчицу. «Танцы, — ответила она с оттенком некоторой гордости и даже таинственности, точно речь шла о какой-то религиозной или, во всяком случае, праздничной церемонии. - Да вы загляните сами...»
Поставив на пол суповой бидон, я приотворил дверь в столовую. Столы и скамейки оказались компактно сдвинуты в один угол. Образовалось довольно обширное пространство с идеально выскобленным, отливавшим слоновой костью по лом. Посредине зала на табурете сидел гармонист какого-тг удивительно старорежимно-провинциального вида — с прической в скобочку, в розовой рубахе и смазных сапогах. Играл 350
он какое-то медленное танго, а мимо него, по широкому кругу, плотной колонной, тесно сомкнутыми парами двигались женщины, преимущественно молодые, одетые в гражданское, многие в брюках.
Они не производили никакого шума или шарканья, двигались как бы совершенно бесплотно, как тени, с застывшими, сосредоточенными лицами. Среди танцующих, несомненно, преобладал уголовный элемент: женские лица в большей или меньшей мере были дегенеративны, очень выразительны в специфически лагерном отношении.
Весь этот кортеж воспринимался как-то в целом. Отдельные пары, если и фиксировались взглядом, то только как нечто неотделимое от всей колонны, точно это были не живые люди, а какая-то живописная театральная композиция, созданная каким-нибудь французским художником-бутафором эпохи начала экспрессионизма. Зрелище представлялось в каком-то смысле ущербным, болезненным, но в то же время от него веяло тайной экспрессией, какой-то надломленной выразительностью, возможной, вероятно, лишь именно в этих условиях.
Я постоял некоторое время неподвижно и неслышно, боясь нарушить каким-либо непроизвольным и неловким движением эту удивительно цельную дисгармонию. Отступив назад с некоторым условным, как во сне, усилием, я притворил за собой дверь — щель в этот мало реальный мир...
Надо сказать, что постепенно кухня стала выказывать нам все больше свое внимание и расположение. Нас старались накормить посытней и повкусней. Это стало возможно осуществлять теперь тем легче, что лагерный рацион вообще начал заметно улучшаться. Нам стали давать иногда по кусочку мяса. Говорили, будто оно полагалось нам и раньше, но мы его, кроме как в стационаре, никогда не видели. Вероятно, его поедало уголовное начальство, всегда влиявшее на кухонные дела. Помимо овсянки и «сечки», появилась кукуруза. В супе стала попадаться картошка. Но женщинам захотелось приготовить для нас что-нибудь совершенно необычное, чем-то доказать свое повышенное внимание и расположение к мужскому меньшинству лагеря. И вот однажды для нас приготовили на второе очень хорошие, совершенно белые макароны с томатным соусом. Поварихи явно рассчитывали на благодарность, а получилось так, что блюдо оказалось слишком деликатным для нашего контингента. Его почти никто не стал есть. Пробовали и
351
изрыгали ругательства. «Вот, подсунули нам прокисшие макароны... Нас не проведешь, пусть жрут сами...» Половина порций оказалась не розданной. Пришедший по чьему-то заявлению старший надзиратель тоже не стал слушать моих уверений в том, что пища совершенно доброкачественная. «Что ж ты не чувствуешь, как кислятиной отдает?» — «Так это же томатный соус...» — «Не надо было брать такой дряни...»
Вскоре после этого пришел кто-то из более высокого начальства инспектировать нашу раздаточную и нашел, что я недостаточно чистоплотно одет для этой работы. Так как никакой прозодежды мне не полагалось, неудивительно, что моя телогрейка и штаны вскоре засалились. Меня перевели из раз- датчиков в дневальные. Дневалить — дело не легкое. В особенности много сил и времени отнимает ежедневное мытье пола холодной водой. Драить его надо так, чтобы он становился желтым. Раза два дежурное начальство будило меня среди ночи и заставляло перемывать пол...
Но как-то я во все это втянулся. Отвлекало меня от моих барачных обязанностей и несколько подымало настроение то, что я не прекратил окончательно связей с медицинской работой. Я помогал сестре, приходившей к нам ежедневно с лекарствами и перевязочными средствами, а кроме того, имея небольшой запас медикаментов, полученных от той же сестры, оказывал медицинскую помощь в ее отсутствие. Вместе с тем, в виду того, что у нас не было своего культорга, я взял на себя и эти обязанности. Ходил в КВЧ за письмами и за газетами. Насобачился уже давно писать заявления и жалобы. Число желающих подавать таковые за последнее время значительно возросло.
Мое дневальство, а также сопровождавшая его деятельность медика и культорга довольно широко открывали мне двери на женский ОЛП. Разумеется, я никогда не злоупотреблял этими возможностями, в частности, никогда не заходил в бараки, что запрещалось и строго преследовалось. Дороги мои лежали только в хозяйственные и служебные помещения: в кипятилку - за чаем и за водой, в санчасть — по медицинским делам, в КВЧ - по общественным. Кроме того, я имел еще доступ в камеру хранения, где получал и сберегал мои посылки. Строгим моим поведением я практически добился того, что меня выпускали на ОЛП всегда, когда мне это становилось нужно. Если стоявший у нашей калитки надзиратель оказывался не352
сговорчив, то я брал в руки пару ведер, и это открывало мне проход беспрепятственно, разумеется на короткое время.
Быть может, в результате недозволенных контактов с женщинами очень быстро (и окончательно) пострадал наш нарядчик Мелудини, или, как он сам себя именовал на русский лад, Мелудинин. Казалось бы, его высшее образование должно было исключить возможность каких-либо грубых нарушений режима с его стороны в этих новых условиях. Трудно представить себе его в подобной роли, несмотря на приобретенный им лагерный пошиб и цинизм.
Поговаривали, впрочем, что дело состояло совсем в другом. Будто бы он выманил у кого-то из заключенных неизвестно как сохраненные им золотые часы за какие-то эфемерные поблажки и на этом попался. Судить ни о чем не могу, потому что последний раз видел его выводимым из нашей зоны двумя надзирателями, с которыми он отчаянно переругивался, размахивая руками и выкрикивая что-то для меня неразборчивое. Его увели в изолятор, куда я, естественно, в это время не имел доступа, и откуда он очень быстро был этапирован в неизвестном направлении.
Кроме меня и моего коллеги — дневального второго барака, — правом выхода на ОЛП пользовался один только новый нарядчик — пожилой литовец, человек довольно интеллигентный. Он к тому же носил длинную бороду, значительно его старившую и освобождавшую от подозрений. Он мог ходить преимущественно в нарядную и в спецчасть. Выходили еще ежедневно два маляра, производившие дезинфекцию и побелку в бараках. Малярам, как известно, на белом свете живется легче всех... Им по этому поводу очень завидовали. Завидовали и сапожнику, которого тоже нередко выводили в женскую обувную мастерскую для шитья и починки обуви вольного персонала ОЛПа.
Прочие наши ребята, в особенности из тех, кто посмелей и поактивней, быстро освоились с положением и стали лазить на женский ОЛП через забор. Вообще-то у них в этом не было крайней необходимости ввиду возможности беспрепятственных встреч со своими приятельницами на производстве. Но в лазаньи через забор, в возможности переспать ночь или часть ночи в женском бараке и вернуться незамеченным (или будучи пойманным, отсидеть суток пять в изоляторе) — в этом был элемент лихачества и презрения к лагерному режиму, и на 353
12 Лагерный дневник
это отваживались довольно многие. Лазили к нам и женщины, разумеется в меньшем количестве, чем наши ребята к ним. Но все же мне нередко доводилось обнаруживать молодых и спортивного вида девчонок — одолеть четырехметровый забор не шутка — на верхних нарах нашего барака. Одна из таких девиц проспала до белого дня, ради спасения переоделась в мужскую одежду и пыталась выйти на рейд с бригадой. Однако ее все- таки, кажется, поймали на вахте — пересчитывали нашего брата при входе и выходе довольно внимательно...
Вообще же лагерные женщины по одежде вовсе не отличались бы от мужчин, если бы им не вменялось обязательное ношение поверх ватных брюк короткой юбки, единственно с опознавательной целью.
Мне, разумеется, женский лагерный быт представлялся очень интересным, но я не искал каких-либо дополнительных возможностей для наблюдений из боязни обнаружить свое любопытство перед начальством, что, несомненно, привело бы к ограничению моих возможностей свободного хождения по ОЛПу. Я старался внимательней приглядываться к тому, что видел в силу обстоятельств в тех местах, какие мне оказывались доступны.
В санчасти я, к сожалению, почти не видел новых людей — вольные врачихи и сестры были мне известны и раньше. Из двух заключенных сестер я мог сталкиваться только с одной, наименее из них симпатичной. Она очень искала мужского общества, охотно ходила на мужской ОЛП, с удовольствием разговаривала со мной и пользовалась моей помощью в работе. Меня же в ней отталкивала резкость, грубоватость и даже некоторая, странная для медработницы, нечистоплотность и невнимание к себе. Вскоре на моих глазах наш хирург должен был делать ей весьма мучительную операцию — концы ногтей на ее ногах, очень долго не стриженные, вросли внутрь и не давали ей ходить. Через некоторое время один из наших наиболее блатноватых ребят, которого она положила с желудочным заболеванием в стационар, рассказал мне, что она ему устроила грубую сцену ревности за то, что он, не сообразив в чем дело, сошелся с санитаркой. «Мне, — говорил он, — и в голову не пришло, что у нее на меня виды имелись. Медсестра ведь, доктор, а я кто такой? Я себе выбрал по штату. А она меня тут же и выгнала из стационара. Я, говорит, для себя тебя сюда привела, а не для Нюрки...»
354
Больше и приятней всего я встречался с Валентиной Степановной — пожилой медсестрой, работавшей в амбулатории. Она меня охотно снабжала медикаментами и много рассказывала мне о долгих годах своего заключения и о медицинской работе в те времена, когда женщины и мужчины в лагерях содержались еще совместно. Особенное впечатление на нее производили жестокие баталии между ворами и суками, бессмысленные в своей беспощадности.
— Был у нас на Предшахтной один поляк — очень интеллигентный человек. Пожилой уже и немного на вас похожий, почему я и вспомнила... Как он ужасно погиб... Лежало у нас в больнице несколько сук. Как ни оберегало начальство больницу, а заскочил все-таки один юркий такой чернявенький паренек с топором. Я как раз в этой палате была. Прыгал он и топором над головой вертел, прямо как циркач какой-нибудь. Все повскакали с коек и на него, кто с чем. Воют, как звери. А он между ними точно в каком-то экстазе прыгает. Хвать одного, хвать другого. Уж и на третьего замахнулся, да тут вбежал Юлиан Иосифович и прикрыл того. Думал — испугается убийца халата белого. Куда там. Тут же и получил он прямо по голове, над височной костью. Вора схватили чуть ли не сразу после этого и — на вахту. Меня тоже туда надзиратели поволокли. «Этот, — спрашивают, - у вас орудовал?» А у меня душа в пятки. Говорю: «Ничего не помню...» А чернявый-то мне сам и кричит: «Ну, как же ты, тетя, не помнишь? Ведь это же я сук убивал, еще и фельдшера вашего по башке задел...» — «Так за что же ты фельдшера-то, ведь он для вас всей душой». - «Э, — говорит, — в такой момент разбираться некогда, не подворачивайся...» И так все это рассудительно и спокойно, точно миссию какую-то свою исполнил и горд... А Юлиан Иосифович, как я вернулась, вижу бегает из угла в угол по ординаторской, за голову держится. «Ничего, — говорит, — Валентина Степановна, правда — ничего?» Я смотрю, а у него глубоко рассечено и какая-то сукровица течет... «Ну, конечно, — говорю, — Юлиан Иосифович, ничего... Вы ложитесь только, пожалуйста, а я вам повязку сделаю». Не могу, говорит, еще лежать, и все бегает. К вечеру температура 40°, сознание потерял, а на другой день и помер. — Слушая ее, я думал о том, что ведь и со мной, как и с любым другим лагерным медиком, мог бы в любой момент произойти подобный же случай...
В КВЧ сидела молодая женщина из Харькова, будто даже 355
12*
пианистка, разбитная, развязная, чем-то меня от себя очень отталкивавшая, хотя многие из наших молодых ребят ею и восторгались. Поговорив один раз, выяснив, что она мне товарищ по несчастью — сидит за то, что работала переводчицей при немцах, - я с ней никак больше не общался. Забирал газеты и письма, да и бывал таков. Замечал я, что какие-то молодые женщины, с приятными и интеллигентными лицами, сидели в бухгалтерии и спецчасти. Но туда я захаживал редко, и поводов для общения с ними у меня не имелось.
Сталкивался я еще с женщинами в парикмахерской, кипятилке и в бане. В парикмахерской меня привечала толстая и грубоватая латышка, сажавшая меня всегда на свое кресло и ведшая со мной во время бритья разные разговоры, которые, разумеется, не могли меня очень занимать. Баней заведовала сильная и стремительная немка, с грубыми, порывистыми движениями, подверженная эпилептическим припадкам. Она очень искала мужского общества, и хотя я для нее был явно не пара, она благоволила и ко мне, разрешая, например, без всякого спроса брать из банного котла в любое время теплую воду. Я как-то робел перед ней, совершенно невольно и инстинктивно, и очень удивился, когда узнал, что она подружилась с одним очень маленьким поволжским немчиком, больше похожим на татарина, чем на немца. Он удирал к ней несколько раз по ночам, договорившись с самоохранницей, стоявшей на ближайшей вышке, которая пускала его через запретку (забор для него был слишком высок). Но когда он попался однажды, то со страху выдал (или, как говорилось у нас, «заложил») и эту самоохранницу, которую тут же загнали обратно в лагерь.
Помощницей-бельевщицей в бане работала простоватая, но очень симпатичная женщина, весьма откровенно благоволившая мне и этим меня несколько от себя отвращавшая. Позже мне пришлось убедиться, однако, что ее симпатии ко мне довольно серьезны, отчего я и должен был признать за ней некоторое право на подобное прямое и откровенное поведение: позднее, когда у меня завелась приятельница, находившаяся в хороших отношениях и с ней, она мне сказала прямо при моей приятельнице: «Когда Валентина Ивановна освободится, вы ведь станете водиться со мной?» Бедная женщина - такова уж человеческая психика — считала, что нас и их — мужчин и женщин — в этом лагере соединили на всю жизнь... А я в силу той же психологической инерции остерегся почему-то ее в этом 356
разуверить, хотя и мог бы понять, что, вероятно, до наступления того момента, который она имела в виду, нас уже двадцать раз разбросают по другим лагерям...
Получилось, однако, все еще проще. Кипятилкой заправляла одна очень своеобразная женщина — не молодая уже, но очень еще энергичная и активная. Образования у нее никакого не было, но сила духа — весьма порядочная, расходовала же она ее в тех условиях на изощрения в матерной брани. Когда к ней являлись дневальные за чаем, за кипятком, она не умолкала ни на минуту, подымая различные волновавшие ее темы и пересыпая свою речь изысканнейшей и виртуознейшей бранью. Она меня заинтересовала, и я стал вступать с нею в разговоры, расспрашивать ее со всяческой осторожностью, потому что за всем ее поведением чувствовалась какая-то психическая травма.
Она рассказала мне, что служила начальником милиции в небольшом городке около Ленинграда, в войну эвакуировалась, а вернувшись, не нашла никого из своих в живых. В ней поднялась жажда мести к тем, кто, по ее мнению, сотрудничал с немцами; и она сама застрелила кого-то во исполнение этой мести, за что и угодила куда-то в лагерь на Дальний Восток. К ней там отнеслись очень сочувственно. В те времена заключенные могли пользоваться значительной свободой. Она сошлась там, кроме того, с кем-то из лагерного начальства и, получив какие-то сногсшибательные документы, укатила «в Россию». Конечно, ее поймали и с добавочным сроком водворили на Воркуту. Начальство и здесь относилось к ней очень сочувственно, но при этом никто не понимал, что перед ними психически больной человек. Я ей, видимо, приглянулся искренностью моих расспросов. Она меня задаривала чаем и кипятком для кваса, который я в большой бочке готовил на весь наш барак. Кроме того, она мне давала горячую воду также и для мытья пола — необыкновенная щедрость, очень мне облегчавшая дело.
Она приглашала меня за водой среди дня, в обеденный перерыв, когда все вольное начальство расходилось с ОЛПа по домам. Явившись однажды за водой именно в это время, я нашел ее лежащей на стеганом одеяле на полу в самой свободной позе. «Поставь-ка ведра, — сказала она мне ласково, - да поди сюда...» Ведра я поставил, но из всего дальнейшего разговора для нее стало ясно, что ничего между нами не будет. Я, видно, и не мог скрыть своего страха перед ее темпераментом, физическим и 357
психическим. К удивлению, она меня не возненавидела и даже продолжала оказывать мне внимание. Но чувства свои обратила на моего коллегу по второму бараку. Это был паренек предельной недалекости и простоты. Одно слово — колхозник. Наш Василий Михайлович любил поговорить с такими людьми, главным образом для обнаружения их дури и собственного глубокомыслия.
— Штахов, ну за что тебя посадили-то? — Тот глуповато улыбался:
— Пошеницу украл...
— Ну, вот видите, «пошеницу»... А как же ты ее украл-то?
— А когда возили с поля пошеницу, я один воз к себе на двор и завернул...
— Видите вот - целый воз! - Василий Михайлович добродушно смеялся. — Сколько же тебе дали, Штахов?
— А пятнадцать...
— Ну, вот видите — пятнадцать...
У Штахова уже была подружка — дневальная одного из ближайших к нашей загородке женских бараков. Но он не устоял и перед кипятильщицей и какое-то время, видимо, ходил к ней за горячей водицей... Однако и он, наверно, быстро почувствовал болезнь ее духа и оттолкнулся от нее, кинувшись в спасительные объятия банной бельевщицы, обещавшей было мне свое внимание по освобождении нашей общей приятельницы — Валентины Ивановны. Я очень удивился, вдруг увидав их вместе...
Кипятилыцица этого, однако, перенести не могла, хотя она и действовала против установившихся в женском лагере моральных правил, соответственно которым мужчина мог менять возлюбленную как угодно часто, но не имел права жить одновременно с несколькими. На производстве за подобное нарушение установлений женщины всей бригадой устраивали такому многоженцу темную. Кипятилыцица же на всех перекрестках стала поносить бельевщицу, гонялась за ней, чтобы ее избить, в конце концов даже отправилась в спецчасти требовать удаления в другие лагеря и бельевщицы и Штахова. Так как она при этом не скрывала собственных отношений со Штаховым, этапировали вскоре именно ее. И уезжала она со скандалом. Когда ее вели на вахту, возмущенный крик ее разносился по всему ОЛПу: «За что меня отправляют, нет — за что? Что я б.... 358
какая-нибудь? Я за свое болела... Мне чужого не надо. Меня на этап гонят, а б.... тут оставляют. Горе-начальнички...»
Старшей нарядчицей на женском ОЛПе была длинная и худая украинская немка с мужеподобным лицом. О ней говорили, что она «кобёл». Так называли в лагере женщин, проявлявших половую активность и стремившихся при этом в чем-то — в платье, в некоторых повадках, а главное, видимо, в самой этой активности — походить на мужчину. Нарядчица, подобно кипятилыцице, непрерывно материлась и разговаривала с заключенными на сплошном крике. Впрочем, говорили, что человек она, тем не менее, хороший, отзывчивый и зла никому не делавший. Ее помощницей и «комендантшей», то есть блюстительницей лагерного быта, была очень разбитная девица жуликоватого вида. Вид этот определялся отчасти тем, что она носила «вольную» одежду — пальто и туфли на каблуках, тогда как почти все прочие зечки — и уж поголовно все, кто работал на рейде, — ходили в бушлатах, валенках или лагерных ботинках. Как-то раз при мне, перед группой подруг, она оживленно делилась воспоминаниями о том, как, живя и работая на Воркутинской пересылке, пользовалась пропуском, ходила по кино и даже бражничала с приятелями, которых именовала воровскими кличками.
В лагере, насчитывавшем до тысячи женщин, подавляющее большинство сидело по 58 статье. «Воровок» — они все отличались почему-то удручающе отталкивающим видом — насчитывалось совсем немного. Кажется, все они умещались в одном- двух бараках. Среди них иногда происходили бурные скандалы, изредка чуть ли не поножовщина, но убийств все-таки не было. Судьбы и порядок лагерной жизни они определяли тем меньше...
Я, разумеется, всячески сторонился женщин-воровок, что, однако, не избавило меня от довольно комичного столкновения с одной из них.
Как-то нас с моим коллегой-дневальным выгнали на женский ОЛП с лопатами для рытья канавы. На мне надет был бушлатик не совсем обычного покроя с блестящими металлическими пуговицами, подаренный мне одним из освободившихся фельдшеров. Погода стояла довольно теплая, я его скинул и бросил на крылечко барака по соседству с канавой. А по окончании работы обнаружил его исчезновение. Некоторое вызванное этим происшествием замешательство не укрылось от 359
проходившего мимо начальника ОЛПа. «Что тут случилось, что такое?.. Немедленно найти бушлат», — крикнул он, прошествовав дальше.
Легко сказать найти. Через день-другой мой коллега дневальный дознался через свою подружку, что бушлат мой в 11 бараке у одной воровки. Предстояла деликатная операция, которую я предварительно как следует обдумал.
Доложив обо всем начальнику режима, я попросил у него надзирателя для сопровождения меня в этот барак. По дороге упросил надзирателя не заходить сразу вместе со мной в барак, а разрешить мне попробовать добиться возврата бушлата уговорами.
Внутренний вид этого барака резко отличался от остальных женских бараков и более напоминал наши мужские бараки. Никакого «уюта», характерного для остальных женских бараков, здесь не существовало. Обитательницы в момент моего прихода сидели, видимо, по своим углам — в свободной части барака никого не было. «Тебе чего?» — раздался грубый голос из одного темного угла.
Так и так, говорю я смиренным тоном:
— Дошел до меня слух, что здесь находится потерянный мной бушлат. Очень прошу отдать — в десятикратном размере взыскать угрожают...
— Нет у нас ничего. Сам ищи, раз надзирателя привел...
— Надзирателя я просил к вам не заходить, а привел не я его, а он меня... Искать ничего не стану, но если вправду здесь мой бушлат, очень прошу возвратить. Я уж как-нибудь отблагодарю...
Никакого ответа я на это заявление не получил и, постояв некоторое время в молчании, направился было к выходу. Тогда вдруг из одной «вагонки» некая женская рука выбросила мой бушлат на середину барака.
— На, бери, фиг с тобой...
— Спасибо, вот спасибо вам. — И я отвесил неизвестно кому адресованный поклон. Тогда из вагонки высунулась лохматая, с довольно отталкивающими чертами лица, голова.
— А перчатки в кармане у тебя были — не отдам...
— Возьмите, возьмите их себе пожалуйста, если годятся. Еще раз большая вам благодарность.
Надзиратель, стоявший за дверью, но, видимо, в щель на360
блюдавший всю эту сцену, сказал: «Ну, чудеса, сама отдала! А все-таки суток пять мы ей за это влепим...» Я его, конечно, принялся упрашивать не приводить эту угрозу в исполнение, на что он угрюмо отмолчался.
Через какое-то время меня остановила на лагерном дворе женщина недвусмысленного вида, в которой я едва ли угадал бы похитительницу бушлата. «Муж, а сколько ты мне дашь за перчатки?» - «Возьми, вот, трешницу». Она без единого слова подхватила деньги, бросила мне перчатки и исчезла.
Еще один раз я был остановлен ее возгласом: «Эй, муж!» — «Чего тебе?» — «Дай рубль». — «На что он тебе?» — «В буфет пирожки привезли...» И опять она, подхватив рублевую бумажку, удалилась без дальнейших разговоров.
Прочие заключенные состояли из женщин, находившихся на оккупированной немцами территории, большого количества прибалтиек и некоторого количества иностранок — преимущественно немок из ГДР. Говорят, здесь имелась даже одна бывшая надзирательница гитлеровского концлагеря. Немки, как, впрочем, и немцы из мужского контингента, рекрутировались также из числа «внутренних» — поволжских и украинских выселенцев. Лагерные сроки они получали уже на местах своих новых принудительных поселений. Имелась у нас, например, одна девочка, на вид лет семнадцати, по фамилии Лютик — я было думал, что это прозвище, — из поволжанок, вместе с родителями переброшенная в Казахстан. Оказалось — она двад- цатипятилетница. «За что же тебе влепили такой срок?» — «А мы жили на высылке... Пошли в соседнее село на свадьбу. А уходить из своего села больше чем на три километра нельзя — за это лагерь на двадцать пять лет...» Все, таким образом, оказалось очень просто...
Огромное большинство лагерных женщин, несмотря на их долголетнее пребывание в заключении, в условиях, для женщин неизмеримо более трудных, чем для мужчин, вовсе не несли на себе печати лагерной жизни. В свободные дни они надевали на себя что-нибудь домашнее. Некоторые даже красили губы, делали кокетливую прическу. В их обращении между собой не было и доли той грубости и крикливости, какая характерна для мужского лагерного быта. Впрочем, не только лагерного. Как уже отмечалось, деревенские жители в войну говорили мне, что распространению грубости и матерщины в их быту в особенности содействовали довоенные колхозные непорядки и неустройства.
361
В особенности просто и сдержанно вели себя прибалтийские женщины. Им как-то легче и прочнее всего удавалось сохранить их прежний жизненный строй. Женские бараки внутри выглядели совершенно иначе, чем мужские. Во-первых, у женщин имелись настоящие постели с простынями и подушками, стегаными одеялами. В нашем быту все это почиталось величайшей редкостью - встречалось разве что у крупных воров, да и у тех всё того же женско-лагерного происхождения. Каждая женская постель на нарах отгораживалась от соседней постели занавесями из простыней или легких одеял и, таким образом, каждая превращалась в индивидуальный закуток, обладательница которого могла в нем уединиться сколько-то от своих соседок. И это, вероятно, должно было иметь немалое психологическое значение для поддержания индивидуального духа и внутреннего равновесия — такая, созданная вопреки самому смыслу лагеря, возможность оставаться на какое-то время наедине с собой...
Я замечал среди лагерных женщин, и помимо старшей нарядчицы, таких, которые изображали из себя «коблов», то есть напускали на себя мужскую личину. Их наблюдалось совсем немного, и это бывали всякий раз, как мне представлялось, довольно низкопробные люди. Но однажды мне пришлось наблюдать, как в бригаде, возвращавшейся с работы на рейде, одна шедшая усталым шагом девушка обнимала за шею другую и говорила ей веселым, полушутливым тоном: «Ты ведь мой муж, правда, ведь ты мне муж?..»
Среди наших ребят происходило немало разговоров о любовных отношениях между лагерными женщинами. Они почему- то относились к этому с еще большим презрением и недоброжелательством, чем к педерастии, и женщин, водившихся друг с дружкой на интимной почве, называли «ковырялками».
И хотя можно предполагать, что однополая любовь в женских лагерях распространялась не менее, чем в мужских, ее отрицательный физиологический и психологический эффект совершенно не давал себя знать.
Разумеется, мои представления о жизни женского лагеря нельзя считать столь же богатыми и основательными, как представления о жизни мужских лагерей. Я наблюдал только некоторые стороны этой жизни и на сравнительно небольших участках. Впечатления мои, кроме того, более случайны, чем планомерны. Я видел то, с чем меня сталкивали обстоятельства.
362
Например, на почве КВЧ я встречался с некоторыми актрисами - русскими и прибалтийскими, среди которых попадались и очень интеллигентные, вероятно к тому же и достаточно образованные. Но у меня отсутствовал повод для частых с ними встреч, так же как и у них заведомо отсутствовало желание встречаться с кем бы то ни было чаще, чем этого требовали от них обстоятельства. Будучи удручены и угнетены обстановкой, в которой жили, они сторонились всего лишнего, насколько только это оказывалось возможно. Поэтому я о них мало что, в сущности, мог бы сказать, кроме того, что они производили впечатление людей, в высшей степени чуждых всему тамошнему миру, гораздо более чуждых, чем любой из встреченных мной на лагерной почве интеллигентных мужчин. Находилась среди этих актрис, между прочим, и та самая, которую я увидел на Воркутинской пересылке в первые же дни по моем туда прибытии. Мы узнали друг друга и друг другу обрадовались. Но она теперь была уже на пороге освобождения. На одном из лагерных вечеров, изредка устраивавшихся КВЧ, я имел возможность ее послушать и оценить как эстрадно-опереточную певицу с очень хорошим голосом. При всей ее сдержанности, она держалась свободнее многих других и не так страдала от окружающей обстановки.
Я не могу, кроме того, судить о воздействии на женскую психику физического труда, который приходилось исполнять этим женщинам, - при кратких и случайных с ними столкновениях я не замечал его следов. Мне известно, однако, что в бригадах работали врачи, которым не оказывалось места в санчасти. И когда я однажды в разговоре с начальницей больницы коснулся этого, сказав, что я бы держал этих врачих в санчасти хоть санитарками или сестрами, она мне ответила, что назначать врача санитаром она не имеет права, а обязанности сестры, по ее мнению, настолько специфичны, что врачу с ними не справиться. Все это, по-моему, чистейший вздор, полнейшие предрассудки...
У нашего хирурга была очень красивая, сравнительно еще молодая, совершенно европейской выправки, полностью приставленная к нему для личных услуг санитарка. Она носила белый передничек и старалась выглядеть как горничная. Василий Михайлович жил в стационаре в маленьком чуланчике, и ее, видимо, заставали у него в постели надзиратели во время ночных обходов, так как по дисциплинарным причинам его 363
выдворили на мужской ОЛП, в наш барак. Она продолжала приходить к нам, чтобы прибирать его постель, приносила ему чистое белье и т.п. Вскоре ее, однако, в штрафном порядке за сожительство в лагере отправили куда-то в другое место. Поговаривали, что и хирурга ждет эта же участь. Его будто бы назначили к отправке на Урал II (Северный Урал), как только будет найдена замена. Надо сказать, что действительно хирург наш буквально на глазах очень деградировал: стал выпивать не только отпускавшийся для операционной спирт, но и всякие изготовлявшиеся на спирту лекарства. Как-то еще раньше, на Малом ОЛПе, зайдя ко мне в ординаторскую, когда там никого из вольного персонала уже не было, он обшарил шкаф с медикаментами и выпил тут же на глазах у меня все спиртуозное, что только там имелось, разве что кроме йода. Я ему ничего не сказал, но он не мог не заметить моего неприязненного отношения к его действиям. Он что-то стал бормотать о людях, не желающих уважить старшего коллегу, — фельдшера-де должны быть услужливы, черт возьми...
Нас всех пригласили на женский вечер, где силами наших певиц и актрис давалось эстрадное представление. Нары были превращены в скамейки, тесно расставленные перед небольшим возвышением, заменившим сцену. Впереди расположилось все эмвэдэшное лагерное начальство, получавшее от искусства на этом свете не более, чем мы, заключенные. Обернувшись, я увидал, как две сестры из стационара вели под руки Василия Михайловича, едва державшегося на ногах. Его багрово-красное лицо было опущено. Он чему-то совершенно бессмысленно смеялся. Я заметил, как по ряду начальственных глаз пробежала волна весьма злобных огоньков. «Зачем его привели? Вероятно, его невозможно было удержать от этого?..»
Валентина Ивановна. Закрытие женского ОЛПа
Камерой хранения на женском ОЛПе заведовала Валентина Ивановна — женщина лет сорока пяти, из которых она девять провела в лагерях. Ее арестовали в одном из крупных среднерусских городов, находившихся до конца 1943 года в немецких руках. Хотя она и не работала у немцев решительно ни на каких работах и совершенно не знала немецкого языка, ее посадили в 364
связи с тем, что в 1937 году был арестован и расстрелян ее отец — железнодорожный весовщик - по обвинению в каких-то антисоветских намерениях. Она была замужем за неким майором, который от нее после этого совершенно отступился. Она одна подымала двоих детей; один из них перед войной умер. Работала она на железной дороге кассиром, даже дежурным по станции. Для всего этого требовалась аккуратность, сообразительность, сознание большой внутренней ответственности. Помимо всего этого, она обладала очень большой внутренней интеллигентностью, заменявшей ей в общем отсутствовавшее образование.
Через нее ко мне приходили посылки. Я их оставлял у нее на хранение. Это мне давало право раза два-три в неделю появляться в камере хранения минут на 15—20. За это время можно было многое друг другу сказать, и я скоро заметил, что несмотря на девятилетнее заключение, полнейший отрыв от прежней жизни, она ничуть не потеряла себя. «Я, - говорила она мне, — что-то последнее время похудела, а то ведь была толстая-толстая — кровь с молоком. И с чего только — не понимаю. Голодная всегда бывала — ужасно, а прибытков, кроме пайка, почти никаких...»
У нее лицо определялось большими, молодыми глазами, в которых нет-нет загорались веселые кокетливые искорки. «Теперь уж я начинаю надеяться на освобождение. Немного уж остается, а то ведь не верила ни одной минуты - куда там. Так было трудно, так беспросветно в лагере... Вы мужчина, вам легче...»
Камера хранения разгораживалась высокой балюстрадой, отделявшей небольшое пространство у двери, куда могли заходить посетители, от собственно камеры, где хранились личные вещи заключенных, посылки и где в дальнем углу стояла постель Валентины Ивановны, за занавесочкой. Когда я приходил, она выставляла на балюстраду мой посылочный ящик. «Мне сегодня ничего не нужно, Валентина Ивановна, я так на минуточку...» — «Ничего, пусть постоит, а то вдруг надзиратель или еще кто заглянет... Занят человек своей посылкой, так оно лучше...» И я никогда не заходил за балюстраду, хотя имевшаяся в ней калиточка и бывала временами открыта...
Встречались мы с ней еще и за зоной, на дровяном дворе, куда дневальные по утрам выходили пилить дрова для своих бараков. Валентина Ивановна должна была запасать дрова для 365
камеры. Хоть это и немного, но раза два в неделю и она выходила на дровяной двор, и тогда мы вместе с ней пилили дрова для нее и для меня. Она очень оживлялась при этом, становилась веселая, разбитная, шутила, бросала мне разные лагерные словечки — за десять лет она их усвоила немало. Эта пилка дров превращалась для меня в истинное удовольствие.
Но наступило лето и дрова сделались не нужны. Следовало изобретать какие-то другие возможности для встреч... КВЧ меня до этого привлекала мало. Настоящие актрисы там появлялись редко. Занимавшиеся самодеятельностью молодые девчонки блатноватого, как мне представлялось, вида меня не интриговали. Начальство, однако, поощряло некоторых из нас, в частности меня, к совместной с женщинами самодеятельности. Оно не без основания полагало, что с мужчинами дело пойдет веселей. Но из нашего мужского состава в КВЧ стали ходить только наиболее блатноватые и разбитные ребята. Когда делать бывало нечего, и я увязывался за ними, чтобы получить возможность встретиться с Валентиной Ивановной. Ее камера находилась совсем рядом с КВЧ, и она, даже не одеваясь, появлялась в том помещении, где мы вместе с девушками исполняли хоровые песни, готовили маленькие сценки и т.п. Всякий раз как я приходил в КВЧ, Валентина Ивановна, не упуская такого случая, неукоснительно появлялась тоже, держалась тихо и в сторонке, и мы даже мало с ней при этом разговаривали. Но, тем не менее, ощущение некоторой совместности и дружбы от этого очень выигрывало.
Я боялся как-либо афишировать перед заключенными мои симпатии, в особенности симпатии сколько-нибудь специфического свойства, из тех соображений, что обо всем этом станет сейчас же известно начальству и меня перестанут выпускать на женский ОЛП с той легкостью, как это практиковалось до сих пор. Однако я стал замечать, что Валентина Ивановна истолковывала мою сдержанность превратно, намекала на мое к ней равнодушие, подтрунивала над моими разговорами с другими женщинами, говорила, что мои настоящие друзья, наверно, в санчасти и что она об этом обязательно узнает... И хотя она великолепно понимала причины моей сдержанности и сама была достаточно пуглива и крайне сдержанна, но из духа противоречия, в порядке некоторого вызова обстоятельствам толкала меня к тому, что наши встречи в камере приобрели довольно быстро такой характер, что никакие свидетели стали при них нежелательны и невозможны.
366
Если прежде я выходил за водой не раньше 6—7 часов утра, то теперь подымался в четыре, покуда еще все спали, не исключая и дежуривших надзирателей. Заскакивая в камеру так, чтобы этого никто не видел, я запирал за собой дверь, и мы на какие-нибудь полчаса могли считать себя в безопасности. Я оказывался по ту сторону балюстрады без риска, что кто бы то ни было может это обнаружить и нам помешать. Но поскольку мы подобными свиданиями не злоупотребляли, нас с нею действительно никто в таком положении не заставал ни разу.
Валентина Ивановна довольно быстро вошла в роль лагерной жены. Она требовала, чтобы я отдавал ей мое белье для починки и стирки. Очень обижалась, когда я отказывался исполнять подобные просьбы, хотя я и говорил ей, что даже и дома всегда сам стирал свои рубашки. «То было дома, а здесь как вы там у себя в бараке выстираете? Мне же здесь гораздо удобней. Вон у меня и таз есть...»
Мои посылки приходили нерегулярно. Иногда я не получал ничего месяца по два. Она в этих случаях очень волновалась, негодовала и сердилась на моих родственников: «Они там ничего решительно не понимают. Ну, ладно, мои сестры ничего не видали (у нее дома имелись две сестры, обе врачи, не поддерживавшие с ней никаких отношений из боязни репрессий), но ведь ваша-то жена и мать приезжали сюда, видели, как мы тут живем...» — «Эх, Валентина Ивановна, да что они такого видели? Жена-то хоть еще два дня тут прожила, а мать всего несколько часов. Что за это время увидишь? А кроме того, видеть мало. Надо побывать в нашей шкуре, чтобы по-настоящему начать что-нибудь понимать...»
Она в конце концов со мной соглашалась, а там и посылка приходила, и у нее отлегало от сердца. Но сестрам своим она не склонна была прощать ничего. «Ну, вот погодите, вернусь — я им там все объясню. Такими словами объясню, каких вы от меня никогда не слыхали. Я теперь все знаю. И не за себя я на них зло коплю, а за мать. Хоть бы маме помогали как следует. Она ведь моего сына одна растит...» И принималась горько и бессильно плакать.
Так проходило лето 1953 года. Однажды у нас появилось шесть человек новичков, державшихся необычайно боязливо, вплоть до того, что даже в уборную они ходили не поодиночке, а все вместе. Так продолжалось несколько дней, покуда они не 367
поняли, что народ тут не такой, от которого можно было бы ждать ножа в брюхо. Статьи у них были бытовые и вид уголовников, хотя двое или трое имели офицерские чины в прошлом и побывали на войне. Видно было, что они не обычные суки, к которым я уже присмотрелся и на Воркуте и на Кожве. Вскоре от них же мы и узнали, что на Воркуте произошло еще весной, вскоре после амнистии, большое восстание бывших власовцев. Они из некоторых режимных ОЛПов ушли в тундру, захватив кое-какое оружие и взрывчатку. Против них пустили танки и самолеты. Потом над ними организовали суд, и эти ребята выступали на нем как свидетели обвинения. Поэтому-то начальство и спрятало их после суда у нас из боязни, что на Воркуте или в каком-либо другом большом лагере их прирежут.
Немного погодя появилось еще несколько сук, но эти прибывали уже в индивидуальном порядке и не имели отношения к восстанию. Среди них находился один довольно благообразного вида еврей, лет тридцати, в прошлом, как говорили, крупный вор, из-за чего-то поссорившийся со своей организацией. Его приказано было не выпускать на работу из боязни, что воровской приговор над ним может быть осуществлен через женщин или через кого-либо из вольных работников рейда, сохранивших связи в воровском мире. Он, однако, стремился на рейд из-за женщин и пускался на всяческие ухищрения ради того, чтобы его туда вывели. Надоедал с этим начальнику ОЛПа всякий раз, когда тот у нас за чем-либо появлялся. Между ними происходили довольно стереотипные разговоры:
— Гражданин начальник, прикажите меня вывести на производство.
— Зачем это вам? — Начальник — разжалованный за пьянство прокурор — говорил ему «вы».
— Я хочу поговорить с инженером Гринбергом насчет работы...
— А я вам уже говорил, что у него нету для вас работы.
— Так вот я и хотел бы поговорить с ним об этом лично...
— Вы что же ему скажете: «Ты еврей и я еврей», так что ли?
Тот оставался невозмутим, но разговор на этом прекращался. Только кто-нибудь из присутствовавших при этом замечал: «Да, не хочет он тебя на рейд выпускать, боится. Может, воркутинские воры уже и ксиву сюда насчет тебя прислали...» Но тот столь же невозмутимо объяснял, в каких именно случаях 368
пишется ксива. Вообще это был какой-то не совсем обычный уголовник — спокойный, очень сдержанный. Я не слыхал от него ни одного бранного слова. В карты он не играл, претензий никому никаких не заявлял. Что это был за уголовник и в каком смысле его надо отождествлять с суками, так и осталось мне непонятно. Его скоро от нас куда-то увезли, а я с ним так ни разу и не заговорил, хотя мне, конечно, интересно было бы узнать в отношении него какие-нибудь подробности. Чем-то, однако, необъяснимым был он мне внутренне антипатичен гораздо больше, чем какой-нибудь явный уголовник со всей положенной ему грубостью и психопатичностью.
К осени большой этап женщин «подняли» на Воркуту. Пошли разговоры о том, что женщин скоро всех увезут с Кожвы. Здесь опять поселятся мужчины. Есть, мол, новое правило, запрещающее использовать заключенных женщин на тяжелых работах, таких как выкатка и погрузка леса. Мне не верилось, что могут быть введены подобные правила. Все, казалось, утихло и замолкло в отношении тех перемен, о которых ходило столько «параш» и предположений. Все будто оставалось по- старому. Привезли одну новую женщину — совсем молоденькую украиночку, лет двадцати, не больше. Сроку — двадцать пять лет.
— За что тебя?
— Да я в бога верила...
— Ну уж это не ври, за одно это не сажают. Сектантка, наверно, какая-нибудь? Агитировала?
— Не, я не агитировала. Говорила, что верю, а больше ничего.
— Суд над тобой был?
— А як же, был.
— И свидетели были?
— Были.
— А что ж они говорили?
— Говорили, что я на займ не хотела подписываться...
Да, вот тебе и все - все перемены. На двадцать пять лет такую девчонку, ну пусть за религиозную агитацию, да ведь и агитации-то, конечно, никакой не было.
Но относительно того, что женщин, видимо, должны увезти отсюда, появились прямые подтверждения. К нашей мужской зоне присоединили еще пять бараков, и вскоре они заполнились за счет нового этапа, состоявшего преимущественно 369
из молодых воришек. 58 статья отсутствовала почти начисто. Впрочем, среди вновь прибывших оказалось несколько бывших каторжан. Так они себя называли сами и сообщили, что каторгу вообще отменили. Каторжан больше нет, как нет и режимных лагерей. Действительно, нашивки с номерами с них спороты. Их привезли на Кожву, где до сих пор не видали ни одного каторжанина (женщины-каторжанки здесь, впрочем, бывали). Я бы всему этому может еще и не поверил, если бы через несколько дней нам перед выводом на работу не зачитали приказ об отмене каторги и об одинаковом содержании всех заключенных. Чудеса! Значит, что-то все-таки делается на свете, не стоит на месте?
Но некоторое воодушевление, вызванное этой новостью, быстро сменилось обычным отчаянием. Ну, что с того, что отменили каторгу? Много ли от этого стало легче хоть самим каторжанам? Только что номера содрали, да вот Кожву для них открыли? Могут теперь на общих основаниях катать бревна?
Мучительные воспоминания о процедуре «следствия» долго еще меня преследовали. Но в 1953 году я, видно, стал забывать обо всем этом, так как очень удивился, когда будучи вызван тем опером, которому мы были подведомственны на верхнем ОЛПе и в Каменке, получил от него предложение рассказать об отношениях с одной моей старой знакомой, в это время уже совсем пожилой женщиной.
— Знали вы Горскую Лидию Васильевну?
— Знал.
— С какого времени она вам известна?
— Примерно с 1929 года.
— Придется составить небольшой протокольчик. Где она работала в пору вашего первоначального знакомства?
— В какой-то военной библиотеке.
— Вы бывали у нее дома?
— Бывал.
— Что вас туда привлекало?
- Она образованный, интересный человек. У нее имелось много интересных для меня книг. Она хорошо знала иностранные языки. Мы с ней читали по-итальянски.
— Бывали ли у нее дома книги из той библиотеки, в которой она работала?
370
— Кажется, бывали.
— Что же это за книги?
— Сколько помнится, иностранные журналы...
— Значит нужно формулировать так: ваша знакомая Горская работала в военной библиотеке, брала из нее домой засекреченные книги, а вы к ней ходили их читать? Вы, небось, и сами не заметили, как все это мне рассказали... Так вот люди сами на себя и наговаривают...
— Да я ничего подобного не говорил. Секретные книги никому, вероятно, на дом не выдаются. Это были обычные литературно-художественные журналы...
— Художественные журналы в военной библиотеке? Кто это вам поверит...
Я был обескуражен. Ругал себя внутренне за лопоухость — наболтать такой чепухи после солидной эмгэбэшной школы... «Все уже из головы повыветрилось, вот идиот, прости господи...»
Пока я так размышлял, опер писал протокол. «Неужели он все так и напишет?» Но это оказалась одна лишь острастка. Протокол не упоминал о книгах, а только о занятиях языками. Я подписал его с легким сердцем и с благодарностями ретировался. Идучи, думал о том, что у нас в лагере удивительно гуманные оперативники. Прямо на редкость. Кроме того, мне пришло в голову, что уж если что-то меняется для нас, то для них перемены должны были произойти в первую очередь. Так что всю эту сцену у опера следует, может быть, понимать не только как некоторую потеху надо мной, но и над самим собой?
Как бы в подтверждение этих моих догадок вскоре последовал еще один допрос, на этот раз учиненный каким-то неизвестным мне капитаном, обнаруживший во время разговора еще больше неожиданностей.
— Очень жаль, что вы мало показывали о Мячикове.
— Меня не так уж много о нем спрашивали по причинам, которые стали мне более или менее понятны после ознакомления с его показаниями.
— Имеются подозрения на тот счет, что он способствовал выдаче полиции доктора Зингер. Вы, может быть, могли бы подкрепить чем-нибудь эти подозрения?
— Я не считаю себя вправе оперировать подозрениями. На моих глазах он очень хорошо относился к доктору Зингер. Это 371
не значит, конечно, что я считаю Мячикова совершенно порядочным человеком...
Капитан еще раз посетовал на мою чрезмерную, по его мнению, сдержанность и щепетильность:
— Подозрения никто не примет за факты, сейчас уже не те времена...
— Очень хотел бы этому верить, но тем более считаю себя не вправе высказывать подозрения, которые я не в состоянии сколько-нибудь убедительно обосновать...
В протоколе, к моему удивлению, не оказалось и намека на эти разговоры.
Наш бородатый литовец, исполнявший обязанности нарядчика (не без некоторых, впрочем, трений и с начальством и с заключенными), почувствовал себя много хуже перед оравой молодых и весьма активных уголовников. Их появление внесло в нашу жизнь вообще много всяческих беспорядков, столько, что этот медлительный и незлобивый нарядчик — типичный «Укроп Помидорыч» - растерялся. Он уже привык было к своей почти что синекуре — что за наряды на какую-то сотню человек. Относился свысока и покровительственно к ребятам, а когда они пытались его окорачивать: «Смотри-ка, ты и впрямь стал большой начальник...» — он совершенно серьезно отвечал на это: «А я всегда был большой начальник...»
Поддержки у настоящего начальства он получить не мог — его не любили, считали существом другого мира. Однажды получилось так, что перед запертой калиткой по одну сторону нашей мужской зоны оказались нарядчик и я, по другую же — начальник КВЧ в чине майора, начальник ОЛПа и еще какие-то офицеры. Дежурный куда-то ушел, приходилось дожидаться его возвращения, и офицеры, хотевшие пройти к нам, сидели спокойно на порожке. Зато нарядчик нервничал и, не понимая в чем дело, закричал им наконец, не выдержав этого ожидания: «Господа, отворите пожалуйста». — «Мы не господа», — спокойно ответил ему майор. «Так кто же вы тогда — хамами вас не назовешь...»
Можно понять, что после таких разговоров нарядчик наш не мог пользоваться доверием у начальства. Его сместили, поставили другого литовца, не менее медлительного, но более современного по своей психологии. Он у меня долго лечился 372
на Малом ОЛПе в стационаре, потом стал санитаром и, приглядевшись за то время ко мне, потребовал теперь, чтобы меня определили ему в помощники. Избавиться от дневальства, конечно, весьма приятно, но я мечтал не о нарядной, перед которой прежде всего испытывал большой страх после стольких произошедших в ней на моих глазах убийств, а о санчасти.
Но покуда что вся медицина продолжала оставаться в женских руках, и мне поэтому пришлось согласиться на предложение литовца. Работа в нарядной позволяла мне бегать на женскую половину ОЛПа не реже, чем раньше, и мы помногу бывали вместе с Валентиной Ивановной. Она стала смелей в ожидании неизбежного этапа, и ужас перед тем, что нас могут застать вместе, не владел уже ею с прежней беспощадностью.
Вскоре последовал еще один большой женский этап в направлении Воркуты, после которого в лагере оставался только стационар да женская лагерная обслуга. И их всех тоже должны были отправить со дня на день.
Мы очень сжились и сроднились с Валентиной Ивановной. Расставаться нам не хотелось обоим. В особенности много терял я, с бесконечной перспективой лагеря впереди, снова теперь в мужской и на 90% уголовной компании. Женского лагеря как не бывало, точно он мне приснился в осуществление тех предсказаний, какие мне сделал когда-то на подступах к Воркуте бывалый в лагере человек: «Не горюйте, вы еще тут женитесь, помяните мое слово...» Вот я его и поминал теперь: действительно, ведь я попал в женский лагерь и женился, если угодно, не поймешь только, во сне или наяву. Насколько чудесно, невероятно и удивительно все это совершилось — об этом красноречивее всего свидетельствовал контраст, возникавший все ярче перед моими глазами, — новый мужской лагерь, наполненный отъявленными уголовниками-ворами, которые прежде всего бросились на наши старые мужские бараки - избивать находившихся там, по их мнению, сук...
Когда в лагерь запустили новый мужской этап, то почти все прибывшие за лето люди очень заволновались. Некоторые без дальних разговоров сами ринулись в изолятор. Другие же стали требовать у начальства оружия - ножей для защиты от воров. «Вот, - говорил один из них, — начальник такого-то ОЛПа выдал нам в прошлом году ножи, и воры не посмели нас тронуть...» — «Ничего себе, хорош тот начальник ОЛПа, — иронизировал наш бывший прокурор. — Вот уж прямо под 373
стать вам... Если кто чувствует себя неуверенно перед ворами — перебирайтесь-ка в изолятор. И будем вас отправлять в другие места...» К вечеру никого из сук уже как и не бывало. Все те, которые не говорили ни слова, и те, которые хорохорились, и даже те, которые говорили, что им все равно, с кем быть — с суками или с ворами, перебрались в изолятор. А еще немного позже бараки наши оказались осаждены ворами. Они искали то того, то другого из сук, но, конечно, уже напрасно...
Допускаю, однако, что воры явились сводить свои счеты столь поздно не без известного умысла. Воровское начальство, с которым я через несколько дней познакомился случайно в кабинете у начальника режима, говорило об ушедших в изолятор суках достаточно примирительно: «Это все мелкота и ерунда, на них нам наплевать. Правда, одного человечка надо было бы убрать, но нельзя...»
Этим он хотел заверить лагерное начальство в том, что поножовщины не будет. Однако ему, видно, не очень поверили. Отправили прочь не только сук, но и несколько наиболее активных воров...
Борьба не на жизнь, а на смерть, происходившая на моих глазах в уголовном мире, привлекала к себе мое внимание всякий раз, как только я становился свидетелем какого-нибудь ее проявления. Постепенно мне становилось ясно, что причины, ее вызывавшие, не могли быть сведены к чему-то совершенно определенному и единообразному.
С одной стороны, мне казалось несомненным, что главной причиной, расколовшей уголовную среду на две резко враждебных группы, было стремление лагерной администрации привлечь на свою сторону какую-то часть воровского начальства для того, чтобы через этих «ссучившихся» людей возможно более легко управляться со всей воровской массой.
В основе этой идеи, как оно не печально и не дико, лежали, вероятно, идеи А.С. Макаренко, с успехом исправлявшего и направлявшего преступные тенденции уголовной психики на здоровый пугь посредством воздействия на нее доверием, увлеченностью, чувством товарищества и равенства, как и разного рода другими гуманными устремлениями.
Но эмвэдэшное лагерное начальство не могло в своем стремлении переложить все трудности обращения с уголовным элементом на плечи самих уголовников не извратить эти 374
макаренковские идеи до полной неузнаваемости. В лагерной практике все это выглядело так, что некоторое количество более активных уголовников ради обеспечения господствующего положения над остальной лагерной массой и некоторых, впрочем довольно эфемерных, материальных выгод шло на грубое нарушение воровской демократии, с которой эти, принявшие на себя функции администрации, уголовные элементы боролись приемами самого грубого ее подавления и изничтожения. Статистик нашей амбулатории на Верхнем кожвинском ОЛПе рассказывал мне, как в конце сороковых годов нарядчики выгоняли народ на работу железными ломиками, осуществляя с их помощью выход бригадников на вахту «без последнего». «Удивительно крепкая штука — человеческие кости. Трещат, а не ломаются...»
Мне, однако, приходилось иметь дело и с переломами, причиненными именно таким способом.
Приходится думать, что некоторую роль в разжигании этой взаимной вражды в уголовном мире играло также и совершенно непроизвольное, но вполне понятное презрение к «ложкомой- никам», развившееся у некоторой части воровского начальства по причине его грубости и общего бескультурья. И если лагерное эмвэдэшное начальство не было в состоянии само воспринять и распространить в воровской среде подлинные идеи Макаренко, то играть на подобных низменных чувствах ему удавалось с успехом.
Проявление презрения к воровской мелкоте мне приходилось сплошь и рядом наблюдать у людей, суками себя не считавших да, вероятно, ими и не являвшихся в действительности в том смысле, что они не исполняли сколько-нибудь последовательно каких-либо определенных ролей на службе лагерной администрации и не пользовались сколько-нибудь существенными благами, связанными с подобной службой.
Был у нас на Кожве один летчик. На воле - вор и рецидивист, а в лагере — злой ненавистник той самой среды, из которой в какой-то мере он и сам вышел. Меня интересовало это сочетание в нем летного ремесла с воровской деятельностью, и я вступал с ним несколько раз в разговоры. Он с гордостью настаивал на своей истинно воровской принадлежности: имелись у него соответственные связи, была кличка — все как полагается. Странным образом авиационное начальство мало интересовалось уголовной стороной его биографии...
375
Во время этих разговоров к нам подсаживались иной раз маленькие воришки, привлеченные рассказами о воровских «делах» нашего летчика. Он при виде их сразу мрачнел, умолкал и злобно отгонял непрошенных слушателей. «Тебе-то чего тут?.. Иди, воруй, воруй», — покрикивал он, сопровождая эти возгласы более или менее увесистыми тумаками...
«Кто же он все-таки — вор или сука?» — допытывался я у более опытных лагерников, будучи поставлен в тупик противоречивостью его поведения. «Ни то, ни другое, — отвечали мне. — Особая категория - беспредельник». — «А это что такое?» — «А значит — к сукам не пристал, но и воровского закона тоже не придерживается, - сам по себе, как медведь, рыщет... Конечно, против сильных воров не попрет, если не вовсе одурел...»
Попал к нам, почти перед концом нашего существования в женском лагере, некий электрик, тоже связанный с воровской средой, работавший по своей гражданской специальности также и в лагере. Он, как и некоторые другие люди, которых воры причисляли к сукам, говорил, что ему все равно с кем жить — с суками или с ворами, он-де ни к тем, ни к другим не пристал окончательно...
Как-то он в моем присутствии произнес целую речь в защиту воровской морали. «Все бы у воров хорошо, только вот сволота всякая путается...» И схватив с этими словами табуретку, он со страшной силой, так что она разлетелась в щепки, запустил ее во внимательно его слушавшего маленького воришку, который сжав зубы и застонав отскочил прочь, как побитая собака.
Выходка эта представилась мне настолько импульсивной, неожиданной, пожалуй, и для самого «электрика», что я не стал даже добиваться у него объяснений его поведения. Наверно, он чего-нибудь стал бы придумывать, не давая добраться до истины. Но мне стало ясно, что нутро у этого человека, что бы он вокруг себя ни накручивал, — сучье. Что это так, подтвердил и факт его ухода в изолятор тотчас же при появлении у нас воровского контингента.
Еще большее впечатление произвел на меня один трагикомический случай, едва не обернувшийся совершенно трагически. Он мне подтвердил, что сучьи повадки проистекают иной раз из таких глубинно-психологических основ характера, что преодоление их оказывается невозможным даже тогда, когда речь идет о вещах жизненной важности.
376
На Кожве после отъезда женщин работал повар, «установочные данные» которого хотя и не были мне известны, но впечатление, производимое им, его серьезность и деловая расторопность, казалось бы, исключали возможность его принадлежности к уголовному миру.
Заправским сукой не был он несомненно, иначе бы с ним воры рассчитались еще и до того факта, о котором пойдет речь. Повару оставалось немного до освобождения, и ради возможного его ускорения — ради зачетов день за три - он пошел на производство на рейд в качестве бригадира. На кухне этот человек мог, вероятно, и не подозревать в себе сучьей природы. Но она обнаружилась тотчас же, как только он попал на командный пост: не продлилось его бригадирство (или, как ехидничали в лагере, «маршальство») и недели, как он сломал одному воренку руку в предплечье, хватив его в порыве гнева ломиком. Воренок был «не в законе», и бывшему повару не угрожала ответственность перед воровской организацией. Но воренок попал к нам в стационар, причина перелома была зафиксирована официально, и повару вместо скорого освобождения угрожал теперь лагерный суд с увеличением срока заключения.
Поговаривали о том, что подобная перспектива вызвала у повара новый пароксизм гнева и ненависти к избитому им воренку. Меня предупреждали, что всего этого не надо упускать из вида, дабы с воренком не произошло еще чего-нибудь похуже того членовредительства, какое ему уже причинил повар...
Неожиданно ко мне прибежали из барака и, не сообщив в чем дело, немедленно потребовали туда. Я побежал и обнаружил повара лежащим над огромной лужей крови, растекшейся под нарами, со взрезанной локтевой артерией на левой руке и с недокуренной папиросой в правой. Он лежал без сознания. Кровотечение прекратилось само собой. Сердцебиение едва прослушивалось. У меня, как на грех, не было ни физиологического раствора, ни возможности быстро его приготовить.
Я сказал ребятам из его бригады, что если они хотят видеть своего бригадира живым, пусть принесут мне в стационар сколько найдут возможным собрать сахару. Они это сделали достаточно щедро. Я принялся отпаивать самоубийцу теплой сладкой водой. Через полчаса он открыл глаза, приподнял голову и очень крепко, хотя и слабым голосом, выругался. А примерно через час явился начальник ОЛПа, выслушал мой рапорт и 377
распорядился: принять в стационар, но на больничное довольствие не зачислять - мы его судить будем...
По уходе начальства повар выругался вторично и, покачиваясь, поднялся с топчана, на котором лежал в ординаторской. «Вы куда?» Выругавшись в третий раз и ничего не объясняя, он, как был в одном белье и оставляя на полу кровавые следы, — мы не хотели его пока что тревожить и даже не смыли с него крови — вышел из стационара и направился в свой барак... Помощи моей в дальнейшем ему не понадобилось, и я не знаю окончательного исхода всей этой истории.
Но у меня отлегло от сердца. Я было уже собирался запереть избитого им воренка в изоляторе, так как очень боялся его совместного с поваром пребывания в стационаре, которое предполагалось неизбежным...
Примерно за год до этих событий я обратил внимание на довольно странный фельетон, напечатанный в воркутинской лагерной многотиражке. Речь шла о некоем заключенном — человеке с еврейской фамилией, который-де отказывается от физической работы на том основании, что он кандидат наук. А тут, мол, в лагере качества свои надо утверждать делом — тем именно делом, которое тебе поручают, следовательно, в данном случае, физическим трудом. От фельетона попахивало и липой и антисемитизмом одновременно. Вспомнил я об этом теперь потому, что, видимо, этот самый человек оказался у нас среди прибывших с новым этапом. Это был уже пожилой человек, к тому же довольно тучный — посылать его на физическую работу можно только в порядке издевательства.
«Кажется, я о вас знаю», — сказал я ему и напомнил об этом фельетоне. «Негодяи, — огрызнулся он. - Меня привезли из тюремной больницы после инфаркта, произошедшего во время следствия, и они не нашли ничего лучше, как назначить меня в бригаду. Я отказался, конечно. Заставить или как-либо наказать меня они не могли. За меня заступились врачи, да уже и по возрасту я годился только на спецтруд. Им ничего не осталось другого, как только облить меня грязью в своей газетенке...»
У нас ему предложили камеру хранения - лучше, конечно, нельзя было и придумать. И даже разрешили вступить в должность еще до отъезда Валентины Ивановны. Он, разумеется, не знал ничего о наших обстоятельствах и рьяно принялся пере378
делывать стеллажи и вообще наводить порядки, нарушая этим наше с ней прощальное уединение. Она огорчалась и негодовала: «Что за бестактный человек? Неужели не может подождать день или два?.. Вот они евреи все такие...»
Я ей предложил не обращать на него внимания, и мы с ней сидели втихомолку в самом темном уголке камеры. Хотя она уезжала почти прямо на свободу — ей оставалось всего месяца три, — но всего боялась и ни во что не верила. Я очень просил ее написать с нового своего места. «Да что вы, — она замахала на меня руками... — разве цензура пропустит?» — «Наша цензорша пропустит, - уверял я ее. — Мы с ней в хороших отношениях...» Она тут заулыбалась язвительно: «Ах, вон что? Вы и с начальством, оказывается, не теряетесь?..»
Последние два-три дня, когда о предстоящем этапе оставшихся женщин стало известно точно, мы уже вовсе никого не стеснялись и все свободное время провели вместе. Я даже как- то устал от всех связанных с нашим расставанием переживаний и разговоров, так что когда она уехала, первое время я ощущал не тоску и пустоту, а некоторое облегчение и с удовольствием лежал в нерабочие часы в ординаторской, вперив глаза в потолок. «Женский» период в истории моего заключения остался позади. Вокруг' раздавались одни лишь мужские голоса, когда уходили врачи и сестры. Я еще не знал, буду ли я очень тосковать по Валентине Ивановне или буду вспоминать о нашей дружбе как о приятном, но неправдоподобном сне... Буду вспоминать — позволят ли мне еще обстоятельства всласть предаваться подобным воспоминаниям. Лагерь наш все больше и больше наполнялся уголовниками. Небольшое количество 58 статьи — остаток старого контингента — тонуло в них совершенно, хотя и тонуло не смешиваясь, а держась особняком.
Некоторое время спустя я получил от Валентины Ивановны письмо, в котором несколько строчек оказалось вымарано. Письмо в общем довольно веселое. В нем сообщалось о прибытии на какой-то сельскохозяйственный ОЛП немного не доезжая Воркуты. Говорилось еще и о том, что у нее до освобождения остаются считанные месяцы — особенно быстро дело пойдет теперь, когда она станет получать хорошие зачеты.
Но что же это могло быть замазано? Я пустил в ход всю свою настойчивость и скрупулезность эпиграфиста и, в конце концов, прочел все-таки... Речь шла о том, что их вагон во время пути сошел с рельс, едва не произошло крушения, и их пересаживали в 379
другой вагон. Видимо, о подобных происшествиях сообщать не полагалось. Спасибо цензорше, что хоть так пропустила: переписка между заключенными категорически не разрешалась. Цензорша, как я и рассчитывал, оказалась и того любезней: она меня вызвала и сказала, что я могу ответить Валентине Ивановне, — она обязательно отправит... Следующее и последнее в лагере письмо от Валентины Ивановны я получил месяца через два. Оно было написано уже из дому и содержало много всяких противоречивых чувств — радости встреч и горечи оживших и обострившихся воспоминаний...
Продолжение работы в стационаре. Психология уголовной среды
Мой новый знакомый (и новый хранитель посылок) — Михаил Исаевич - оказался вполне образованным и довольно интеллигентным человеком. Меня он встречал весьма приветливо, так что камера хранения и по отъезде Валентины Ивановны осталась для меня доброжелательно открытой. Я заглядывал к нему поздними вечерами, и мы разговаривали на разнообразные темы. Местное начальство отнеслось к нему хорошо. У него на столе вследствие этого лежало всегда много разной политико-экономической литературы, которой вообще не бывает в лагерных библиотеках. Он много читал Ленина. Делал какие-то выписки. Неоднократно цитировал мне куски из ленинских работ, находившиеся в особенно кричащем противоречии с реальной политической практикой.
Первое время я уходил из камеры с грустью — все мне напоминало Валентину Ивановну. Михаил Исаевич познакомил меня еще с одним человеком, который, как оказалось, уже месяц-другой находился в лагере, и я даже слышал его фамилию, но до этого никогда с ним не встречался. Его сразу же по прибытии к нам приютил наш инженер на рейде, видимо на тех самых условиях, на какие рассчитывал почтенного вида сука еврейского происхождения, то есть по национальному признаку. Правда, этот человек тоже был инженер, и можно было думать, что используется он как-либо по специальности, но оказалось, как нормировщик или что-то вроде этого. У него был маленький отдельный закуточек на рейде, куда он отправлялся с раннего утра и возвращался самым поздним вечером.
380
После того как нас познакомил Михаил Исаевич, он стал изредка заходить ко мне в стационар, сначала с некоторыми ква- зимедицинскими просьбами, а потом и просто так.
И Михаил Исаевич, и этот человек (по фамилии Нотович) — оба были членами партии, и, как таковых, их особенно травмировало то, что они совершенно не могли связно объяснить, что же им собственно инкриминировалось на следствии. Если Михаила Исаевича обвиняли якобы в том, что он собирался выдвинуть в президенты Академии наук покойного академика Деборина, то наш новый знакомый не мог рассказать даже и таких анекдотических вещей. Его, сколько можно было понять, обвиняли с чьих-то слов в сочувствии недавно возникшему государству Израиль или сионистам, как и того инженера-еврея, с которым я сидел в 1950 году в Бутырках. Нотович в связи с этим производил впечатление человека сильно психически травмированного, тем более, что в нем ощущалось действительно довольно много национального, чего совершенно нельзя было сказать о Михаиле Исаевиче. Однако водились они оба преимущественно с евреями, насколько это оказывалось возможным в наших кожвинских условиях, где их и в лагере и на воле насчитывалось очень немного. Имелся, впрочем, у нас еще один техник-строитель, страшный матершинник и шутник, хотя и еврей. Они его тоже весьма привечали да и использовали, потому что он сидел по бытовой статье, у него был пропуск, что давало ему возможность снабжать обоих своих приятелей всякого рода деликатесами вроде сметаны, соленых грибов и пр.
У обоих моих знакомых имелось по сыну. Они очень охотно о них рассказывали, но никогда в связи с этим не поминали о женах. Нотович, впрочем, несколько раз упоминал о том, что писал жене о необходимости с ним развестись. В Москву-де его больше не пустят (сроку у него было десять лет, и он надеялся его отсидеть), и вместе им больше не жить. Удивительней всего оказалось то, что как-то после очередных подобных разговоров я прочел в «Вечерней Москве», которую мне довольно аккуратно присылали из дому вместе с другими газетами, объявление о том, что некая Нотович разводится с мужем. Это оказалась именно она, и судя по впечатлению, какое это объявление произвело на моего знакомого, он больше форсил , вызывающе говоря о предстоящем разводе. Когда же это произошло действительно, то ему 381
стало от этого очень неприятно, и теперь уже он склонен был обвинять жену в отсутствии добрых чувств.
— Ведь вы же говорили, что сами побуждали ее к этому?
— Мало ли что. Я считал своим долгом побуждать, а она должна была понять, что этого нельзя делать.
— Откуда вы знаете, может быть, она иначе и работы получить не может?
— Вздор...
— Какой же вздор, когда это случается именно так сплошь и рядом.
Видно было, что его эти разговоры очень расстраивают. И даже больше. Реакция его на эти больные темы оказывалась настолько острой, что не оставалось сомнений в наличии у него глубокой душевной травмы - лицо его очень бледнело, искажалось, речь становилась прерывистой и крикливой...
Ко мне он приходил обычно за ножницами. Всякого рода острые предметы — режущие и колющие — официально в лагерном употреблении отсутствовали.
— Разрешите мне отрезать ногти, — говорил он.
— Пожалуйста, только ногти не режут, а стригут .
- А, вечно вы с вашими придирками... Какая разница?
Я в это время свободные минуты посвящал писанию повести, основанной на впечатлениях детства и юности, задуманной и начатой несколько раньше: революция 1917 года, шумное и богатое событиями лето, выборы в Учредительное собрание. Мальчика, изображенного мной, соседские мальчишки, принимая за еврея, дразнили:
жид пархатый, номер пятый, на булавочке распятый...
Я прочел ему этот отрывок, думая, что ему могут быть интересны и самые факты, и выраженное к ним в повести отношение. Он по своему возрасту не мог ничего этого помнить. Я же, со своей стороны, не мог никак вспомнить, какой номер в избирательной таблице имели большевики. Думая, что это ему могло быть известно из истории партии, знание которой он не раз обнаруживал в разговорах, я и задал ему этот вопрос.
- Нет, не знаю. Впрочем, подождите - у вас же там прямо сказано: жид пархатый, номер пятый... Стало быть, большевики и шли под пятым номером...
382
— Вот тебе раз. Да ведь это же просто для рифмы так сказано в этой детской антисемитской дразнилке. Она ведь к тому же, вероятно, гораздо древней не только семнадцатого, но и девятьсот пятого года? И потом для чего уж до такой степени отождествлять евреев с большевиками?
Он краснел, бледнел, и на это мне ничего уже не ответил. Конечно, у него эта ассоциация возникла невольно, сама собой... Все же мне показалось примечательным то, что у него представление о революционном большевизме связывалось с еврейством, подобно тому, как это происходило в сознании украинского дядька в анекдоте революционных лет: слушая оратора, провозглашавшего неминуемость мировой революции, он с сомнением мотал головой: «Ни, на це дило жидив не хваты...»
Нотович в отличие от Михаила Исаевича, сидевшего, как и он, в сущности только за свою еврейскую принадлежность, не понимал и не принимал внутренне этого несколько завуалированного факта. Михаил же Исаевич довольно быстро примирился со своим положением и наблюдал происходившее вокруг него не без некоторого любопытства и чувства юмора. Он легко и свободно общался с самой жульнической публикой, никак не подчеркивая своей принадлежности к людям иного сорта. Общение с широким кругом лагерных обитателей позволяло ему всякий раз сообщать мне какие-нибудь новости...
- А вы знаете, наши девушки этой ночью обратились неожиданно в дам...
— То есть?
- Вам известно, что с недавнего времени на территории лагеря, в сарайчике при КВЧ, содержатся три молодых свиньи?
- Слышал. Будто бы даже для заключенных?
— Совершенно верно. Но некоторые из нас поняли это, однако, по-своему. Ко мне приходил сегодня их сторож — знаете, такой подслеповатый старичок — и сказал, что ночью явилось несколько парней, пригрозили ему крутыми мерами, если он подаст голос, и вступили с этими свинками в половые отношения...
— Я читал где-то, что скотоложество — не такое уж редкое явление в определенной среде.
— Среда-то, как мне кажется, у нас самая подходящая. Интересно, как реагировало бы на это начальство, если бы узнало?
383
— Думаю, что никак. Оно ведь действует по инструкциям, в которых вряд ли что-либо подобное предусмотрено...
— Я спросил старичка, остались ли его посетители довольны? Но он, видимо, был так напуган, что ему и в голову не пришло что-либо подобное у них спрашивать... Не тронули - и слава богу...
Наш новый главврач Нина Алексеевна явно недолюбливала евреев. Впрочем, может быть, это просто была дань тем настроениям, которые распространились очень широко в послевоенные годы в качестве заразы, проникшей к нам из Германии.
Михаил Исаевич, будучи человеком болезненным, пытался расположить Нину Алексеевну к себе и заставить ее обратить на него внимание. Я видел, однако, что она, несмотря на очень живое в ней чувство ответственности врача перед пациентом и на то чувство известного почтения, какое он одним своим видом возбуждал в людях, относилась к его заискиваниям достаточно сдержанно.
Определенную ее предубежденность к евреям можно было уловить в одном из обращенных ко мне вопросов:
— А отчего это многие евреи скрывают свою национальность и даже принимают русские имена?
— Надо думать, Нина Алексеевна, что не от хорошей жизни... Посудите сами, вряд ли люди, если они не какие-нибудь уголовники, среди которых мы с вами живем, способны легко менять имена. Наверно, это делается под влиянием каких-либо крайних обстоятельств. Вот, например, в немецком плену могли уцелеть только те евреи, которым удавалось укрыться под чужими именами, чтобы их принимали за людей других национальностей...
Она на это не возражала, хотя как будто все же и не очень тем евреям сочувствовала. Она, правда, вообще, видимо, не всегда и не все понимала... Как-то ко мне в ординаторскую в вечернее время, когда вольного персонала уже не было, зашел старший опер и попросил глюкозы в ампулах. Мы дорожили этим лекарством, и у меня его имелось в запасе только полторы коробки. Я, конечно, тотчас же отдал ему начатую коробку. Исчезновение части глюкозы довольно быстро заметила Нина Алексеевна и потребовала у меня отчета. Я ей объяснил, куда девалась глюкоза.
— Зачем же вы ему ее отдали? Он не имеет никакого отно384
шения к нашим лекарствам. Я бы ему ни за что и ничего не дала...
— Нина Алексеевна, неужели вы не понимаете, что опер здесь совершенно всесильное начальство. И при нынешнем состоянии юриспруденции ему ровно ничего не стоит посадить в лагерь кого угодно, в том числе и вас.
— Ничего подобного. Он мне не в состоянии ничего сделать. Я его совершенно не боюсь...
На другой день ее муж, он же наш начальник санчасти, пришел благодарить меня и извиняться за жену: «Она ничего понимать не желает. Вы совершенно правильно поступили. Не хватало нам еще, чтобы опер возымел на нас зуб...»
Не понимала она и разных других вещей, свойственных нашему времени.
— Вот вы вращались в среде профессуры... Неужели это правильно, что они нас не считают за людей?
- Но ведь это же не всегда и не везде так бывает?
— Вот мы ходили как-то небольшой группой студентов... ходили в театральном фойе. Вдруг навстречу один наш профессор. Размахивает каким-то шарфом: «Здорово, студенты!» Какие же мы ему в театре студенты, ведь это же не в институте?
— Дурак ваш профессор и невоспитанный человек. Глупо было бы держать себя так и в институте...
— Как хотите, а они нас совершенно не считают за людей...
Но кой-что она все-таки, очевидно, усвоила. Я нашел в нашей столовой обычную у нас металлическую миску, на донышке которой некий талантливый ненец выгравировал тюленя и еще каких-то зверей и рыб с большой выразительностью, в стиле настоящих палеолитических рисунков, как человек, впитавший в себя поколениями выработанную связь со звериным миром. Кроме того, между звериными фигурами он нацарапал несколько рунических знаков. Я, конечно, забрал эту мисочку к себе и припрятал ее в больничном шкафчике. Но это оказался очень неверный способ ее сохранения, в чем я вскоре же и убедился. Через некоторое время миска исчезла. Наш завхоз на мои претензии ответил, что приходил заведующий столовой, материально ответственный за эту посуду, и собирал все миски, число которых в столовой катастрофически уменьшалось, потому что многие воришки, позавтракав, считали своим общественным долгом выкинуть миску через забор за зону. Зав. столовой, 385
13 Лагерный дневник
конечно, собирал их и там, но по ту сторону забора их еще до него подбирали самоохранники и ближайшее вольное население.
Радость моя была велика, когда я опять напал в столовой на эту гравированную миску. И на этот раз я решил вызволить ее из лагеря. Нина Алексеевна как раз собиралась ехать в отпуск. Я попросил ее: «Вы ведь едете в Ленинград? Не могли ли бы вы передать эту миску в Русский музей или в Музей антропологии и этнографии? Это очень ценный этнографический памятник. Вот я здесь наклеил бумажку с паспортом — откуда он происходит...»
Она мне обещала выполнить мою просьбу, чем меня очень обрадовала. Она уехала, и я считал, что миска моя украсит коллекцию какого-нибудь из ленинградских этнографических музеев. Но еще через месяц я снова наткнулся на эту же миску в нашей столовой. Видимо, Нине Алексеевне объяснили, что увозя с собой лагерное имущество, да еще с такими подозрительными рисунками и надписями, она рискует многим. Тут мне стало особенно ощутимо, до какой степени я отрезан от мира и насколько непреодолимы разделяющие нас преграды... С горечью я думал о том, что если основа сибирской этнографии заложена узниками царских времен, то в наши времена узники больше не в состоянии служить науке даже таким скромным порядком, как это попытался осуществить я.
Еще перед отъездом Нины Алексеевны к нам в больницу вошел однажды невысокий коренастый человек с красноватым цветом лица. На нем было зимнее пальто с барашковым воротником, барашковая шапка, а на ногах калоши — человек интеллигентной профессии из какого-нибудь провинциального города. Он отрекомендовался: «Чижов. Прислан сюда к вам хирургом». Появление его явно оказалось сюрпризом не только для нас, но и для Нины Алексеевны. Так или иначе, стало понятно, что это замена для нашего Василия Михайловича. Видимо, и он это именно так понял и принял без особого огорчения: женщин увезли — для него эта перемена обстановки должна была ощущаться особенно остро. Он пользовался неусыпным женским уходом, вследствие чего особенно вжился в женскую среду. Хотя незадолго перед ликвидацией кожвин- ского женского лагеря он мне говорил с каким-то фатальным отчаянием в голосе и тупым выражением в глазах: «Да, дорогой 386
мой, баб-то надо тискать и тискать, уж и не хочешь, а все равно надо тискать...» В тоне его сквозила некая обреченность. Точно он готов был принести себя в жертву ненасытной женской плоти... Впрочем, он и в этом отношении очень сильно деградировал и никого уже, наверно, толком перед собой не видел. Последней его прислужницей (и наложницей) оказалась какая-то растрепанная, грязная санитарка, бегавшая в стоптанных шлепанцах по стационару и требовавшая то того, то другого «для хирурга». Сам же он как-то уже очень мало о себе напоминал. Его сломили избыточная пища, избыточный алкоголь и избыточное женское общество...
С Чижовым они встретились как старые знакомые. Учились хоть и в разных местах, но в одно примерно время — в первые годы революции. Было у них что вспомнить и о чем поговорить.
Но с приходом Чижова кончилась хирургия в нашей больнице. Он попробовал было сделать одну небольшую операцию — поправить одну неудачную культю. Но больной ушел у него со стола с матерной бранью. Его это так подкосило — ни с чем подобным сталкиваться ему раньше, видно, не приходилось, — что он больше и не брал скальпеля в руки.
Когда Нина Алексеевна уехала в отпуск, он ее замещал в качестве заведующего больницей, а по ее возвращении стал начальником санчасти. Нина Алексеевна с мужем тоже, видно, готовились нас покинуть. Незаметным образом все переменилось в нашем стационаре. Все врачихи, с которыми я было так сработался и сдружился, одна за другой разъехались, кто в отпуск, кто в ординатуру. Осталась одна только Люда, на которой я теперь и сосредоточил все мои добрые чувства, отчасти может быть поневоле, но главным образом все же потому, что мы, несмотря на разницу лет и положений, находили друг для друга все больше и больше дружеских чувств. Это взаимопонимание касалось прежде всего работы. Меня поражала трезвость и строгость ее медицинских наблюдений. Она никогда не фантазировала, не придумывала. Если не понимала, что с больным, то отдавала себе в этом полный отчет и старалась углубить и разнообразить наблюдения. Мы с ней очень дружно и плодотворно советовались и почти всегда на чем-нибудь друг с другом сходились и соглашались. Мне с ней стало очень приятно работать, а в свободное время мы всегда находили о 387
13‘
чем поговорить на какие-нибудь посторонние темы: о ее жизни дома, о ее будущем, как она его себе представляла, о Москве и московской жизни...
Люда родилась близ Архангельска, в ломоносовских местах, сохранивших в значительной чистоте старорусский физический тип. Черты лица у нее были мягкие, довольно крупные, глаза с поволокой, темно-русые волосы лежали гладко. Ее внутреннее спокойствие и доброжелательность очень отвечали моим тогдашним душевным требованиям, наполняли меня неким бальзамом, чем-то крайне необходимым для пополнения моего голодного лагерного пайка по части некоторых насущных душевных надобностей.
***
Нас с тобой сдружила работа - Эта точная мера связи, Мера прочности стыков на поворотах, Мера такта, выдержки и приязни.
Мы ни разу и к случаю не повздорили.
Гладь равновесия не исказилась.
Ни досады волна, ни горечи
Гневным душем в нас не ринулась.
А если и мельтешили, змеясь,
В глубине души этих чувств личинки, Все быстрее их уносила струя Симпатий крепнущих мощной реки.
Наша слаженность из твердо-уверенной Сублимировалась до восхищения, С каким глаза мои расширенные Вспыхивают при каждом твоем появлении.
Пусть и не всё - работа общая, Но очень много для меры дружбы — Она принесла мне столько хорошего, Столько тепла в воркутинских стужах...
Тебя мне она открыла такой, Какой стоишь ты, чуть насторожена, — В мыслях и чувствах не отгорожена Ни от кого пустоты стеной...
388
***
Сказать, что между нами века четверть — Такая гневно-пламенная четь —
Сказать легко, но мыслимо ль поверить - Поверить, а не трижды умереть?
Ах, сколько войн и сколько катаклизмов, Вербовок, строек, ломок, лагерей...
Сквозь это все твой каждый знак так близок, Как детский голос сердцу матерей.
Как будто мы с тобой родились вместе И детства прыть пропрыгали вдвоем...
Как будто... Суть же в том, что мы из теста Из одного... Одной душой живем.
Как будто ты со мной перестрадала
Все страды — столько ж проглотила книг...
Аяк тебе всей свежестью начала, Всей жаждой юного содружества приник.
Мне времени разрыв не уничтожить, Как розную судьбу не уравнять;
Но то, что нас соединяет, больше И выше неприступности преград,
Мешающих сойтись с тобой вплотную...
Пусть нас века веков разъединят — Я б и тогда признал в тебе родную Мне стать, по самым жизненным корням...
***
В зеркало взглянешь и отшатнешься: Глаза запавшие, с болью безумия, Остатки волос седые и жесткие — Это ли я, возможно подумать ли?
Внутри все так напряженно молодо, Жизнь началась так горько недавно...
Где же она? Становится холодно
И страшно, точно от старческой слабости.
Я себя вижу открыто и смело
Глядящим с листа моего матрикула1
’ Зачетная книжка студента (устар.).
389
С волосом, резко кинутым влево — Лицо, от которого трудно отвыкнуть.
Как же мне сделать, чтоб и для тебя Сияла моя неувядшая юность?
Чтоб слабость, усталость и седина Ею прикрылась и зачеркнулась?
Достичь мне этого тем трудней, Что давно уже для окружающих Я себя ощущаю помехой зрения, Убегающего куда-то дальше...
Кажется — и твои зрачки Шарят за моею спиной на стене... Неужели страдают все старики От недожитой юности, подобно мне?
Чижов, хотя и много бывал на ОЛПе, но почти не вмешивался в нашу работу. Несколько раз мне приходилось убеждаться в том, что передо мной знающий, но не любящий медицину человек. Кроме того, становилось ясно, что он застрял в своих знаниях на довольно далеком уже рубеже, не знал новых лекарств, и это его смущало. А пополнять свои знания и не отставать от жизни у него почему-то не хватало энергии или просто охоты. Он любил играть в шахматы и даже организовал турнир для заключенных в КВЧ, давал сеансы одновременной игры. Он, видимо, судя по рассказам, был не дурак и выпить, но при этом втихомолку и в одиночку, сидючи дома. На ОЛПе, однако, я его видел навеселе очень редко.
В наш лагерь шло и шло пополнение. Сплошь уголовники, молодые и постарше, всё сплошь воры-рецидивисты. Не было среди них ни сук, ни 58 статьи, если только не считать тех уголовников, которым эту статью «пришивали» уже здесь, в лагерях, за всякого рода крупные нарушения режима, дезорганизацию лагерного труда, саботаж и тому подобное. Вскоре стало известно официально, что Кожвинский лагерь обращен в лагерь для уголовников-рецидивистов. Сюда не будут больше попадать люди с первой судимостью, так же как не будет и 58 статьи. Нас - «фашистов», по воровской терминологии, - оставалось здесь очень мало: две рабочих бригады да некоторое количество лагерной обслуги, а всего человек 75, не больше.
390
Очутившись в этом сплошь воровском мире, я должен был сживаться с ним и наблюдать его еще пристальней и внимательней, чем это было доступно мне раньше.
Самое существенное из этих моих наблюдений над уголовным миром может быть сведено к тому, что для людей, не укладывающихся в нормы общежития и постоянно их нарушающих, несмотря на постигающие их наказания, характерна весьма неустойчивая нервная конституция. Эти люди, как правило, весьма легко возбудимы, не выносят следования определенному, раз навсегда заведенному порядку и не способны к регулярному учению и труду. Стремление к нарушению общепринятых социальных норм возникает у них из невозможности их выполнения. Иногда эта психическая неустойчивость настолько явственна, что заставляет говорить о несомненной психопатичное™ многих представителей уголовного мира. Однако, к сожалению, судебная психиатрия не считается с этими явными отклонениями от нормы и не принимает их во внимание. Для судебной психиатрии критерием психического состояния является вменяемость. Если человек знает свое имя и фамилию, ориентируется во времени и пространстве, стало быть он вменяем и следовательно ответственен за свои поступки. Между тем, мне приходилось иметь дело с людьми, которые, несмотря на свою кажущуюся вменяемость, были все же абсолютно ненормальны и совершали поступки, им самим понятные и объяснимые только лишь с точки зрения известной парапсихологии.
Был, например, у нас в лагере мальчик Юра, дважды уже попадавший под суд. Ему было меньше двадцати лет, отличался он анемичностью и худобой. В разговорах и в обращении с людьми — очень робок. В стационар попал вследствие истощения, на некоторую поправку. Составляя анамнез для истории его болезни, я поинтересовался характером его правонарушений. Последний раз, по его словам, его арестовали и осудили за то, что он разбил в трамвае оконное стекло и выскочил на ходу вагона наружу.
— А почему вы это сделали, Юра?
— Атам ведьма сидела...
— То есть как это ведьма? Ведьм не бывает.
- Да нет, самая настоящая ведьма, я ее хорошо видел. Мне до того противно стало, что я и выскочил...
391
Юра, расхаживая по больнице, почему-то все время заглядывал в хозяйственную кладовку. Я проследил за ним однажды и убедился, что он запускает руку в бочку с известкой и высыпает ее себе за шиворот.
— Юра, что это вы делаете?
— У меня сифилис, это я так лечусь.
— А с чего вы взяли, что у вас сифилис?
— Да уж я знаю, это точно — у меня сифилис...
— Юра, я вам запрещаю сыпать за рубашку известку. Она совершенно не помогает против сифилиса, а ожоги вы себе причинить можете... — Но запреты мои помогали мало. То и дело я ловил его снова у бочки с известью.
Обо всем этом я рассказал Чижову и просил его вызвать для консультации психиатра из Печоры. Тот отнесся к моим предположениям с недоверием. «Вы не понимаете, что парнишка просто придуривается. Его бы выписать давно надо. Мы уж его так, ради вас только, собственно, и держим...»
Но Юре самому уже, видимо, надоело лежать в больнице. Он стал проситься к оперуполномоченному.
— Зачем, Юра, вы пойдете к оперу?
— Мне надо на отца пожаловаться. Меня отец очень губит. Самый большой для меня злодей...
— Пока вы в больнице, Юра, выпустить мы вас не можем. Вот выпишут вас, получите свою одежду, тогда и идите.
— Ой, мне бы поскорей нужно. Это ведь такое дело... Может быть, я заявление написать мог бы?
— Конечно, Юра, напишите...
И я дал ему бумагу и карандаш. Долго потом я разбирал его каракули, пока, наконец, не понял того, что было там написано. Прочел и понес Чижову.
— Ну, вот видите, сразу же ясно, что чепуха, тут и не написано совсем ничего...
— Вы ошибаетесь, прочесть все-таки можно. Вот смотрите: «мой отец английский шпион...»
— А ведь действительно! Черт возьми, ведь он так отца родного в тюрьму посадит... Выкиньте это, разорвите... Вот теперь я верю, что он действительно сумасшедший...
И Юру отправили на Печору в больницу к психиатру. Но месяца через полтора он опять вернулся на Кожву. Отмечены 392
были некоторые ненормальности поведения, но в то же время подтверждена вменяемость...
Встречались на моем пути, однако, и невменяемые люди, которые несмотря на это продолжали содержаться в лагере общим порядком — то ли потому, что там не было психиатрического изолятора, то ли начальство считало, что если человек не опасен для окружающих, то чего же его и изолировать? Живут же иногда и на воле невменяемые люди вне больниц?
С одним из этапов к нам привезли и поместили в стационар молодого узбека. У него ничего нельзя было узнать — ни имени, ни прочих данных. На мои вопросы он отвечал только: «Я вольный, батя, вольный, немного приболел...»
Прибывшие с ним вместе люди говорили, что он еще недавно был здоров, но обкурился планом. Никакая изоляция не препятствовала тому, что у нас в ходу был план (гашиш), опий, чихирь1 и прочие наркотические средства, от чрезмерного употребления которых люди нередко погибали. Было безумно жаль этого узбека. В зимнее время он пришел к нам с этапом без верхней одежды, без шапки и босиком, с сильно помороженными ногами.
Поскольку он считал себя вольным, то стремился уйти и нередко бродил по лагерю. Посланный за ним санитар приводил его, подгоняя ударами по шее. На мои протесты он отвечал: «Эх, вы — ничего вы не понимаете. Парень придуривается, а вы и рот разинули...» Санитары у нас теперь все бывали из блатников, но ребята в общем-то не злые...
Несчастного узбека обижали не только санитары, но и товарищи по палате, потому что он не различал своего и чужого. Приходилось его содержать отдельно, хотя это и мало помогало. Запирать его нельзя было - он начинал неистово колотить в дверь, будоража всю больницу. А когда он выходил из своего изолятора, то обязательно делал что-нибудь такое, за что на него накидывались с побоями. Санитары били его еще и за то, что он, по их словам, не ходил в уборную, а мочился в угольный ящик. Услыхав однажды его крики, я бросился на защиту, отбил его у разъяренного санитара, привел в изолятор и усадил на койку. Он тяжело дышал, глаза его бегали в разные стороны, лицо выражало отчаяние. Мне его стало смертельно жаль, так что я расплакался над ним и принялся его гладить по голове.
1 Дурманящее вещество.
393
Меня охватило в этот момент какое-то острое чувство, что хотя меня самого и не бьют и я еще в своем уме, но что его доля - это и моя и наша общая доля. Он глядел на меня во все глаза, и взгляд его при этом, как мне казалось, выражал нечто вроде удивления, хотя это, конечно, и мало вероятно... Но он притих, успокоился и только что-то тихонько бормотал по-узбекски...
Иногда он заявлял какие-то просьбы, но почему-то всегда на узбекском языке, хотя вообще довольно хорошо говорил и по-русски. Завхозом в стационаре у нас в это время состоял один азербайджанец — образованный человек, преподаватель математики в каком-то из бакинских высших учебных заведений. Я несколько раз просил его послушать, что говорит узбек и о чем он просит, но тот его, видимо, тоже понимал очень плохо и не мог уловить сути. Может быть, я переоценивал образованность и культурный уровень нашего завхоза? Вел он себя на этом посту не без странностей: почувствовав себя начальством над санитарами, он всячески помыкал ими и заставлял, например, доставать из печки огонь для прикуриванья... Он, видимо, вдруг довольно легко ощутил в себе феодала, от психологии которого ушел вообще не так далеко. Его не могло умерить и образумить даже то, — хотя не мог же он этого не понимать, — что эта должность завхоза в стационаре вовсе ему не гарантирована на весь срок его заключения...
Узбек исчез так же, как и появился, для меня неожиданно. В некий день, когда у меня оказалось много других неотложных забот с больными, я забыл о нем на какое-то время, а когда вспомнил и заглянул в изолятор, то увидел пустую, без постельного белья, койку. «А где же узбек?» — спросил я дежурного санитара. «А его на этап забрали еще с утра», — деланно равнодушным тоном ответил тот, давая понять, что есть, мол, тебе еще о чем спрашивать...
Пришли, видно, из нарядной, взяли его под микитки и вытолкали за ворота. Может быть, ему показалось при этом, что его выводят на волю... Но больничное наше начальство не могло, конечно, об этом не знать, и узбека забрали, несомненно, не без его благословения...
С бедным моим узбеком оказалась связана еще одна неприятная история. В один из воскресных дней, когда из вольного персонала больницы никого не было и я оставался за начальство, от главного входа в наше заведение до меня донесся голос начальника ОЛПа, на кого-то кричавшего, кому-то угрожав394
шего. Я было направился по коридору к месту предполагаемого происшествия, но встретил шедшего оттуда санитара.
— Не ходи, начальник пьяный, побузит и уйдет, — сказал он мне.
- А что случилось?
- Зашел он не знаю за чем, ну а к нему наш узбек подкатился — выпусти, говорит, меня из лагеря, я вольный. Тот на него пистолет наставляет — «застрелю», кричит. Узбека я в палату загнал, да и сам ушел - не ровен час и вправду пристрелит...
Я послушался доброго совета и вернулся к себе в ординаторскую, тем более что и шум в прихожей уже прекратился — видимо, начальник тоже ушел.
О происшествии этом я сообщать не собирался, но на следующее утро, после моего доклада на пятиминутке о том, как прошел в больнице воскресный день, начальница наша спросила меня сама, зачем приходил начальник ОЛПа. Кто-то ей, видимо, рассказал все же что-то об этом визите. Я отговорился незнанием. «А почему вы к нему не вышли?» На этот раз дипломатической сообразительности у меня не хватило, и я рассказал, как оно было: санитар дал мне понять, что начальник выпивши, ну я и уклонился от встречи...
Инцидент, казалось, был этим исчерпан. Но через какое-то время в ординаторскую, где кроме меня находилась еще вольная сестра, стремительно вошел начальник ОЛПа с красным и возбужденным лицом, видимо опять на взводе. «Скажи, когда ты меня видал пьяным?» Я в этот момент позабыл уже о той истории, растерялся и опешил. «Никогда не видел...» Тут же вспомнил, чем вызван этот его вопрос, хотел что-то объяснить, но он с восклицанием «вот стервец!» выскочил из помещения. Сестра растерялась не меньше меня: «Подумайте, а ведь пьяный, ей~богу пьяный...»
Еще как-то раз один из крупных воров, усмехаясь, сказал, припоминая этот случай: «Не знали мы, что он с пистолетом по ОЛПу бегает, мы бы его с ходу разоружили...»
Осень и зима 1953—54 годов были у нас в стационаре особенно трудными. Одолевали всякого рода мастырки - флегмоны, вызванные введением в мышцы керосина или еще какой- нибудь гадости. Ординаторскую ни на секунду нельзя было оставлять открытой - - врывался кто- либо из больных, хватал 395
первую попавшуюся банку или бутылку с каким-либо медикаментом и опрокидывал ее себе в рот, так что немедленно приходилось производить промывание желудка...
В связи с пополнениями контингента за счет рецидивистов на ОЛПе скопилось большое количество «центровых» воров. Они придерживались строгой иерархии, между собой спорили редко. С нами — я имею в виду медработников — если не считать мелких недоразумений, обращались хорошо, вымогательствами не занимались и даже кое-когда поддерживали. Конечно, наркотики приходилось чаще всего отдавать блатному начальству, но оно обычно довольствовалось тем, что ему перепадало, впрочем, следя, вероятно, за тем, чтобы я не отдавал их кому-нибудь «зря». То, что я ничем не торговал и вообще никаких денег ни с кого не брал, производило на них, вероятно, известное впечатление.
Но бывали и такие случаи: заходят через служебную дверь три паренька, из которых один, мне еще неизвестный и, видимо, вновь прибывший, держится особенно развязно. Не спрашивая разрешения, вламываются в ординаторскую, где я кипячу инструменты для вечерних процедур.
«Ну-ка, доктор, “нарисуй” мне освобождение», — говорит самый задиристый. Из коридора заглядывают больные, тоже, видимо, не знающие вновь прибывших. Я вспылил: «Что это еще такое - заходить без спросу в больницу? А ну-ка, уходите сейчас же отсюда...» — «Ты с кем говоришь, сучья морда? Да я тебя тут же, как собаку, прирежу. Ей-богу, ребята, я его сейчас зарежу...» — «Не надо, Колька, брось...» — то ли деланно, то ли вправду испуганно стали его уговаривать приятели. Я не произнес больше ни слова -- черт его, идиота, знает - возьмет да еще и вправду пырнет, от них жди чего угодно. Одного повара пырнули в живот из-за котелка картошки... Я отвернулся и с возможно более спокойным и неторопливым видом стал перетирать посуду и мыть стерилизатор. Все трое ушли, бросив по моему адресу еще несколько угроз и нелестных замечаний. Но часа через два или три «духарь» явился ко мне один:
— Слушай, доктор, я спрашивал — воры тебя хвалят, почему же ты со мной так разговаривал?
- Я вас вижу первый раз. Настоящий вор себя так вести не будет... Что это такое ~ вламывается в больницу — дай освобождение... Вы что, не знаете, что туг каждое слово сейчас же по начальству передается? Меня не жалко, так хоть о себе бы по396
думали, разве так освобождение получают? Да за это всю санчасть разгонят. Нет, чтобы по-человечески прийти на прием...
— Так ты значит меня за сексота принял?
— А тут их и без вас сколько угодно...
— Ну, ладно, не сердись, доктор. Яу конечно, понимаю, я думал ты воров не уважаешь...
— А это вот вы у других спросите, кого я уважаю, а кого нет...
— Ладно, ты имей в виду, освобождения твоего и не надо.
— Не надо, так не надо, а понадобится — приходите, как человек, без шума и треска...
— Ладно...
Когда крупный вор ложился в больницу, прибегал радист и проводил к его койке радиоприемник. На тумбочке перед его койкой появлялись разные деликатесы, каких и лагерное начальство здесь не имеет: шоколад, апельсины, дорогие папиросы. Один лег, даже собачку свою привел в палату. Начальница больницы меня было принялась ругать: «Что это у нас за бардак тут какой-то - собаки бегают по коридору...» — «Нина Алексеевна, это собака Злобина». — «А...» И пошла себе дальше. Видно, кой-что стала кумекать в лагерных-то делах...
А то незадолго перед тем положили с непомерно высокой температурой одного молодого кавказца. Меня предупредили, что он сейчас на ОЛПе за старшего. Держался он, правда, скромно. При мне, впрочем, не стеснялся, вел себя как совершенно здоровый, но температуру продолжал нагонять. Я видел, как он из-за спины контролирует мои записи в его истории болезни. Я делал вид, что ничего этого не замечаю. А он при мне даже распространялся в палате с соседями: «Я тут лежу по собственной охоте. Хочу лежу, хочу нет... Сказал начальнику санчасти — “положи”, вот и лежу. Он против меня не пойдет, понимает, с кем дело имеет...»
Нина Алексеевна через некоторое время поняла, что кавказец прикидывается больным, и сказала мне:
— Я его выписываю с завтрашнего дня.
— Нина Алексеевна, вы разве не знаете, что это старший вор; его нельзя просто так — взять и выписать...
— Вот чепуха, а что он может сделать?
— Да что хотите. Позовет с десяток ребят, они и разнесут всю больницу... — Она подумала.
397
— Ну ладно, позовите его ко мне...
А потом рассказала: «Знаете, он меня попросил: “Вы, — говорит, — меня не выписывайте, мне неудобно будет перед ребятами. А я сам уйду завтра или послезавтра — по своей охоте, как будто надоело лежать”». На том они и порешили. Нина Алексеевна смеялась...
Кавказца, однако, вскоре услали, а на его месте оказался некий очень мрачного вида коренастый человек, смуглый и черноволосый, ходивший к тому же в черном демисезонном пальто и высоких крестьянского типа сапогах. Он слегка прихрамывал — у него отсутствовала левая стопа. Было в нем что-то демонически властное. Он не раз приходил ко мне с просьбой впрыснуть ему пантопон. И я ему по возможности не отказывал. Он все же считал своим долгом меня всякий раз немного постращать.
— Мы тебя за своего считаем. Фельдшер у нас, как в законе. Но и ты, смотри, от нас не отступайся. Ты этой штуки, какую я у тебя прошу, никому больше не давай... Воры народ такой — ты их уважил, и они тебя. А нет — убьют. Мало убьют, еще перед этим употребят... Долго ли тебя убить? Ширнул тебе раз (он сделал движение ладонью снизу по направлению к моему животу) — и готово. Мы этого не хотим. Нам этого не надо. Мы и так тут главная сила... Меня оперша вызывала. Начала, дура, крутить... Я ей говорю: «Ты на меня не ищи. Будешь на меня искать — на себя найдешь...» Разговоры пошли, будто ОЛП этот хотят другому лагерю передать — местного значения. Не хотим мы туда. Мы уже своим написали, чтобы нас не передавали в другой лагерь...
Подумать ведь только! Действительно сила, если им хотя бы в голову приходило, что они способны повлиять на подобное решение не лагерного управления только, а Главного управления лагерей...
Понятно было все же, чего эти разговоры стоят, а главное, для чего они со мной ведутся... Я все-таки воспользовался случаем и пожаловался ему на поведение его подчиненных, иногда не желавших считаться с тем, что список освобожденных не может превышать определенного процента от числа заключенных. Превысил — жди нагоняя от начальства, жди комиссию из санотдела лагеря. Об этом никто подумать не хочет — дай освобождение и все тут...
398
— Ладно, завтра я к тебе приду на прием, погляжу, кто за освобождением ходит.
Действительно пришел и сел посредине приемной на стуле. Заметив его, рассчитывавшие на освобождение шпанята присмирели и боязливо жались друг к дружке у двери. Как раз перед его приходом я уже измерил температуру одному парнишке и, дав ему жаропонижающего, хотел его отпустить в барак. Вдруг он, ни слова не говоря, стремглав бросился к двери. Тут- то я только и заметил воровское начальство. «Ишь, стервец, сразу додул, что к чему, - довольно проворчал он, усаживаясь поплотнее. — Ну, кто тут еще за освобождением из наших? Ну, заходи, не бойся... Вот этому ты дай, этому точно надо, я тебе это говорю...»
Так у меня и прошел этот весьма своеобразный прием. Рассудив воришек, он ушел, а я продолжал принимать «фраеров», которых оставалось совсем немного. Список в этот день был далеко не заполнен...
Я в эти дни отдувался и за больницу, и за амбулаторию, потому что фельдшера, принимавшего в амбулатории, недавно присланного нам из Печоры - Алексея — опытного медика, напоминавшего мне уже освободившегося Ширина, сидевшего, как и он, за службу во Власовской армии, тоже вызвали на освобождение. Я радовался за него и очень горевал о себе. Вот людей освобождают с таким же сроком, как и у меня. По той же статье, что и у меня. Но этих людей судили военным судом. Вот этот же суд их, видимо, теперь и освобождает. А меня судило ОСО, которое ликвидировано. Небось, наших дел и следа уже нет. Судили по каким-то спискам — ведь я же сам видел. Так тут и пропадешь, никто о тебе и не вспомнит...
В особенности удручающим представлялось существование в этой уголовной среде, живущей своими специфическими интересами и по своим, весьма зверским, законам. Хотя я и понимал, что мрачное воровское начальство меня не более как в шутку путало возможностью убийства с предварительным использованием в качестве пассивного объекта в массовом педерастическом акте, подобная угроза вообще мне вовсе не представлялась пустой.
Как раз незадолго до приведенного выше разговора на моих руках недели две находился юноша лет 18-20, за которым утвердилась слава подобного педераста. На него, помимо отдельных людей, набрасывались целые этапы, становившиеся перед ним 399
в очередь. Помимо того, что его задний проход оброс огромными кондиломами, находился в хронически гиперемирован- ном и воспаленном состоянии, помимо того, что на его локтях набились мозоли от частого и интенсивного их трения об пол, психика его была совершенно подавлена и обескровлена. У нас он лежал, укрывшись с головой одеялом, ни с кем не разговаривая. Соседи по палате говорили о нем с насмешками и презрением. Другие, попадавшие в подобное положение юноши, по-видимому резко сопротивлялись. Почти одновременно с ним у нас лежал другой юноша рыхлой комплекции и несколько бабьего вида с переломом предплечья. По его словам, он «упал с нар». Никаких более подробных объяснений от него добиться не удалось. Первый из этих юношей получал у нас некоторое лечение, собственно, видимость лечения — ему делали марганцовые ванночки. Вероятно, следовало удалить кондиломы, но Чижов почему-то не отваживался на это. По-видимому, подобных случаев в его практике не бывало, и он боялся, ввиду невозможности провести эту операцию в мало-мальски асептических условиях, каких-либо заражений и распространенных воспалений.
Уголовная среда и создаваемая ею специфическая обстановка, в которой приходилось жить и работать, угнетала не только меня, но и вольный персонал. Все наши женщины — врачи и сестры — разбежались, перешли на работу в вольный сектор, то есть пристроились в амбулатории и больнице, функционировавших на поселке. Последнее время начальник санчасти обязал меня (идею-то ему подал я сам) встречать Люду и другую медсестру Шуру у проходной и по окончании работы сопровождать их туда же, с тем чтобы они не ходили одни по территории лагеря. Всякое могло случиться. Очень уж публика кругом была безответственная и психопатическая. В конце концов к осени 1954 года на ОЛПе, кроме Чижова и меня, осталось только два медика, из числа заключенных же. Оба они происходили из уголовников, и ни одному из них, строго говоря, нельзя было доверить никакой мало-мальски самостоятельной работы. По сравнению с ними наш деревенский фельдшерок-украинец, с которым я зимовал в 1952 году в Каменке, любитель заложить за воротник, казался образцом невинности.
Один из этих новоявленных медиков не лишен был некоторого специального образования, употреблял латинскую терминологию, но, видно, у него было много чего написано в фор400
муляре, потому что его очень долго не допускали к работе. Он ходил за мной по пятам и клянчил: «Объясните вы ему (то есть начальнику санчасти) emphysema pulmonum, честное слово, я же все равно не пойду на общие работы. Куда меня ни поставь, я все равно медициной буду заниматься... Я вчера собрал всех идиотов на ОЛПе, честное слово, и устроил им комиссовку, — он заливался хохотом. — Они-то верят, думают, всерьез это я — идиоты-то...»
Чижов в конце концов взял было его в амбулаторию — ну некому работать и все тут, — но тот мигом распродал все, что было можно из медикаментов и инструментов. Пришлось выгнать. Тогда он заболел. Лежит день-другой с очень высокой температурой. Мне он признался, что замастырил себе чего-то. Я, конечно, молчу. Пусть Чижов разбирается. Наконец, еще дня через два, красный и злой, Чижов заявил мне, чтобы с этого дня обязательно всех раздевать догола при осмотре. «Понимаете, этот негодяй устроил себе искусственную флегмону в паху. Думал — я не замечу... Я и действительно неделю целую не мог понять, отчего у него повышена температура... Ну и публика... Ну и черти...»
На его место пришлось взять другого человека — Петра Те- плова - с тремя судимостями. Образования у него не было не только медицинского, но и общего среднего. Хотя человек был толковый, с небольшой технической специальностью (машинист) и внутренне серьезный. Это-то и подтолкнуло его к медицинской работе. Меньше всего он был лагерником. В трезвом состоянии дисциплинирован и аккуратен во всем. Но — запойный пьяница — он отправлялся воровать в состоянии опьянения и сразу же попадался. Он был аккуратным медбратом и вполне на месте на амбулаторных процедурах. Но ему приходилось поручать и прием больных... Осматривал их Теплов так: если человек жалуется на боли в груди, послушает его в двух-трех точках через стетоскоп. Потом ударит пальцем в трех местах в верхней части грудной клетки (на верхушках легких и под горлом). «Так... Куришь?» — «Курю», — отвечает больной виноватым голосом. «Придется бросить курить...»
К больным он, однако, относился внимательно, что иной раз важнее специальных познаний. Его связь с уголовным миром ОЛПа тоже оказывалась нередко важной для санчасти. Он всегда знал воровскую иерархию, предупреждал, с кем следует посчитаться, даже если в этом не виделось никакой действительной 401
необходимости. «Надо сделать этому человеку то, что он просит, уж обязательно надо сделать... Вы только подумайте, ведь он весь ОЛП в своих руках держит...» С последним утверждением, увы, часто невозможно было не согласиться. Очень уж это была напористая публика, бесшабашная, но не лишенная определенной внутренней организации, которую она умело использовала в своих отношениях с эмвэдэшным начальством. Я сам слышал, как какой-то разъяренный «центровик» кричал кому-то из начальства, угрожавшего ему репрессиями: «Ах ты, мусорило легавый, тронь только меня, завтра твои кишки на заборе болтаться будут...»
Другой, в карцере, тоже в большом раже, грозил самому начальнику режима: «Для меня, что сука, что ты — один черт. Нет у меня на тебя — гада — ножа вот такого», — и он выразительно потряс рукой. А тот только плюнул и подался прочь...
Угрозы-то эти оказывались не вовсе нереальны и иногда приводились в исполнение, несмотря ни на какие кары, поскольку крупные уголовники, посылая своих подручных на убийство кого-нибудь из начальства, действовали не без хитрости и психологического нажима.
Когда у нас зачитали закон о смертной казни за лагерные террористические убийства, с доведением его до сведения каждого заключенного под его расписку, воровское начальство развило страшную агитацию на тот счет, что-де это все липа и чистая острастка. В связи с тем, что вместе с текстом этого закона оглашался соответственный, вынесенный на основании нового закона приговор о расстреле нескольких, виновных в подобном терроре людей, тотчас же были пущены в оборот в качестве совершенно достоверных сведения о том, что названные в приговоре люди вовсе не расстреляны, поскольку их видели совсем недавно там-то и там-то...
Делалось это для того, чтобы воришки, которым уголовники- верховоды поручали исполнение запланированных ими в порядке террора убийств, не теряли надежды на то, что их ждет за это не более, чем новый «четвертак». И такому несчастному оставалось лишь выбирать между этой надеждой и уже совершенно несомненной смертной участью за отказ от порученного «дела».
Мне временами становилось неловко и совестно от того, что наша санчасть самым жалким образом идет на поводу у уголовников, снабжает их в меру своих возможностей наркотиками, 402
предоставляет им для отдыха и для укрытия от лагерного начальства больничную койку. Но, с другой стороны, я убеждался не раз, что это же самое начальство, бранившее нас для вида за эту трусость перед ворами и за оказываемые им поблажки, само бывало вынуждено идти и на гораздо более серьезные попустительства.
На посту старшего блатного у нас оказался одно время некий Серега — молодой сравнительно и очень приятный парень, на уголовника даже и не похожий именно в силу своей мягкости, деликатности, добродушия и удивительно ровного характера. Новые веяния, ощутившиеся в 1954 году, сказались, в частности, еще и в том, что на нашем ОЛПе соорудили качели, пользовавшиеся у молодых воришек большим успехом. Вот, в пьяном виде, сильно раскачавшись, слетел с этих качелей и сам наш Серега и покалечился так, что головка одного бедра оказалась у него по ту сторону таза. То ли хирург не захотел много возиться, то ли он сам все же не выдерживал режима, растяжка ему не помогла, головка на место не стала, и он оказался обречен на значительную хромоту.
А у нас началось в это время поветрие актировок по бытовым статьям. Он очень надеялся, что его сактируют. Но срок у него был большой, формуляр, видимо, очень плохой — ак- тировке он не подлежал. И вот он — тихоня, с застенчивыми манерами — так принялся угрожать нашему медицинскому начальству, что два вольных врача, вызванные по этому случаю из санотдела лагеря, медовыми голосами напевали ему при мне о том, что посадят его чуть ли не собственноручно в мягкий вагон, написали ему бог знает какой акт, так что он действительно очень скоро от нас уехал. Надолго ли только?..
В это же время мы возились очень много с актировкой одного уже пожилого рецидивиста с незалеченным сифилисом и специфическим пороком сердца - человек и вправду дышал на ладан. Оформили. Выпустили. Напутствовали всяческими благословениями и предостережениями. И, кажется, вечером того же самого дня его привели обратно в лагерь в ожидании нового суда. Он сразу же по выходе напился. Пропил все, какие ему были выданы на дорогу домой, деньги и полез спьяну на чердак воровать чье-то белье. Будучи тут же пойман и протрезвев, он отнесся к происшествию довольно равнодушно. То ли не поверил, что его действительно снова станут судить? Бог его знает...
403
Пришлось мне разочароваться и еще в одном воре, на которого я смотрел как на личность в известном смысле идеальную. Человек этот выглядел под горьковского Сатина. Любил поговорить о недостатках жизненных устройств. Лежа у нас в больнице, срамил воровскую молодежь. Начальник санчасти с ним охотно беседовал как со знатоком воровских правил и принципов. Он с презрением говорил о грубости и бескультурье здешних его коллег: «Разве настоящий вор позволит себе такое поведение? Да вы от него слова нехорошего не услышите. Чтобы он кого-нибудь не то что убил — побил?.. Нет этого в заводе. Это вот мелкота, хулиганье портят нам репутацию...» Вид у него был очень спокойный, серьезный. Держался он действительно очень корректно. Похож был на какого-нибудь главного бухгалтера. Любил сравнивать настоящего вора с хорошим инженером. «Надо ведь все до тонкостей рассчитать и предусмотреть...»
И вот он убежал. Убежал действительно как-то очень уверенно, ловко. Потом рассказывали, что у него имелось хорошее гражданское платье и безукоризненные документы. Видно, связи у него в своем мире налажены были серьезные. Поймали его где-то за Котласом, то есть уже «в России», там, где, казалось бы, все опасности находились позади и побег можно было считать удавшимся. Подвела его опять-таки нехватка денег. Пришлось идти на «дело». Решил обворовать промтоварный магазин. Спрятался было в нем. Все шло как по маслу, да не повезло. В неурочное время зачем-то явился завмаг и застукал его, когда он обматывал вокруг себя хороший кусок сукна. Прикинулся было мертвецки пьяным, но не помогло. Слишком явны были улики. И вернули его опять в наш лагерь. До нового суда поместили его в изолятор. При очередном посещении я увидел мрачного небритого человека, грубо бранившего надзирателей. Весь его лоск улетучился. Переломной - заурядный уголовник, с которым уже невозможно вести речь о высокой воровской морали. Однако, справедливости ради, нельзя не признать за ним достаточно тонкого дара перевоплощения.
Имелись, впрочем, у нас уголовники и вовсе другого сорта. С одним из них я познакомился у нас же в больнице. Началось это знакомство с некоторого скандала. Услыхав в одной из палат сильный шум — о чем-то кричал и скандалил небольшого роста еврейский юноша с очень нервической физиономией, положенный к нам только вчера, без определенного диагноза, — я сделал ему замечание, на которое он не обратил ни малей404
шего внимания. Пришлось через некоторое время зайти мне в эту палату вторично и уже более строго потребовать от него тишины: «Имейте в виду, если будете так орать, выпишут немедленно...» Через несколько минут он уже заскочил ко мне в ординаторскую, предварительно убедившись, что никого из вольного персонала поблизости не было: «Тебе что, сука, жить надоело? Тебя не учили ни разу, что ли? Мне только слово сказать — и тебе сделают разом заячью морду...»
Я выслушивал это все довольно равнодушно. Отругиваться казалось противно, сделать он мне сам ничего не мог по своей тщедушности, а если бы его действительно слушались его подручные, то ему, наверно, не нужно было бы так орать в палате, думал я. На другой день он пришел ко мне совсем в ином настроении. Попросил извинения. Стал говорить о том, что нам совершенно ни к чему ссориться, тем более по пустякам. «Я и вчера, собственно, не был на вас в обиде, — говорил он. — Но вы понимаете, я не могу допустить, чтобы меня так третировали перед младшими товарищами. Я потеряю у них уважение. Я вас попрошу в другой раз, если я зарвусь или что, не ругайте меня, не призывайте к порядку, а только приоткройте дверь в палату и скажите: “Бражинский, бекитцер”». — «А что это значит?» — «А это такое еврейское словечко, оно означает “короче”».
Я обещал ему поступать именно так, после чего у нас установились очень хорошие отношения. Он нередко захаживал в ординаторскую, вел пространные разговоры также и с Чижовым, преимущественно на медицинские темы. Он вручил ему даже тетрадку со своими стихами, которую тот передал для ознакомления мне. Стихи тоже оказались посвященными преимущественно медицине. Речь в них шла главным образом о том, как тяжело нервнобольному человеку принимать сильнодействующие лекарства, которые угнетают душу, без того израненную всяческими противоречиями.
Как-то раз, заглянув в палату, где лежал Бражинский, я увидал в дверную щель, что он расхаживает по комнате в очень хорошем гражданском костюме. В лагере вообще-то заключенным в таких костюмах ходить не полагалось, но воровское начальство в этом отношении, так же как и в отношении стрижки волос на голове наголо, ношения часов и тому подобного, пользовалось известными преимуществами.
Я все же настолько удивился, увидев его в костюме, что невольно растворил дверь пошире, чтобы как следует полюбоваться 405
редкостным зрелищем. «Вы что?» — спросил он меня. Я решил подшутить. «Да я заглядываю и вижу — ходит кто-то в гражданском костюме... Дай, думаю, спрошу, что это за фраер тут у нас появился...» Шутка удалась как нельзя лучше. Ответом на нее послужил громкий хохот всех, находившихся в палате. Более всего доволен был сам Бражинский. Он даже приходил потом ко мне и еще раз спрашивал, правда ли, что я его принял за фраера. После этого он стал держать себя со мной еще непринужденней. Он говорил о всякого рода непоследовательностях нашего общественного быта, противоречивым правилам которого разумный человек подчиняться не должен. Высказывался в том смысле, что воровские взаимоотношения гораздо честнее и проще. Никто никого не обманывает, не выдает черное за белое.
— И вот вы видите — в нашей среде нет антисемитизма. Вот я еврей, а между тем занимаю авторитетное положение. Я на равных правах с любым духарём...
— Да, в этом отношении вы правы, — отвечал я ему, -- антисемитизма в вашей среде как будто бы действительно нет, может быть, и прямоты больше. Это мне нравится, но только это.
— Да, — проговорил он задумчиво и даже не без некоторой грусти. -- Вам, конечно, может нравиться только одно это... А я бы вот резал двумя ножами всяческих сук и беспределыци- ну. Они нам все дело и портят...
В этот момент передо мной был настоящий вор, готовый броситься убивать отступников и предателей своего страшного мира...
Мир этот мне становился теперь все страшней и страшней своими неумолимыми и безжалостно-волчьими законами. В одно воскресенье ко мне пришел паренек, лежавший у нас незадолго перед этим с месяц без всякого диагноза, по поводу лишь истощения. Пришел и попросил положить его хотя бы на несколько дней в больницу. Я ему ответил, что в воскресенье, когда нету вольного начальства, я его могу положить только лишь в том случае, если мне его принесут на носилках... «Приходи завтра, поговори с начальником санчасти. Вряд ли тол ько он тебя положит. Ты ведь совсем недавно лежал у нас целый месяц...» Паренек понуро ушел. Мне бы спросить его - в чем дело. Может быть, он намекнул бы мне как-нибудь на свои крайние обстоятельства, а я бы преступил наши правила. Сам же я, однако, не догадался, ни о чем его не спросил. А через два дня стало известно, что он «повесился» на лесорейде.
406
Поскольку случай произошел не в лагере, а на производстве, на вскрытие, помимо нашего старшего опера, вызвали гражданского следователя из Печоры и врача из управления лагеря. Вскрытие производить решено было за зоной, на вольном воздухе, у одного из сарайчиков, где, видимо, хранилось тело. Вскрывать должен был я. Начальник санчасти приказал мне явиться с патологоанатомическим набором на вахту к двум часам дня. Вахтера предупредили, и меня беспрепятственно выпустили. Когда я подошел к топчанчику, на котором лежал «самоубийца», то совершенно убедился в том, что это было замаскированное убийство. На шее у трупа болтался кусок каната толщиной в кулак, употребляемый для буксировки плотов. На таком канате можно провисеть неделю и не умереть от удушья. Не было у него и выпадения языка, столь характерного для повешенных. Когда начальство оказалось в сборе, я счел необходимым огласить то, что мне стало известно об этом юноше, - как он приходил проситься в больницу... «Вероятно, у него имелись какие-то счеты с кем-то, может быть, он проигрался в карты? Я убежден, что его повесили уже без сознания. Кому придет в голову вешаться самому на таком канате?..»
Старший опер остался очень недоволен моим заявлением, остальные молчали. «Принесёте мне потом его историю болезни», — сказал опер. Врач из управления лагеря объяснял между тем вполголоса следователю: «Вот видите, кровь не свернулась, из-за недостатка кислорода. Так и бывает при смерти от удушья...»
А меня разбирала злость. «Конечно, — думал я, - гораздо спокойней остановиться на версии самоубийства, чем заподозрить убийство. В этом случае ведь надо искать виновных, выяснять обстоятельства, лазить где-то там по снегу между штабелями леса. Куда лучше сидеть дома в тепле и попивать водочку».
По окончании вскрытия все ушли, не сказав мне ни слова. А меня даже не видно было с вахты — иди куда хочешь. «Нет, — думалось мне, — что-то такое все-таки происходит. Год тому назад такая вещь, чтобы оставили за зоной двадцатипятилетника без всякого конвоя, была бы невозможна и совершенно скандальна для лагерного начальства».
Пока я зашивал труп, уже сильно стемнело. Потом я некоторое время ждал сторожа. Он попросил меня помочь ему затащить топчан с телом в сарай. Когда я после этого, уже темной 407
ночью, пришел на вахту и постучал в калитку, мне отворил новый, сменившийся вахтер:
— Кто такой, чего надо?
— Как это «чего надо» — я возвращаюсь с работы в лагерь.
— Ничего не знаю...
Это, конечно, была шутка пополам с издевкой, но и она тоже показалась мне симптоматичной. «Фельдшер, что ли», — спросил вахтер, хотя ему и так, по одному моему виду — с медицинскими инструментами и с окровавленным тазом в руках - ясно было, кто я такой. Да он, вероятно, знал меня и в лицо. «Ну ладно, иди», — буркнул он... Я устал, мне было не до шуток. «Надо бы попробовать сказать “а вот и не пойду”», — подумал я задним числом.
Окно ординаторской открывало вид почти на весь ОЛП, равно как и само оно хорошо виднелось почти отовсюду. Как и прежде, ложась спать, я оставлял гореть над моей головой лампу в двести ватт и не запирал по-прежнему дверь. А надзиратели продолжали считать это непорядком.
— Как это ты спишь? - спрашивали меня при ночных обходах. — Такой силы свет бьет прямо в глаза... И почему дверь не запираешь? Еще вопрется бандюга какой-нибудь...
— Вот именно, для этого я и делаю и то и другое — и свет не гашу и дверь не запираю. Если что с кем случится, каждый знать будет, куда бежать, и стучать не нужно...
— Да, ну смотри, смотри... Тут тебе не на воле.
— На воле-то, небось, страшней?
— А ты будто не знаешь?..
— Забыл уже...
Выглянув однажды из окна ординаторской, я увидел разгуливающего по ОЛПу необычного человека. На нем было зимнее пальто с открытым и длинным меховым воротником а 1а coupe de Шаляпин. «Комиссия какая-нибудь приехала», — подумал было я, но тут же сообразил, что даже и гражданские сотрудники могущих нас обследовать учреждений в таких пальто не ходят. Кто же бы это мог быть? Человек расхаживал, широко разбрасывая длинные ноги, явно гуляя без определенной цели. Все это меня заинтриговало, но идти кого-нибудь спрашивать было мне тогда не с руки, а потом я как-то о нем забыл. Пришел, мол, да и ушел...
Но зайдя через пару деньков в камеру хранения, я увидел 408
этого человека сидящим там за столом в качестве гостя. Это меня удивило еще больше. «Стало быть, заключенный?» Мне его представили как драматического актера, недавно прибывшего в наш лагерь. «Владимир Александрович Ростоцкий», — сказал он вставая, обнаруживая самые галантные манеры. В ответ на мои вопросы он назвал несколько городов, где ему приходилось жить и играть. Когда я выразил удивление, что к нам прислали человека с 58 статьей: «Вероятно, в качестве культработника?», он было немного замялся, а потом сразу сказал, что его действительно назначают культоргом.
Через несколько дней приятели мои мне сообщили, что он уголовник и при этом еще рецидивист - три судимости, - так что в лагерь наш он угодил совершенно правильно.
«Любопытней всего, что преступления его все совершенно одинаковы и имеют несколько маниакальный характер, — сказал мне зав. камерой хранения. - Он сходится с женщиной, обладающей общественным и материальным положением, - актрисой, врачом — и живет с ней какой-то долгий срок — год или даже больше. А когда она ему наскучивает, он забирает все ее мало-мальски ценные вещи и скрывается. Иногда это ему сходило с рук, но три раза женщины заявляли жалобы, и его неукоснительно ловили. Следы заметать он, видимо, не умеет...»
Через некоторое время в нашем КВЧ устроили вечер, на котором, наряду с обычной самодеятельностью, был сыгран скетч с двумя участниками, из которых одним выступил Ростоцкий. Он обнаружил при этом талант по части гротеска. У него оказались продуманные, экспрессивные и выразительные движения, безукоризненная дикция.
Я с ним потом неоднократно разговаривал и ни разу не обнаружил в нем ни одной черточки, которая позволила бы опознать в нем уголовника. Маньяк, определил я, и не больше. Потому так легко и попадается... «А вы знаете, почему не трогают его пальто и другие вещи, из-за которых здешние воры перегрызли бы друг другу глотки?» — «Конечно, не знаю». — «Он состоит в дружбе с такими высокопоставленными ворами, которые сидят на Курильских островах. Он называет в качестве своих приятелей имена, священные для всякого вора».
Только раз я оказался невольным свидетелем одной достаточно выразительной сцены. Маленький воришка пытался стащить газету, вывешенную в КВЧ, — они из этих газет великолепно делали игральные карты. Культорг его на этом поймал.
409
В том, как он его несколько раз ударил, и в тех словах, какими его ругал, чувствовалось не только что-то уже определенно уголовное, но и прямо-таки что-то сучье...
Он потребовал у меня стихи для стенгазеты к какому-то празднику. Я несколько раз до этого выполнял просьбы куль- торгов и начальства, писал стихи для стенгазет. Но ими ни разу не воспользовались. Их читали и недоумевающе отвергали. Я не хотел все же ему отказывать и написал стихи об одной из наших прославленных бригад - у нас еще оставались две бригады, сплошь состоявшие из «фашистов». Он остался доволен. «Но ведь начальство обязательно отвергнет, просто потому, что не поймет...» — «Голубчик мой, так ведь это надо подать...»
И он действительно подал эти стихи как-то так, что я, во- первых, получил за них благодарность от начальства, а во- вторых, их поместили не только в нашей стенгазете, но и напечатали в воркутинской многотиражке.
Это оказались мои единственные напечатанные стихи, если не считать тех, которые я опубликовал сам в изданном мною типографским способом (с помощью отца) детском журнале.
Изуродовали эти мои стихи на Воркуте, по конспиративным соображениям разумеется, изрядно. Не полагалось, в частности, называть настоящие имена, ни личные, ни географические. Как бы то ни было — напечатали. Было мне и грустно и радостно... И я выразил всячески мою признательность Ростоцкому за его умелое и счастливое посредничество.
Но к побитому воришке невозможно все же, казалось, не испытывать жалости. Когда я глядел на этих ребят, игравших в жуликов, много раз мне становилось не по себе. Слишком уж всерьез принимало их всякое начальство — и казенное и воровское.
Одного такого парнишку взял себе в помощники мой знакомый — заведующий камерой хранения. «Вам посылка», — крикнул он мне как-то раз своим громким, скрипучим голосом. «Спасибо, спасибо...» И я зашел в этот вечер в камеру узнать, когда можно ее получить. На полу как раз сидел этот новый помощник и сортировал ящики. Иногда он вслух констатировал: «Заочница... опять заочница».
— Что это означает? — спросил я.
— А вот у вас некоторые наши ребята «Вечерку» московскую брали?
- Брали.
410
— Так вот, они там объявления о разводах читают и высматривают, кому бы из разведенных написать: авось пожалеет. Иногда клюет - я, мол, раскаиваюсь, сроку остается немного, помогите, по гроб не забуду... Вот им и идут посылки по заочной любви...
У нас, как я уже неоднократно отмечал, было принято наиболее истощенных из числа этих ребятишек класть время от времени в больницу недельки на две на поправку. У меня была целая палата, состоявшая почти сплошь из таких питомцев.
Как-то поздно вечером раздался вдруг стук в нашу «парадную» дверь, которую мы и днем-то почти никогда не отворяли. В зимнее же время ею и вовсе не пользовались. Я послал санитара поглядеть, в чем дело. Через несколько минут в прихожей послышалась пьяная брань, перемежаемая угрозами. Я узнал голос старшего нарядчика. Вообще это был довольно спокойный, приличный человек, получивший «десятку» за пьяное убийство из ревности. Не знаю, на что он был бы способен в пьяном состоянии теперь, но выбалтывал он именно то, что ему приходило в голову трезвому. Он маскировался под вора. «Ишь вы, суки, где позасели! Я вас научу уважать воров. Всех порежу! Тут же всех на фиг порежу, так вашу распротак...»
Я слушал-слушал и решил, что надо помочь санитару. Он, видимо, не решался поступить с ним коротко и без разговоров. Нарядчик, увидев меня, завопил: «Зарежу, сука!» Все это выглядело и смешно и отвратительно. Я подошел поближе. «Интересно знать, чем это вы собираетесь меня резать? У вас же нет ничего. У меня хоть вот это есть». И я вынул из кармана халата случайно оказавшийся в нем скальпель.
Нарядчик отупело замолчал, потом физиономия его расплылась в широченную улыбку и он полез целоваться. «Голуба, не сердись. Дай, христа ради, чего-нибудь выпить. Ну, хоть какой хочешь стрихнины...» — «Да нету у меня ничего. Ну что я вам дам? Не отравы же действительно какой-нибудь? Вы от моего питья неделю потом в себя прийти не сможете, а вам же завтра в шесть часов утра работать надо...»
Чтобы избежать возражений, я повернулся и пошел по коридору. Везде было тихо. Никто на выступление нарядчика, видимо, не отреагировал. Многие, вероятно, уже спали. Время по-здешнему уже позднее - одиннадцать часов вечера. Я заглянул в палагу к малышам. Никто не спал. Все сидели на своих койках с насторожённо-испуганными лицами. Видно, угрозы 411
нарядчика прозвучали для них всерьез. Я оглядел палату, вынул из кармана скальпель и произнес возможно более свирепо и стараясь подражать нарядчику: «Зарежу, сука!»
Вся палата так и грохнула, так и покатилась со смеху. Слава богу. Можно, небось, надеяться, что инцидент этим и будет исчерпан. «Спите ребята, пожалуйста», — сказал я возможно серьезней и спокойней, давая понять, что никому никакая опасность не угрожает...
Конец 1954 года. Болезнь и смерть Малько. Второй приезд жены
Мой работавший в амбулатории коллега направил в больницу истощенного человека с высокой температурой, которого он почему-то недели две упорно держал на амбулаторном лечении. Толкового объяснения по этому поводу я у него не добился, а сам больной — Малько, член той самой бригады, о которой я написал стихи, человек небольшого роста, сравнительно еще молодой — лет тридцати с небольшим — говорил, что тот доктор обещал его вылечить, и он ему верил.
Дышал он чрезвычайно напряженно, учащенно, грудная клетка у него ходила ходуном. Я его послушал, постукал, обнаружил абсолютную тупость перкуторного звука в нижней доле левого легкого и определил крупозное воспаление, но при первой же возможности показал его Чижову. «Э, голубчик, вы никогда, видно, с экссудативным плевритом не сталкивались. Это несомненный экссудативный плеврит. Приготовьте шприц с длинной иглой и почкообразный тазик. Будем удалять экссудат...»
Я действительно знакомился с этим явлением впервые. Удалили литра полтора серозной жидкости. Сошлись на том, что экссудативный плеврит начался в результате запущенного воспаления легких, и ругали на чем свет моего незадачливого коллегу. Тот, как мог, отбрыкивался.
Удаление экссудата принесло больному лишь кратковременное облегчение. Назначены были сульфамиды, камфара, банки... Температура упала до 37е с небольшими десятыми, но дыхание оставалось необыкновенно затрудненным. Держали его в полусидячем положении, иначе он задыхался.
Недели две интенсивного лечения не дали положительных 412
результатов. Истощение увеличивалось. Дыхание ухудшалось. Его бригадир, человек с редким чувством ответственности за своих людей, ходил и к Чижову и к начальнику ОЛПа, требовал внимания к Малько: «Доходит ведь человек... вызовите доктора из штаба лагеря».
Малько, чувствуя, что ему становится все хуже и хуже, пал духом: «Хана мне, — повторял он, — вот истинный бог, хана...» Ремиссии бывали очень кратковременными, и после них положение всякий раз изменялось к худшему. Один раз ему стало немного легче оттого, что ему сделали интенсивное обтирание камфарным спиртом. Казалось некоторое время, что он дышит ровно. Но вскоре наступило резкое ухудшение, зашалило сердце, и обтирание не пришлось повторять.
Другой раз его пожалел лежавший с ним в одной палате очередной старший блатной. «Ну, прямо глаза не глядят, как человек мается... Слушай, братан, да ты канай сюда. Мы с тобой дернем по маленькой да заглотнем мясца. Ей-богу. тебе полегчеет. Ведь тебя заширяли совсем, а жрешь, небось, одну манную кашу...»
Войдя в палату, я с удивлением увидал Малько сидящим на чужой койке, перед тумбочкой, заваленной всякой снедью, и уминающим порядочный кусок жареного мяса. Лицо его порозовело, оживилось.
— Скажите, до чего довели человека, — удивленно и соболезнующе повторял вор, наблюдая, как Малько с удовольствием поедает мясо. — А ведь у тебя, говорят, баба здесь была на женском ОЛПе? Вспоминаешь про бабу-то? — Малько болезненно и недовольно отмахнулся:
— Дану ее...
— А где она теперь, не знаешь?
— В совхозе, сына родила.
— Сына? Сын у тебя теперь есть? Ишь ты, какой хват. А сына- то ты хотел бы понянчить? - На лице у Малько появилась жалкая и вместе с тем блаженная улыбка:
— На сына-то я бы, конечно, глянул... Сына бы приласкал, пожалуй...
«Неужели ему действительно стало лучше?» — думалось мне. Но сразу же после этого пиршества ему стало еще хуже. Перегрузка желудка и кишечника, освобождавшегося от содержимого с трудом, еще более затруднила дыхание. Малько уже 413
вовсе не мог лежать. Он сидел, наклонившись слегка вперед, лицо его покрылось испариной. Буквально все его тело принимало участие в дыхании.
Так прошло еще несколько дней. Ноги его от круглосуточного стояния на полу сильно отекли. Значительная пастозность появилась и в других частях тела. Видно, ни сердце, ни почки не справлялись уже со своей работой.
Чижов, огорченный тем, что мы чего-то в болезни Малько не могли понять, и тем, что как назло не едет начальник са- нотдела лагеря, которого ждали со дня на день также и по другим делам, постоянно менял назначения. Вдруг он заявил, что я переутомился с Малько, и приставил к нему амбулаторного фельдшера: «Ты его начинал лечить, так вот ты и долечивай...»
Тот перетрусил. Испугался ответственности и просто того, что Малько, который, как это всем уже становилось ясно, обязательно скоро умрет, сделался предметом общего внимания. Он приходил ко мне вечерами в ординаторскую и всякий раз сворачивал речь к одному: «Как бы нам уломать начальника отправить Малько в центральную лагерную больницу? Там люди каждый день помирают, и никого это не волнует. А помрет Малько здесь, не оберешься скандалов и разговоров - залечили, уходили, угробили... Давайте насядем на него, давайте уговорим...»
Я почему-то к этому не был склонен и поэтому выслушивал беспокойные просьбы моего коллеги без особого внимания. К тому же приехавший наконец начальник санотдела — хотя он и носил военную форму, но видом своим очень напоминал уездного земского врача — тоже не очень-то хотел брать его к себе: «Ух, какой он у вас рыхлый...»
Малько, увидавший нового вольного доктора, из последних сил умолял: «Неужели никак нельзя помочь человеку? Неужели же никак этого нельзя...» Выслушивавший его в это время начальник повторял: «А вот мы и помогаем, вот и помогаем...»
Потом, обращаясь к Чижову, сказал: «Куда же его так везти?» И укоризненным тоном добавил: «Надо было постараться узнать причину, вызвавшую экссудативный плеврит. Мы считаем - это вещь специфическая. Анализа на РВ1 не вижу... Ну, ладно. Много в нем очень воды. Воду удалить надо. Мерку зал у1 2 ему введите раза два-три, тогда посмотрим». «Да он же нс вы1 Анализ на сифилис.
2Меркузал - препарат диуретик.
414
держит», — воскликнул я. «Вот и посмотрим», — тем же тоном повторил начальник санотдела. Если, мол, выдержит — заберу, а нет, так пусть у вас помирает... И с этим он уехал. Амы остались с нашим Малько, который сначала как будто и не реагировал на меркузал, и все у него продолжалось по-прежнему. С вечера он только вдруг попросился спать, а так как лежа дышать не мог, а сидеть ему, наклонясь вперед, тоже стало невмоготу, он попросил подставить ему что-нибудь под локти, на что бы он мог опереться. Санитары нашли где-то соответствующего размера ящик и установили его перед койкой, так чтобы ноги его свободно помещались внутри ящика, а снаружи на нем лежали бы руки. Так ему стало удобно. Он поблагодарил и забылся. Я тоже пошел спать, наказав дежурному санитару заглядывать в эту палату не реже, чем через полчаса. Через некоторое время санитар разбудил меня и сказал, что Малько, наверно, умер. Я застал его все в той же позе. Он не дышал и мокр был так сильно, точно его только что вытащили из воды. Мы его положили на койку, накрыли и оставили так по тогдашним правилам до утра. Чижов в тот же день сообщил начальнику санотдела о смерти Малько. От него последовало распоряжение не производить вскрытия до прибытия врача-патологоанатома.
Вскрывал его опять я, и если бы не прибыл этот патологоанатом - пожилая худощавая женщина с лицом сельской учительницы, — вряд ли бы мы с Чижовым что-либо и распознали для диагноза. Никаких изменений в легких не оказалось. Сердце тоже выглядело совершенно нормально. Но вдруг патоло- гоанатомша воскликнула - tumor! Какой же там tumor и где? На бронхиальном стволе оказались небольшие наросты очень плотной консистенции. Когда она отрезала от одного из наростов полоску для гистологического анализа, впечатление было такое, будто она режет кусочек мыла. Эта-то штука и задушила нашего Малько. Рак. Никому из нас это не пришло бы в голову. Да и человек-то еще молодой. Будто не пил, не курил — с чего бы вдруг такая напасть?
Еще довольно долго я жил под впечатлением болезни и смерти Малько, потребовавшей у всех нас много сил и нервного напряжения. Особенно огорчало то, что болезнь его до самого вскрытия продолжала оставаться для нас загадочной. Мы пытались его лечить и при этом, конечно, мучить, тогда как нам нужно было по возможности лишь стараться облегчить его страдания. Я, например, самым категорическим образом возражал против
415
применения наркотиков - они ведь ослабляют и без того крайне затрудненное дыхание. Амбулаторный фельдшер, когда его приставили к Малько, казалось мне, по примеру дурной няньки, сующей младенцу маковый настой, чтобы его усыпить и избавиться от крика, тут же, в первый же вечер, ввел ему пантопон1 по собственному усмотрению. Малько, конечно, уснул, но мне показалось на следующее утро, что он после этого сна ослабел и поник еще больше. Дыхание сделалось еще более затрудненным. С первого же раза он привык к пантопону и потом все время его выпрашивал. Он даже ни слова не говорил, а только показывал пальцами, что ему-де нужна одна маленькая ампула. Я ему в ней отказывал, тогда как держать его следовало непрерывно именно на пантопоне. Такая непроходимая глупость! И долго еще меня мучили подобные размышления и воспоминания...
Больница после смерти Малько как-то сразу вдруг опустела, казалось, что и делать тут стало больше нечего. А у нас, действительно, хотя на ОЛПе находилось не меньше тысячи человек, в больнице лежало человек восемнадцать, и все со всякой ерундой — разные молодые ребята, мало нуждавшиеся в медицинской помощи.
Я получал возможность ходить в гости в камеру хранения, выслушивать там всякие «параши» относительно предстоящих льгот и новых возможностей выхода на свободу. Слушал жадно, с большим внутренним волнением, но с тем большим разочарованием и отчаянием возвращался в ординаторскую к своему одиночеству.
Все болтовня. Все вздор и чепуха... Ничего не будет. Но у меня появилась возможность проводить довольно большую часть вечернего времени за литературными занятиями. Из дому стали присылать еще больше, чем раньше, газет. Я и сам их много и с интересом читал, и товарищам в них не отказывал. Шпанята все лезли за бракоразводными объявлениями в поисках «заочниц», а лагерное начальство приходило и говорило: «Слушай, ты все равно газеты каждый день читаешь... У меня, понимаешь, через неделю на политзанятиях доклад об использовании целинных и залежных земель. Будь друг, подбери мне какой-нибудь материалец...» Я и подбирал. Мне это даже немного льстило, что вот-де ко мне — человеку заключенному
Обезболивающий препарат.
416
и отрешенному, которому отказано в политическом доверии, приходят партийные люди, начальники, и просят о помощи. И было очень приятно, что я им ее могу без труда оказать. Ведь значит понимают все-таки, стервецы, что к чему. Иначе, небось, не приходили бы? Ведь формально-то никто из них не имеет даже и права обращаться с подобными просьбами к заключенным. Потихоньку, небось, друг от друга приходят...
Однажды вечером, уже в темноте, прибежал надзиратель с вахты: «За вахтой лежачий больной с ОЛПа; фельдшера с носилками на вахту по распоряжению начальника ОЛПа!» Взял я носилки и санитара прихватил — паренька лет восемнадцати — «малышку», как его у нас называли: ему бы не в лагере место, а в колонии для несовершеннолетних. Он даже толком и не оделся, побежал в башмаках чуть ли не на босу ногу, во всяком случае без шнурков.
Идем мы, торопимся, а ботинки у него хлопают по утоптанному снегу. Я было хотел выругать его, а потом подумал: «Ведь это же где-то у вахты, в двух шагах, небось тут же и вернемся?»
От вахты нас послали вдоль прохода, ведшего на вахту ле- сорейда. Оттуда — вдоль забора по направлению к реке и дальше, вдоль по берегу, к сторожевой будке для обогрева часовых, находившихся не на вышках, а на земле, в секретах. Дорожка, протоптанная часовыми вдоль проволочного заграждения, представляла собственно лишь глубокий след шириной в человеческую стопу, обутую в валенок. Идти по ней с носилками очень неудобно. Мы с моим «малышкой» то и дело падали в снег. От сторожевой будки нас послали еще дальше по берегу. Тут уж даже не было и настоящего проволочного заграждения, а только протянута простая проволока, обозначавшая границу зоны, переступать которую не должны заключенные без риска получить пулю. Часовые тут притаились в сугробах. Их не было видно, впрочем и они сами мало что видели.
Мы уже прошли в общей сложности километра два, а часовой, приданный нам в сторожевой будке, все шел и шел вперед. Погода, к счастью, стояла теплая, но немного пуржило. Часовой на ходу объяснил нам, что двое пошли было в побег, их поймали и одного, видно, подстрелили. Его-то и надо отнести на носилках в сторожевую будку. Вскоре наш проводник остановился. Сначала в темноте и в кружащемся снегу ничего нельзя было разобрать. Потом я различил фигуру часового с автоматом наперевес и стоящую неподалеку от него фигуру 417
14 Лагерный дневник
человека в бушлате — заключенного. За плечами у него болтался вещевой мешок. И бушлат и вся прочая одежда, а также и заплечный мешок измазаны были чем-то белым, приобретя поэтому маскировочный вид. Рядом со стоящим человеком еще один в точно таком же наряде лежал на снегу. «Вот фельдшер пришел с носилками. Валяй, ложись на носилки», - сказал часовой, обращаясь к лежащему человеку, но тот ничего не ответил и даже не шевельнулся. Тогда мы, установив кое-как в глубоком снегу носилки, втроем перевалили на них лежачего. Он задергался и слегка застонал. Мальчишка пошел впереди, я сзади. Хотели было вместо «малышки» поставить впереди второго из беглецов, но тот наотрез отказался. Идти нам с носилками оказалось чертовски трудно. Лежавший на них человек был велик и тяжел, носилки обрывали руки, узкая и неровная тропинка не давала ходу, и мы то и дело падали. Протащив метров пятьдесят, выбились совершенно из сил и принуждены были отдыхать...
К счастью, нам на подмогу явился начальник санчасти. Он распорядился, чтобы второй конвоир помогал мне, а сам подключился к «малышке». Вчетвером, хотя идти приходилось уже по глубокому рыхлому снегу по сторонам от тропы, дело пошло быстрей.
В сторожевой будке нашего прихода дожидались начальник ОЛПа и старший оперуполномоченный. Тут можно было произвести предварительный осмотр принесенного нами человека. Никаких следов ранения на одежде обнаружить не удалось, да и по виду его трудно было поверить в то, что он ранен. Не замечалось никакой бледности, и пребывал он в полном сознании. Опер стал кричать, что он валяет дурака, — никакой раны у него нет. Мне было тоже представилось, что человек этот просто находится под впечатлением некоторого психического шока, будучи испуган раздавшимся над его головой автоматным выстрелом. Я несколько раз спрашивал, чувствует ли он где-нибудь боль. Тот сначала только таращил, ничего не отвечая, глаза, но потом сказал, что болит у него живот. Все засмеялись — небось, в штаны навалил...
Опер стал составлять акт, опрашивая конвой об обстоятельствах побега. Часовой сказал, что, заметив в пурге что-то движущееся, окликнул и, не получив ответа, выстрелил. Тогда услышал голос, на который и пошел. Один из двух заключенных лежал на животе и встать отказался...
418
Был произведен предварительный обыск. В вешевых мешках обнаружили кой-какой провиант, запас спичек и большое количество тонкой медной проволоки, видимо похищенной на рейде, которую беглецы, вероятно, рассчитывали продать. Чтобы осмотреть мешок лежащего на носилках, его пришлось перевернуть на живот, и только тогда стало заметно совсем маленькое кровяное пятнышко на ватных штанах немного пониже ягодицы. «Он все-таки, видимо, ранен в бедро?..» Опер опять отнесся к этому с недоверием. Лежащему удалось приспустить немного штаны — на нем их оказалось две пары — и на соответствующем месте обнаружилось маленькое входное отверстие автоматной пули.
Потом мы его опять чуть ли не целый час волокли на носилках в лагерь. Впереди на этот раз шел я с «малышкой», а сзади два ругательски ругавшихся конвоира. Напарника по несосто- явшемуся побегу так и не удалось заставить нести носилки. Он понимал, что ничем абсолютно не рискует: ему все равно не избежать было карцера и последующего лагерного суда за побег.
В больнице мы раненого сейчас же раздели и установили отсутствие выходного отверстия попавшей в него пули. Стало быть, она осталась в бедре? Непонятно, однако, его абсолютное нежелание пошевелить ни одним членом. Тут вспомнили о его жалобах на боли в животе. Пощупали живот и обнаружили дефанс1 - брюшина тверда, как доска. Сопоставив эти наблюдения с рассказом часового о том, что он стрелял в направлении лежавшего на снегу человека, поняли, что пуля могла пройти через бедро в таз и брюшную полость. Действительно, с помощью палатного рентгена — остаток прежней роскоши, неизвестно почему не отобранный у нас по закрытии хирургического кабинета, - обнаружили пулю в кишечнике.
Оказалось необходимо сразу же снаряжать раненого в лагерную больницу, расположенную за рекой в Печоре. Я ему для предупреждения быстрого развития перитонита вкатил одним махом 500.000 единиц пенициллина, а повез его сам начальник санчасти, возвратившийся только на следующий день. Операцию произвели еще той же ночью вполне удачно — пулю извлекли, кишки, как установили, повреждены не были.
— Там у них хорошо в больнице, не то что у нас. Все налажено как у людей. Если хотите, я могу вас туда пристроить, - 1 Патологическое напряжение мышц.
419
14*
неожиданно сказан начальник санчасти, посмотрев на меня, как мне показалось, несколько странно.
— Да вообще-то, конечно, неплохо, но кто же здесь будет работать — неужели вы с одним Тепловым (так звали нашего рецидивиста) готовы остаться?
Он мне на это ничего не ответил. Можно подумать, что предложил он мне это просто так, без всяких реальных оснований. Может быть, для того только, чтобы послушать, а что я ему на это скажу?
Однако через несколько дней стало известно, что какая-то авторитетная комиссия, на наш ОЛП даже и не заглянувшая, распорядилась категорически, чтобы 58 статья не содержалась вместе с уголовниками. Во исполнение этого нас всех - остаток 58 статьи на кожвинском ОЛПе — в ближайшее время должны отправить в Печору.
...Меня это известие, разумеется, взволновало, но не так, как прежние разговоры о возможных этапах. Во-первых, у нас тут стало очень скучно и мрачно. Слишком много осталось тяжелого в памяти, после того как ликвидировали женский ОЛП и нагнали рецидивистов. Уже по одному этому перспектива переселения, да еще в Печору — все таки город, — в какое-то место, где сосредоточена одна 58 статья, представлялась достаточно заманчивой. Кроме того, в печорском медицинском мире у меня теперь немало знакомых, что как будто бы позволяло надеяться на устройство на новом месте на медицинскую работу.
За всеми этими надеждами незаметно начался 1955 год. Почти что два года прошло со дня смерти Сталина, а много ли перемен?
Меня очень поразило, что некоторое время тому назад один сильно наклюкавшийся бандит, которого ташили с рейда прямехонько в изолятор, кричал во всю глотку волочившему его надзирателю: «сталинец, сталинец!» Господи, имя это, символ гордости и славы, успело уже стать ругательством! Стало быть, все-таки есть перемены...
Незадолго до конца года ко мне приехала на свидание жена. К этому времени у нас перед вахтой выстроили небольшой домик для свиданий заключенных с приезжающими родственниками. В домике стоял стол, пара табуреток, кровать и, что осо420
бенно трогательно, люлька для маленького ребенка. Есть, черт возьми, перемены... Жена приехала в боевом настроении. Свидание нам разрешили дважды, по двенадцать часов оба раза. Когда приступили к исполнению необходимых формальностей — проверке ее документов и тому подобное, производивший эту операцию дежурный надзиратель «Полтора Ивана» — хороший человек, хорошо меня знавший и относившийся ко мне с товарищеским уважением, сказал жене:
— Хлопотали бы вы там за мужа-то получше, эту стену прошибить нелегко...
Она рассердилась:
— Мы хлопочем, сажать вот не надо, кого не следует...
Он на это только хмыкнул и сказал:
— Дайте-ка, гражданочка, ваш паспорток.
Взяв паспорт, он повернулся к мне: «Ну, пойдем, Андреич, оформлять документы, а гражданочка тут посидит... торопиться не будем». И выйдя, он запер за собой дверь домика для свиданий на ключ. Действительно, он отнюдь не торопился, и покуда куда-то там что-то записывал да отпускал разные прибаутки, прошло не меньше получаса. Когда мы с ним вернулись в домик, жена взволнованно и негодующе заявила:
- Безобразие какое, заперли меня тут почему-то!
- А это я нарочно, гражданочка. Вот видите, полчаса посидеть взаперти — и то нехорошо, а как же вот человек несколько лет тут сидит? Хлопотать надо, хлопотать — эту стену нелегко прошибить...
— Какой неприятный субъект, — сказала она, когда надзиратель ушел.
— Да ну, что ты. Человек очень хороший. Предельно ко мне расположенный...
Она меня подбадривала. Говорила, что все дела по 58 статье в ближайшее время будут пересмотрены. Произошли уже большие перемены во внутренней политике, и надо ждать еще больших.
Я принимал все эти уверения не очень доверчиво, с крепко во мне укоренившимся за все эти годы пессимизмом. «Может, что и будет, да только, наверно, не скоро...»
Первые часы пролетели за этими разговорами, за рассказами о детях и о других семейных и дружеских делах совершенно незаметно. По прошествии же шести часов мы оба очень устали и проголодались. Я предложил сделать перерыв и постучал 421
надзирателю. Пришел опять «Полтора Ивана». Я ему объяснил, что хотел бы прервать свидание часа на два. «Хорошо, — сказал он. - Но только дежурить буду уже не я. Попросишь тогда начальника, — он имел в виду начальника режима, — чтобы тебя снова вывели сюда». Мы расстались с женой на этом.
Поев и немного отдохнув в ординаторской, я отправился снова на вахту. В надзирательской была беготня - не сошлась вечерняя поверка. Нужно начинать считать снова - ужасная канитель. «Тебе чего? - недовольно спросил начальник режима. — Свидание? Да ведь ты же ходил на свидание?» Когда же я ему объяснил, в чем дело, он только спросил: «Тебя кто выводил? Вот ты к нему и иди, он еще на ОЛПе. А мне не до тебя, у меня поверка не сходится».
Я отправился искать «Полтора Ивана».
— Вот видишь, какие осложнения, — пробурчал он. — Оно и всегда так. Ну, ладно, пойдем. — Пошли и сразу же наскочили на старшего опера.
— Ты куда это его ведешь?
- На свидание.
— Да ведь он же сегодня был на свидании!
— Свидание я прервал, товарищ старший лейтенант, его вызвали в санчасть...
— А, ну, другое дело. Заведи его поскорей...
Я от всей души поблагодарил «Полтора Ивана». Жена тоже была обеспокоена. «Что там случилось?» — обратилась она к часовому, а он говорит: «Подожди, гражданочка, тут не до тебя, у нас на ОЛПе не все в порядке». «Я уже думала, что-нибудь стряслось серьезное...» Я ей все рассказал и в особенности подчеркнул дружескую роль «Полтора Ивана»: «Вот, ты его ругала, а если бы не он, то мы бы с тобой, пожалуй, сегодня больше и не увиделись...»
Свидание это вселило в меня толику бодрости и надежды. Приятно мне было и то, что начальство, в общем, тоже принимало в нем посильно благосклонное участие. При этом не только начальство официальное, но и воровское. «Я слышал, доктор, к тебе жена приехала? - спросил меня сочувственно один из старших блатных. -- Не надо ли тебе чего? Может, денег дать — ты не стесняйся, мы это можем». Я его вполне искренно и прочувствованно поблагодарил, но от денег и от чего бы то ни было конкретного, как всегда, отказался. Все, мол, у 422
меня есть, ничего такого не надо, дай вам бог всякого добра за участие и сочувствие.
Но начавшиеся вскоре пересуды о предстоящем этапе на Печору, неизвестность сроков этого перемещения и связанные с ним разные другие неизвестности будоражили меня, волновали, огорчали и быстро заслонили собой приобретенное было во время свидания чувство некоторой надежды. Стало к тому же ясно, что все же не вся 58 статья будет отправлена. Кто-то из незаменимых останется, остаются, как поговаривали, и те, кому по тем или иным причинам предстоит скорое освобождение.
«Отошлют меня или оставят? И чему надо больше радоваться — тому ли, что ушлют, или тому, что оставят? Жизнь здесь сделалась очень нудной и мрачной. Там ждет меня какое-то место, где только одна 58-я, новые люди, может быть, интересные встречи. Но, с другой стороны, здешняя жизнь как-то наладилась и определилась, а там опять полнейшая неизвестность...»
Все эти волнения разрешились довольно быстро. Пришел нарядчик и предложил собираться на завтрашний этап на Печору. «Я тоже иду с вами», - добавил он. Ого, если самого нарядчика выгоняют, это значит, что подобрали действительно подчистую. Но, как оказалось, никто из моих, впрочем очень малочисленных и не столь близких, друзей - ни зав. камерой хранения, ни инженер — на этап не идут. Что касается нарядчика, то это был для меня человек совершенно новый, недавно откуда-то присланный северокавказец, впрочем совершенно русской внешности и культуры. Он мне было даже показался до какой-то степени интеллигентным. Последнее объясняется, конечно, только совершенным отсутствием интеллигентной среды вокруг меня, когда мало-мальски сдержанный и не матерящийся на каждом слове человек уже представляется интеллектуалом. Спасибо ему, во всяком случае, что предупредил накануне.
Я собрался без спеха, сходил вечером попрощаться с моими знакомыми. Я еще был здесь, еще не ушел, но говорили со мной, как с человеком другой планеты, другого быта и интересов. Некоторые, впрочем, утешали: «Будетлучше. Подумайте — одна 58-я. Кончится вся эта взаимная резня, проигрывание в карты, грабеж. Не будет этих забубенных молодчиков с бандитскими мордами...» — «Ну что ж, — отвечал я, — зато будет что-то 423
вроде режимного лагеря». — «Ну нет, — говорили мне, — режим- то ведь сняли...»
Действительно, ходили слухи о том, что с режимников сняли, как с каторжан, номера и уничтожили все ограничения, отличавшие их от ИТЛ. Может быть, оно было и так, но все ре- жимники остались на своих ОЛПах. С другими заключенными их, видимо, все же не смешивали...
Но о чем тут спорить — вот придем и увидим своими глазами. Реальное преимущество моего этапного положения пока только одно — впереди меня ожидало нечто новое. Будет ли оно лучше или хуже старого — эго предстояло испытать. Другого способа познания таких вещей мне не было дано...
Печора
Вышли мы рано утром, еще в полутьме. Путь как будто недолгий, всего через речку. С нашего ОЛПа в хорошую погоду видны дымки печорских печных труб. Но вес светлое время провели в пути. Шагать по торосистому льду реки трудно, двигались мы медленно и пришли туда опять уже в темноте. Дни этого времени года, правда, еще очень коротки в этих широтах. В два часа дня наступают сумерки.
Привели нас в какой-то небольшой лагерек, на другом конце города. Судя по доносившемуся лязгу буферов - где-то невдалеке от железной дороги. В лагере, как оказалось, находились люди самых разных статей и мастей. Вог тебе и раз. Значит, относительно отделения 58 статьи все оказалось блефом, и привели нас сюда по каким-то другим причинам? Никто на этот вопрос ответить не мог. Ходил, впрочем, упорный разговор о том, что сюда нас пригнали на короткое время. Но и это могло оказаться очередной «парашей».
Все заключенные этого лагпункта ходили на станцию убирать снег. Другой работы не было. Не было и санчасти. Приходила вольная сестра из санчасти какого-то более крупного лагеря. Так что волей-неволей, а назавтра я с лопатой на плече уже вышагивал по печорским улицам на линию железной дороги. Погода держалась сравнительно теплая, по ощущению — не ниже -20°. Приятно выглядели аккуратные бревенчатые домики. Некоторые обиты тесом и окрашены в веселые цвета. Я давно уже не видел ничего подобного. Мимо ходили люди, 424
так же, как и на Воркуте, не обращавшие на нас никакого внимания. Явно, что мы были тут совершенно не в диковинку.
Бригадиром нашим оказался молодой сравнительно латыш, служивший при немцах лейтенантом в каком-то местном соединении. Имя у него было немецкое, и когда я заговорил с ним по-немецки, он мне ответил на довольно чистом языке и стал тут же рассказывать о своей прежней службе. «Чудеса, — думал я. — Человек явно по доброй воле нес военную службу при немцах. Я всячески избегал и тени какого бы то ни было официального положения у немцев. И вот мы с ним в одном положении, и я у него в подчинении...»
Вообще, бригадир казался мне из терпимых, но так как наш бывший нарядчик, тоже очутившийся в этой бригаде, тыкал ему все время в нос своим недавним положением и не работал даже для вида, между ними чуть ли не с первого же дня началась перебранка, а еще через пару дней наш нарядчик, мобилизовав весь блатной словесный арсенал, кричал бригадиру, что он его уберет в два счета, что тому не жить на свете и дня. «Ты труп, паскуда, ты уже дохлый труп...»
К чести нашего бригадира, он выслушивал всю эту истерику спокойно и даже как будто бы довольно снисходительно. Во всяком случае, жаловаться по начальству он, по-моему, не ходил.
КВЧ на этом ОЛПе тоже не было. Почту получали в нарядной. Я внимательно следил за ее прибытием, и из числа прибывших вместе со мной я, кажется, единственный присутствовал при ее раздаче. Перешлют или не перешлют письма с прежнего места? Но наш кожвинский культорг-актер оказался на высоте: для нас прибыла целая куча писем, и я их получил для всех, оттуда пришедших. С пачкой писем в руках явился в барак, где помешались прибывшие с Кожвы, и торжественно их роздал, весьма поразив этим товарищей. «Ай да Андреич, вот это по- отцовски». Все они были хорошие и честные ребята, но им бы и в голову не пришло караулить письма в нарядной и получать их для кого-то еще, кроме себя самого да, может быть, еще для своего первого кореша, с которым вместе «жрешь»...
Недсличерезтринасдействительноперевеливдругоеместо— на крупный лагпункт с большим количеством всяких производственных объектов. Здесь уже имелась амбулатория и больница. Принимала нас заведующая амбулаторией. Произвела санобработку, нашла у кого-то вшей и приказала всех остричь 425
наголо. А нас уже с пол года как перестали стричь на тюремный лад. У всех отросли волосы и завелись прически. Я ей представился как фельдшер и первым подставил голову под машинку, рассчитывая этим приобрести ее расположение и привлечь к себе внимание. Она неуверенно сказала, что будет говорить о моем использовании на медработе. Ну что ж, и то хлеб. Авось что-нибудь да и получится...
На другой день нас вызывал поодиночке начальник ОЛПа и беседовал с каждым о работе. «Медработы для вас у нас пока нет», - сказал он к моему большому огорчению. «Начинается невезение», — подумал я... «Предлагаю вам работать в котельной на лесокомбинате кочегаром, — сказал он затем. — Это наиболее легкая из наших физических работ. Опять же в тепле, не снаружи». - «Ну что ж, попробуем», — поспешил согласиться я. А что было делать? Никого я туг не знаю. Из врачей, приезжавших к нам на Кожву, ни один покуда мне на глаза не попался. Посмотрим. На душе невесело, но что же делать? Я уже старый лагерник. Изучил некоторым образом превратности лагерной судьбы. Надо набираться терпения. Пройдет время, может оно как-нибудь и образуется... А пока будем присматриваться — здесь что-то все будто совсем не так, как было у нас на Кожве, как оно вообще везде, где мне приходилось бывать до сих пор.
От старожилов мы узнали, что удаление отсюда уголовников действительно произведено недавно, по распоряжению некоей московской комиссии. А случилось это вот при каких обстоятельствах: по баракам прошел опер. Объяснил, что 58 статью в большинстве осудили неправильно, что все дела будут пересмотрены — очень многих должны отпустить совсем. Когда же вслед за этими разговорами после очередной получки блатное начальство обычным порядком пошло собирать дань, его встретили табуретками. Били и гнали так, что вся главная дорожка к вахте, куда бросились удирать блатники, была красной от крови. Тут-то и появилась комиссия. К моменту нашего здесь появления на ОЛПе не осталось больше ни одного уголовника.
Очень мне интересен оказался культорг. Совершенно интеллигентный человек, с некоторой военной выправкой (был военным корреспондентом) и с довольно богатым тюремным прошлым. Но печати этого прошлого на нем совершенно не 426
было, что всякий раз особенно приятно в лагере - как будто вольного и веселого человека встретил... До войны он жил и работал в Киеве, занимая довольно крупный общественный пост. Посадили в 1938 году. Ав 1939, как сравнительно многих тогда, после ликвидации Ежова, выпустили из-под незаконченного следствия. Хотя следствие и не было закончено, однако у него уже конфисковали и растащили очень ценную библиотеку. Он жаловался безрезультатно в разные инстанции, пока наконец не дошел до самого Берия. Тот было не хотел его принимать — он добился приема. Вошел, говорит, в кабинет к человеку, сидевшему за столом с опущенной головой. «Не давая произнести мне ни слова, он, когда я еще стоял в дверях, быстро сказал: “Чего вы, собственно, добиваетесь? Те люди, которых вы обвиняете, больше не существуют. Они расстреляны. Чего вы хотите?” — “Я обвиняю не людей, а систему, государство...” Тут на меня поднялись и уставились такие глаза, что я, не сказав больше ни слова, повернулся и вышел...»
Все это звучало интересно, независимо от того, насколько оно соответствовало действительности, звучало, по крайней мере, остро и правдоподобно. И он много успел рассказать мне за несколько наших коротких встреч подобных интересных историй. Увы, его последняя послевоенная судимость дана ему по указу. «Никак не могли, — говорит, — собрать материал для 58-й, так сунули мне 15 лет по указу. А указникам не место на этом ОЛПе». Его перевели в другое место. А больше, хотя кругом и одна 58 статья, поговорить так интересно уже не с кем. Имелись, конечно, и еще кое-какие интеллигентные люди, но все пришибленные, изуродованные лагерем.
Котельная, в которую меня привели на следующий день, оказалась совсем неподалеку. Жилая и производственная зоны хотя и были разделены вахтой для контроля ухода бригад на работу и их возвращения, но ходили мы без конвоя. Уже это одно показалось приятно. Некоторая тень свободы и самостоятельности. Котельная работала круглые сутки, поэтому рабочий день был строго восьмичасовой. Успевали даже еще в это же время, подменяя друг друга, сбегать в столовую съесть мисочку супа. Это сверх той двухразовой пищи, которая выдавалась в столовой жилой зоны утром и вечером. Трехразовое питание и совершенно свободные 7-8 часов в день действовали благотворно на нас всех. Никто не чувствовал себя переутомленным, 427
настроение удерживалось ровное. Я сразу же стал довольно много писать.
***
Как мифы, города в воспоминаньях, Как музыка, их море шумовое.
Их здания встают, как мирозданья, Как звездные шатры над головою.
И в памяти моей давно обнялись
Те города, где был я или нет;
Париж во мне такая же реальность, Как улица, где прожил много лет.
И это все не кажется мне странным, Что небыль оплетает вехи были Дремучим хмелем: те, кого любил ли, В мечтах ли обнимал - мне близки равно.
И если срок еще прибудет жизни, Исчезнут разделяющие грани: Ты станешь в тесном круге самых близких, Навеки перевившихся руками.
***
Призыв паровоза так близок ночами — С таким нетерпеньем нервозным, С таким я его беспокойством встречаю, Как будто он мне адресован;
Как будто и впрямь мне пора собираться — Далеко ли, близко ли ехать?
Ах, дом и друзья как в другом государстве И смерти не ближе ли веха?..
Но все-таки я бы поехал, конечно.
Чего ж не берет меня поезд?
Как будто во сне или точно в насмешку Лишь дразнит меня его посвист...
Но вот приближается, вот нагоняет На этот раз вправду, неужто?
И вихрем неистовым обуревает, Швыряет на воздух и кружит...
428
***
Гнетет сознанье индивида Меня, как горькая обида, На все несовершенства вида —
На грубость элементов жизни, На плоть, томимую в болезни, На дух, грозящий нервным кризом;
На страх перед уделом смерти, Неподконтрольный ни поверке Ума, ни чувственной анкете;
На времени необратимость, И на любви неутолимость, Неведомой — была иль снилась.
В котельной все для меня выглядело ново и непонятно. Меня поставили к одному из четырех котлов, топившихся древесными отходами: чуркой, стружкой, всякими обрезками. Печи поглотали топливо в неимоверном количестве — только поспевай поворачиваться и подбрасывать. Всякий раз нужно не упустить момент, следя за тем, чтобы пламя в печи не сникало — от этого сразу же резко падала подача пара котлом. Я проработал у этого котла больше месяца, но так и не добился той ритмичности в загрузке печи топливом, какую наблюдал у давно работающих кочегаров. У них это получалось быстро, ловко, еще оставалось и промежуточное время, когда они сидели и почитывали газетку или перекрикивались с товарищами.
Я решил поначалу ничего не спрашивать. Думал — присмотрюсь, может быть мне кое-что и само по себе станет ясно: для чего те или другие краны, ручки, скобки и всякие другие приспособления, которых сначала казалось очень много. Действительно, через три-четыре дня мне уже почти все стало ясно, что к чему. Те же вещи, какие остались непонятными и о функциях которых пришлось спрашивать соседа, оказались действующими неправильно из-за каких-либо неполадок или поломок.
Трудно было привыкнуть к грубым большим рукавицам. Все казалось, что голыми руками я сделаю скорее и больше. Но из- за этого я натер очень быстро кровяные мозоли и понасажал заноз. За моей спиной в стене зиял большой люк, прикрываемый железной заслонкой, по ту сторону которого хотя и имелся 429
навес, но температура была наружная, то есть обычно градусов 30 мороза. А в котельной - жарко. Подымая заслонку, надо быстро забросить внутрь какое-то значительное количество топлива, не давая себе при этом простыть. Мне это не удавалось. Всякий раз после этой операции я дрожал дрожмя, и дрожь эта преследовала меня еще и в бараке по окончании работы.
Бригадиром нашим был некий украинец-власовец. Он осуществлял общее наблюдение за работой котлов и держал под контролем термометры и манометры. У меня эти приборы танцевали, естественно, больше, чем у других. Это не давало ему покоя, он бегал вокруг моего котла, причитал, ругался, подавал бесконечные советы. И даже устав бегать и усевшись на свой табурет в небольшом закутке, кричал оттуда: «Ну як, старина, горыть?» — «Горыть, горыть», — отвечал я ему в тон не без некоторой издевки. «Давай, давай пару, старина. Парок чтобы у нас был...» — «Есть давать пару...» Мой сосед, жалеючи меня, иногда вмешивался в мои действия, исправляя положение, и не упускал случая крикнуть сновавшему вокруг моей печи бригадиру: «Ну, як оно — горыть?»
Несколько уголовников среди нас все же осталось по той причине, что им за те или иные художества лагерными судами оказывалась «пришита» 58 статья.
Таким являлся, например, повар, кормивший нас супом на производстве. У него даже и физиономия выглядела совершенно специфически, так что не ошибешься. Но человек он как будто был довольно спокойный и работал честно, без фокусов...
Имелся у нас и еще один паренек, собственно он был уже далеко не паренек, но вид у него сохранялся весьма моложавый, несмотря на значительные передряги, в которые он попадал не раз из-за своих мозгов набекрень. Я не искал его и не примечал на ОЛПе. Он обратился ко мне сам за помощью, к сожалению по технической части, так что я ему ни в чем не мог быть полезен. Но мы поговорили, и он меня заинтересовал. Занимался он изобретательством. В частности, наизобретал каких-то приспособлений для извлечения леса из воды, более быстрого и дешевого, чем при помощи лесотасок. Идеи его начальство одобряло, но он не мог представить грамотной технический документации. Вот он и интересовался - в каких бы книгах найти ему то, что нужно. Уж книги-то ему пришлют...
Я его спросил о деле — за что сидит.
430
— Ox, — сказал он, - у меня не одно дело, а целых три. Осудили меня сначала совершенно несправедливо. Я делал детские воздушные шарики, которые сбывал в палатки с игрушками на базаре. Жил под Москвой, а за материалом ездил в Горький - там эта резина стоила намного дешевле. Вот меня и обвинили в спекуляции, в нетрудовых заработках и дали три года. Срок, главное, небольшой. Мне бы, дураку, его отсидеть. Но я так оскорбился несправедливостью суда, что решил убежать. Убежал как-то нагло, с ночной работы. Стреляли по мне, да я бегаю быстро. Наверно и не поймали бы, но я ведь не жулик — вернулся домой, меня и забрали тут же. Дали еще три года. Тут уж я решил, что обязательно опять убегу. При первом же случае. Вот приехала какая-то комиссия. Выстроили нас за зоной. Они формуляры смотрят, вопросы задают. «Так как же это ты убежал?» — спрашивает меня один майор. «А вот как», — говорю — да как дуну к лесу... «Стой, стой», — кричат. Куда там. Конвоиры, вместо того чтобы по мне стрелять, бросились было сначала меня догонять. И сами не стреляли, и другим, кто на месте остался, не давали — спинами своими меня загораживали. А когда одумались и подняли стрельбу, я уже был далеко. Бегу по лесу - свобода, свобода! Радость меня охватила, да не надолго. Пустились за мной с собаками. Я уж и так и сяк следы заметал, и по деревьям лазил, и через воду перебирался — все ближе и ближе собачий лай. А тут еще какая-то баба сумасшедшая увязалась за мной, бежит, не отстает. «Вот он, вот он, — орет. - Сюда, сюда»... Такая меня злоба взяла на нее. Поднял камен юг у и на бегу шибанул ее в голову. Как скосил. Поймали меня, конечно. Но тут уже, кроме трех лет за побег, дали десять лет за убийство и припаяли еще и 58-ю — вроде за саботаж...
— Ну и как же, опять бежать собираешься?
— Да убежать-то всегда можно. Нет такого места и такого положения, чтобы нельзя было убежать...
В это время дверь в барак, где мы с ним находились только вдвоем, отворилась, и к нам заглянул надзиратель, что-то, видимо, услыхавший из его последних слов, потому что он задержался в дверях, настороженно прислушиваясь к нашему разговору. Мой собеседник это сразу заметил. Не меняя тона и не делая паузы, он продолжал:
— Вот я и говорю — все эти фильмы — «Подвиг разведчика», «Трое в пустыне» и другие такие же — все на один шаблон...
431
Надзиратель, услыхав, что разговор идет о кинокартинах, потерял к нему сразу же интерес и сейчас же ретировался.
— Больше уж, наверно, не побегу, — продолжил он прежний разговор, подождав, покуда фигура надзирателя не промелькнула в окне. — Тем более что тут к нам недавно прокурор приезжал, говорил о всяких снисхождениях. Я к нему подкатился. «Ты, — говорит, — свое за побеги почти уже отсидел. 58-ю с тебя снять должны, зря ее тебе дали, безосновательно... А убийство — случайное. Десять лет за него тоже никак оставить не могут. Смотри, — говорит, — как бы в скором времени ты и на волю не выскочил». Очень он меня обнадежил...
В этом человеке меня подкупала большая любознательность. Он все время доставал всякую популярную техническую литературу и жадно ее проглатывал. И я еще думал, что если что в нем и есть из черт антисоциального порядка, так это скорее всего резкое нежелание и неумение примиряться с обстоятельствами. Протест против кажущихся или реальных несправедливостей, которых так много на нашем пути, приводил его во все более глубокое противоречие с законом. А преступного в нем, пожалуй, ничего и не было.
Начальство в конце концов все же поняло, что таких людей, как этот мой новый приятель и как наш повар на производстве, получивших 58 статью по недоразумению, но имеющих уголовные статьи, надо держать вместе с уголовниками, а не с 58 й. Им приказано было собираться. Молодой человек забежал ко мне попрощаться. Я спросил его, не жалко ли ему уходить отсюда. Он замялся: «Да, собственно, нет. Там все-таки немного повсселсе...» «Вон оно оказывается что, - подумал я, — душа-то у тебя все-таки лежит к тому народу, ты его понимаешь, и с ним тебе лучше. Жаль, жаль...»
Хотя я и начал уже привыкать к работе в котельной, но меня огорчало, что я таким образом отстаю от медицинской работы. Меня теперь к ней уже просто очень тянуло. Я написал письмо одному из врачей, работавших в санотдельской больнице, с просьбой помочь мне определиться на медработу и отправил его через спецчасть. Прошла неделя - ответа я никакого не получил. «Что такое?» — не мог я никак взять в толк. Человек этот сам обещал мне свое содействие. Человек, сколько я его себе представлял, обязательный. Уж он бы, если не сам, то через кого-нибудь дал бы мне знать о получении письма и о каких- либо перспективах. «А что ж, в конце концов, с того, что обяза432
тельный?» — подумал я вдруг. Ведь он тоже бывший зек. Спец- часть могла письмо мое просто не переправить. Да, лагерь есть лагерь, все тут делается само собой... Очень трудно как-нибудь повлиять на течение здешних вещей. Было грустно и горько. И среди этих моих размышлений вбегает дневальный спецчасти: «К нам». У меня внутри что-то упало. Неспроста... Прихожу:
— Получай обходную. Завтра в 10.00 на этап. В Москву.
— В Москву? А по какой причине?
— Это нам неизвестно... Сейчас многих вызывают, — прибавил утешительным тоном лейтенант, с которым я разговаривал.
«Вот это да». Теперь мне сразу же стало понятно, почему мне не ответил врач из больницы и почему вообще меня не брали на медработу. Очевидно, моя судьба была им известна гораздо раньше.
Я разобрал очень строго все мои вещи. В освобождение я, конечно, не верил, вернее, не допускал о нем мысли. Поэтому всю теплую лагерную одежду решил брать с собой. Получился здоровый тюк, который я запихал в матрацный мешок. Сбегал после окончания оформления обходной в котельную — попрощаться с товарищами, которые находились как раз на работе. И попал на ужасный скандал. К нам, оказывается, перевели на мое место из погрузочной бригады нашего кожвинского нарядчика. Он сейчас же сцепился с бригадиром. Поливал его отборнейшей бранью и грозился на чем свет стоит. Я попрощался, выслушал кучу всяких советов. Нс удержался и крикнул напоследок бригадиру: «А ты гляди, парок-то чтобы был...»
Амнистия 1955
Этап в Москву. Переследствие
На вахте меня и еще одного мужичка провожал сам начальник ОЛПа. Какой-то хозяйственник, также присутствовавший при отправке нашего «этапа», потребовал было, чтобы я сдал матрацный мешок. Я взмолился: «Да в чем же я повезу барахлишко-то? Ведь я же не выхожу из системы МВД? Сдам в Москве». Начальник ОЛПа махнул рукой: «Оставь». Тот проворчал что-то о разбазаривании лагерного имущества уходящими на волю... «Может быть, и вправду на волю? Дурак ты, дурак, — урезонивал я сам себя. — Вывели тебя за вахту, а ты уже и на волю собрался? Как бы не так...»
Вел нас, против всяких правил, один конвоир. Правила, впрочем, нарушались уже не первый день, и придавать этому значение тоже не следует. Но в заключении оно так: комар пролетит, а ты уже думаешь — что бы это могло означать применительно к твоей судьбе?
. Шли мы по утреннему городку, по хорошему мартовскому морозцу. Повсюду работали заключенные. И тут только мог я убедиться в том, сколько же все-таки народу меня знает. Нет- нет да откуда-нибудь — с крыши строящегося дома или из-за забора какой-нибудь производственной зоны — мне кричали: «Андреич, куда?» — «В Москву, на переследствие...» Станция. Вагонзак. Конвоир передает дежурному по вагону наши «дела», и мы внутри. Встречает в коридоре еще один молодой конвоир. Ощупывает карманы. Принимая меня за немца, спрашивает: 434
«Пан, мессер ист?» Смеюсь. «Ист, ист». И достаю из карманчика гимнастерки малюсенький - три сантиметра длины - перочинный ножичек, подарок Валентины Ивановны. Тот хочет его отобрать. На счастье, начальник конвоя, лейтенант, брезгливо говорит конвоиру: «Отдай...» Оказываемся с моим мужичком не в обычном купе, а в крайнем — трехместном. Сколько сюда понасажают, конечно, одному богу известно. Занимаю, на всякий случай, самую верхнюю вещевую полку, а мужичок — вторую. К нам на эти полки больше уже никого не подсадят. А на нижнюю можно поместить в сидячем положении и пятерых при желании. Но мы ехали какое-то время вдвоем, а в Ухте к нам подсадили еще только одного человека - матерого суку, который всю остальную дорогу говорил с ужасной ненавистью о ворах. Узнав, что я был на Кожве, он со злорадством отметил, что в этот лагерь сгоняют «всю блатную брашку со вторыми и третьими сроками».
Насколько медленным казалось мне путешествие из Буты- рок на Воркуту, с перерывами в Горьковской тюрьме и на Кировской пересылке, настолько теперь этот путь был проделан быстро и незаметно. Не успел я оглянуться — вот она и Москва. Оба мои соседа ехали дальше. Из других купе тоже, странным образом, никого не высадили. На прощание новый сосед по купе как опытный лагерник мне внушал: «На переследствии подписывайте только то, что говорит в вашу пользу. Остальное — ничего не подписывайте...»
Очутившись один в «воронке», я сел напротив двери и стал глядеть на московские улицы, по которым мы ехали. Как и не было тех пяти лет, которые я провел на севере. Все по-прежнему. Москва совершенно та же. Странное дело, не было даже чувства долгого отсутствия. Как будто я съездил куда-то ненадолго и возвращаюсь в привычную и знакомую мне до мельчайших подробностей обстановку. Точно могу сказать, где мы едем. Везут опять на Лубянку. Заезжаем, как и первый раз, с Малой Лубянки, в те же ворота. Тот же узкий внутренний двор между зданием министерства (уже переименованного в комитет) и тюрьмой. Два конвоира, сидящие передо мной в простенке, ругаются между собой на самый лагерный манер. «Как вам только не стыдно, - говорю я, — так отвратительно ругаться?» - «У вас научились», - беззаботно отвечает один. Стоп. Приехали. Дверца отворяется, и я по зыбкой лесенке спускаюсь на землю. Ко мне бросается 435
какой-то старший лейтенант и подхватывает под руки резким движением. Я невольно отшатываюсь. Что это? Я что-нибудь не так сделал? Будет сейчас крик? Но он, скорчив лицо в улыбку, мыслимую только лишь на физиономии опытного тюремщика, произносит: «Осторожней, пожалуйста, не ушибитесь...» «Здорово, — думаю я, - это, во всяком случае, ново...»
Меня определили в одиночку на втором этаже с меньшими церемониями, чем при аресте. Лицом к стене не ставили, вопросы задавали вполголоса, а не шепотом. Разрешили взять с собой в камеру книги, какие у меня были, сразу же предложили пользоваться библиотекой. Я привез с собой деньги, полученные в небольшом количестве при окончательном расчете с Пе- чорлагом, и воспользовался ларьком, благо он предлагал также и яблоки. Вскоре получил передачу, состоявшую из апельсинов и еще каких-то деликатесов, — это значило, что родственники мои знают о моем прибытии в Москву.
Вызвали меня через три-четыре дня по приезде. Следователь — майор Щеглов — сказал, что у него на контроле находится мое дело. «Вот и посмотрим, — добавил он, — отправлять вас обратно в лагерь или нет...» Прежде всего он заявил, что я назвал в свое время недостаточное количество людей, которые могли бы дать обо мне показания. «Маловато, маловато называете вы своих товарищей...» — сказал он, давая почувствовать, что ему-де ясно, почему я так поступаю. Я ответил, что фамилии многих успел забыть, а многих и не знал по фамилиям, потому что в той обстановке по понятным причинам мы не очень настаивали на фамилиях. «Если вы хотите расширить информацию, то надо бы поступить, мне кажется, так, как это делается на всем белом свете: в газетах помещают объявление, что производится следствие по делу такого-то, с просьбой все сведения и материалы направлять туда-i o. Это была бы информация, которой нельзя отказать в объективности». Подобное предложение с моей стороны прозвучало издевкой. «Мы не можем пачкать нашу печать такими объявлениями...» «Нуда, — хотелось мне ему сказать, - вы предпочитаете ее украшать сообщениями о том, что такое-то и такое-то дело оказалось чистой липой, как это, например, было с делом врачей», — но я, разумеется, удержался. Кто его знает, какие реальные перемены произошли в этом замечательном учреждении. Что можно и чего нельзя себе гут безнаказанно позволить?
Прежде всего на свет оказались снова извлеченными пока436
зания неизвестного мне человека о том, что я застрелил своими руками военнопленного. Они фигурировали и на предварительном следствии.
- Сколько мне помнится, и прежние мои следователи и прокурор констатировали полное несоответствие этих показаний моим обстоятельствам и установили, что этот свидетель меня с кем-то спутал.
— А вот и посмотрим, — сказал Щеглов, — так ли это в действительности?
И представив мне снова три фотографии, он составил протокол опознания, то есть констатировал в данном случае, что ни одно из представленных на фотографии лиц мне не известно. Видимо, когда-то подобным же образом и моя фотография предъявлялась этому свидетелю.
Затем, не знаю с насколько серьезными намерениями, Щеглов пытался убедить меня в том, что я не убил ни одного немца, имея для этого самые прекрасные возможности:
- Вот, вы сами показываете, что ездили в качестве кучера вдвоем с немцем, да еще со стариком. Ну почему вы ему вожжи на шее не закрутили и не задушили? — И он довольно картинно продемонстрировал, как это было бы просто осуществить...
- А вы себе представляете, гражданин майор, сколько военнопленных было бы отправлено на тот свет за одного этого несчастного немца?
— А это не важно, совершенно не важно, — заявил он наставительным тоном...
— Вот вы показывали, что сочиняли антисоветские стихи?
— Я этого не показывал, но так было записано в протоколе. Я не имел возможности его не подписать, но я добился того, чтобы эти стихи были в нем процитированы. Из них видно, что ничего антисоветского в них нет.
-- А почему же вы подписали? Вас что — били?
-- Бить меня не били, но круглосуточно поливали матом. Это, в известном смысле, битью не уступит.
- А вы нс протестовали против такого обращения?
- Гражданин майор, вы работали здесь в 1950 году?
-- Работал.
-- Ну, так не мне вам рассказывать, можно ли было тогда против чего-либо протестовать...
437
На допросы меня вызывали редко - раз или два в месяц, не чаще. Торопиться им было со мной, видно, некуда. А после очередного допроса, на котором мы составили протокол в отношении того, что я не имею никаких претензий к моим следователям, а ответственность за неправильное ведение следствия возлагаю всецело на тогдашнее руководство МГБ, мною стали интересоваться еще меньше.
Военная прокуратура, руководившая пересмотром дел об измене родине, очевидно допускала сначала, что я стану требовать привлечения к ответственности моих следователей и в связи с этим буду возводить на них какие-нибудь обвинения. В прокуратуру меня, однако, ни разу не вызывали и, следовательно, никакого специального интереса к моему делу с ее стороны проявлено не было.
В одиночке меня продержали недели две. Хотя у меня имелись книги, но все же одиночество начинало уже тяготить. Я допускал, что в одиночке меня могут продержать до самого окончания «переследствия», дабы исключить возможность контактов с какими-либо более опытными в юридическом отношении людьми. Первые дни пребывания на Лубянке я днем никогда не ложился на койку, памятуя режим следственных камер Бугырской тюрьмы в 1950 году. На Лубянке же, как рассказывали, режим был еще гораздо строже. Но меня, видимо, решили выручить мои надзиратели. Во всяком случае, через несколько дней после прибытия я услыхал за дверью довольно отчетливые голоса: «И скажи, ведь за целый день ни на минуту не приляжет». — «Значит выдержка, самовоспитание...» Для меня этого оказалось достаточно. Через час после этого урока, преподанного мне хоть все же и в завуалированной форме, я уже с удовольствием вытянулся на постели. Замечаний не последовало. Значит все правильно...
• Но вот мне предложили выйти с вещами и перевели в другую камеру того же этажа. Опа мало напоминала камеру — угловая комната неправильной формы, с большим двустворчатым окном на обычной высоте. Окно, конечно, с решеткой и намордником. Это уж как положено. Но свету r него проникало значительно больше, чем в обычную тюремную камеру. Вероятней всего, что комната эта в ее дореволюционном прошлом служила одиночным номером гостиницы «Россия», которую в 1918 году заняла Чрезвычайка. Коек в этой комнате — и собственно даже не коек, а почти нормальных кроватей — стояло 438
две. Я было сначала подумал, что одиночное мое заключение продолжится и здесь, не сообразив, что этому бы совершенно противоречила вторая койка. Часа через два или три после моего водворения сюда дверь отворилась и вошел молодой человек несколько нервического вида в темной одежде. Я было сначала подумал, что это кто-нибудь из служащих тюрьмы. Но недоразумение тут же рассеялось. Мы поздоровались. Речь вошедшего звучала с небольшим еврейским акцентом, чему не противоречила и его внешность. Оказался он ленинградцем. В тюрьму попал вскоре по окончании школы по обвинению в участии в террористической организации, ставившей целью покушение на Сталина. Привлечены были юноши и девушки, несколько лет перед тем, в школе, державшиеся тесной группой, — нечто вроде маленькой шайки, которая звонила по квартирам и убегала... Совершались и другие, в этом же роде, шалости. Но в составе этой группы оказался некий шизофреник, болезнь которого прогрессировала в определенном направлении. Через три года по окончании школы он обратился в законченного психопата. Одним из его пунктиков было недержание языка за зубами. Отпускаемые им замечания звучали достаточно резко и дерзко. Его арестовали, а он потащил за собой всех своих бывших школьных товарищей, которые выдавались за членов его организации, что ему, быть может, даже и льстило. Следствие велось на самом высоком уровне. Ребят страшно запугивали. Мой новый сосед признался, например, в том, что у него имелось огнестрельное оружие. Речь шла реально о совершенно перержавевшем нагане, найденном им, когда ему было четырнадцать лет, среди каких-то развалин, не убранных со времен войны. Дома, когда он принес эту вещь, ему устроили истерику, после чего он тут же и выбросил этот наган в какую- то канализационную яму...
Судила их Военная коллегия Верховного суда и приговорила «главаря» к расстрелу, а остальных к двадцати пяти годам в лагерях строгого режима.
Привезли его сюда откуда-то из Сибири. К нему незадолго перед его вызовом в Москву приезжал на свидание отец — дело неслыханное в режимном лагере. При этом свидании присутствовало все лагерное начальство, напуганное, вероятно, не меньше, чем сам счастливец-заключенный. На его вопросы нынешний следователь отвечал уклончиво, но можно было понять, 439
что все же речь идет о выходе на свободу в порядке реабилитации или, если таковая не состоится, то по амнистии.
Я ему страшно завидовал. Насколько моя судьба казалась темнее и безнадежней! Мне никто не говорил ничего подобного.
Первое время мы с соседом довольно много разговаривали, но ресурсы его памяти быстро истощились. В лагерь он попал в 1949 году, почти мальчиком. До этого учился в техникуме на электрика-монтажника. Интересы его, перед тем как с ним произошло несчастье, не шли далее танцплощадки. Лагерь дал ему многое понять в области всяких практических вещей и человеческих отношений. У него, как почти и у всех других людей этого возраста и духовного уровня, в результате лагерных университетов развилось довольно циничное отношение ко всякого рода гуманизмам. «И у других так же, — оправдывался он. — У нас в бараке жил какой-то бывший партийный работник — деревенский, конечно, но что-то вроде члена райкома. Для него высшее наслаждение составляло взлезть в бараке на стол и, топоча босыми ногами, похлопывая себя руками по грудкам, напевать:
Радива, радива, Ты нам жись изгадила...»
Соседа моего оченьопекала мамаша, приехавшая из Ленинграда и, видимо, дожидавшаяся в Москве его освобождения. Он получал от нес всяческие передачи, и два раза за то время, которое мы провели с ним вместе, — месяца два — его возили на свидание в Лефортовскую тюрьму. Когда он оттуда первый раз вернулся, то заявил: «Народу там сидит немного». — «Почему вы так думаете?» — «А по форточкам. Высаживают из воронка на внутреннем дворе, куда окна камер выходят. Там, где сидят, — форточки открыты, а где нет никого — закрыты. Больше половины форточек закрыто...»
Когда срок его пребывания на Лубянке уже подходил к концу, он стал заметно волноваться и терять самообладание. Стал со мной ссориться из-за того, что я отказывался от его угощений. «Сразу видно, какой вы товарищ. Хороший товарищ никогда воротить носа не будет... Подумаешь — профессор. Сначала и то и се, а теперь характер показывает...» Я не принимал всего этого всерьез, отмалчивался, а когда ему предложили собираться с вещами, написал ему на клочке бумаги мой до440
машний телефон и просил позвонить. Но он моей просьбы не исполнил.
На смену ему пришел паренек такого же возраста, как и этот ленинградец, но совершенно в другом роде. «Виктор, — представился он, не называя фамилии. — С Воркуты». — «Ну, земляк», — радостно ответил я ему. И зажили мы с ним в общем душа в душу.
Война его застала четырнадцатилетним мальчуганом в Донбассе. Был он с дурными наклонностями, в семье жил мало, больше крутился с ребятами блатного сорта и участвовал в мелких «делах». Когда пришли немцы, с семьей эвакуироваться не пожелал. Решил посмотреть, что это за немцы такие. И довольно скоро — уже в 1942 году — угодил в Германию. «Что ж ты там делал?» — «Да больше всего любил ездить на машинах, за грузчика. Работа там ерундовая, раз, раз — и готово, а вот покуда тебя возят, и посмотреть есть на что, и выспаться всласть можно.
Раза два бегал из лагеря - прощали, пока наконец не попал за более крупное нарушение в цухтгауз, в Австрию. Тоже лагерь, но это уже вроде наших. И оттуда убежал вместе с одним человеком. Украли парабеллум и начали заниматься грабежом. Обчистили один магазин — сигареты, шоколад — чего только не набрали. Тянем два мешка, ничего плохого не думаем, а сзади вдруг “хальт, хальт” - полиция. Ну я мешок-то свой корешу отдал - отваливай, говорю, а я буду придерживать. Те - стрелять. Я как ахну из своей пушки — куда там. Одного тут же убил. Сначала было ушел, но поймали. Посадили в строгую тюрьму с двойной решеткой — допельгиттер. Не знаю, чем бы дело кончилось, — наверно, все равно убежал бы - да тут как раз англичане освободили. Попал в Англию, в Бристоль, стал работать на литейном заводе. Я еще мальчишкой к отцу на завод бегал, пригляделся к литейному делу. Поставили к мартену еще с одним русским пареньком. Ну, мы бывало понатужимся, загрузим побыстрей печь, а потом сидим — покуриваем. Как деньги нам стали платить, мы покупали самые дорогие сигары — Черчильсигары, а англичане вопят: «Откуда они деньги берут?» Англичане, что твои немцы, — не могут спокойно видеть, как человек на работе сидит и курит, так и вьются вокруг нас — ''■жоб. жоб”... Перевели нас на другую печь, похитрей немного, а мы и там скоро приладились» — опять сидим, курим...
Стала мне эта работа надоедать. Вообще в Англии жить — ничего. Девушек охочих много. Полиция нам не мешала.
441
Гулять, говорит, гуляй, только беби делать не надо... Все равно стало надоедать. Стал я захаживать в наше консульство, домой проситься. Давали мне там задания кое-какие насчет наших — и тех, какие тут раньше жили, и каких после войны понавезли. Стали пускать в задние помещения. Видел аппаратуру. А потом — уже в 1946 году — говорят, скоро, мол, домой. Еще прошло месяца три. А потом, правда, погрузили на пароход и привезли в Ленинград. Болтался я там с месяц, не давали мне документов, а потом посадили и в Москву, на Лубянку. Говорят — будем судить, а за что — сами толком не могли объяснить. Стали меня в разные камеры подсаживать с заданиями. Я здесь все камеры знаю, во всех перебывал. Три года тут прожил, покуда меня отсюда на Воркуту не шарахнули. Режимный лагерь, бендеровцы. Вызвал опер. Говорит - мы тебе доверяем, работу твою знаем. Назначили бригадиром бендеровской бригады. Да я их не боюсь. Чуть чего, морду начистил — и в порядке. Ходил, конечно, с ножом - народ-то аховый. — Он откинул полу телогрейки, и стал виден длинный узкий чехол, подшитый с внутренней стороны борта, для большого стилета. — А в 1954 году получил я и пропуск. Выходил из лагеря и за делом и так. Опер просил домой к нему заходить. Так ведь его дома почти никогда нету, а жена одна и не отказывает... Понравилось, было, мне это дело, да вот опять сюда привезли. Теперь, говорят, правда, уже не долго...»
Чувствовал он себя в тюрьме легко. Перешучивался с надзирателями. Когда те стеснялись его признавать, так как помнили его как наседку, он успокаивал: «Все, ребята, теперь можно...»
Нервничать начинал он на прогулках, чуя весенний свежий воздух. Над зданием внутренней тюрьмы высилась труба печи, в которой сжигались подлежащие уничтожению документы, черновики протоколов и пр. Пепел, кусочки жженой бумаги попадали и на прогулочные дворики, помещавшиеся на крыше. «Краматорий», — недовольно ворчал мой Виктор.
Темы для разговоров у нас быстро исчерпались. Читать он не любил, а больше шагал из конца в конец камеры и напевал незамысловатые песенки, которых знал совсем мало:
Очи, вы, очи, карие очи, Де ж вы навчилысь так чаровать... и
Колыма ты, моя Колыма...
442
Когда ему становилось совсем скучно и тошно, он вдруг принимался шутить: «Ой, что это у вас такое, ох ты, лишенько, да что ж оно такое... Стойте, стойте, стойте», — хватал он меня за руку или за шею, когда я пытался отстраниться. А потом начинал смеяться. «Что, небось, испугались?»
Решил и я его разок припугнуть. Как-то во время очередной подобной шутки я подскочил к нему и насколько возможно свирепым голосом прошептал: «Зарежу, сука, с ходу на фиг зарежу...» Он было помрачнел, помолчал и сказал в конце концов назидательно: «Вы таких слов зря не говорите. Если дойдет до горла, тогда только скажите. Еще только покруче, позлей... а так не надо...»
Видно было, что на какую-то секунду он принял сказанное всерьез.
Вызывали его всего раза два. С последнего вызова он возвратился повеселевший и сказал: «Все. Больше вызывать не будут». Что-то, видно, стало ему известно и кроме этого, о чем он, однако, не говорил, может быть из некоторого суеверия. Примерно через неделю его вызвали с вещами.
На смену ему в камере появился небольшой лысоватый и седоватый человечек, весьма доброжелательно отрекомендовавшийся -- Михаил Исакович. Вида он был, несмотря на веселый нрав, довольно болезненного. Поскольку я заявил себя в качестве лагерного медика, он охотно стал рассказывать о своем здоровье. В Сибири перенес операцию по поводу неожиданно проявившейся и перфорировавшейся язвы желудка. С год тому назад начали болеть ноги — легкая форма эндартериита.
-- А зачем же вы курите, раз эндартериит?
— Бросаю, бросаю. Вот выйду из тюрьмы, сейчас же и брошу...
- А вы так уверены, что выйдете?
— Да, совершенно уверен. Иначе бы меня сюда не привозили. Дела-то у меня никакого нет...
- А что у вас все-таки за дело?
- Работал я сначала на заводе Сталина. Потом в Министерстве автопромышленности. Оттуда меня в один прекрасный день и взяли в 1949 году. Обвинение - разглашение государственной тайны, шпионаж и бог знает еще что. А в деле прейскурант завода Сталина, к которому я действительно имел некоторое отношение. Да там-то ведь придраться не к чему.
443
Прейскурант ведь, а не чертежи новых типов машин. Даже следователь мой чувствовал себя неловко. Все предлагал мне признаваться, но поскольку толком сам не знал, в чем, собственно, должен я признаваться, то больше вздыхал, подымал руки кверху и восклицал: «Нет, что же это будет, ведь который месяц сидим — придут, спросят: “Ну, что вы все это время делали?” А мы что скажем? Нет, не погладят, ох не погладят нас по головке...»
Составлялись какие-то довольно бессодержательные протоколы. Сидел я так больше года. Потом следователь мой стал волноваться еще больше: «Нет, ты понимаешь, ведь судить-то тебя будет Военная коллегия Верховного суда...» — «Военная коллегия?» - «А ты думал как? Ведь это не игрушки. Что ты там говорить будешь? Ведь это тебе не районный суд. Там ведь и к расстрелу приговорить могут». — «Да за что же меня к расстрелу?» Тот только досадливо махал рукой. Не понимает, мол, человек. Никак не хочет понять...
Дали мне двадцать пять лет с поражением в правах и с высылкой на пять лет. Привезли в Тайшет и посадили в лагерный изолятор. Три месяцавлагерь не выпускали — думали, какой-то невероятный преступник к ним заявился, такого, мол, еще не видали. Все бы ничего, если бы не здоровье. Не чаял вернуться. Но сейчас по ходу следствия чувствую, что буду реабилитирован полностью.
- Какое все-таки возмутительное безобразие. Вот так с серьезным видом засудить человека в Верховном суде. Ведь там же не последние остолопы сидят? Ведь, видно, и их в таком страхе держали, что они каждого, кого им отсюда ни приводили, неукоснительно осуждали, — никаким разбирательством и не занимались. Вот и набили полные лагеря невинными людьми...
— Э, нет, вы так не говорите. Откуда мы это знаем? Обобщать не надо. Что мы знаем? Я знаю, что я не виноват, вы знаете, что вы не виноваты. А больше этого брать на себя не следует... Кажется, обед несут, - менял он не без удовольствия тему разговора. — Вот мы его сейчас и оформим.
Следователь мой сказал, что мне будет дана очная ставка с единственным свидетелем по моему делу Д.А.Мячиковым. Меня это известие взволновало. Неужели они заставят этого человека — для меня со временем стало несомненным, что он 444
давал обо мне показания, уже будучи агентом МГБ, — неужели они заставят его возводить на меня еще какие-то поклепы?
— Вы что, склонны опровергать показания Мячикова?
— Они сами, мне кажется, себя опровергают.
— Чем же это?
- Теми противоречиями, которые в них содержатся.
— А именно?
— Он, например, показывает, что я занимался вербовкой во Власовскую армию. Но Власовская армия возникла в 1942 году. А из показаний Мячикова видно, что мы расстались с ним еще в 1941 году. Откуда же он мог знать, занимался я или не занимался вербовкой?
— Какое же это противоречие? Мячиков продолжает настаивать на своих показаниях. У него нет противоречий. Вот у Ларина действительно противоречия — он от своих показаний отказывается...
Но тут он замялся и замолчал, сообразив, очевидно, что сболтнул лишнее.
Из этого я понял две вещи. Во-первых, что Ларин жив и что он отказывается от тех показаний, которые дал когда-то, быть может, под сильным нажимом. Кроме того, мне стало ясно, что мой уважаемый следователь не понимает, что такое противоречие и что, следовательно, доказывать ему что-либо в этом отношении довольно-таки бесполезно.
В следовательском кабинете сидели, кроме моего следователя, еще один моложавый человек, которого я однажды видел недолгое время присутствовавшим на моем допросе, — я решил почему-то, что это представитель прокуратуры, - и мой Мячиков, необыкновенно постаревший и сморщенный. К моему удивлению, «прокурор» стал вести с Мячиковым весьма фривольные разговоры о том, например, сколько он на оккупированной территории баб переимел. А Мячиков ему в тон отвечал, что он-де и сейчас не против... Видя мою недовольную физиономию, следователь постарался прекратить эту болтовню и приступил к допросу Мячикова. О вербовке его вообще не спрашивали. Видимо, следователь, хотя и не нашел в его показаниях «противоречия», но понял, что тот городил вздор.
— Получал заключенный у немцев солдатский паек?
- Да, да, получал, получал...
— А вы что скажете?
445
— Солдатского пайка я никогда не получаи, а в это время вообще не получал никакого пайка. Мячиков, вероятно, имеет в виду что-либо съестное, перепадавшее мне от отдельных немцев.
— Шоколад он получал?
— Да, да. Получал, получал.
— Разрешите вопрос к свидетелю?
— Пожалуйста.
— Как он выглядел, этот шоколад, сколько его было?
— Вот такой маленький кусочек... — И Мячиков по-детски сдвинул два указательных пальца. Я остался этим очень доволен.
Потом его спросили, каковы были мои политические настроения.
— Он всегда был антисоветски настроен.
— Разрешите вопрос к свидетелю?
— А что вы у него хотите спросить?
— В чем именно заключались мои антисоветские настроения?
— Ну, этого он может и не помнить. Речь идет об общей оценке ваших настроений.
— Простите, конечно, дело давнее и память может изменить. Мне кажется, однако, что если выдвигается какое-то обвинение, что-то в отношении меня утверждается, то это должно же как-то быть мотивировано?.. Но если это невозможно, то разрешите в таком случае другой вопрос.
— В чем он заключается?
— Почему Мячиков, если он считал меня антисоветским человеком, так стремился поддерживать со мной товарищеские отношения, приходил ко мне домой, приглашал к себе?
— То есть это уже после плена?
— Да, после плена.
— Ответьте, свидетель.
— Так ведь мне же было поручено... мне же нужно было узнать поточней его политические убеждения...
— Я прошу особо подчеркнуть в протоколе, что свидетелю почему-то нужно было узнать мои политические убеждения.
— Он этого не говорил.
446
— Ну как же это не говорил? Он только что сказал об этом совершенно недвусмысленно.
- Да не говорил он ничего подобного.
Тут вступил ранее молчавший после разговоров о женщинах моложавый человек.
- Нет, это вы, ей-богу, напрасно. Я тоже вот ничего такого не слыхал, просто вам почудилось, уверяю вас...
— Можете меня не уверять. Я только не понимаю, что именно заставляет вас цепляться за неправду? — Боже, что тут произошло. Моложавый субъект вспылил, принялся на меня кричать совершенно в стиле эмгэбэшных допросов:
— Как вы смеете меня подозревать во лжи? Я лучше вас знаю, что правда, а что нет, да я вас...
— Постой, постой, — забеспокоился мой следователь. — Прошу всех успокоиться. Мы такого ничего не слыхали.
— Мне странно от представителя прокуратуры... - начал было я.
- Это не представитель прокуратуры, это следователь...
- Ах, вот оно что, - разочарованно сказал я. - Приношу свои извинения, я никого не хотел обидеть, но прошу вас сообщить начальнику следственного отдела о том, что я хотел бы попасть к нему на прием.
- Это по какому же поводу?
— Вот по поводу того, что я слышал нечто такое, чего вы не слышали и что буду все-таки просить запротоколировать.
— А для чего это нужно?
— На всякий случай. Я ведь не знаю ваших намерений. Мне кажется, что это заявление Мячикова, которое я слышал, подтверждает мое предположение о том, что он являлся агентурным работником МГБ. Сотрудники сыскных учреждений не могут быть свидетелями по делам тех лиц, наблюдение за которыми им поручено.
Следователь нерешительно покачал головой, потом сказал:
— Хорошо, я передам вашу просьбу. После этого он о чем-то некоторое время говорил с Мячиковым, довольно настойчиво что-то ему внушая, но так, что я ничего не мог услышать.
Меня тронул за плечо вертухай. Очная ставка была закончена. Я попытался встать, но закачался. Тогда в дверях меня подхватил под руку другой надзиратель. Они вели меня по
447
коридору и ругали моих следователей: «Столько времени мучить человека! Да они и права такого теперь не имеют — двенадцать часов подряд...» «Неужели двенадцать часов? — подумал я. — Да, это совершенно в стиле прежних допросов». Но время пробежало для меня совершенно незаметно, и усталость я почувствовал только теперь.
Я долго ходил по камере. На столе стояли мои холодные обед и ужин, к которым я в тот день не притронулся. Сосед мой проявил искреннее беспокойство по поводу моего состояния. Он стал меня подробно расспрашивать и об этой очной ставке, и о моем деле вообще. Потом поинтересовался тем, что я писал по поводу моего дела в прокуратуру и другие места. Рассказал я ему и это. «Знаете, вы недостаточно и неправильно писали. Не тем языком и не с теми ударениями. Завтра мы с вами займемся всем этим...»
На следующий день он много внушал мне в отношении тона — вплоть до отдельных выражений, — в каком должно звучать мое новое заявление в прокуратуру. «Вы должны его написать именно теперь, после всего, что происходило на пере- следствии».
Я и сам, перебрав в уме многие обстоятельства, решил, что действительно многого не сказал вообще, а то, что сказал, — говорил невыразительно и скороговоркой.
После очной ставки у меня что-то произошло то ли с сердцем, толи с нервами. Я почувствовал, что наступил какой-то кризис, какое-то необратимое ослабление чего-то такого внутри.
При следующем вызове в кабинет следователя вошел человек небольшого роста, державшийся несколько пренебрежительно.
— Что у вас там такое получилось во время очной ставки?
Я ему объяснил.
- Почему вы придаете этому такое значение? Агентурные работники, как и всякие другие работники, могут давать свидетельские показания.
— Вряд ли по тому делу, для которого они собирают сведения?
— По любому делу.
— В таком случае какое-то особое значение придаете всему этому именно вы, отказываясь внести в протокол слышанное 448
мной заявление свидетеля. Кроме того, меня удивляет, что вы не вызвали на эту очную ставку работника прокуратуры...
- Ну вот еще. Вызови мы его, вы бы, наверно, сказали, что мы вам не того прокурора подсунули.
Он помолчал. Потом, обращаясь к следователю, сказал безразличным тоном, скороговоркой: «Ладно, ты там составь протокольчик». Сделав еще несколько замечаний по поводу моей дотошности и придирчивости, он вышел.
—Да, так что же вы там такое слышали, чего мы не слыхали? — обратился ко мне, хотя и с улыбкой, но усталым и недовольным голосом следователь...
— Эх, все это, наверно, действительно ни к чему...
— Э, нет, раз заварили кашу, надо ее доесть, теперь уже отступать некуда...
Протокол был составлен. И опять я почувствовал, что все- таки совсем не те времена. Слыханное ли дело, чтобы в протокол заносили что-либо нежелательное для следственных органов и по настоянию подследственного?
Настроение у меня ото дня ко дню менялось. Во всяком случае, для меня все тяжелее и огорчительнее становилась мысль о возможности возвращения в лагерь, с одной стороны, с другой же, пребывание на Лубянке день ото дня становилось невыносимее. Трудно даже сказать почему. Это сидение не могло, разумеется, идти ни в какое сравнение с моим первым сидением в Бутырках — у меня ведь тут все было, что только душе угодно: разнообразная и обильная еда, сравнительно много духовной пищи, никакого режима, довольно приятное и разнообразное общество...
И вот представьте, никогда еще заключение не казалось мне таким гнетуще-невыносимым, как здесь на Лубянке. Аощуща- лось это так, конечно, именно потому, что тут мы не испытывали, в сущности, почти никаких лишений и пребывали в изобилии силы и времени, настроенные на всяческие внугренние муки и тоску. Наши надзиратели возмущались: «Дом отдыха им тут настоящий устроили, а они все недовольные. И чего только еще людям надо?»
Очередной мой вызов к следователю протекал как-то необычно. Он почему-то оставил меня сидеть за моим столиком возле двери, а сам занимался какими-то другими делами. Звонил куда-то на какие-то заводы и в учреждения. Собирал какие- то данные для других, находившихся в его руках дел. Всякий 449
раз разговор начинался с одного и того же: «Вот у вас работал такой-то человек. В таком-то году его репрессировали. Можете ли вы представить какие-либо данные о его работе и поведении в те годы?» Слышно, что на другом конце провода начинается отнекивание — нету никого, кто бы с ним вместе работал, кто бы помнил все эти обстоятельства... «Действительно ли нету? - настаивает мой следователь. — Вы подумайте хорошенько — дело ведь идет о судьбе человека — нам надо решить, можно или нельзя его реабилитировать?»
Потом ему звонили какие-то люди. «А, здравствуйте, здравствуйте. Так, стало быть, вы уже приехали? Очень, очень хорошо. Да, вам надо будет явиться, обязательно надо... А деньги вы уже получили? Нет? Ну, как же так, вам причитается, получите, получите...»
Потом раздался звонок с каким-то коротким уведомлением о чем-то, после которого он позвонил сам и просил проводить к нему в кабинет свидетельницу, ожидающую на таком-то подъезде. Через несколько минут вошла моя жена, с которой мы проговорили с полчаса или, может быть, немного больше. Говорить при следователе было неприятно, но она стеснялась его, в общем, мало, очень утешала меня — говорила, что сидеть мне остается недолго — уже объявлена амнистия, под которую меня, вероятно, и подведут...
Когда она вышла, следователь стал что-то писать и потом подал этот листок мне. Это оказался очень коротенький протокол моей очной ставки с женой. Я его тотчас же подписал.
— Фу, черт, что же мы с вами делаем? Я пишу чепуху, а вы ее подписываете?
— То есть какую же чепуху?
— Да насчет очной ставки. Ведь это же было свидание.
— Я решил, что вы оформляете мое свидание как очную ставку, тем более что вы говорили вашему сотруднику, что идет свидетельница.
— Я сказал это человеку, которому совершенно не обязательно знать, кто сюда идет...
Несколько дней я жил теми надеждами, какие вселила в меня жена. Но они постепенно слабели и рассеивались. Я продолжал сидеть. И если моему соседу по камере нет-нет да и давали понять, что его дело должно быть вскоре закончено его реабилитацией, то я ничего подобного от моего следовате450
ля не слышал. Более того, он время от времени говорил, что те материалы, которые он подготовляет, поступят на рассмотрение некоей комиссии, которая, как можно было думать, заменяет уничтоженное ОСО. Так что судьба моя представлялась мне достаточно темной. Особенно я загрустил именно тогда, когда увели с вещами соседа. «Вот, — думал я, — пошел человек на свободу, вот он уже, вероятно, и дома... Что же будет со мной и когда оно все это будет? Ведь я сижу уже больше полугода. Почему? Ведь любое дело по обычным юридическим нормам должно быть рассмотрено (или пересмотрено) на протяжении трех месяцев...»
Тяжелое впечатление произвели на меня и мои новые соседи. В камеру один за другим вошли два человека. Первый оказался молодым фотографом, привезенным из Сибири. Он «проходил» по какому-то делу о политическом терроре (все та же фатальная подготовка покушения на Сталина). Держался он весело, оживленно и говорил, что ему уже прямо заявлено о его полной реабилитации ввиду совершенной несостоятельности его дела.
После того как мы обменялись сведениями о наших обстоятельствах, разговаривать мне с ним оказалось вдруг совершенно не о чем. Он и о лагерной-то своей жизни ничего путного сообщить не мог. Как-то он этого ничего не почувствовал и не вкусил. Правда, что он был сравнительно очень позднего набора — посадили его чуть ли не в 1952 году, и просидел он совсем недолго... Через несколько дней, однако, наш тет-а-тет нарушило появление третьего лица. Человек этот произвел на меня сразу же очень мрачное и отталкивающее впечатление. Взволновало меня и озадачило в особенности еще и то, что это оказался не привезенный из лагеря, а лишь недавно арестованный человек, обвинявшийся в недавно совершенном политическом преступлении. Каком именно — это оказалось не так-то легко из него выудить. Человек он был во всех отношениях маленький, да еще какой-то весь внутренне и физически сжавшийся в кулак, точно приготовившийся к отражению удара. Был он очень черняв, морщинист, с прищуренными глазами, над которыми нависали кудлатые брови. Говорил он вообще неохотно, хотя очень внимательно слушал все то, что говорилось вокруг него. Вопросов он никаких никому не задавал и, только прислушавшись к какому-то моему рассказу об обстоятельствах военного времени в Германии, более утвердительно, чем вопросительно, изрек:
451
— В плену, стало быть, побывали? Небось попользовались? — Он злорадно засмеялся.
— Чем, собственно, попользовался?
- Ну так, вообще... — И он сделал широкий жест. — Раз уж язык знали, стало быть и попользовались, против своих, конечно...
Я не стал ему возражать, а он, в свою очередь, больше ни на чем не настаивал.
Когда его спрашивали о деле, он принимал таинственный вид, становился еще более замкнут. В глазах его светилась подозрительность и сознание того, что его не спровоцируешь. «Рано еще говорить, допросы идут...»
В особенности подозрительно и опасливо смотрел этот человек на карандаш в моих руках и на исписанную мною бумагу. Тем более что писал я на оберточной бумаге, в которой приносили передачу. Тщательно ее разглаживал и разрывал на ровные, подобные листам писчей бумаги, кусочки.
— Это что же, вам писать разве разрешают?
— Как видите. Если бы не разрешали, откуда бы у меня карандаш взялся? Да и видно ведь через глазок-то, чем я тут занимаюсь, как вы думаете?
— А бумаги вам почему не дают?
— Да вот не допросишься, как-то это у них там не согласовано. Впрочем, мне под карандаш и эта годится... — Он недоверчиво на меня косился.
— Я бы не разрешил вам писать, — сказал он вдруг, и голос его приобрел свистящий оттенок.
— Вот и хорошо, значит, что не в ваших руках это дело. Писать-то все-таки лучше, чем не писать.
— Мало ли вы чего напишете?
— А вы бы почитали, я ведь не помешал бы... — Он испуганно от меня отстранился — еще, мол, втянешь и меня в историю.
Он, видимо, был совершенно убежден в том, что разрешение писать получено мною в порядке какого-то временного недоразумения, так это для меня не пройдет, все станет на свое место. Когда я вызывал надзирателя, протягивал ему иступившийся карандаш и просил очинить его, он вскакивал тотчас же со своей койки и оказывался за моей спиной, приглядываясь выжидающе, чем это кончится. Кончалось, к его разочарова452
нию, одним и тем же — я получал очиненный карандаш. В конце концов я его сильно исписал и стал протягивать надзирателю небольшой уже огрызок. И тогда он однажды, без всякой моей просьбы, вместо огрызка протянул мне новый, почти не использованный карандаш, да еще отделанный снаружи под перламутр. Черный человечек вытаращил глаза. Он был так поражен этим, что не произнес ни слова. «Вот спасибо», — сказал я надзирателю, а тот даже еще и улыбнулся в ответ.
Подозрительного человечка преследовали галлюцинации. Сидя спокойно на своей койке, он вдруг начинал говорить громко и наставительно: «Да, да, слышу, слышу вас, Евдокия Ивановна. Не беспокойтесь, пожалуйста, не волнуйтесь... Ну, а я что могу сделать? Глупостей только не говорите...»
Другой раз он подходил к двери и, приложив рот к глазку, свистящим шепотом начинал: «Гражданин подполковник, гражданин подполковник, гражданин подполковник... я никогда не писал и никогда не буду писать никаких антисоветских заявлений... Слышите вы меня? Никогда не писал и никогда не буду...»
Дверь в таких случаях внезапно отворялась, и дежурный надзиратель говорил ему резко: «Отойдите от двери!» Он поднимал руки, как бы заслоняясь от удара, и медленно отходил в сторону.
Я как-то спросил его, московский ли он житель. «Ну конечно, — с гордостью ответил он мне, — разве не видно этого?» - «А где вы жили в Москве?» Он поморщился. Ему, видно, не понравилось, что я говорил об этом в прошедшем времени. «Жили... Я живу на Большой Лубянке, на улице товарища Дзержинского». — «О, стало быть совсем близко отсюда?» Он довольно осклабился: «Камень докинуть можно...»
Я невольно подумал, что он, вероятнее всего, был сотрудником того самого учреждения, в котором теперь сидит. Откуда бы в начале Большой Лубянки, где все здания заняты учреждениями МГБ, могли бы жить посторонние люди? Их бы не потерпели в таком непосредственном соседстве. Слишком уж много они могли бы видеть. Облик его вполне соответствовал подобному предположению. И хотя в тюрьме обостренное суеверие лишает чувства злорадства даже матерых бандитов, я поймал себя на мысли, что так, мол, ему и надо. Небось, сам сажал или караулил сидевших уже взаперти людей - пусть-ка теперь сам посидит да почувствует, чего это стоит...
453
Ожидание решения. Освобождение
В сентябре, после месячного перерыва, меня вызвал следователь и сказал, что делает это в последний раз.
— Просмотрите еще раз все протоколы, подписанные вами, — все ли там правильно. Я передаю материалы вашего дела в Военную прокуратуру, после чего вы будете ждать решения.
— Долго ли мне его придется ждать?
- Этого я не знаю.
Увидев на моем лице скептическую гримасу, он сказал:
— Думаю, что не больше месяцев трех...
Еще три месяца. Как это ужасно. Сидение без дела, без каких- либо реальных представлений о том, что тебя ждет, становилось совершенно невыносимым.
Я бегло просматривал протоколы. Какая все чепуха и белиберда. В кармане у меня — черновик того заявления по поводу моего дела, которое мы составляли вместе с прежним моим соседом — автозаводцем.
Я обратился к следователю:
- Все тут, конечно, как оно, видимо, и должно выглядеть, но мне представляется, что эти материалы отражают очень мало те реальные факты, которые характеризуют мое пребывание в плену, с одной стороны, и обстоятельства моего следственного дела в МГБ, с другой. Вот я приготовил довольно пространное заявление по всем этим вопросам. Я попрошу у вас бумаги для того, чтобы это переписать. -- Он явно остался недоволен.
— Много ли вам потребуется на это времени?
— Точно не знаю. Полагаю, что не больше часов полуторадвух.
- Ого!
— Но вы же говорите, что передаете дело в прокуратуру? Стало быть, это последняя возможность для меня присовокупить к этим материалам хоть что-то со своей стороны?
— Ладно, пишите. — Он бросил мне на стол несколько чистых листочков, посмотрел на часы и принялся ходить взад и вперед по кабинету, выказывая этим свое нетерпение.
Я принялся писать. Меня несколько нервировало это хождение его над душой, но я старался держать себя в руках, не обращать на него внимания и никак не жертвовать обстоя454
тельностью изложения. Я писал о перипетиях моей военной и пленной жизни, о моей действительной деятельности в качестве переводчика в лагерях военнопленных, о моей деятельности в последние месяцы войны...
Я писал о ходе следствия, о весьма недостаточном соответствии его материалов реальным данным, о грубости, бессодержательности и тенденциозности протоколов. Наконец, я обрисовал физиономию моего единственного «свидетеля» в том свете, в каком он предстал для меня окончательно после недавней очной ставки.
Следователь все более нервно и часто поглядывал на часы.
— Скоро кончу, не волнуйтесь. Я больше ждал подобной возможности...
— Пишите, пишите...
Когда я ему передал написанное, он взял все это даже не глядя, присоединил к протоколам и сейчас же вызвал надзирателя, чтобы тот меня увел. Попрощался бегло, холодно.
Я вернулся в камеру опустошенный и внутренне разочарованный. «Ну вот, ты написал это все, а что это тебе даст? Будет ли это хоть кто-нибудь вообще читать? И разве нет по твоему делу показаний, которые свидетельствовали бы в твою пользу? Вероятно, их немало, но где они? В материалах дела они не только не фигурируют, но даже не упоминаются. Что-то изменилось в способах ведения следствия, но принципы остались прежние: учитываются только обвиняющие человека данные. Прочие не принимаются во внимание...»
Пошли дни, недели и месяцы тоскливого ожидания. Я старался писать, читал английские романы, которых оказалось некоторое количество в здешней библиотеке.
Английское и греческое чтение в другое время, где-нибудь в лагере, было бы для меня наслаждением. А тут я был очень утомлен и очень отвлечен настырными мыслями и волнениями о своей судьбе куда-то совсем от этого прочь. Очень мало общался с соседями. Да и они между собой тоже мало общались. Очень уж неподходящие друг для друга люди. Молодость и жизнерадостность фотографа проявлялась в том, что он почти всегда напевал что-нибудь и вприпрыжку бегал взад-вперед по камере.
Постепенно выяснились обстоятельства дела «черного человечка», как я прозвал про себя нашего «свежего» соседа.
455
Как-то он пришел с допроса довольно взволнованный и через несколько минут принялся разговаривать с Евдокией Ивановной. Из этого разговора сделалось ясно, что ему инкриминируется сочинение какого-то пасквиля или какого-то ложного доноса, написанного его почерком, отпечаток черновика которого на чистом листе бумаги нашли у него при обыске.
Он начисто отрицал, что это писано им, и говорил, что злосчастный лист бумаги — да мало ли каким путем мог попасть к нему. «И почерк не мой, ничем не докажете, ничем... не мой это почерк...»
«В общем дело-то у него ерундовское, - подумал я. — Может быть, именно потому, что следственный отдел предрешил его исход в том смысле, что предвидел прекращение дела за недоказанностью обвинения; именно это обстоятельство, может быть, и послужило причиной того, что этого человека поместили к нам в камеру, в которой сидели люди, предназначенные к выпуску на волю. К выпуску, к выпуску... Как бы не так. Вот увидишь, этого психопата действительно выпустят, а тебя снова “подымут” на Воркуту».
Ох, какой ужас это бессмысленное времяпрепровождение, эта чертовская неизвестность... Раз в две недели передача из дома — апельсины, яблоки... Если бы они знали, до чего все это не лезет в рот. Ежедневные получасовые прогулки по все более холодному и сырому воздуху. «Привезли меня сюда еще зимой и увезут снова в зиму, — думал я с горечью. — Снова почти что год в тюрьме, и как бессмысленно. В лагере все-таки время это прошло бы, может статься, не так разрушительно для нервов. И этот чертов “черный человечек”... “Ну чего вам, чего вам, Евдокия Ивановна? Знаю, знаю... Не беспокойтесь, я все знаю. Не волнуйтесь, пожалуйста не волнуйтесь, Евдокия Ивановна, главное — виду не подавайте”.
И так каждый день. Эти его разговоры мне надоели до чертиков. Господи, когда это, наконец, кончится? Так или иначе, так или иначе...» Особенно меня огорчало то, что мне уже и надеяться не приходилось ни на какие вызовы, на какое-то ощутимое для меня движение моего дела.
Записаться на прием к прокурору? Я знал, что это возможно в принципе. Мне об этом сказал еще мой первый сосед по камере. По его прибытии в Москву его посетил представитель прокуратуры по собственной инициативе и дал ему попять, что если он будет недоволен ходом следствия, то можно записаться на прием 456
к военному прокурору и изложить ему свои жалобы. Жалоб-то у меня, собственно, не было. Но, может быть, из него можно будет хоть что-нибудь вытянуть в отношении возможного характера ожидаемого мною решения и относительно его вероятных сроков? «Запишемся-ка к прокурору, - решил я. - Чем мы, собственно, рискуем? Ну, в крайнем случае, не примет да и только».
Я постучал в дверь и сказал надзирателю, что хочу написать заявление военному прокурору. Меня через несколько минут вывели из камеры и препроводили в тот самый или в совершенно такой же самый бокс, со столиком у стены в дальнем углу и с небольшой лавочкой перед ним вдоль той же стены, в который я попал в ночь моего ареста. Вполне возможно, что это был именно тот самый бокс — уж очень он соответствовал моим воспоминаниям. Этаж был тот же, да и одна из уборных тоже в точности мне напоминала ту, в которую меня дважды водили из этого самого бокса. Я не мог не подумать о том, что вот возвращаюсь-таки на свои же собственные следы...
Я написал короткое заявление в военную прокуратуру с просьбой принять меня по вопросам, связанным с пересмотром моего дела. Недели через полторы меня повели на пятый этаж в небольшую комнату, где сидел человек с полковничьими погонами, назвавшийся представителем прокуратуры. Я спросил его, каков, по его мнению, может быть дальнейший ход моего дела.
— Этого я не знаю, — ответил прокурор. — Мне представляется, однако, что в вашем деле имеются известные темные места...
— Что вы, собственно, имеете в виду?
— Да вот, вы антисоветские стихи писали...
— А что вы находите антисоветского в моих стихах?
— Да я этого точно не знаю, я и дела-то вашего не знаю, но таково было, кажется, и ваше собственное признание?
- Подобных признаний я, разумеется, никогда не делал, а если такое впечатление производят протоколы моего дела, то не мне вам теперь рассказывать, как эти протоколы фабриковались...
— Да, это все я, конечно, понимаю и повторяю — я ведь, собственно, не знаю вашего дела, я им не занимался...
Мне хотелось его спросить, почему же он тогда с такой легкостью повторяет необоснованные обвинения относительно 457
антисоветской направленности моих стихов. Я, однако, воздержался. Толку от такого заявления было бы для меня немного. Вместо этого я спросил его, как долго, по его мнению, может этот пересмотр продолжаться.
- Точно тоже вам не могу сказать, но это вопрос нескольких месяцев.
На этом мы с ним и расстались. Покуда мы так говорили, у меня имелась возможность поглядеть на довольно большой кусок Москвы. Окна кабинета выходили на улицу, в сторону Малой Лубянки и Ильинки, куда окна следовательских кабинетов никогда не выходят. Из них, кроме внутреннего тюремного двора, ничего не видно...
Я понял, что не остается ничего другого, как ждать и ждать. Набираться терпения...
Я стал много ходить по камере, так что ноги у меня начинали гореть от этого бессмысленного и однообразного движения. С остервенением писал и переводил. Хотя на разговоры с соседями время у меня почти не уходило, но работать становилось все труднее — мучила мысль, а какой во всем этом смысл? Раньше я на этот счет почему-то даже и не задумывался, меня вполне удовлетворял самый процесс писания и хода мыслей.
Постепенно снаружи все более холодало. Гуляли под мокрым снегом. Ноги скользили иногда по тонкому ледку, а под башмаками хрустел иней. Пришлось выписать из кладовки бушлат. В одной телогрейке стало холодновато даже и во время получасовой прогулки.
А дни шли и шли. Однообразие их нарушалось хождением в баню раз в десять дней, бритьем, которое теперь производилось уже не машинкой и даже не безопаской, а маленькой и зверски тупой, но все же настоящей бритвой. Да еще передачами... И вот однажды со словами «Вам передача» ко мне на койку положили целый мешок, в котором оказалась старая меховая куртка одного из родственников, какие-то мои старые брюки, башмаки, шапка-ушанка. Меня затрясло от неожиданности и от тревожного сознания, что вот он — конец моего Лубянского сидения.
Но что мне хотели сказать этой передачей мои родные? Им, очевидно, сообщили, что следствие по моему делу снова закончено. И они, в ожидании решения и во избежание неожиданного моего увоза, передали мне эти вещи, чтобы я их мог увез458
ти с собой, если меня вдруг возьмут и снова ушлют в лагерь. Может быть, это именно так и было, как мне подсказывает возбужденно-встревоженное сознание? Как бы оно ни было, теперь уже, надо полагать, скоро все выяснится.
Прошло после этого еще денька два. Во время прогулки, которая только еще началась, отворилась вдруг дверца дворика и прозвучала моя фамилия. Все во мне разом упало. Упало и привскочило... «Пройдите». Привели в камеру. «Соберитесь с вещами». Вот оно...
Привели в то самое помещение, где мне месяцев девять тому назад произвели последний шмон. Вошел сотрудник камеры хранения со всеми моими вещами, забранными тогда у меня. Я принялся лихорадочно укладывать все это, суя в мешок грязные портянки, какие-то тряпки. «Да выкиньте вы все, что не нужно. На волю ведь идете...» — «Вы думаете?» — «Не думаю, а точно...»
Никакой перемены настроения во мне эти слова почему-то не произвели. Та же дрожь внутри, то же лихорадочное состояние. Но тряпки я стал безжалостно выкидывать. «И укладывать погодите. Просмотреть придется то, что возьмете с собой...»
При этом просмотре он отложил в сторону, а потом и унес прочь все рукописи. «Куда вы их забираете?» - «Насчет этого будете говорить с начальником тюрьмы, когда он вас вызовет».
Меня повели по коридорам, потом завели в какую-то комнату, в которой на полулежал большой ковер. На стене висели портреты, не центрально стоял, как в гостиной, круглый стол. Около него и вдоль стен много мягких стульев.
Я был весь в поту. Сел. Так как сидеть пришлось довольно долго, постепенно отошел, успокоился. «Зайдите...» За письменным столом сидел подполковник. Перед ним лежали мои рукописи. «Ты чего тут понаписал?» - «Мне разрешили работать. Тут переводы с греческого, еще кой-какие сочинения». — «Да ты понимаешь, что меня вместе с тобой потянут, если ты тут чего-нибудь про тюрьму или вообще не то чего-нибудь написал?» - «Вы можете на этот счет не беспокоиться, гражданин подполковник. Я научный работник и знаю, что можно, а чего нельзя в этих делах...»
Он взял со стола бумажку и прочел: «Наказание снизить до десяти лет, освободить по амнистии, со снятием судимости...» 459
Посмотрел на меня с некоторым сожалением: «Да, что-то, видно, осталось-таки... Ладно, возьми ее - он протянул мне бумажку - да и забирай свою писанину. Проводите его».
Меня повели через несколько помещений, где у дверей всякий раз стоял часовой, внимательно прочитывавший какую-то бумагу, которую нес сопровождавший меня лейтенант. На бумаге был виден мне какой-то довольно длинный, на машинке напечатанный текст, а в углу приклеена моя фотокарточка. Таким порядком я оказался наконец на лестнице и передо мной отворилась дверь на темную улицу.
Небо было вечернее, а быть может даже ночное — я потерял всякое представление о времени. Часовой пропустил меня, и дверь за мною захлопнулась.
Я стоял на Большой Лубянке, совсем недалеко от площади. В каждой руке у меня висело по большому мешку. В воздухе искрился мелкий снег. Сразу почувствовалось, что довольно морозно. Я зашагал через площадь, туда, где когда-то, мне помнилось, была остановка такси. Но теперь никаких такси там не оказалось. Площадь выглядела довольно пустынной. Что же делать? Я машинально зашагал вниз по Лубянскому проезду по направлению к Театральной площади.
По всему телу распространилась ужасная слабость. Мешки казались безумно тяжелыми. Я то и дело останавливался, отдыхая. Веревки резали уже успевшие замерзнугь руки. Я подхватывал деревеневшими пальцами выскальзывавшие из рук мешки и шел дальше, совершенно не чувствуя радости первых минут свободы...
Содержание
Л.М. Ельницкая. Предисловие 3
Лагерный дневник
Арест и следствие 1950
Ожидание ареста. Арест. Лубянка 9
Бутырки. Следствие 23
Приговор 73
В ожидании этапа 83
Этап
Выезд из Москвы. Горьковская тюрьма 106
Кировская пересыльная тюрьма 121
Воркута 1951
Прибытие на Воркуту 139
25 шахта 150
43 лагпункт 168
46 лагпункт 193
Воркутинская пересылка 215
Кожва 1951—1954
Лагерь на Кожве . 225
Работа в амбулатории. Фельдшер Ширин.
Свидание с женой 257
Каменка 285
461
Возвращение на Кожву. Хирург Василий Михайлович. Приезд матери 302
Осень и зима 1952-1953 годов. Болезнь и смерть Ульянова ... 324
Весна 1953 года. Переход на женский ОЛП 344
Валентина Ивановна. Закрытие женского ОЛПа 364
Продолжение работы в стационаре. Психология уголовной среды 380
Конец 1954 года. Болезнь и смерть Малько. Второй приезд жены 412
Печора 424
Амнистия
1955
Этап в Москву. Переследствие 434
Ожидание решения. Освобождение 454
Лев Андреевич Ельницкий
ТРИ КРУГА ВОСПОМИНАНИЙ Лагерный дневник
На обложке портрет Л.А. Ельницкого работы Лидии Максимовны Бродской
Редактор И. Ларина
Компьютерная верстка Т. Носовой
Подписано в печать 15.10.2012. Формат 84x108/32
Печать офсетная. Гарнитура «NewtonC» Усл.-печ. л. 24,36. Тираж 1000 экз. Заказ № 7091.
Издательство «Аграф» e-mail: post@agrafbooks.ru htpp://www.website.ra/agraf т./ф. (495) 926-25-48 т. (495)926-25-46 т. (495) 926-25-47
9
785778 404328
Отпечатано в ОАО «Первая Образцовая типография», филиал «Дом печати - ВЯТКА» в полном соответствии с качеством предоставленных материалов. 610033, г. Киров, ул. Московская, 122. Факс: (8332) 53-53-80, 62-10-36 http://www.gipp.kirov.ru, e-mail: order@gipp.kirov.ru